Поминальник усопших
Вениамин Додин
Семейная повесть
(В 5–и частях, 84–х главах)
Нине Оттовне Кринке—Адлерберг
(Додин)
De mortuis — veritas»
«О мёртвых — правду»
(Лат.)
«Мы с тобою, Фанечка, тоже разных религий дети, однако оба вместе такое таинство разрешили, которому, возможно, аналогов нет даже в драме нашего времени…»
Преподобный Тихон.
(«Густав и Катерина»)
ЧАСТЬ 1. ПОТРЯСЕНИЕ ОСНОВ.
1. Хозяин.
Ночь за пыльными гардинами оконной ниши. Сквозь толщу грязных потёков льда на стёклах, в морозную промозглость мрачного кабинета пробиваются проблески редких уличных фонарей. Отсвет их мутно отражается массивным цилиндром подстаканника старинной чеканки (из свежего конфиската, скорей всего), до блеска оттёртого пальцами поколений былых владельцев, посверкивает глухо на нечистой кромке утопленного в нём надтреснутого стакана тончайшего богемского травленного хрусталя, тонет бесследно в непроглядной темени заваренного до черна чая…
Прикрутив неяркую за следами грязных рук колбу настольной лампы под зелёным стеклянным абажуром, тоже треснувшим, хозяин кабинета тяжело опускается в кресло. Отдыхает. Наслаждается в тревожной полудрёме игрою отсвета в огненно горячем настое. Греет мёрзнущие отёчные руки, охватив ладонями источающее тепло стакан, покоящийся в тяжелом серебре…
Холодно в неубранном и неухоженном кабинете. Неуютно. Мерзко.
Можно подняться. Можно встать на негнущиеся ноги. Через приоткрытую дверь пройти несколькими шагами в тепло — в комнатушку сзади. Там койка. Там живёт он, одинокий человек. Он, и старая его кошка. На стопках кирпичей в комнатке пристроена раскалённая «буржуйка» и жарко натоплено. Но выйти и расслабиться он не решается — «Время!». Он ждёт Посетителя. Долго и, казалось, безнадёжно искал его, появившегося вдруг — по слухам — в России, в Петрограде даже, пятью годами прежде. Внезапно тогда же исчезнувшего. И сразу же без следа потерявшегося в людском муравейнике наизнанку вывороченной страны. Хозяин кабинета с превеликим сожалением уверился, было, что утерял его навсегда. Но тот «нашелся» так же неожиданно — не там где искали его. И теперь, — греющийся остывавшим чаем, — хозяин кабинета — весь ожидание. Весь — нетерпение. Весь — в разошедшихся нервах. В тукающих пульсах. Даже глухие фантомные боли в давно прооперированном желудке возобновились. И — вовсе уже не кстати — возобновились мучительные спазмы гемикрании… Нервы! Снова нервы…
…Чтобы забыться, чтобы в руки себя взять — несколько успокаивающих, — прежде непременно вырывавших из нервической безысходности, — бодрых аккордов на стоящем впритык за спиною белом концертном Стейнвее. Так же заляпанном, как всё вокруг. И, — не иначе, — тоже из конфиската. Огромном в тёсной каморке, занимающем почти всё пространство её, оставшееся от койки и печки…
В другое время любимые Брамс, или Шуберт, Гайдн, тем более, успокоили бы. Теперь прозвучали они слишком аллегретто, потому фальшиво, раздражающе…
В три часа ночи, — минута в минуту — он знал как точен гость, — помощник введёт к нему ожидаемого скоро как два бесконечных года Старого Дипломата. С приходом его должны исполниться, наконец, многие тайные надежды–замыслы Чичерина, возникшие за долго до появления Георгий Васильевич в этом большом, неуютном и мрачном кабинете отвоёванного им роскошного дома бывшего Страхового Общества «Россия» по Кузнецкому мосту, 21/50…
С средины января 1918 года товарищ (заместитель) наркома Троцкого, Георгий Васильевич сам теперь — с мая — народный комиссар иностранных дел. Причисленный ошибающемся вечно в оценке соратников бывшим шефом своим к категории «личностей не от мира сего» он, на самом деле, «человек о-очень у себя на уме». И именно он понял, что предстоящая встреча с ожидаемым вполне сможет разрешить ряд не разрешимых, казалось бы, острейших проблем возглавляемого им ведомства. Дела коего шли пока весьма не важно. Как не важно пока шли дела и самого Георгия Васильевича, измученного, вдобавок, ворохом застарелых болезней.
Да, — конечно же, — будут ещё у него впереди служебные виктории. В Генуе, например, где он поставит мир перед необходимостью признать существование новой России. И в Рапалло. Там подпишет он договор о дипломатических отношениях и «о намерениях по дальнейшему тесному сближению» с Германией, Генеральный штаб которой однажды сыграл уже судьбоносную роль в революционном преобразовании России.
2. Ситуация.
Но это — потом. Потом. Как, впрочем, лавры. И успокоенность. И даже наслаждение победой. А сегодня не до лавров и не до покоя. Сегодня Георгий Васильевич взбешен беспардонным вмешательством в его дела людей из ВЧК. Издёрган скандалами, то и дело возникающими из–за грубой, наглой подчас, «работы» не профессиональных «дипломатов», не умеющих грамотно составить даже рутинной «извинительной» бумаги. Но главная боль Чичерина — настойчивое откомандирование к нему тем же ведомством «старых партийных кадров», которые по человечески вести себя не умеют! А если и умеет кто — такие, в лучшем случае, наглы до хамства. Откровенно не чисты на руку. Или, того хуже… Между тем, ему срочно необходимы настоящие специалисты. Для той же Германии. Особенно для Германии! На которую у его именитых соратников–соперников, — как назло сплошь авантюристов, — большие надежды. Не говоря о наполеоновских планах норовящих в международные вожди коминтерновских авторитетах. Из тех, кто спят и видят «пролетариат» этой мощнейшей европейской державы в первых рядах затеваемого ими вселенского разбоя и грабежа на фоне задуманного и подготавливаемого шефом хозяина кабинета тайного соглашения о, «якобы», сотрудничестве Красной Армии и Германского Рейхсвера! В августе следующего года соглашение это предполагается штабами обеих сторон доработать. Сформулировать, наконец. И, кто знает, возможно даже согласовать и подписать.
А теперь необходимо главное: нужен особой стати исполнитель задуманного. Нужна личность…Нужен умный и активный представитель в только что, — вкупе с Россиею, — потерпевшей не совсем понятное «военное поражение» главной центрально европейской стране — в самой Германии. В стране–носительнице тысячелетиями нарабатываемой культуры, в том числе (и главным образом!) культуры труда и хозяйствования. Нужен настоящий Дипломат.
В «активе» же краплёная колода всё тех же «старых большевиков», командовал которыми, — и командовать продолжает, — всё тот же ПредРЕВВОЕНСОВЕТА Троцкий. Недавний шеф. С привидевшейся ему в начале 1917 года «р-революционной германской пороховой бочкой». В которую, — надо справедливость ему отдать, — успел он, было, — на час пусть, — «закинуть таки горящий факел мировой революции». (И тем подвести в будущем самоё Россию под порождённый «ходом» этим Топор Нашествия, как, впрочем, под Тот же самый Топор — априори — загнать тогда же и племя своё собственное еврейское неуёмное. Извечного козла отпущения, всенепременно расплачивающегося кровью за кровавые же фантазии собственных своих дежурных «гениев». Почти что библейских «пророков», на поверку же, — всегда и все обязательно, — классических «козлов–провокаторов»…
Раскроем тайну Георгия Васильевича: задумал он найти для Германии — здесь, — и это в конце–то 1921 года (!), — в истязаемой большевистским террором России, хотя бы одного единственного Дипломата Божьей Милостью. Да такого, что бы тот принят был немецкой правящей элитой. (И, — это уже сверх всех мечтаний, — чтобы сам хоть как–то, хоть с какого бы то ни было боку, был к ней близок!… Но на такое Георгий Васильевич только что во сне замахивался: не могло быть таких наяву после повального террора. После бегства именитого российской дворянства и высшего чиновничества). А ведь если такого — ОДНОГО Хотя бы — не найти?… А найти невозможно по определению! Ибо и сам Георгий Васильевич тоже «руку прилагал» к тому, чтобы таких «не найти» было. Тогда будет скверно! Катастрофа будет… — не катастрофа… Такое предугадать сложно… Но унылая череда крупных перманентных дипломатических скандалов точно обеспечена…
Отдадим должное хозяину кабинета — «трагической фигуре, — по Льву Троцкому, — абсолютно не приспособленной для советской жизни, человеку истеричному и не обязательному» — человек этот, тем не менее, умел работать. И…быть обязательным когда нужно. Главное, ждать умел. Выжидать!
…И вот ведь сумел дождаться… Дождаться того самого — Дипломата от Бога, Элиту Элит! Да ещё «не просто САМОГО СОБОЮ», но, — через Голицыных, — близкого родственника аж Сергея Николаевича Свербеева! Последнего Полномочного Министра России при отрекшемся германском Императоре Вильгельме II!
…Однако, не лукавит ли сам перед собою Георгий Васильевич, надеясь на чудо?
3. Гость.
… Минута в минуту — и всё же неприятно неожиданно — приотворились створки дверей бесшумно, пропустив в кабинет высокого статного старика.
Острый взгляд светлых глаз, обрамлённых чуть припухшими веками и прикрытыми тёмными кустами бровей. Победительный короткий нос от нависающего массивного лба к тёмным, скрывающим выражение рта, усам над раздвоенною чёрным клином серебряной седины патриаршею бородою. Шапка светлых, — тоже с сильной проседью, — по боксёрски подстриженных волос на красивой круглой голове. Небольшие плотно прижатые к щекам уши…
Тёмная тройка по белой сорочке с галстуком–шнурком мешковато, хламидою, «наброшена» на сухую, не по стариковски атлетическую стройную, фигуру. «По–доброму» стоптанные фетровые бурки. Виды видавшая бекеша внакидку через ширококостную руку (гардероб в вестибюле «в связи с участившемся воровством(!) верхнюю одежду посетителей не принимает»). Палка по лихому времени увесистая — дубина точнее — взамен стека…
Мгновенный, заметный чуть, офицерский поклон–кивок.
…Болезненный Георгий Васильевич, упираясь трясущимися руками в твердокаменные ручки кресел, — с неловким поворотом, — навстречу! Рукопожатие. Крепкое — гостя. Вялое, — анемическое, — хозяина кабинета. Встреча людей давно знакомых и Бог знает сколько времени не видевшихся. Краткие приветствия.
Вопрос гостю: — «Добрались как, Николай Николаевич?».
— «Вашими молитвами, Георгий Васильевич!».
…Начало беседы сугубо деловое с минимумом слов: — нарком никогда никому не доверяет. Стенам в особенности…. Но собеседники свободно владеют главными европейскими, и не только, языками. Но разговор, — бегло, — на одном из древнейших семитских. Который один знал с младенчества, — унаследовав от родителя–путешественника, увлёкавшегося описанием Святой Земли и исследованием истоков христианства, — конечно же, из первоисточников. Другой изучил в зрелом возрасте, совершенствуясь в богословии. Ибо не мог красный министр иностранных дел в главном кабинете своего ведомства позволить себе, — зная повадки «товарищей по революции» (ещё и, не к ночи, бывший меньшевик!), — вслух на общеизвестных языках поминать прошлое. А уж прогнозировать возможное будущее гостя тем более: до ответа–решения Николая Николаевича никто, ни в руководстве партией, ни тем паче ВЧК, знать о нём не должен! Тому есть причины. Дело в том, что папаша красного министра некогда тоже подвизался на ниве дипломатии, оставив службу из–за несостоявшейся по его «здравому решению» дуэли. И, чтобы не стать посмешищем, ринулся сломя голову из столицы в «каменный век» воюющей с турками Болгарии. Не воевать, не воевать, само собою (у него «очень нервная система»)! Но самоотверженно трудиться — не покладая рук и не щадя живота — на ниве святого славянского дела… в качестве секретаря вольного эмиссара Красного Креста. Ухитрился, — «естественным образом, — по службе, по службе!», — познакомиться там с замечательною женщиною, отдавшей себя всю, и состояние своё, болгарскому народу — с Ольгой Николаевной Полтавцевой (вдовой генерала Дмитрия Ивановича Скобелева, и матерью там же и тогда же отважно воевавшего Скобелева Михаила Дмитриевича — легендарного «Белого Генерала»).
По славному взятию Плевны земец, — в досадной неосторожности на самом деле чуть–чуть было живот свой не потеряв, — занемог желудочными коликами. Определён был надолго в лазарет. И там, при обходе, представлен был Ольгой Николаевною своему героическому сыну. После войны встретился он однажды с Михаилом Дмитриевичем и в кулуарах высочайшего приёма. И тем, волею Случая, как бы соприкоснулся, — виртуально пусть, — к ауре полу августейших Адлербергов. Скромно «зачислив» себя в друзья их Дома. Дело в том, что убитая русским мерзавцем–офицером в облагодетельствованной ею Болгарии Ольга Николаевна Полтавцева—Скобелева была родной сестрой графини Екатерины Николаевны Адлерберг, супруги министра Императорского двора и уделов при Александре II графа Александра Владимировича Адлерберга 2–го (родного дяди гостя). Того мало, Екатерина Николаевна, бессменно 22 года возглавлявшая и Российское Противораковое Общество и многочисленные фонды по борьбе с этим страшным недугом, являлась косвенною начальницей подвизавшегося в Красном Кресте самого папаши будущего «красного» министра…
И теперь, в канун Рождества 1921 года, в самом сердце большевистской столицы сын своего отца–земца — революционер по специальности — Георгий Васильевич Чичерин встречает с надеждою племянника этой самой Екатерины Николаевны. И приглашает в гамбсовы кресла «красного» министерского (пусть комиссарского, пусть наркомовского) кабинета… племянника же ближайшего друга и сподвижника убиенного императора Александра II графа Александра Владимировича Адлерберга. И граф Николай Николаевич, — сын графа Николая Владимировича, младшего брата предыдущего (не перепутать бы!), а ныне «беглый белогвардеец» (самое «малое» по тогдашнему «табелю о рангах»!), внутренне смеясь, — располагается в антикварной нирване большевистского министра.
Располагается, поглядывая — искоса и удивлённо — на… плавающий в умело заваренном настоящем(!) чае с настоящим(!) сахаром — в такое–то время — ломтик настоящего(!) лимона.
И не представляя чем всё это сказочное обозрение вызвано и чем может кончится, — весь внимание!…
4. Изгой.
…В первый день Мировой войны Полномочный (но «за штатом») Агент императорской Русской миссии при Баварском дворе В. кн. Генриха, граф Николай Николаевич Адлерберг Россиею отзывается. Два с половиною года пробивается через закрытые границы воюющих или пока ещё в бойню не втянутых государств. Ловимый спец службами перемещается под сменяющимися конвоями через вшами кишащие грязные и голодные концентрационные лагеря для интернированных. Через остракизм одних бонапартистов (по Щедрину) и ненависть других доплетается, и добирается к исходу 1916 года — уже шестидесяти восьми летним стариком — до своей России. Не сам и не один, слава Богу! Не сам и не один! С ним (при нём, точнее) верный «Санчо» — пластун подъесаул Гордых. Бессменный вестовой из забайкальских казаков. С ним же в делах (да в каких ещё!) проверенный личный «офицер связи» Нольте — академик Генштаба. Разведчик–асс, родом из Ревельских немцев. Оба верой и правдой «с младых ногтей» — хотя ещё молоды — служащие ему и тем отечеству (не наоборот!)…
…Полторы недели гостит Николай Николаевич у своей московской Голицынской родни — у Сергея Михайловича сперва, по Зубовскому бульвару. Потом по Трубникову переулку у Николая Владимировича. Регулярно и торжественно, по чётным дням, посещает с ними и с племянником своим Владимиром Васильевичем Адлербергом Сандуны, нещадно отпаривая тело огненными вениками и кипящими взварами. А отмывшись от двухлетней скверны, наносит — перво на перво — на Лёвшинском визит голицынским старикам–патриархам. С ними вместе посещает у Пречистенки родовую Голицынскую, Адлербергов, Нелидовых, Сенявиных и Скобелевых церковь пророка Божия Николы Обыденного — отмывает душу. А очистившись и удостоившись благословения, перецеловывается с провожающем их и плачущем клиром. Коленопреклонно прощается с храмом и с будто сошедшимися в объятиях с ним одноимёнными переулочками. Не с каменными, а с живыми и до сердечных спазм близкими и родными… И, — как казалось ему тогда, оставив Одиссею свою европейскую теперь уже только в воспоминаниях, — выезжает, вновь рождённый, полный сил, в Петроград. С надеждою…
5. Петроград.
И… будто на стену налетает!
Не до него, оказалось, в Петрограде! Это Николай Николаевич понял сразу, встретившись после двух лет разлуки со старым другом детских ещё лет — Кривошеиным. Соратник и министр покойного Петра Аркадьевича Столыпина, Александр Васильевич ещё в прошлый приезд Николая Николаевича как–то сказал приятелю: — «Мы тогда доживём до благоденствия и уважения друг к другу, если перестанем разделяться на погубляющее нас мы и они, разумея под этим правительство и общество». Всегда лояльный к государю и верный присяге, он и в бытность членом Государственного Совета говорил, что «в начавшейся ещё в 1905 году вакханалии велика ответственность и… безответственность Императора! И меру этому мы познаём каждодневно. В том, например, что… ему не интересно(!) даже твоё мнение по, казалось, самому болезненному сегодня «Германскому вопросу»!… Он не ждал тебя.»… — «Да побойтесь Бога, Александр Васильевич, — сказала следившая за столом и возмущённая словами мужа Елена Геннадиевна, супруга. Женщина сердечная и справедливая, она была искренне задета: — «Что Вы такое говорите: — Его Величеству не нужен Николай Николаевич? Николай Александрович так искренне уважает и так нежно любит графа!»
— А кто я есть теперь, чтобы любить и продолжать уважать меня, подумал Николай Николаевич? «Бог знает когда оторванный от представляемой страны и уже состарившийся за её пределами. В негодность пришедший где–то чуть ли не во вражеском тылу чиновник. Пусть и высшего ранга, — но всё равно, из прежнего времени» (Тютчев!).
Так то вот!…
Когда–то давно, назад эдак лет тридцать пять, покойные отец и дядя его Александр Владимирович Адлерберг невозможным для себя посчитали служить Александру III, воцарившемуся по трагической гибели своего августейшего родителя. На то были серьёзные у «сторон» основания. Вместе с тем, наличествовало «неудовольствие» братьями и самого нового государя. Так, или иначе, но удивительная, — и в русской истории совершенно уникальная, — девяноста летняя дружба Романовых и Адлербергов на том прервалась. Хотя высочайшие наградные рескрипты — и сами высочайшие же награды — по случаям тезоименитств и прочих семейных, государственных и церковных праздников — продолжали, вплоть до конца последнего царствования, низвергаться на них, на чад их и домочадцев как из рога изобилия. По неписаным законам в небытие канувшего времени личные амбиции и представления кого–то одного из Их Величеств не могли влиять на отношение к Адлербергам остальных членов августейшей семьи. Претензий к Адлербергам вообще быть не могло!
Не имелось, тем более, никаких оснований для переоценки задним числом, и забвения потому, многолетнего труда Николая Николаевича во благо России во дни, предварившие нынешнюю военную её трагедию.
И, тем не менее, — «стена»! Глухая. Молчаливо настороженная. Непреодолимая!? В чём же дело?
Ни в коем случае мотивом отчуждения всеми уважаемого государственного чиновника от дальнейшей службы не был почтенный уже возраст его (1848) — дипломаты такого ранга и уровня служили до отпевания. Тогда, что же? Только одно, подумалось сначала: по военному времени настораживающее завалы нового поколения чиновных дураков «немецкое происхождение покойной матери его». Баронессы (а позднее графини) Амалии («Максимилиановны Лерхенфельд в Пушкиниане», а по первому супругу, Александру Сергеевичу, Крюденер). Августейшей… Амалии Гогенцоллерн.
Что же, вполне может быть. В России нашлись быстро вскормленные трагическими неудачами на фронте (и политическими скандалами в тылу) могущественнейшие силы, «немецкую карту» разыгрывавшие в лучшем виде (только не в той игре, сказал бы год спустя!). В том числе, до истерии всеохватных взаимных поклёпов «в прогерманской деятельности». Что незамедлительно привело даже не только к аресту военного министра Сухомлинова, заподозренного в шпионаже(!). Но к обвинению «в измене Русскому Делу»…самой императрицы Александры Феодоровны!
И скандал этот, немыслимый ни в одной нормальной стране, разражается в кульминацию трагического европейского кровопролития! В пик войны! И…В те самые дни, когда должна разрешиться и дальнейшая судьба нашего героя.
6. Амалия.
Однако… Возможно ли такое с тенью не просто покойной матери Николая Николаевича? Но дочерью давно в Бозе почившего императора Вильгельма Ш Прусского и итальянской графини Турн–и–Таксис? Нет, конечно! Добрая память баронессы выше всяческих сплетен и подозрений! И родной единокровной сестрой её (тоже дочерью всё того же Вильгельма) была не «какая–то» замордованная «патриотической» бесовщиною, вкупе со стремительно прогрессирующим в смуту и крах российским «обществом», несчастная Александра Феодоровна. Жена затюканного «элитою» самодержца, терзаемая людьми не порядочными «подругою Гришки Распутина!». Но сама некогда «царственно царствовавшая» Императрица Александра Феодоровна, супруга Николая I.
Кроме того… Баронесса, — нет, теперь уже графиня Амалия Адлерберг, — Она украшение, Она «Тысячекаратный Алмаз» в Короне вновь — с войною же — вознесенной в ранг национальной Святыни. Пушкинианы! Вечная неизбывная любовь и вдохновительница поэтического гения незабвенного Тютчева — адресат прекрасных, народом боготворимых, его стихов–романсов!… Плоть от плоти, кровь от крови великой российской культуры и предмет почитания избранных её апологетов. «Мне, само собою разумеется, до смерти хочется написать госпоже Амалии, но мешает глупейшее препятствие. Я просил её об одном одолжении, и теперь моё письмо могло бы показаться желанием о нём напомнить. Ах, что за напасть! И в какой надо было мне быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения! Всё равно, как если бы кто–нибудь, желая прикрыть свою наготу, не нашел для этого иного способа, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем…И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным». (Из письма Ф. И. Тютчева И. С. Гагарину. Мюнхен.7/19/ июля 1836).
Но это только письмо.
А вот подлинная история. Жизнь.
…В этой жизни много тайн, которые благодаря потомкам раскрыты были в последние годы. О том много было говорено и написано. Но мало кто помнит о роли Амалии в судьбе и становлении Второго после Пушкина Великого поэта России Фёдора Тютчева. О счастливой последней её любви к Николаю Владимировичу Адлербергу. И конечно же ничего не знает о их сыне — Николае Николаевиче…
— После России это моя самая давняя любовь… — писал Ф. И. Тютчев в июле 1840 года своим родителям.
… Посетители Галереи Красавиц Нимфенбургского дворца в Мюнхене обращают внимание на портрет молодой женщины с меховой накидкой на правом плече. В рекламном буклете сообщается, что это 20–и летняя баронесса Амалия фон Крюденер, что её портрет создан в 1828 году знаменитым живописцем короля Людвига 1, Йозефом Штилером…
Происхождение Амалии загадочно и драматично. Две версии существует о том. По первой — матерью её была княгиня Тереза Турн–и–Таксис (1773–1839), урождённая принцесса Мекленбург—Штрелиц. Тереза приходилась тёткой российской императрицы Александре, жене Николая 1.Муж Терезы, князь Карл Александр Турн–и–Таксис (1770–1827). Наполеон пригласил князя Карла для осуществления политических проектов и он годами жил в Париже. В отсутствие мужа у Терезы начался роман с баварским дипломатом графом Максимилианом—Эммануэлем Лерхенфельдом (1772–1809). Результат — нежеланная малютка, названная Амалией. Княгиня Тереза убыла рожать подальше от Регенсбурга, в Дармштадт, столицу гессенского герцогства…
После смерти 19 октября 1809 г. отца, графа Максимилиана, Амалия первое время находилась на попечении дармштадских родственников Терезы, фон Штернфельд, чью фамилию она носила после рождения. Подрастая, Амалия перешла под опеку Лерхенфельдов, где она жила в их мюнхенском дворце. С 1 августа 1823 года 15–и летней Амалии гессенский герцог Людвиг 1 даровал разрешение именоваться графиней Лерхенфельд. Но без права на герб и генеалогию. Такова была цена увлечения графа Максимилиана княгиней Терезою…
Взрослея, плод греховной любви, Амалия, оказалась совершенно восхитительной красавицей. С 14–и летней сиротой, — вокруг которой роились восторженные воздыхатели, — в 1822 году познакомился молодой сверхштатный атташе российской миссии Фёдор Тютчев, тогда же прибывший из Петербурга на дипломатическую службу. Он сблизился с единокровным братом Амалии, молодым баварским дипломатом, Максимилианом Лерхенфельдом–младшим, и часто бывал в их семье.
7. Тютчев.
19–и летний Фёдор влюбился в Амалию. Между ними начались нежные романтические отношения чистых юноши и девушки — подростков. Влюблённые часто встречались — Теодор, сегодня я покажу вам место, где в Мюнхене раньше всех зацветают яблони! — объявила Амалия, и её ножки в маленьких башмачках резво заскользили вниз по лестнице, у подножия которой их уже ожидала запряженная коляска.
Фёдор поспешил за ней.
Амалия привела его на берег реки. На крутом склоне высились развалины старинного поместья, а рядом раскинулся цветущий яблоневый сад весь в розовых лучах заходящего солнца.
Фёдор любовался спутницей и полудиким пейзажем вокруг и всё не мог решить: какое творение природы более совершенно — яблони, усыпанные бело–розовым цветом, или девушка в нежно–палевом платье, свежая как майское утро?
Порыв ветра вдруг сорвал с ветвей облачко цветов и осыпал ими Амалию: изящную шляпку, рассыпанные по плечам чёрные локоны, длинный прозрачный шарф. Девушка осторожно сняла с рукава один цветок и положила его на ладошку.
— Ничего особенного, всего пять лепестков, но разве это не сама гармония? — тихо сказала она и коснулась лепестков губами.
— Нет, она — совершенство! — окончательно решил Фёдор.
— Хотите, Теодор, поклянёмся друг другу, что до самой смерти, когда бы ни пришлось нам увидеть яблони в цвету, мы будем вспоминать друг о друге: я — о вас, вы — обо мне? — вдруг предложила Амалия.
Мать Тютчева была отпрыском знаменитого рода Толстых. Похлопотала где нужно, и Феденьке после окончания Московского университета предложили место в престижном Министерстве иностранных дел и зачислили сверхштатным чиновником в русскую дипломатическую миссию, обосновавшуюся в Мюнхене. Тогда город этот был столицею Королевства Баварии.
Фёдор не был богат, в ту пору, к тому же и не при чинах. Но его обожали все общающиеся с ним за редкий дар слова. Ведь тогда никто не знал ещё, что Тютчев — гениальный поэт. Прежде всего, не знал этого и сам он. Фёдор относился к стихам как к тайному увлечению, никому их не читал и не показывал. Но уже тогда был говоруном неотразимым! Граф Соллогуб как–то заметил, что много на своём веку видел разных рассказчиков, но такого как Тютчев ему встречать больше не доводилось. Остроумные и нежные, язвительные и добрые слова небрежно скатывались с его губ, словно жемчужины. А женщины, известно, любят ушами. Немудрено, что Амалия тут же выделила Фёдора из толп её поклонников. Напропалую танцевала с ним на балах и с ним гуляла по узким улочкам Мюнхена… под тем предлогом, что надо же новому чиновнику русской миссии познакомиться с городом. В один из вечеров Фёдор вернулся домой совершенно потрясённым. Отказался от еды, хотя заботливый Хлопов уже выставил на стол солёные огурчики, кулебяку с мясом, щи, сбереженными горячими в специальной ватной сумке. Но какие щи могли идти на ум Фёдору, если у него вот только сейчас, в её саду, состоялось объяснение? Он и не думал, что решится сказать всё в этот вечер, но она была так ласкова и мила, длинные ресницы так трепетны, румянец так нежен… Короче говоря, предложение было сделано, и о счастье! Оно было благосклонно принято! А в залог будущего супружества между ними произошел обмен шейными цепочками. Фёдор так и уснул, сжимая в кулаке эту драгоценную реликвию.
Родственники Амалии были не в восторге от её увлечения господином Тютчевым…
…Однако…Однако, по версии историков и архивистов–редакторов Готского Альманаха, Амалия — незаконнорожденная дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, единокровная сестра тогдашней русской императрицы Александры Фёдоровны.
А у Тютчева ни титула, ни солидного состояния, ни престижной должности хотя бы в российском МИД. Куда предпочтительней для родичей её по этим статьям престижности смотрелся ещё один воздыхатель — молодой барон Александр Сергеевич Крюденер, уже секретарь русского посольства, тоже страстно влюблённый в Амалию. И граф, младший Лерхенфельд, — словом не обмолвившись с невестой, — поспешил объявить: через месяц просит дорогих гостей, а русское посольство в особенности, пожаловать на свадьбу Амалии с бароном Крюденером!
На то, что Амалия имела собственные чувства, могла иметь свой взгляд на свою жизнь, влюблена была в Тютчева и уже выбрала его в спутники своей жизни внимания родственников её обращено не было: Теодору было в сватовстве отказано — ДРАГОЦЕННОМУ КАМНЮ НУЖНА БЫЛА БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ОПРАВА.
8. Решение Амалии.
Амалия смирилась. Но только внешне. Спрятала в потайный ящичек шкатулки тоненькую золотую шейную цепочку, которую подарил ей Фёдор на одной из далёких прогулок по окрестностям Мюнхена. А стихи, написанные им для неё, выучила наизусть (она не знала и никогда не познает русского языка). В особенности вот эти строки:
— … Ты беззаботно вдаль глядела. Край неба дымно гас в лучах. День догорал, звучнее пела Река в померкших берегах. И ты с весёлостью беспечной Счастливый провожала день. И сладко жизни быстротечной Над нами протекала тень… Тень жизни оказалась не сладкой…После роскошной но мучительной для Амалии и Фёдора свадьбы оскорблённый Тютчев вскоре женился сам.
…Нет. То, как встретили его, было естественной реакцией хорошо знакомой ему волчьей стаи — порождёнием Русско–японской войны с авантюрой и трагедией Цусимы. Застигнутой войной новой. Реакцией к забытому давно и больше никому не нужному старику–одиночке».
Николай Николаевич понимал это. Интеллигент в бесчисленных поколениях, Россию свою знал он отлично и любил как тогда умели любить! Любил ничуть не менее Великих друзей матери своей — Александра Пушкина и Фёдора Тютчева. Потому обиды на Россию держать не мог. Да и какие счёты с нею могли быть у любящего её сына в годы страшной войны? Он и к себе–то никаких претензий с самобичеванием, применительно к бесславному возвращению своему, не предъявлял. И предъявить не мог. Ведь перевод его, дипломата, из Лондона в Германию, — после переезда туда стариков его из Финляндии из–за инсульта у отца, — разрывом его самого с отечеством не был.
На свет появился он в Баварии в родовом имении матери Стакельберг. В Мюнхене умерли и похоронены старики его. Родившийся в 1848 году, он уже давно был пенсионером российского МИД, отслужив в этом почтенном ведомстве с 1871 года сорок пять лет за штатом, то есть без жалования (Был такой институт особо доверенных в глазах Императорского двора высших чиновников. МИД, главным образом, — выходцев из самых громких семей России, — имевших привилегию служить за собственный счёт! (Не «в счёт» известного части моего поколения россиян «открытого счёта», которым пользовалось считанное число крупнейших учёных — руководителей головных предприятий Военно ромышленного комплекса). Уволен–то он был только теперь — тотчас по прибытии в Россию. И в многотиражном (и многоязычном) ведомственном журнале–вестнике МИД о том — подробная, и исчерпывающая во всех смыслах, статья–панегирик…
Между тем…Ближайший друг и даже родственник (по матери) принца Генриха, — члена правящей Баварской династии Виттельсбахов, — мог бы он, по преклонному возрасту, в Мюнхене своём особо не суетиться. «Верноподданно» никуда с началом войны не срываться. А, — по сатанинскому времени, — в известность поставив Петроград, остаться дома у себя — именно у себя дома — в Баварии. Так, как там же, лет тридцать назад, остался его больной отец. После тягчайшего «удара» (инсульта), поразившего старого ещё в Гельсингфорсе на семнадцатом году службы российским Наместником Финляндии и командующим Финляндским Военным округом. И без особых формальностей увезенного женою на её родину, в ту же Баварию.
И что? Ничего: поволновались в столице для респекта. Что ни день, «на воды» под Баварским Бирхенеком и в Ниццу, где лечили его, посылали с коронными фельдъегерями письма от самого Императора. От друга сердечного Константина Петровича Победоносцева. Все — одно к одному — зовущие супругу его и его самого домой в Россию. Соблазняющие радостями предстоящего общения с близкими. Счастьем лицезреть любящих их августейших друзей. Возможностью постоянно и безмятежно созерцать «полнощных красот» Царского села или Павловска. Приглашающие к отдохновению не в «заплёванных сонмами болезненных употребителей германских минеральных вод и всенепременными посетителями худосочных рощиц под Баден—Баденом». Но в райскую божественную тишь девственных пышных подмосковных или валдайских кущ, боров и рощ….Соблазняли всем. Но конечно не опостылевшей, наверно, и противопоказанной ему в сложившихся драматических обстоятельствах службою! Какая служба после «удара»?! «Приезжайте, милейший Николай Владимирович!». «Душевного–то покоя и благолепия на германских водах Вы не обретёте! Не то — в православных наших родных храмах…». (Всей этой августейшей, — тем более Константина Петровича любезной многоязычной эпистолярщины, — навалом и по сейчас в Отделах рукописей Больших Российских библиотек, в фондах Адлербергов в ЦГАОР, ЦГИА, ЛГИА. В их именных семейных и епархиальных архивах Санкт Петербурга и Первопрестольной).
Но Николай Владимирович, сибаритствуя, гнул своё: «…Помилуйте, Ваше Величество! Какие красоты могут быть? До красот ли мне в болезненном да ещё и в постельном моём положении…Меня лечат. И я чувствую, что лечат не плохо. Тем не менее, мне пока не до столичных храмов…». И, «Константин Петрович! Помилуйте, дорогой мой, какие ещё «родные»? У меня собственные свои храмины домашние по всей Баварии и на Лазурном. И ещё где–то там. Представьте: с клиром своим российским — со старцами из пустынь Ниловой и Оптиной. Со старицами из Александро—Невского… И, всенепременно, с певчими своими — костромичами…И — важнее важного — жена моя при мне».
…Оставалось Николаю Николаевичу обратиться к царю.
9. Император.
После давнишнего отказа Адлербергов возглавлять правительственные институты восшедшего на престол венценосного отца его (Александра III, и потому по фактическому разрыву с Романовыми отношений личных, родственных даже) было это — право — не вовсе удобно. Нетактично. Сейчас сказали бы — беспринципно. Но какие могут быть сантименты и даже принципы, когда война, и льётся кровь! Кровь русско–немецкая, в том числе — кровь балтийских российских немцев. А это чуть ли не треть старшего и высшего офицерского состава полевой Русской Армии. И добрая половина офицерства Военно морского Флота!
Так ведь и в тылу льётся она. А как ей не литься, когда антинемецкая кампания набрала такую силу, что в Петрограде громят на Невском немецкие магазины. А в Москве пролетарии, — толпами во главе с пролетарским же поэтом Маяковским Владимиром спускаясь к Манежной по забитой народом Тверской, — походя грабят немецкие и еврейские магазины и лавки. И даже, — будто вернулись времена стрелецких бунтов, — сжечь грозятся самоё Немецкую Слободу — Древний Кукуй! И остервенело бьют окна в домах собственных, но с не русскими именами и фамилиями, коренных граждан. Да что — «граждан»! В окружении Их Величеств Николая Александровича и Александры Феодоровны, — Императорской четы, будто нарочно тоже «немецкого происхождения», — провоцируя августейшую семью, ищут — и конечно же находют (!) — «немецких шпионов»!
…Представить только, — каково узнавать и думать было о том не просто русскому человеку, но прямому отпрыску и наследнику древнейших и великих родов России? И что делать ему теперь? Ведь чтобы встретиться с Его Величеством, — по настоянию знающих меру шутке друзей графа, тоже принадлежащих к столбовому дворянству, — надо предварительно просить чуть ли не «рекомендации»…опять же «Ея немецкого Величества!»…
Делать этого он не пожелал. Не потому, — не дай Бог, — что не уважал Императрицу. Или сам убоявшись её немецкости. Но…непорядок это!
И…узнай о том приятельница его, Великая княгиня Елисавета Феодоровна, презиравшая, — если не ненавидевшая, — сестру, гореть Николаю Николаевичу со стыда…
Стыдно (и почти) расхотелось вдруг ехать в Ставку. Только по причине иной: — Ну кому нужен он, старик, со своими мелочными стариковскими проблемами в средоточии дни и ночи занятых войною людей? Зачем нужен тому, кто тяжким бессонным трудом объединяет титанические усилия огромной Армии. Из безысходного отчаяния — сам на себя — взваливший такой неподъемный, — и то видно всем теперь, — неблагодарный груз! Кто разрешает проблемы полу мира. К кому прикованы внимание и надежды ста пятидесяти миллионов россиян…
Отвращала, конечно же, и сама перспектива поездки в тьмутараканьский Могилёв… «Обшарпанные или вовсе, будто нарочно, покорёженные и разбитые поезда с давно никем не прибираемыми классными вагонами» ходили не регулярно. С немыслимыми опозданиями. Сама философия русской, — военного времени, — железнодорожной «дисциплины», привыкшему к европейским порядкам Николаю Николаевичу была дика и раздражала неимоверно: — «Какое ещё: «СОГЛАСНО РАСПИСАНИЮ!?», ваше сиятельство, — раздраженно иронизирует на вопрос «высокого» пассажира наш российский кондуктор, — «ВОЙНА же!»… «Да, ВОЙНА! Потому идём строго по расписанию!!!», успокаивает, обижаясь на незадачливого пассажира, кондуктор германский…
Но…делать нечего…
…Потеряв неделю на оформление пропуска–командировки, и ещё столько же на дорогу, Николай Николаевич встретился с Императором…
…Лучше бы того не случилось. Принял его не узнанный им — уставший безмерно, ни о чём кроме семьи старавшийся не вспоминать и не говорить с гостем — «казачий полковник». Никого помимо Распутина в долгом, трагически беспредметном, разговоре не вспомнивший. И… ни во что и ни в кого кроме старца же не верящий.
Как когда–то, он сам по–домашнему угощал Николая Николаевича умело заваренным им и давно не виданным английским чаем. Подливал сам из молочника. Сам колол аккуратно щипчиками сахар… Но забывая тут же о том, — и спрашивая каждый раз: — «Вам с сахаром, Николай Николаевич, голубчик?…Вот и славно…» Сам подкладывал ему на юбилейную «Наполеоновскую» десертную тарелочку благоухающие детством овальные диски эйнемового печенья «Альберт». И мучительно пытался казаться умиротворённым.
У гостя же состояние было паническим. Шоковым. Почти обморочным… Кошмарным было состояние: рядом где–то, вокруг подсвеченного электрическими кенкетами уютного мирка салона, идёт война. Гигантский, — от юга Балкан до севера Балтии, — фронт изрыгает апокалиптический огонь и смерть. Бушует над сожженною землей западной России всепожирающее пламя, и погребальный дым заволакивает небо державы. В павшей на Империю мгле, в круговерти беспощадной схватки в пределах Её движутся, — сражаясь не на жизнь а на смерть, — и гибнут миллионные армии, которыми… кому–то надо управлять…
…Самое бы время круглосуточному пронзительному писку зуммеров «разведок» и пулемётному перестуку штабных телеграфов. Время появлению в салоне, и такого же мгновенного исчезновения ошалевших, с ног валящихся от команд и окриков, адъютантов и вестовых. Время стремительных курьеров и фельдъегерей с директивами и приказами. Наконец, время ПОДПИСЫВАНИЯ, — ни на единый миг не выпускающим стило из затёкшей десницы ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ, — срочных распоряжений и указаний. А потому время стадному топоту офицерских сапог в коридоре вагона. Секущих друг друга непрерывных истошных телефонных перезвонов. Громких команд. Ругани даже (Негромкой, правда, — тогда в «сферах» «бранились» тихо: сквернословить, тем более громко, не только в августейшем присутствии — такое, Боже сохрани! Но и при младших по званию не принято было)…
И время, конечно же, лихорадочной творческой работы мысли… Если не заполошной деятельности «паникующей» поджелудочной железы…
10. Небытие.
Но ничего этого не было…
…Только за чуть подрагивающими от далёких орудийных вздохов триплексами широких окон вагона, затянутых плотными маскировочными шторами, похрустывал еле слышно щебень насыпи под сапогами редких наружных патрулей. А тут, в салоне, стоит КРОМЕШНАЯ ЗЛОВЕЩАЯ могильная тишина. Будто кроме них и вестового, приносившего и уносившего бесшумно маленькими термосами кипяток, в императорском штабном вагоне- кабинете — во всём ш т а б н о м поезде Главнокомандующего гигантской Армией Гигантской воюющей державы — НИКОГО нет! Ни–икого–о!. И вообще, никого нигде нет. Во всей беспредельной ночи никого нигде нет…
…И вот он — смертельно уставший человек, царь, — перед ним. А огромная Армия, которой должен был он командовать, огромная страна, которой он должен был управлять — они где–то там… Где — неизвестно…
О беседе их Николай Николаевич никогда после никому из своих не рассказывал. «Нечего было…» — отговаривался.
Одно для себя почувствовал — и тут, конечно же, не до него. Тут особенно. Вообще, тут — не до всего на свете… Не до всего-о! Страшная мысль сверлила его: перед ним сидела и угощала его чаем… милая и абсолютно безответственная… посредственность…
Мой Бог! Что же с нами будет?!
… Вспомнил слова Александра Васильевича: «…Коленька Николаевич, дорогой, — говорил ему Кривошеин! — Наша либеральная пьеса из рук вон плохо игралась и нами, министрами, и ещё хуже Думой. Всею русской жизнью! Бестолково, нестройно, зря, несуразно!…»… «А в самом сердце… в окружении по неволе властвовавшей Императрицы, — непримиримая замкнутость МАТЕРИНСКОЙ БЕЗЫСХОДНОСТИ. Жуткая пустота смерти, притаившейся в детской…».
Ещё за долго до отставки Кривошеин говорил ему: — «…Конец близок и неизбежен!»… И напророчил тогда же: «Если революция произойдёт — а она произойдёт — она будет никакой не рабочей, не пролетарской — хоть в чём–то условно цивилизованной! Пролетарской, рабочей, быть ей в нашей мужицкой стране ниоткуда! И если она всё таки произойдёт, а она произойдёт… будет она революцией крестьянской, своего рода Жакерией. Будет смутой — по Пушкину страшной и беспощадной. Беспощадной и страшной прежде всего по отношении к самой России…».
…И Николай Николаевич вспомнил вдруг, ужаснувшись, то, что забывать было невозможно, что никак нельзя было забывать — не раз читанную им и даже на экзамене встретившуюся шифровку заключения рапорта Вебера, — ганноверского посла при Петре, умницу и знатока России:
— «Конец этой страны будет ужасен потому что жалобы миллионов людей на царя будут услышаны небом (Вебер был описателем Петровых зверств и ненавидел самодержавие в его тогдашнем страшном обличие. В. Д.), ибо в каждом русском человеке заложена искра ярости на эту зверино–лютую власть, которая только и ждёт ветра, чтобы превратиться в пожар…».
…А Кривошеин продолжал: — «Говорить о том поздно, — всё одно, что после драки кулаками махать! Но если бы столыпинская реформа была завершена и привела к укоренению наследственного фермерства и к распаду общины, да если бы ума хватило злосчастного того думца–еврея услышать — смешного этого зануду–профессора университетского…Херцштейна…или Штейнхерца… — всё иначе было бы…. Всё, всё иначе было бы! Но что вспоминать о безвозвратно канувшем …». (Автор подумал, ненароком: так ведь и по сейчас, через столетие, за «общину, или колхоз», держимся; и, не приведи Господь, подумать в «Думе», — но серьёзно только, — о «наследственном фермерстве»!…И…будто, со сна схватился: — Ха! О чём, о чём?…О фермерстве? Да о наследственном?…Кого кто наследовать должен был — тех не–ет давно! Изве–едены…).
…Самое поразительное, что мысли эти Кривошеинские донесены были и до последнего Императора. Каждое слово из письма Вебера знал он наизусть…И понимал конечно же что значит для России, для него самого, этот «неудобный», «колючий» этот чудак Александр Васильевич…И, что? Отдалил… обидным невниманием… (Только спустя год, — 1 марта 1917, — в этом же вот самом вагоне, но уже в конце пути, — в Пскове уже, — принимая в остатние судьбоносные часы Шереметева, адъютанта генерала Рузского, спросит–скажет — спохватясь — графу: «Кажется… нужно позвать Кривошеина?»…
— «Поздно!» — Ответит Шереметев, поделившись позднее с Николаем Николаевичем… «Поздно!»).
…И вот теперь, — уходя, — поглядев на сидящего у стола усталого и измученного хозяина салона, Николай Николаевич сказал себе, — как о постороннем и малозначительном, — «пропала Россия»…
Попрощался, — будто с умиравшим, — в последний раз. И в сопровождении начальника караула спустившись с подножки вагона побрёл прочь. Во тьму…
«…Но что бы то там ни было, ни при каких обстоятельствах, — будь то тяжкая болезнь или «неудовольствия» суверена, не обязывающие к дальнейшей службе, — Адлерберги Россию свою в ВОЙНЕ оставить не могли. Не допускали дезертирства по понятиям своим. И, генералы, готовы были — пусть «простыми солдатами» — защищать её. В том было отличие их, истинных русских аристократов–интеллигентов от патриотов квасных, человеков свободных «либеральных» представлений и поступков».
Это не ремарка автора. Не домысел его, упаси Боже. Это высказанная в прошлом ещё веке оценка искреннего друга и почитателя родителей и дедов Николая Николаевича свойственником их, через князей Васильчиковых, самого Александра Михайловича Горчакова. Личности поэтических мироощущений, но необычайно чуткой к живому реальному бытию.
Оценка жителем вершины Политического Олимпа ХIХ века.
Но на дворе–то век уже ХХ-й шел!
11. Старуха.
…И явилась Николаю Николаевичу неожиданно — и вдруг — совершенно иного плана оценка. Оценка времени нового.
Оценка женщины, мало сказать, не ординарной. Но в силу особенностей исповедуемого ею, лютеранкою, «дочернего» ответвления протестантской философии, — меннонитства, — никакого касательства к «элитарным вершинам» отношения (кроме «монетарного») не имевшей. Того более, женщина эта напрочь — с порога — отвергала само понятие какой бы то ни было и чьей бы то ни было элитарности. Хотя сама–то и была элитою элит…И к которой, тем не менее, — не существующая, будто бы для неё, эта «элита», — самым внимательнейшим образом прислушивалась и апостольски внимала.
Женщиной той была вершительница множества неординарных судеб в России второй половины девятнадцатого и начала двадцатого веков Анна Роза Гааз (по первому мужу). «Финансистка от Бога», как о ней говорили и писали. Блистательный математик. Наследница именитого же финансиста эпохи пяти последних царствий Абеля Иосифа Иоахима Розенфельда, которому приходилась она племянницею.
Семью Адлербергов начала она «вести» со времени восшествия на Российский престол Александра II (Сам Абель опекал членов этого семейного сообщества Баггехофвудтов, — Багговутов, в русской транскрипции, — Адлербергов, Нелидовых, Барановых, Сенявиных, Скобелевых и Васильчиковых с кануна воцарения несчастного Павла Петровича).
И так, «цена» оценки ею личности Николая Николаевича.
Надо сказать, оценила она его не виртуально. Не просто словом — пусть искренним и добрым, когда слово конкретных желанных и просто положительных последствий не несёт и нести не может. И, — да простит меня читающий эти строки, — материального эквивалента не имеет. А потому, как ни печально, в большинстве случаев ничего не стоит. И в драме Николая Николаевича изменить не может ничего.
Но, — в нашем случае, — оценила вкупе… с неожиданным конкретным предложением невероятной по времени п о д д е р ж к и финансовой, стоившей ТЕПЕРЬ для графа, — казалось бы, — дороже дорогого! При чём, как всегда в отношении членов этой близкой ей семьи, бескорыстной абсолютно. И, по определению… абсолютно же невозможной во время разрушительнейшей и чреватейшей перманентными убытками мировой войны! Когда финансист деньги и синекуры не раздаёт. Но сам первые у должников собирает и вторые ликвидирует.
А если, все же, предлагает их — в порядке исключения — одинокому да ещё и потерявшему под собою опору престарелому человеку… То потому только, что личность его исключительна. «…Конечно, и прежде всего, адресат предложения по квалифицированному представлению самой оценщицы (которое, прошу поверить, автору известно доподлинно) обладал глубокой порядочностью. Доброй волей. И, естественно, суммой качеств, чтобы случаем этим воспользоваться, реализовав предложение в безусловно полезное и необходимое ОБЩЕСТВУ созидательное действие».
То была оценка ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА владелицею международных Банкирских Домов «Абель Розенфельд» и «Йорик Констэбль» — предложением самой Анны Розы Гааз. Розалии Иосифовны Окунь (по третьему мужу). Охранительницею и опекуншею древнейшей в России протестантской (меннонитской) общины Старой Московской Немецкой слободы. Деятельницею, в народе именуемой «Великой Маленькою Женщиной». Внучатой племянницею «Великого же Московского Тюремного Доктора» Фридриха Иосифа Гааза. Человека призывавшего россиян собственным своим мужественным полувековым примером подлинного служения самым униженным и оскорблённым: «Доколе есть время спешить делать добро всем» (Гал. 6.10). И «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6.2.).
Если всего этого россиянину мало… То «женщина эта, — Анна Роза Гааз, — она ещё и прямой отпрыск семьи Чамберс»…(Князь Татищев И. Л. Из частного письма В. Ф. Джунковскому /32/. Янв.1917 г.).
С отличием окончивший юридический факультет Санкт—Петербургского университета, — прошедший у отца своего великолепную школу домашнего исторического и дипломатического образования, и приобщившийся на полувековом дипломатическом же поприще его тайн, — Николай Николаевич знал подноготную родословной этой его нежданной «оценщицы». На него обратила внимание женщина, прямой предок которой имел самое непосредственное отношение к становлению собственно Российской Империи.
Так, в малейших деталях, осведомлен он был о роли пращура её в не совсем по началу удачных, — а за тем и во всех последующих блистательнейших, — русских викториях Северной войны. Что он, — генерал Иван (или пусть Иоганн) Чамберс — шотландский выходец, — был ПЕРВЫМ, с конца восьмидесятых годов века шестнадцатого и до десятых годов века семнадцатого, легендарным командиром легендарных Преображенцев и Семёновцев. И, — что во главе славных этих «потешных» полков Молодой Гвардии Петра Великого, — то вновь брал «на аккорд», якобы неприступные шведские, то обратно возвращал отторгнутые когда–то у России беспокойными соседями старые русские Балтийские крепости. И даже «как–то» отнял у Карла Х-го мало кому памятный сегодня Луст Элант (или Весёлый остров) у Невского берега. Тот самый, на котором 16 мая 1703 года заложен был Санкт—Петербург — новая столица Российской Империи. А ещё через год захватил «ненароком» и остров Котлин, где 3 мая следующего 1704 года навечно вгрызётся в скалы его коронная Российская крепость Кронштадт. Та, о которой Пётр в своей собственноручной инструкции, тем же числом им же подписанной, накажет потомкам: «Содержать сию ситадель, с Божьей помощью, аще случится, хотя до последнего человека»…
Конечно, знал граф и ещё одну деталь биографии поминаемого героя Северной войны. Так, — в достопамятной «превеликой конфузии» 1700 года под Нарвою, когда войска Шереметева разбиты были шведами «наголову» и бежали позорно с поля боя, — а сам царь, смалодушничав по молодости и неопытности (чего не бывало?), оставил армию, — только Молодая Гвардия — «потешные» Семёновский и Преображенский полки — под командой генерала Ивана Чамберса остановили шведов и выстояли, не уроня чести русского оружия!
О том известно каждому грамотному россиянину. Как и то даже, что во время Астраханского восстания 1906 года Пётр, не доверяя направленному во главе войск для его подавления «зело обрюхатившему» фельдмаршалу Шереметеву, открыто приставил к нему «для надзора за действиями его» гвардии сержанта Михаила Шепетьева — «мальчишку!». А вот многим ли известно такое: — отпустив тогда же с особо конфиденциальной миссиею в Лондон «для воздействия на членов английского правительства подкупом!» вновь назначенного послом опытнейшего дипломата Андрея Артамоновича Матвеева царь — одновремённо — тайно командировал туда же и Ивана Чамберса. Полагая что именно он сумеет склонить знаменитого своего земляка, фаворита английской королевы герцога Мальборо, к огромной по тому времени взятке. Того мало, деньги для этой секретной операции тогда же доставил отцу в Лондон сын его — как и Щепетьев, тоже сержант гвардии — Чамберс Алексей. Сопровождаемый 16–и летней супругою своей Екатериною, дочерью Григория Фёдоровича Долгорукова. Деньги доставил, между прочим, не малые… (Представить остаётся только и саму «путь–дорогу», по которой сержантом ТАКИЕ деньги доставлены были!).
Из «Журнала, или Подённых записок, Петра Великого с 1698 г…» известно было, что император знал о несметных богатствах герцога и сомневался возможности его купить. «Не чаю я, чтоб Мальбруха дачею склонить, — зубрил в студенчестве Николай Николаевич, — понеже чрез меру богат; однако ж, обещать тысяч около двухсот или больше!». «Мальбрух» рассудил здраво, что отказываться от предложенных Петром за содействие при заключении «доброго мира» со Швецией 200 тысяч ефимков не резон. Торговался сильно, как доносил Алексей Иванович, «обнаружа превеликую алчность вельможи», но и готовности клюнуть не уловил. И Пётр приказал Чамберсу, «…чтобы обещать герцогу ещё и титул князя при заключении мира. И даже доход в 50 тысяч ефимков с одного из трёх княжеств: Киевского, Владимирского или Сибирского…». Даже намеревался подарить ему рубин такого размера, подобно которому «или нет или зело мало» найдётся у кого в Европе. Обещан был даже и орден Андрея Первозванного…
Миссия Чамберсов, как, впрочем, и Андрея Артамоновича Матвеева, окончилась, казалось бы, безрезультатно.
Влияния «подмазанного» фаворита на королеву оказалось недостаточно чтобы принудить правительство Англии поступиться коренными интересами страны.
«Англичане почему–то, — как писал Историк, — коренными интересами своей страны не поступаются и ими не торгуют!».
Деньги и Петровы обещания отец и сын привезли обратно. Но не просто: привезли понимание и… предложение: — «таковыя дела, дабы впредь конфузией не кончалися, загодя надобно надёжно приуготовлять учреждением для того сыска чрез тайную особливую службу при Посольском приказе. И в ней всё деликатное чинить…». Вот так вот.
12. Династия.
Таким образом, 6 октября 1706 года сын первого командира Русской Гвардии Ивана (Ивановича) Чамберса, Алексей Иванович, стал зачинателем не только личных Императорских «Опричного фельдъегерского» но и некоего «Разведывательного» тайных институций России.
Заступая друг друга, — «повинуясь» некой неизменной семейной традиции или, вернее сказать, року, — служили в них более столетия и многочисленные потомки Чамберсов — Петровых сподвижников, Ивана Ивановича и Алексея Ивановича. И 1 мая 1832 года, — когда прадед Николая Николаевича, генерал–адъютант Свиты граф Владимир Фёдорович Адлерберг1–й, принял начальствование над военно–походной Его Императорского величества канцелярией, — почтённые эти институции, во главе со славным руководителем их Алексеем Павловичем (если Николаю Николаевичу память не изменила) Чамберсом 18–м(!), стали её частью.
Через двадцать лет, 30 августа 1852 года, граф Владимир Фёдорович Адлерберг 1–й назначен был Министром Императорского двора. И управляемая новым Чамберсом — Александром Львовичем — «Личная почта» вновь оказалась в его опосредованном ведении. Оставалась она там при нём двадцать лет. Оставалась и при сыне графа, генерале–от–инфантерии Александре Владимировиче Адлерберге 2–м, который с 17 апреля 1870 года, на одиннадцать лет, заступил отца в той же должности Министра двора. И, — надо же(!), — при обоих Адлербергах службу «личных» почтальонов непременно возглавляли тоже Чамберсы!
Завидное и примерное постоянство, заложенное в почву России её Великим Преобразователем! Ни до ни после окончания университета, — ни в одном российском архиве, — Николай Николаевич не обнаружил официальных званий или чинов этих «опричников», не найдя обстоятельству сему никакого объяснения. Много позже, не объяснило этого и подробнейшее Приложение–расшифровка к акту о кремации «не поименованных» документов экспедиции царского МИД от 11.07.1918 г., подписанное Иоффе и им же утверждённое (одним из самых доверенных, самых дотошных и… самых тёмных ленинских дипломатов Ильёю Ароновичем Шейнманом—Иоффе).А документ этот должен был содержать разгадку тайны этого особого обстоятельства, которой не позволили пересеч революционную границу! («Несомненно одно: особое семейное, личностное, что ли значение придавалось службе этой всеми поколениями Романовых. И фигуранты её тщательно скрывались». В. Мазаев, Зам. начальника Историко- дипломатического управления МИД СССР.23.04.1977.№558. Арх. Авт.).
Один из потомков Ивана Ивановича — младший брат Алексея Павловича, Константин Павлович Чамберс — женился в 1817 году на балтийской — из Ревеля — баронессе Джесике Розенфельд. В приданное за ней получил он старинный, — с многочисленными филиалами и богатейшей клиентурою, — Лондонский Банкирский Дом «Йорик Констебль», имеющий многочисленные филиалы в Европе, Азии и Америке. Что с ним делать Константин Павлович узнать… не успел — умер. И по воле Джесики «Дом» перешел в руки родственника её, Абеля Иосифа Иоахима Розенфельда. Проповедника и финансиста московской меннонитской общины. Сам же Розенфельд тоже был владельцем весьма серьёзного, но уже собственного российского, банкирского «Дома» на Поварской (с филиалом на Варварке Китай–города. В Глебовском подворье его). И… дядькою… Анны Розы Гааз.
По гибели родителей её в 1846 году во время эпидемии чумы в Москве, девятилетней девочкою забрал Абель Анну Розу к себе. Вырастил. Воспитал. Выдал за племянника доктора Гааза. А спустя полвека, — незадолго до кончины своей 12 января 1898 года, — сделал своей единственной наследницею. Фактически же передав ей дела двадцатью годами прежде.
И вот теперь хозяйка этого огромного состояния предложила Николаю Николаевичу занять освободившееся «по ротации» и открывшимся вакансиям почётную синекуру Полномочного доверенного куратора филиалов банков её в Новой Англии и на Среднем Западе САСШ. Учреждений, вошедших в историю этой страны финансированием — в средине прошедшего века — изысканий, проектирования и прокладки крупнейших Трансконтинентальных магистралей. И в их числе — самой трансокеанской железной дороги «Топика, Этчисон и Санта Фе».
— «Впрягайтесь, — сказала, — Николай Николаевич. И, удачи Вам!».
На ответную реплику нескрываемого смущения и плохо скрытого сомнения о возможной потере независимости (!?) заметила: — «Бесспорно, бесспорно. Именно гордая независимость — Ваше богатство, граф. Но будем реалистами. Дорого ли стоит она, — независимость эта, — в наше–то прагматическое время, не подпёртая (простите за грубость) большими деньгами?»… И спохватилась, поняв наконец истинную причину внезапного «загадочного состояния» собеседника. И пользуясь преимуществом никогда не скрываемого ею почтенного возраста добавила: — «Тысячи извинений! Но оставьте спесь, граф! Вам она не приличествует. Не к лицу… А сомнения Ваши… Пусть они останутся с Вами. Примите моё предложение — очень прошу. И поезжайте, поезжайте с Богом за океан! Там предстоят великие созидательные дела. Там широчайший простор для их свершения! Ну, а здесь… Здесь п о к а нам с Вами нечего больше делать. Россия вскорости и на долго — на столетие, если не больше — проваливается в тартарары… Не качайте головою… Помните только, что автор и виновник надвигающейся р у с с к о й трагедии и Вы тоже. Вы и всё ваше ОБЛОМОВСКО-МОРОЗОВСКОЕ сословие. По бездумному «освобождению» мужика от разумного и спасительного для него и государства н а с л е д с т в е н о г о надела ОНО пальцем о палец не ударило, чтобы хоть начать как–то обустраивать и облагораживать свои хозяйства. Но транжирить кинулось, распродавать по дешевке начало единственное своё достояние — родовую дедову землю. Знаю о чём говорю: пол века как сама — имениями, до последнего вершка — скупала «бросовым» ставший для НЕГО этот бесценный «товар»! А само ОНО не только что созидать (да создать, проще) ничего путного не сумело — оплатить не способным оказалось текущие счёта, которые предъявляло ему Время! И мне ли не видеть этого!? И потому сегодня ОНО — всё как есть — абсолютно беззащитно перед надвигающейся бесовщиною. А её–то — бесовщину нашу… Как мне, финансистке, и ЕЁ не знать?! Саму её, повадки её, генераторов её, проводников её?…Вот ворвётся она сюда из за «черты», которую сами Вы на погибель свою и прочертили. Голодной стаей — Вами же и возмущённой и обозлённой — ворвётся на РУССКОЕ ПОЛЕ. Которое Вы — снова Вы — для неё и вспахали. Ворвётся нетерпимая, алчная по волчьи, беспощадная генетически ко всему «не своему». И уж тем более «к своему» ненавистному до беспамятства, которое сотню лет держало её на Ваших же запорах в крепостном карцере галахического гетто!… Ворвётся, понятия не желающее знать о связях следствий с причинами. Дочиста ограбит Россию. Сметёт её коренные сословия — Ваше, Ваше, граф, в первую очередь! И зальёт кровью страну…
Потом, конечно, Создатель стаю эту покарает. Жестоко. Как Он умеет карать своих нашкодивших рабов… Вместе, конечно, со всеми нами — «вольными» зрителями!
Но Вам–то, — если даже выживете где–то, — легче Вам не станет.
Потому, господин Адлерберг, соглашайтесь, покуда я добрая.
Я могла бы найти Вам место ближе — в угодной сердцу Вашему Европе где ни будь у моих извечных должников Блейхредеров или Мендельсонов в вашей Германии, или Госкье с Камондо во Франции… Но, боюсь, и их судьба решается…Или решена уже…»
Возразить ей он не мог (Допускал — пока допускал только — что она права). Согласиться с нею не мог тем более. Та самая Гордость дворянская не позволяла. (Прощения прошу: к сожалению, их разговор происходил значительно раньше… позднее ставшим классическим диалога:
— «Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руки!
— Так протянете ноги, старый дурак!»
Потом граф его прочтёт. Успеет прочесть. И поймёт:
авторы романа его именно и имели в виду!).
Тоже потом, лет через одиннадцать–двенадцать, поймёт он и для чего старая предназначала его, на что подвигала п о д д е р ж к о ю своею. И от чего он бездумно отказался, гордец… «Воробьянинов». Но поймёт уже, когда всех их, всё их гордое сословие — и Адлербергов в том числе — сметут и изведут. И даже успеет пророчество Булгаковское прочесть: «…Всем, у кого наконец прояснится ум, всем, кто не верит бреду, что наша злосчастная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъём титанической работы мира, который вознесёт западные страны на невиданную ещё высоту мирного могущества…».
И в который раз «догадается»: так вот на что, — предвосхитив будущие сомнительные поползновения Чичерина, — предназначала его Великая Маленькая Женщина, намереваясь направить в средоточие «титанической работы мира» — на финансовый его, мира, Олимп. На подвиг, прежде всего, перманентного сопротивления только ещё приступившему к каннибальской своей работе большевизму. А он до конца всё ещё не понял её.
Вернее… «понял», — при своём–то хвалёном такте и уме, — превратно и глупее глупого. Грязно даже! Решил почему то, — стареющий и одряхлевший несказанно чудак–человек, — что она — тогда 79 летняя старуха(!) — предлагает ему, САМОМУ сиятельному Адлербергу(!), эдакому — тоже под восемьдесят уже — плейбою, самое что ни есть банальное СОДЕРЖАНИЕ! Ахти на Вас…
И оскорбил отказом.
13. Старик.
…Тотчас после переворота, — вместо того чтобы попытаться уйти со своими близкими туда, где его, не в пример миллионам никому не нужных российских беглецов, любили искренне и ждали, — он заметался как лис на британской псовой охоте… Спрячет зачем–то родных в украинскую мясорубку. И сам сбежит в костромские леса, к пустому для него Нелидовскому кладбищу….
А ведь мог бы, — ничего не потеряв, — путное что–то сделать для них в Америке. Да и для не вовсе чужой ему России. Для русских иммигрантов «первой волны», наконец, когда хлынет она на Запад. Тем более с его–то связями в Европейских элитах!…
Да что там…
С того же проклятого 1917 года граф, — пенсионер по всем человеческим и Божеским законам, а согласись он с предложением Анны Розы — ещё и человек обеспеченный, — он право имел лицезреть на всё как есть творимое большевиками в его стране со спасительного отдаления. Пусть американского.
Но простим затурканному обстоятелтствами Николаю Николаевичу судьбоносную его промашку. Вот, даже Михаил Булгаков, — признанный знаток и певец таинственного и неисповедимого, инфернального даже, — и тот опростоволосился. И ничего особенного: собственная его судьба простою тоже не была. Переплеталась затейливо, — и не однажды, — с судьбами Адлербергов, дальних родичей. С судьбою Сергей Васильевичевой ещё и как фронтового товарища! Но даже он понял всё то, что так и не понял наш герой, десятилетием (да ещё каким!) позднее Анны Розы.
…Обидно очень! Но не дожил чуть–чуть Николай Николаевич до января 1955 года (напомню, рождённый в 1848 году!). Не дожил до времени, когда внучатая племянница его Нина Оттовна, дочь Мелитты, — из 24–х летней ссылки (в начале которой родилась) освобождённая, — встречена была в Москве свекром своим Залманом Додиным и всё ещё живой, здравствующей всё ещё, Великой женщиной… Да! Да! — Всё тою же Великой Маленькой Женщиной Анной Розою! Нина, жена моя, восемь лет со дня того январского, пестовала их — Старую, и моего старика–отца. Как за малыми детьми ухаживала за ними. И, — «самая близкая и самая любимая — любимее и ближе всех самых близких и любимых!», — 25 марта 1963 года глаза ей закрыла, 127 летней! (Свекор умер 6 июня годом прежде). Обмыла. Оплакала. И похоронила. Как смогла отплатив старой женщине теплом удивительного сердца своего за более чем полувековой давности сердечный её порыв…
Установить с графом, — до кончины его в 1951 году, — что и я далеко не чужой не состоявшейся благодетельнице его «из 1916 года», — да и ему тоже уже не посторонний, — времени у нас с ним не случилось. Только позднее стал я бывать (мытарясь не далеко, и тоже на «вечном» поселении) в доме у близких его на прииске Южно—Енисейском (Енисейский кряж Нижнего Приангарья). Бывать не часто. Хотя пути от ближнего моего, Ишимбинского, зимовья до него — тропами горной тайги и болотами — всего–то километров полтораста. Что для Сибири — не расстояние. Но в наступили весенние а потом и августовские разливы, в те годы для меня не проходимые ещё! Однако, однако успели с его роднёю (а главное с Ниной!) выяснить поразившее нас всех обстоятельство: Осенью 1913 года неизвестный мне до того семейный их патриарх Николай Николаевич Адлерберг был тогда (38 лет назад) отправителем в Сербию, в адрес мамы из Мюнхена, памятной теперь уже и в моей семье исторической фельдъегерской депеши: «Ея превосходительству доктору Стаси Фанни Вильнёв ван Менк. В Белград. Правление Российскими Лазаретами». Извещавшей, что она «Высочайше и незамедлительно приглашается в Баден—Баден». Где «изустно и строго конфиденциально» ей сообщено было: «По Высочайшему повелению она, крестовая сестра, Стаси Фанни, отныне и по завершении командирования, состоит в свите при паломнице во Святую землю крестовой же сестре Манефе, послушнице Марфо Мариинской обители».
За полтора года работы на обеих Балканских войнах «доктор Фанни» вымоталась совершенно. Выглядывала «краше в гроб кладут». И надеялась очень, с женихом её и с сестрой Катериною, отдохнуть у друга их Карла Густава Маннергейма в его Финляндии. Куда они и должны были съехаться — первый из Льежа, другая из Москвы, третий из Варшавы. И — на тебе! «Повеление!». Не оставалось ничего, как «согласиться». Однако, «выторговав» у «крестовой сестры» разрешения участвовать в их поездке и жениху её тоже…О их путешествии по Палестине я знал не много: времени на нашей с нею внезапной встрече в декабре 1953 года, после четьвертьвековой разлуки, на такие воспоминания у нас с нею не оказалось. Литературы, — просто сообщений о поездке, даже в Журнале Иерусалимской Епархии, — нет (Как же — секретно же!). Кроме — вспоминала мама — упоминаний в одной из желтых Яффских газеток. И вообще, — сообщений, — как я понял потом, вовсе «не могло быть». Почему? Да из–за того, что слишком скандальным, грязным даже, оказался неудавшийся политический фарс, в который балканские (да и не балканские тоже!) провокаторы будущей европейской войны не постеснялись, было, втянуть августейшую благодетельницу «Доктора Фанни». Мужественно устраняясь от скверны, Великая княгиня тайно, «Марфою» же, из Палестины тогда только что ни бежала.
То — тема особая… Ещё раз напоминающая, какими неисповедимо таинственными путями идут человеческие судьбы, да и судьбы народов тоже!
***
В конце декабря 1917 года Николай Николаевич с близкими — Владимиром и Дмитрием Васильевичами Адлербергами, Нольте Николаем Оттовичем и Иваном Павловичем Гордых — пришли в храм
Богоявления что в московском Елохове. Там заказал он поминальный молебен по убиенным родичам, павшим на полях Мировой войны. Итог подвёл. Военно–полевой, покамест. Главный — впереди ещё.
Переданный клиру и внесенный в постенный синодик — скорбный список покойных для поминовения — содержал одних только Адлербергов тридцать четыре имени… Выбита семья была густо. Землю своей России удобрила славно….
Удивительно, но Провидение и в бурю Февральской революции, да и в шквальные дни большевистского переворота, было к Николаю Николаевичу благосклонно. К нему, и к самым близким его и дорогим…В знакомом доме Министерства Императорского двора по Фонтанке нашел он любимую племянницу — двадцати семи летнюю красавицу Марфиньку и девятилетнюю дочь её Мелитту. И сразу же — в доме, 4 по Английской набережной — не родную бабушку Мили Наталью Николаевну Бирулёву.
Нашел счастливым случаем! Все трое привезли на консилиум к столичным светилам тяжело раненого в 1915 в Галиции отца Мелитты — Мартына Владимировича Адлерберга. Внука старшего брата отца Николая Николаевича, Николая Владимировича (Адлерберга 3–го) — Александра Владимировича (Адлерберга –2–го), армейского полевого хирурга. Трудно — и без надежды на успех — лечили–пользовали они его «на водах». А если правду сказать, Наталья Николаевна лелеяла последние дни жизни любимого воспитанника своего на божественной тогда ещё природе северных предгорий Кавказа — в уютнейшем санатории доктора Зернова в «Английском саду» Ессентуков. И Марфа Николаевна с Милею были ей в том бесценными помощницами… Об этом через 60 лет — в мае 1976–го — рассказал мне, после стариковских брюзжаний по безвозвратно минувшему, прикованный к постели художник Николай Николаевич Крашенинников. «Уточнив», что «…в 1917–18 гг. встречался у Зернова с Мартыном Владимировичем и кузеном его — не помню каким… — барами с огромными адлерберговскими глазами…». И вспомнил, что в фотоальбоме отца его, писателя Николая Алексеевича Крашенинникова, есть снимок — там же в Английском саду сделанный: сам Николай Алексеевич, певица Плевицкая Надежда Васильевна, Станиславский и Адлерберги оба. Я потом узнал, что копия фото, — чрезвычайно редкая, с изображениями членов полуавгустейшей некогда семьи, — хранится и в ЦГАЛИ, в коллекции художника Аркадия Александровича Рылова («Память о невозвратном»?). И ещё в Доме—Музее Станиславского по Леонтьевскому переулку, 6, у Никитских ворот, в Москве…
14. Кременец.
Из–за несчастья с Мартыном Владимировичем, после большевистского переворота ни у кого из них мысли не было пытаться бежать куда–то за пределы России… Уйти с тяжело больным не встающим с постели — с ним — как уйдёшь? С ним не уйти было! И как вообще можно Россию оставить?! Убеждены были, святые люди, и первым Мартин Владимирович: без них, — «без цементирующего империю дворянского и офицерского сословия — опоры Церкви и Власти», — Она, к а к Р о с с и я Православная, кончится. Захиреет. Изойдёт кровью. Пожрёт самоё себя. И, — возможно, не сразу — через полвека, или больше пусть, — но, как империя, сгниёт и развалится…
…Тоже, выходит, глядели как в воду?…Когда смута перекинулась из Питера на Москву, даже сорокатысячный её офицерский корпус «самоустранился» от событий…Видите ли, он не доволен был политикой Временного правительства! А что его уже нет, и наступил конец Империи, — Конец им самим, — не сообразил. И оказалось, что Первопрестольную, Россию спасать некому было кроме мальчиков–юнкеров Александровского училища (что на Знаменской) под командой никому тогда не известного подполковника Дорофеева — и с т и н н ы х Г е р о е в Н а р о д а…
…И герои наши тоже остались. Два года спустя, 12 декабря 1917, оставили они квартиры свои по Сергиевской, 22, и 26/28, по Каменно–островскому проспекту, и «переписали» их бедствовавшим, — в сотрясаемом пьяной матроснёю Кронштадте на Котлине, — семьям дочерей мачехи Мартына Владимировича Натальи Николаевны Бирулёвой. С младенчества поднимавшей и воспитывавшей его по смерти родной матери. Да ещё и в тяжкой роли второй — и ревнуемой отчаянно — жены отца его Владимира Александровича Адлерберга. А потом нянчившей и чадо его любимое — Мелитту.
Но, погодя немного, надумали они, вдруг, санитарным вагоном, «добытым» милейшим Николаем Оттовичем, тайно и по скорому оставить Москву: подогнал слух что «о них справляются».
Вскоре и Николай Николаевич, мысленно сперва, присоединился к их планам. С помощью Владимира Васильевича и Нольте с Гордых подготовил женщин и бедного Мартына Владимировича в дальнюю дорогу. И под слёзы брата и свои собственные, но зато при устроенном им надёжнейшем сопровождении близких Павлом Оттовичем, — который, говорилось уже, «сам один стоил половины (если не целой) роты пластунов», — «отпустил» их аж под самый Кременец. На Украину. К старому сослуживцу по Баварской миссии и другу детства (да и родичу через Голицыных) Алексею Владимировичу Трубецкому. Владевшему там микроскопическим родовым поместьем. Сам же с Иваном Павловичем изготовился. Не без пренеприятнейшей процедуры приобрел у знакомого Владимиру Васильевичу комиссарствующего жулика удостоверенческие «бумаги». И тихо убыл в бывшее имение покойной бабки своей Нелидовой Марии Васильевны — село Нелидово одноимённого уезда Костромской губернии…
…А его в самом деле искали уже. Только тогда не Чичерин ещё…
Почему не уехал он вместе с Мартыном Владимировичем и со своими женщинами на Украину? Или, из–за чего не взял их всех с собою под Кострому, где никто их никогда не видел и не опознал бы? И вообще, зачем были все эти ни к чему путному не приводящие тайные отъезды–переезды — бегства практически — взамен само собою напрашивавшейся тогда для их семьи любым (даже самым опасным) путём эмиграции из России? Понятия не имею. Ни Мелитта — дочери, — через множество лет, — ни Марфа — Мелитте объяснить смысл этого его странного (старческого, говорили) решения не брались…
Ведь близкие люди старались в те трагические времена не расставаться! Зачем тогда старик отделился от своих?
Скорей всего, и наверно (и это не раз говорил мне Кирилл Николаевич Голицын незабвенный), — неординарностью своей громкой фамилии–судьбы и очень уж заметной, в глаза бросающейся, аристократической внешностью Николай Николаевич страшился навлечь на них беду! В столицах и центрах страны искали уже усиленно СЕМЬИ ВОТ ТАКИХ ВОТ «БЫВШИХ» (В частности, ЕГО, — повторюсь, — тоже, и в особенности!). Чтобы непременно семьями же уничтожить (Миней Израилевич Губельман /кличка: «Ем. Ярославский»/, задумавший лишить Россию коренных сословий, дело знал отлично!).
…И они расстались. Слава Богу, не на долго.
15. Кострома.
Нелидово… Глушь. И никто в лицо Николая Николаевича здесь не знал. Не мог знать. Даже члены поповой семьи Тихомирновых знать его, вернее, узнать не смогли бы: видели Николеньку однажды только. Да и то Бог знает когда — в возрасте нежном. А и узнали бы… Тоже не беда: глава семьи, — священник Степан Филиппович, из «Чёрно–передельцев», — некогда «отставлен» был дедом Николая Николаевича Александром Владимировичем от верной каторги. А то и вовсе от крепости. И привечен. И о. Веналий костьми бы лёг — не выдал бы племянника спасшего его генерала. Меж тем, только под Костромою большой и дружной адлерберговской семье принадлежали когда–то в уездах Буйском, Галицком, Кологривском и Макарьевском аж 25 тысяч десятин «родовых». Привнесенных в 1817 году ещё Владимиру Фёдоровичу в качестве приданного родителями невесты его фрейлины Марии Васильевны — Василием Ивановичем Нелидовым и Анастасией Васильевною (урождённой Сенявиной).
Владела семья кроме того ещё и родовыми имениями в Петербургской, Тамбовской и Ярославской губерниях. И это кроме 4–х тысяч десятин в Николаевском уезде Самарской губернии. Отцу Николая Николаевича — «генерал–адъютанту графу Николаю Владимировичу Адлербергу 3–у — пожалованных на основании Указа правительствующего Сената по 1 департаменту от 10 мая 1876 года». Слава Богу, дед, отец и дядька Александр Владимирович предчувствовали грядущие «сложности» из за наличия земельной собственностью. Кои за 800 лет «тысячелетняя» Россия ни разрешить ни упростить так и не успела. Как, впрочем, и возможную динамику головных болей от владения ею. Потому ещё до января 1883 года от всех этих земель освободились продажею их своим, из под крепости освобождённым, крестьянам. О чём, между прочим, в «Фонде Самарского дворянского депутатского собрания» Государственного архива Куйбышевской (Самарской) области запись: «2. Договор, заключённый 17 января 1883 года уполномоченным генерал–адъютанта графа Николая Владимировича Адлерберга 3–го почётным гражданином И. Я. Дерновым с одной стороны, о продаже земли удобной и неудобной в количестве 4.073 десятины 1500 сажень всей без остатка со всеми находящимися на ней лесами, водами и прочими угодьями…» (Справка № 48/5–2, датированная 27 апреля 1977 г.).
К слову, уже в конце 1883 года никакой недвижимости ни у кого из Адлербергов в России тоже не было. С приглашением на службу, — с первой ночи в семье Романовых в конце 18 века, — жили они «по месту работы». В казённых дворцовых апартаментах. Вознесясь же высочайше — «бедствовали» на казённых же квартирах МИД по Конюшенной, и Министерства двора и уделов по Фонтанке. А когда уходили на покой (если до того не умирали) — снимали зимнее жильё в тихих кварталах обеих столиц, если не на совсем не отъезжали в свою Баварию, в приобретённые многолетней службою имения свои — к родне. Потому на готовенькое набежавшим в 1917 году швондерам — гребануть «награбленное» — у Адлербергов не вышло.
В заволжской глухомани скрывался бы Николай Николаевич спокойно. Жил поживал бы, старик, никем не узнаный до лучших времён — если таковые воспоследовали бы. К тому же, черёз челночно сновавших меж мирным Заволжьем и воюющим югом «мешочников», наладивший надёжные «каналы связи» со своими на Украине И даже приличную их поддержку…Не нужный уже никому, за исключением своих «украинцев». Кроме, пожалуй, знавших и помнящих о громкой фамилии его и о нём самом столичных нтересантов–спецов по экспроприациям.
Из попавших мне в руки материалов ЦГАОР узнал, что жаждавшие «камушков и бронзулетков» чиновные кальсонеры грамотностью и историческою любознательностью не отличались. И догадаться не удосужились что Адлерберги, — пол века как в открытую отъезжавшие в свою Баварию, — давно увезли все свои ценности, не за один век накопленные. Кстати, то же выходит и по архивным «монстрам», отложившимся в «дачной» коллекции Александра Евгеньевича Голованова, брата моего названного. И, в их числе, по Материалам Уголовных дел времён Ленинградской блокады. Когда именитые преступники в грабительской эйфории повальных поисков «камешков» и «драгметалла» перелопатили гибнувший город. И, — перегубив для того тысячи (а может и десятки тысяч!) и без того умиравших в нём людей, — даже они найти ничего УЖЕ не смогли (В том числе ценности не существовавшие — адлерберговские). Ибо, как в старые нэповские времена, перед ними, — квалифицированным «РАЗГОНОМ» до чиста изымая раритет, — бреднем шла мало тогда кому известная московская братва старого (со времён в. кн. Сергея Александровича) авторитета Ашкенадзе «с Аптекарского». Малина которого на время войны перенесена была эвакуацией в далёкий Ташкент.
16. Урал.
Нашедший счастливо в беспросветном кошмаре времени разлюбезнейшее дело — лошадей пестовать — и, повторюсь, узнававший изредка о почти безбедной (молитвами его) жизни родных на Украине, Николай Николаевич по своему был счастлив. Счастливым оставался бы он, иди всё так же всё и впредь. Кабы не стороною дошедшее до него страшное известие о мученической смерти в июле 1918 года от рук большевистских убийц ближайшей подруги и наперсницы Натальи Николаевны Бирулёвой—Адлерберг — Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Доброго гения семьи с самого рождения Марфиньки, до последнего часу опекавшей её с любовью и по матерински…
И, — почти одновременно же, — невероятные, осмыслению не поддающиеся, слухи о гибели там же, на Урале, от рук всё тех же самых мерзавцев, всей Императорской семьи…В с е й! С несчастным больным мальчиком… С девочками — ангелами… С доктором. С верными и ставшими родными слугами…
«Да, конечно, — истязал себя Николай Николаевич, — Сам Покойный совершил массу ошибок. Порою не простительных. Роковых для страны…Которые, — будь он чуть поумнее и поответственней чуть, и конечно же ПОЛНОВЛАСТНЕЕ, будь он действительным владыкою России, — вполне мог бы и не допустить. … И ещё это позорное, трагическое, подкосившее державу, — отречение… Даже за сына!…
Всё так. Всё так… Но чтобы с такой жестокостью покончить с Ним, — с невинными детьми Его, с супругою, СЛОМЛЕННОЙ неизлечимым недугом маленького сына?
Вот когда, наконец, «дипломат от Бога», «мудрец из мудрецов» — и ещё что–то там такое эдакое — понял, что же на самом деле скогтило несчастную его страну и распоряжается ею!? И что уготовано ей? И зачем, для чего ищут его самого?
И снова, как в беседе с Александром Васильевичем Кривошеиным, озарило его некогда читанное, и тоже не однажды обсуждаемое с педагогами и старцами–наставниками: «После мучительных пыток расстриженной царицы Евдокии, супруги Петра и матери Алексея, названы были новые имена по «делу» несчастного царевича… Начались новые волны дознаний и пароксизмы пыток. А за тем казни. И «…старец Досифей на которого истязаемый народ молился — приговорённый к смерти колесованием — нашел в себе силы перед концом 16 марта 1718 года выкрикнуть в лицо царю: «Если ты убьёшь своего сына, эта кровь будет на тебе и твоих близких, от отца к сыну, до последнего царя! Помилуй сына! Помилуй Россию!»… Царь Пётр сына не помиловал. Не помиловал он и Россию…Досифей был обезглавлен, его тело сожжено, а голова посажена на кол»…, заключает летопись.
Так что же — Досифеево проклятье догнало и осуществилось!?
Николай Николаевич ещё не знал, что то же известие, и так же слухом дошедшее и до Кременца, сделает и там чёрное своё дело. Потрясёт ещё не устоявшуюся психику Марфиньки — ведь Елисавета Феодоровна была ей, повторюсь, второй и до сердечных болей любимой матерью. Главное же, бросит раненую дикой вестью пожилую уже и не вовсе здоровую, достаточно измученную свалившимися на неё общими бедами и семейными несчастьями, Наталью Николаевну в пучину многолетней тягчайшей депрессии. Из которой «выйдет» она только по смерти.
…Любимому и любящему их Мартыну совсем худо… Истязаемому увечьем и тоже никогда не забывавшего Досифеева предвиденья, сил больше у него нет, чтобы утешить и успокоить их…
Ничего «особенного» в такой разрушительной для Натальи Николаевны реакции на гибель Великой княгини не было. В 1863 году, девятнадцатилетней девушкою, Наташа приглашена была императрицею Марией Феодоровной, супругой Александра Ш, на Высочайший рождественский приём. Состоялся он и по случаю двадцатилетней годовщины успешного завершения под командой отца девочки, — тогда ещё капитана 1 ранга Николая Алексеевича Бирулёва, — двухгодичного кругосветного плавания корвета «Посадник» с фрегатами его сопровождавшими. И счастливого возвращения эскадры из Японии. На приеме присутствовали и «молодые» — брат царя Великий князь Сергей и его тоже девятнадцатилетняя супруга В. кн. Елисавета. Император, сказав в адрес покойного адмирала, — ещё и героя Севастополя, — несколько тёплых сердечных слов, тут же представил ей дочь его, фрейлину супруги, Наталью Николаевну.
Елисавета Феодоровна, женщина эмоциональная и отзывчивая чрезвычайно на чужую боль и искреннее проявление чувств, не будучи даже пока ещё россиянкою, поражена была, — и покорена, одновременно, — милой непосредственностью красавицы–гостьи. А Наташа по детски ещё и расплакалась навзрыд, когда царь, — помянув заслуги отца её, — не протянул ей как это принято было этикетом приёмов руку для поцелуя. Но неожиданно сам, — человек высочайшего целомудрия, — нежно приблизил её к себе, обнял и — великан, — как пушинку подняв на руки, по отечески поцеловал в лоб…
17. Царское село.
Однако, всё естественным было. Так же отзывчивый, помнящий добро, — свойство души редчайшее на таком уровне, — император не забыл состояния величайшего счастья, испытанного им, однажды, в мальчишестве. Тогда, в конце лета 1856 года, на капитанском мостике дождался он, наконец, вечность ожидаемой команды Бирулёва. В состоянии обморочном от переполнявшего его восторга заступил, — «по всей форме» тем не менее, — передавшего ему управление яхтою матроса–рулевого. Мёртвой хваткою, — как это виделось ему в снившихся несчётно раз самых смелых и прекрасных снах, — вцепился в вожделенный штурвал отцовой государевой яхты «Королевы Виктории»! И, — стоя над судном, над морем, под упругим ветром в насквозь пронизывающей дождевой мороси, — в свои одиннадцать мальчишеских лет ощутил впервые в жизни счастье настоящей Мужской Работы! И, быть может, тоже впервые понял смысл слов учителей о «Штурвале Государственного корабля». Так умело, настойчиво и бесстрашно управляемого когда–то мальчишеским кумиром его… И предтечею — Петром Великим.
А счастье это несказанное преподнёс ему милейший, и незабвенный теперь уже, Николай Алексеевич Бирулёв, через 16 лет отцом его произведённый в контр–адмиралы и назначенный в свиту…
…Незабываемая и мною тоже Великая княгиня Елисавета Феодоровна, — направившая счастливо и неординарную судьбу будущей мамы моей (тогда уже вдовы ван Менк) после трагедии Русско–японской войны, — наделена была редчайшим даром проникновения в суть вещей. И ей не трудно было понять главного: Августейший поцелуй, подаренный императором в собрании на людях дочери его кумира, — героя мальчишеских снов, — есть ни что иное как так и не высказанная по природной застенчивости (да–да, именно так!) и врождённому благородству благодарность отцу её при его жизни…
Не нужны слова, чтобы попытаться описать чувства, в одночасье соединившие сразу и навсегда две эти родственные души. Успевшие, не смотря на молодость их, столкнуться уже с грубыми реалиями человеческого бытия. Так же как оценить до конца, — к сожалению, изо всех Романовых, свойственный только императору Александру Александровичу, — особый дар не инфантильной (как у Николая II) тактичности. Дар, в данном случае не позволивший НЕ ПОЗВОЛИТЬ двум молодым женщинам — несовместимых казалось бы «эшелонов обитания» — свободно, без «чинов», меж собою общаться. Дружить. И даже по христиански полюбить друг друга.
Верно, верно говориться: «Пьяный проспится!…» …Это я не о Нём, великого ума человеке… Это я так…Но к слову…
С того рождественского вечера и до ареста — до гибели Великой княгини Елисаветы в 1918 году — были эти две женщины неразлучны. Тому не смогли помешать ни замужество Наташи. Ни забота её о пяти дочерях по внезапной смерти молодого мужа — князя Василия Львовича Оболенского. Ни долгие годы дружной жизни с графом Владимиром Александровичем Адлербергом. Ни счастье воспитания с ним осиротевших её девочек. И Мартына с ними — после гибели от «испанки» два года спустя по рождении мальчика княгини Екатерины Петровны Лопухиной, мамы его.
Конечно же, — и в том самое время признаться, — сблизило их и посторонними как бы не замечаемое невыносимо–унизительное де–факто положение Елисаветы Феодоровны в Романовской семье. Забывать о том грех! То повторять нужно постоянно, как в молитве без купюр перечисляем мы, повторяя, все Страсти Господни. Нужно помнить обязательно. Если мы не ханжески, а по человечески, задумываемся о трагедии жития будущей Священно мученицы. И вспоминать с болью и содроганием о двусмысленнейшем положении вечно уничижаемой супругом и дворцовыми сплетнями молодой прекрасной женщины - … походя отвергаемой жены при не без удовольствий здравствовавшем муже.
А ведь задолго до женитьбы он нужным не считал скрывать от кого либо, — кроме как в первое время от неё, — не терпящее возражений и не прикрываемое этикетом предпочтение, которое он изначально отдавал не супружескому общению с нею. Но преступным — потому как с несовершеннолетними военно–подчинёнными — «общениям» с мальчиками–гардемаринами (бравируя молодечеством этим даже!). Из–за чего, к слову, между Великим князем и Августейшим братом его, — шокируемым не прекращающимися «победительными похождениями» Сергея в юнкерских экипажах, и возникавшими в связи с этим угнетавшими достоинство Елисаветы Феодоровны (и собственное Его и супруги его), — скандалами.
Не слышали, не знали о них одни ленивые.
Только дружба с Натальей Николаевной, только счастье помогать ей растить с нею её дочерей и богоданного сына и опекать собственных своих племянников, — детей ещё, которых тоже нужно было тщательно оберегать от активных «наклонностей» мужа, — спасали до поры до времени ранимую психику светоносной женщины. И позволяли ей на какое–то время дистанцироваться (если возможно такое?) от собственного несчастья.
18. Отчаяние.
Но ведь вечно продолжаться это не могло — Великая княгиня ни физически, ни морально попросту не вынесла бы такого напряжения. Она на последнем пределе уже была! О критическом же состоянии её знали не многие. Врачи знали. Знал и по тяжкой болезни своей вынужден был молчать духовный отец её Преподобный Гавриил, старец Седмиезерной пустыни. Знал, конечно же, Владимир Фёдорович Джунковский, товарищ министра внутренних дел и секретарь князя Сергея (Между прочим, родной племянник друга и верного последователя Льва Николаевича Толстого — Николая Фёдоровича Джунковского. Богатейшего офицера–аристократа. Воспитанника Пажеского корпуса. Оставившего военную службу. Раздавшего всё своё имущество крестьянам. И по примеру учителя занявшегося земледельческим трудом). Да, Владимир Фёдорович знал точно! Знал и пытался заступиться исповедник её Дмитровский Серафим (Звездинский). И знала мама моя. С которой Великая княгиня с 1906 года пребывала сперва в добрых, но официальных, отношениях; позднее — года с 1908–го — в дружеских рабочих. А с началом 1–й Балканской войны, — с 1911 года, когда талант «Доктора Фанни» проявился во всём своём неназойливом блеске, а характер и воля меннонитки — во всей их цельности и силе, — в отношениях исповедально доверительных. Сестринских…
…Однажды — случилось это в самом конце 1913 года во время не заладившегося путешествия их по Палестине — Елисавета Феодоровна, решась, открылась ей: «Ещё лет десять назад явилась мне, Фанечка, спасительная мысль о смерти… Позднее, я, — взяв на себя величайший грех, — даже уверила себя, что сама способна — и должна — уйти из моей страшной жизни… Я же на виду у всех, как рыба в аквариуме под лампою. И чувствую, вижу, спиною ощущаю, как люди тычут вслед мне пальцами!… Остановила меня не гибель мучителя моего, нет! Но осознание глубины постоянно ожидаемого и изо дня на день — все прошедшие дни и годы — накликаемого нами же и всеми россиянами величайшего несчастья в семье сестры, которое я должна, которое обязана была разделить и с нею и с бедным Николаем Александровичем… Я же мамой посвящена была в нашу с Александрой семейную тайну страшной болезни, которую несём в себе мужскому потомству… И умирала не однажды, и воскресала не однажды вновь, узнав, сперва о рождении первой девочки — Ольги. Потом Татьяны. Потом Марии. Потом Анастасии… Все — с 1895 года — девять лет нашей жизни до рождения Алексея. И вот — случилось — родился мальчик…Main Gott, Main Gott, чего это мне стоило! И каждый раз долгие месяцы изнуряющего ожидания–страха… И нового воскресения… И вот… самое страшное осуществилось — родился долгожданный и самый желанный…великомученик»…
…После одной из тяжелейших (восьми часовой «показательной»!) операции в лазарете монастыря Августы Виктории на Масличной горе, мама и Елисавета Феодоровна вышли под усыпанное звёздами небо. Перед ними, на Востоке, — прямо от подножия исполинской башни звонницы, — как бы пала вниз и там пустынею распростёрлась на холмах древняя Иудея. Они были одни…Они — и Великие строки Великого поэта…о внемлющей Богу пустыне…
…И беспощадная действительность…
…Быть может, — и скорей всего, — для кого–то прозвучит такое кощунственно… Но мама, — не за долго до смерти своей, — сказала мне (будто по писаному прочла — случилось это в конце 1953 года, в Ишимбинском — на Тунгусках — моём ссылочном зимовье):
— «Она (Елисавета Феодоровна) рождена была Великой Страстотерпицею. Сперва повторила злосчастную судьбу Изабеллы, прекрасной дочери Филиппа 4–го «Красивого» Французского — невозмутимого и жестокого владыки. Не задумываясь, и не пожалев, — во имя всегда зло корыстных династических целей, — отдал он её в жены августейшему подонку — Эдуарду 2–му Английскому. Скоту! Ничтожеству!… Нравы этого общественного мужеложца известны были тогда — в начале 14 века(!) — всей Европе. Так, во всяком случае, свидетельствуют историки. Неужели же не ясно, что шесть столетий спустя, — в конце ХIХ — в начале ХХ-го веков, «Информационного», — о происходящем в семье Романовых откровенном и безжалостном, — нет, нет — жесточайшем уничижении Великой княгини, родной сестры Императрицы, осведомлен был весь просвещённый мир! Даже сами россияне, считающиеся прогрессистами…в массе своей слепо глухими. Должен был прозвучать С п а с и т е л ь н ы й (прости меня, Господи Боже мой!) В З Р Ы В бомбы Беса, — Ивана Каляева, — чтобы Святая эта женщина, опозоренная недостойным её «мужем», освободилась от зарвавшегося педофила. К тому же ещё человека истеричного и не порядочного» (подробности чего «вырвались» у автора в повествовании его «ПЛОЩАДЬ РАЗГУЛЯЙ»)…
Столетие с той поры прошло. Время достаточное, чтобы всё уяснить, всё пережить. И сказать правду. Ибо «De mortuis — veritas» — так учили древние. Но вместо того вновь ложь, ложь, ложь! И в 2007 году уже, в Тель–авивском(!) журнале от 24 мая — ещё одно настойчиво внушаемое пастве(?) «откровение», к сему русскоязычному еврейскому изданию вовсе не причастной причастницы Александровского подворья Старого города: «Незаслуженная клевета, сплетни в высшем свете, надуманные обвинения послужили поводом к созданию искаженного образа Великого князя Сергея Александровича, и началась его травля и преследования, закончившиеся трагической развязкой — в 2 часа 45 минут 4 февраля 1905 года брошенной в карету анархистом бомбой»… Бомба Каляева — в результате… преследования, травли из–за искаженного образа и надуманных обвинений(?) сплетен и клеветы в высшего света?… Всё — с ног на голову…
Бог мой! Так грубо, откровенно и бесжалостно попенять не повинную ни в чём святую мученицу сокрытием и отнятием самых великих мук Её… И это — из под пера, из уст тех, кто должен, кто обязан был, — хотя бы по службе, — свято хранить и нести потомкам каждый вздох души многострадальной… Читала ли сама автор, что ею написано?
19. Сомнение.
Историки всевозможного пошиба любят вспоминать пикантные обстоятельства паломничество Великой княгини Елисаветы в узилище к убийце мужа, «дабы смягчить его сердце и обратить к вере»…Что ж, и такое можно — и должно даже — предположить. Но близкие к Ней в те драматические часы не сомневались: то была отчаянная попытка благодарной Женщины заставить Каляева, — несомненно возгордившегося бы Ея неординарным поступком, — просить государя о даровании ему жизни. И тем спасти не только душу его, но, прежде всего, естество!…Неахти как дорого стоившее в сравнении с благодатью, которую тот совершил…Среди «близких» маму не поминаю: тема даже 48 лет спустя оказалась для неё запретной! Однако, убеждён, что и она так полагала… «Близкие» — то — а сама Великая княгиня тем более — не забыли, что подставляя собственную жизнь, Каляев, — не за долго прежде броска «адской машинки» в экипаж генерал–губернатора, — карету с августейшими детьми само собою пропустил… И Елисавета Феодоровна надеялась…
…Вновь ропщу… Но, — что делать, — …не душеприказчик я убитому: отношусь к покойному как отношусь, как учили меня. Как понял его так и позволяю себе вспоминать о нём, имевшем редкостную возможность облагородить и даже освятить не самое последнее место своё в земной жизни. Но того, за крайней «занятостью» своею, не совершившего… Хотя, конечно же, конечно, высочайше поручено было ему и главенствование Императорским православным палестинским обществом. И доверено наблюдение за Жертвованием на возведение церквей Александра Невского у «Русских раскопов», Преображенской — на Фаворе, Марии Магдалины — в Гефсимании… И допущен надзор и попечительствование над… почти сорока иными общественными, культурными и даже научными учреждениями» (число коих… ежели и не вопиет, то уж само за себя говорит). В целом, всего этого забыть нельзя. Как забыть не получится одного только единственного славного 14–и летнего московского генерал губернаторства княже Сергия. Когда под постоянным накалом обуявших его великих душевно–административных страстей, уготовил он собственную гибель (что само по себе куда ни шло), страшный конец Романовых и скандальное — именно скандальное — крушение империи.
«Боже! Что испытала супруга этого человека — великая мученица?», восклицает в 1911 году на своей лекции адресат послания давно покойного уже доктора Боткина — Владимир Михайлович. Предвосхитив будто бы заранее судьбу Её… (Автор добавил бы: И великие русские медики, жившие столетием прежде него, так же как и он сопоставляли страсти двух несчастных Женщин, — да и их несчастных народов тоже, — отделённых друг от друга более чем пятью веками!).
… И вновь мама: «А через 18 лет, такой страшный конец земной жизни прекрасной женщины! Прекрасно же она была настолько, что не нашлось ни одного художника, чтобы воссоздать красками на полотне Её божественный лик. И только могучий резец великого скульптора Марка Матвеевича Антокольского изваял Его из глыбы светоносного карарского мрамора… Неужто, Создатель нуждался в этой немыслимо чудовищной жертве?! Неужто?…И по–очему–у?…Зачем?».
И, возвращаясь к земным бедам подруги: «Там, у храмовой звонницы, Она вспомнила как в 1888 году впервые посетила с мужем эти места. Поводом было освящение храма Марии Магдалины, построенного венценосным братом Сергея…Здесь — внизу, за нами… Тогда нас знакомили с Назаретом, водили на гору Фавор — где я тогда ни была! Муж как всегда был где–то «с друзьями» (Мне доброхоты доложили — визитировал училище или семинарию для мальчиков… И здесь, на Святой земле, не стеснялся пребывать в поисках)… А когда торжество освящения окончилось, мы вышли на террасу…Я взглянула на панораму Иерусалима…На всю эту великую красоту и святость… Подумав, — как оказалось вслух, — о своём проклятье, из за которого задумала уйти… И прошептала, ни к кому, — тоже, как оказалось, вслух: — «Когда придёт к концу мой земной срок… похороните меня здесь, в этом храме…в виду этих седых стен…»
Россия узнала, — и не сразу, — об этой просьбе Женщины удивительной от свидетеля очень серьёзного. Знающего и саму Её и цену словам Ею произнесенным. От Владимира Фёдоровича Джунковского…
…Что бы избавиться от греховных наваждений, и от годами терзающих меня страшных слов трагически сбывшегося Елеонского пророчества Подруги матери, — автор разрешает себе отвлечься от них фантазиями… Вот, поднявшись и отдыхая теперь, Елисавета Феодоровна — после тяжких и необоримых сомнений, которые не оставляют её последние дни. А мама — остыв и успокоившись после очередной многочасовой операции. Стояли они, дорогие мне Люди, у белокаменного цоколя монастыря Августы Виктории на Елеонской Вершине Масличной Горы…Скорей всего представляя, как двумя тысячами лет прежде на этом же самом месте страдал, — ожидая, — Иисус. Зная точно, что «не минет его чаша…». И готовясь к принятию её. Встречал такой же, — быть может тот самый, — последний на земле свой рассвет…И вот теперь уже они, — невидимые в уходящей от них многозвёздной россыпи южной ночи, — тоже будто что–то ожидая (не иначе!), — глядели заворожено, — на спящую Святую Землю, в кромешной тишине простершуюся под ними на Восток. От мрака у ног Их. И до ослепительно вдруг засверкавшей нити–кромки зеркала Мёртвого Моря. Самого скрытого ещё за чёрным изгибом недальней гряды чёрного изгиба сумеречных холмов. Но воздух над чашею которого, густея, наливается уже расплавленным золотом восходящего светила…
…Мама…Мама — она, конечно, видеть вперёд ничего не могла. Не сподобил её Господь (Ходя в своём деле диагност была от Бога!). Но Великая княгиня, — через 79 лет не просто же так Архиерейским собором Русской Православной Церкви причисленная к лику Новомучеников российских, — Она прозревала тогда уже всё…И всевидящими очами Своими отметила: здесь, внизу, — у края Иудейской пустыни прямо под величественной звонницею храма монастыря, в каких–то полутора–двух милях от подножия его по Восточному склону Масличной Горы, — лежит Красный на неё Подъём. Красный Перевал — «Маале адуммим» по–здешнему. И предвидела, что вырастёт через полвека на самой круче его поселеньице с тем же названием… И что ровно через 68 лет поселятся в нём младший сын стоящей рядом подруги её Стаси Фанни — автор повести. С дочерью своей, тоже Фанни, её внучкою (с которой разминутся по жизни!) с тремя сыновьями (правнуками Стаси Фанни)…И что во Святом граде Золотом Иерусалиме — он на Западном склоне Святой Горы — Фанни–младшая станет строить мосты, путепроводы и тоннели — вереницы мостов, путепроводов и тоннелей. А пару тоннелей — так она даже сквозь саму эту Святую гору пробьёт, под самим Библейским Гефсиманским Садом! Да точно под прямоугольной махиною Башни—Звонницы монастыря Августы Виктории, что величественным маяком вознеслась над Палестиною. Надо всем Божьим Миром. В Центре которого восторженно замерли они, — две Богоизбранные Женщины, — потрясённые открывшейся им тайной не земной красоты…
…И что совсем недавно появившиеся на свет в далёкой Москве русские эти мальчики, в чёрной памяти ночи с 17 на 18 июля, приходить будут в Храм Марии Магдалины. Который тут же, за горою — на Запад, что бы коснуться благоговейно белоснежных мраморных Рак со Святыми Мощами. Одной — Преподобномученицы Елизаветы, подруги прабабки их. Другой — Варвары (Яковлевой), келейницы княгини.
…И важно очень, что уже тогда знала: мальчикам моим, — мухи самим обидеть не способным, — определены были… три года — день в день 1095 дней и ночей(!) каждому — кровавой мясорубки всей планете известной Палестинской Газы. Казалось бы, в чужом им, — наследникам бархатно книжных шведско–русских дворян и беглых немецких землепашцев, — в израильском ОСНАЗЕ с легендарным именем «Гивати». И это — в то же самое время, когда братьев их в России вот уже 10 лет, — тоже ночами и днями, — истребляют те же самые наёмники–фанатики. В боях с которыми «только что, — 1 марта 2000 года в Чечне, в Аргунском ущелье под Улус—Кертом, — шестая рота 76–й Псковской дивизии ВДВ стояла на смерть, ни одним человеком не отступив. Хотя резали её две с лишком тысячи бандитов под командой ливанско–палестинского мясника Хаттаба…Из ста четырёх принявших бой десантников погибли все…» «Подвиг — античный, сообщают российские СМИ. И потому, что похож на Фермопилы, и потому, что никак не склеивается с нынешним то ли временем, то ли безвременьем»: ведь та же самая Россия, где такое происходит, — и тоже днями и ночами, — гонит и гонит суда и самолёты с новейшим оружием тем же бандитам в те же палестино–ливанско–сирийско хаттабовские адреса. И «адресаты» эти воюют русским оружием с моими русскими мальчиками. «Смело» нападая на них и ещё более «отважно» драпая от них же всегда, — всеобязательно и только, — из–за спин погоняемых ими перед собою или держа за собою толпами собственных детей и женщин (о чём даже сама импотентно сиятельная ООН начала вопить стыдливо!). И храбро — русским же оружием — изгоняя из собственных домов и поселений и истребляя православных соплеменников. А бывало похлеще: «По просьбе» Кремля и по команде нобелевского его друга–бандита, — тем же оружием угрожая и погоняя, с показательным, всеми мировыми СМИ демонстрируемым мордобоем, — выкидывая из православных храмов на камни мостовой православных русских седобородых старцев–священнослужителей,…тогда ещё ЗРПЦ.
18. Разговор.
Кто знает, какими путями пошла бы дальше «нелидовская» судьба Николая Николаевича, если бы не Уральская трагедия Романовых? Мне — не очень понятно какими. Мы, — и вместе со мною Нина Оттовна, дочь Мелитты Мартыновны, — в многолетнем поиске нашем ответа тому не нашли. Что растревожило старика — ясно. А вот что побудило его сорваться внезапно, — в страшное время, в страшную дорогу с, казалось бы, безопасного, тёплого и позволяющего безбедно существовать дорогим людям, места? Мне этого никто не объяснил. В том числе и сам он. Но сорвался! Проплутал с полгода по охваченному огнём войны югу России. В августе, в Харькове, столкнулся нежданно — чудом — в издательстве газеты «Южный край» с давними друзьями — с Еленой Геннадиевной Кривошеиной! Не успели пообниматься и поплакаться — Александр Васильевич с бароном Петром Николаевичем Врангелем нагрянули. Расположились в не по времени уютном кафе. А в нём познакомились ещё с одним «сорвавшимся» — с милейшим человеком, с московским (с самих замоскворецких кадашей!) чудо–литератором Иваном Сергеевичем Шмелёвым!…
Случилась мучительная и даже вовсе нелицеприятная беседа с ними. Но старый всё же «уговорил» Петра Николаевича и Александра Васильевича, что «вправду, стар для затеянного ими великого дела и своего в нём участия… Ну, не наделила меня природа отвагою души — оправдывался: не судьбою великой империи озабочен (не умеющей да и не желающей себя защитить!); но тягостными нуждами вовсе не защищённых никем близких, обретающихся неприкаянными пусть у добрых, но тоже вечно ожидавших беды, людей»… Снова поплакался со всё понимающей Еленой Геннадиевной. Попрощался с друзьями, на бой уходящими! О! Это–то он осознавал — ОНИ — НА БОЙ уходят! И до конца жизни истязал себя, уже вовсе глубокого старика, жалящими сердце мыслями о предательстве!… И бросился дальше. Добрался до Кременца (Подумать только — как «добрался»?!)… И — надо же — чуть ли не той же ночью(!), вновь испуганный чем–то, куда–то перевёз ничего не понимающих женщин. И, наконец, успокоясь будто, пристроил Наталью Николаевну, Марфу с Мелиттою и совсем плохого Мартына Владимировича в Богом забытой Старой Гуте (глухой, как показалось ему, беглецу) — немецко–голландской колонии под местечком Пулиным, что в лесах Западной Волыни. Разместив в большом и, к великому счастью, оказавшемся не по времени гостеприимным семейном доме верного товарища, бывшего своего вестового всё из тех же прибалтов, Рихарда Бауэра.
…Три года прожили они под всё ещё не преходящем для них горестным наваждением уральской трагедии. Спокойно прожили. И жили бы дальше. Привыкнув, и — возможно, — породнясь даже с добрыми хозяевами. Но, вдруг, осенью 1921 года, Николай Николаевич к ужасу своему, — он полагал себя уже «навсегда потерянным и пропавшим» (упрятанным надёжно, значит!) в бездонной мешанине страшного времени, — вызван был в Москву!?… Заче-м?! Оказалось… экспертом Оценочного аукциона, организуемого кафедрой Коневодства Петровско—Разумовской Сельскохозяйственной Академиияяяяяяяяяяяя.
Тут надо сказать, что в давно и основательно подзабытой молодости его был он отчаянным кавалеристом. Записным лошадником. У отца в Финляндском имении увлёкся даже коннозаводством. Участвовал в престижных финских, и даже в общескандинавских, скачках и забегах. По нужде, недавно совсем, занимался этим уже профессионально в окоммуненном местными активистами нелидовском, бывшем дедовом, имении…И теперь на Волыни…
Скорей всего, — утешал он себя, — с началом НЭП отыскали имя его в журнальной статистике коннозаводства (такая была и продолжалась!). И Учёный Совет Академии, «вспомнив» о нём, послал вызов на, конечно же, только временное экспертство… Потом, на месте, оказалось, — даже постоянным ассистентом на престижнейшую кафедру приглашен! Это чудом было: ведь оценщикам, — тем более, ассистентам, — полагалось иметь высшее специальное образование. А университет–то Санкт—Петербургский в 1872 он не по естественным наукам — он по юридическому факультету окончил!…
Оставив на Украине Мартына Николаевича, Марфу с Милею и Наталью Николаевну, двинулся он в старую столицу. Московский кузен его Владимир Васильевич, у которого на Красной Пресне он вновь остановился, принял брата (по волчьему времени) со всяческими предосторожностями. «Уплотнённый» оккупировавшими Москву швондерами и (чуть позже — по Любови Белозерской — «определёнными за долго до Булгакова с его шариковыми в бессмертие аж самим Распутиным!»), бедствовал он со старухой нянькою в сгнившей давно развалюхе–пристройке к бывшей его квартире во флигеле, превращённой в классическую коммуналку. Как карась в стеклянной банке существовал «бывший» будто на подмостках, на глазах полу сотни соседей. И что ни день к нему, — старшему полевому офицеру прошедшей войны, — стаями являлись, по тараканьи плодящиеся и всё более и более наглеющие от вседозволенности и безнаказанности, захватившие власть мародёры. А иначе и быть тогда не могло! Стал Владимир Васильевич не просто «из «графьёв». Но родным (а потому во всём виноватым) братом трёх «злостно уклонившихся от регистрации в Хамовническом военном присутствии старших офицеров царской армии» Бориса, Сергея и Дмитрия Васильевичей Адлербергов! Мало того, — по слухам, — ещё и «запятнавших себя активным участием в Белом контрреволюционном движении на юге и даже в Сибири!
(Надо сказать: все трое помянутых «злостно уклонившихся от приглашения на регистрацию» уцелели. И отпущенную им жизнь прожили, дотянув — худо–бедно — аж до средины ХХ века. А вот не уклонившихся «на минуточку» задерживали. И тотчас расстреливали… Таковы тогда были законы «русской рулетки»!).
Тем не менее, Владимир Васильевич не только набрался мужества родственника к себе пригласить. Но сделал для него нечто большее…
К вызову–то Николая Николаевича в Москву он всё же приложил руку. Ибо разыскиваемого, прощения просим, разыскать ещё надо было в непроглядьи времени! Ныне «старший» по кафедральной конюшне, был граф «в прежней жизни» Первопрестольной почётным шефом «Общества любителей конного бега», заступив в той синекуре своего дядю. Событие это занесено (и может быть прочтено любопытствующими исследователями!) в Специальную Регистрационную Книгу уникальнейшего Научно—Художественного Музея Коневодства при одноимённой кафедре Академии по (ныне) Тимирязевской, 44, улице. В нём, среди множества прочих удивительных (и бесценных!) раритетов, близких сердцу истинных любителей и почитателей Её Величества Лошади, — в том числе бесчисленных подлинных работ неисчислимого сонма художников–анималистов, — экспонируются и полотна замечательного русского живописца–лошадника Сверчкова. И мировой известности картины великих немецких и британских мастеров, изобразителей этого четвероногого царя живой природы. Многое можно увидеть в этом единственном в своём роде музее, зачатом в прошедшие века! Но в нём и «изюмина» советского времени была (а может и посейчас наличествует благополучно) и по прежнему обращает на себя внимание всех истинных ценителей прекрасного!… Московская, и в особенности приезжая, публика ходила, — да что там — валом валила с конца двадцатых до самого последнего времени века ХХ-го, — не только «на Великих». Ходила она, — признаемся, — на рядовых коне портретистов, увековечивших в масле плеяду русских и «советских» лошадей — рекордистов и победителей всероссийских, всесоюзных и мировых конных состязаний. В частности, на чудно исполненные Именные Головки–портреты жеребцов–производителей в одинаковых круглых резных позолоченных рамах–венках. Размещались они в один нескончаемый ряд по верху, — замкнутом порталом входа, — покоем стоящих стен «актового» холла первого этажа музея. И внимание входящих в него новых посетителей–гостей неизменно направлялось счастливыми добровольными их экскурсоводами–ведущими в точку напротив дверей. В сам центр живописнейшего этого фриза!…А там, вмонтированная меж жеребецких парадных морд, — в таком же как у всех у них обрамлении и ничем от них не отличаясь, — весело и лучезарно лыбилась, подмигивая восхищённому зрителю,…усатая физиономия Будённого (тогда уже Главного инспектора кавалерии РККА, а позднее чуть и вовсе «маршала Советского Союза». И даже члена то ли ЦК, то ли самого Политбюро ВКП(б) — КПСС!). И восхищённый находкой (и смелостью автора, исполнителя и хранителя чудной «экспозиции») счастливый зритель ахал! Охал! Крякал! И даже многоэтажно и всласть, от души, одобрительно — и безусловно счастливо — матерился! И, все обязательно, — будто прежде сговорясь с остальными понятливыми, — констатировал без тени юмора и не без удовлетворения, да и со значением: — «Ну, наконец–то, — бляхи–мухи!, — Семён Михалыч–то наш — в приличной компании!».
19. Дипломаты.
…Между прочим, Владимир Васильевич Адлерберг сообщил Николаю Николаевичу и о дошедших до него от верных людей слухах что, будто, бывшего дипломата облавно ищет… — нет! Нет! Не ЧК, слава Богу! А лишь только…Чичерин!…
Известно — нашел. Тех, кому интересны подробности упомянутой в начале повести ночной беседы в комиссариате иностранных дел, должен разочаровать… О них никто по окончании её не распространялся. При посторонних, во всяком случае. По–видимому, имелись у обоих на то причины. Что «известно»: «Николай Николаевич вежливо, но наотрез, отказался от службы. И, якобы, именно тогда и потому, — «посоветовавшись» с Чичериным, — оставил столицу…От греха». По рассказу Мелитты, услышанному от мамы её, родич их Владимир Борисович Лопухин — дядька матери покойного Мартына Владимировича, в царском ещё МИДе служивший начальником департамента — успел до встречи дипломатов поведать Николаю Николаевичу о порядках, установках и планах в МИД большевистском. Так, Троцкий, бывший народный комиссар, заявил во всеуслышанье: «Вот издам несколько прокламаций к народам, опубликую тайные договоры царского правительства и закрою лавочку». От предложенного ему поста наркома он, по началу, вовсе отказался. Ленин–то тоже недвусмысленно ему заявил: «Какие ещё у нас будут иностранные дела?! Какие?». Потому Троцкий, появившись всё таки в МИДе, оповестил сотрудников: «Мировому пролетариату дипломатия не нужна, трудящиеся поймут друг друга и без посредников!»…Глубокомысленное заявление! А в целом — «глубокое неуважение суверенитета государств и презрение к международным договорам». Вожди–то партии, — они исходили из того, «что пролетарское государство имеет полное право на красную интервенцию. Что походы Красной Армии являются распространением социализма, пролетарской власти, революции… И всё такое прочее…». Не для Николая Николаевича были эти игры.
… — «И вы, — ответил Чичерину Николай Николаевич, — дворянин, предлагаете мне, дворянину, место в вашем зверинце!?… После таких–то откровений ваших вождей? Не порядочно это, Георгий Васильевич! И ещё: Как Вы можете звать МЕНЯ на службу… к тем, кто два года гноит в тюрьме хотя бы… героиню войны, сестру милосердия, выходившую тысячи несчастных россиян и отмеченную благодарным народом тремя Георгиевскими крестами?!… Да ещё и дочь великого русского писателя графиню Александру Львовну Толстую!… Как такое возможно, Георгий Васильевич?!… Или Вы уже не понимаете, что творите?…».
Понимал Чичерин — не мог не понимать. Но…За что боролись…С волками жить…
Как не мог не понимать и сам Николай Николаевич и того, что добрые отношения с Георгием Васильевичем, «сдобренные» заключительным монологом ночного гостя, — узнай о нём не посторонние «посторонние», — не спасут ни самого графа, ни близких его. У Чичерина, — вообще–то человека несчастного, — близких, кроме всё той же кошки, не было. Заметим ещё: по представлению Адлерберга человек, оказавшийся способным предложить ему, графу, народопредательскую по сути службу у большевиков, не может не предать сам. И тогда же, там же, в доме по Кузнецкому мосту, вполне мог приказать арестовать его…
Мог. Однако… не приказал. Того более — велел уехать. Почему?
Ответа на эти вопросы у Николая Николаевича не было. Да он ответа и не искал — времени бесценного жалел! И, — ни часу не теряя, — бежал в Москву. Там собрался. В последний раз отстоял службу у Ильи Обыденного на Пречистенке с роднёю своей голицынскою — Николаем Владимировичем, Кириллом с Сережею, и братом Владимиром Васильевичем. Не предполагая, возможно, что больше не увидит их никогда. Попросил кого–то из них обязательно извиниться перед членами Совета Петровской Академии за беспокойство… А глубокой ночью, издёрганный до беспамятства и обезноживший от усталости, добрёл до Брянского вокзала. Нашел в кромешной темени лабиринтов из сцепов тысяч телячьих вагонов «Москвы—Брянской-Товарной» друзьями подсказанный ему эшелон. Отыскал в нём «свою» теплушку. Долго отодвигал–дёргал высокую скобу заклиненного дверного створа вагона. Уже обессиленный, втиснулся- взобрался в ледяное его нутро, навалом забитое битым кирпичом. Задвинул стоя на трясущихся коленях и, — вовсе обезножив, — заклиненый створ. Пал на ладони. Через навалы ползком, кровавя руки о половняк, нашарил в кромешной тьме у стенки свободные от него доски настила. Уже не соображая ничего рухнул на них. Завернулся–запахнулся в полы бекеши. И тотчас уснул под оглушающие лязги, скрипы и почти что человечьи вздохи и стоны разбитого вагона незаметно двинувшегося поезда. Всё ж таки, было–то Николаю Николаевичу уже за седьмой десяток…
А сам поезд, вырвавшись из теснины оград и бесконечных «стен» других поездов на забитой ими путанице запасных путей, в грохоте стрелок и в тусклом отблеске редких фонарей, проскочил «Окружную». И растворился в поглотившей его пучине ночи…
В конце 1921 года Николай Николаевич добрался до Волыни. До своих. Жили они не вдалеке от Старой Гуты за Кременцом, в бывшем имении Трубецкого «Колки», под бдительной опёкою Николай Николаичевых «пластунов» Нольте и Гордых. Сам князь Алексей Владимирович уехал за границу, оставив им «на сохранение» дом. Лошадей с добротнейшим конным двором. По хозяйски возделанные огороды. И, на редкость для смутного времени, ухоженный плодовый сад с образцовыми пчельниками. Наказав: хозяйничайте ДЛЯ СЕБЯ по разумению и возможностям. Но если случится что: — велю тотчас же, ничего не жалея, бросить всё к чертям собачьим… А лучше спалить, чтобы не досталось коммунарской сволочи! Сохраните, Бога ради, только кости свои! Мясо — живы будем — нарастёт…
Они и хозяйничали. Учась когда–то в Смольном, — а старшие даже окончив этот по–своему замечательный институт, — женщины многому были научены. Физического труда на земле не чурались. Домовничать умели грамотно. И с удовольствием, — как свидетельствуют семейные легенды, — занимались «имением». Но… осторожный Николай Николаевич, — возвратившись и сделав, как он говорил «на всякий случай новую, ничуть не лишнюю по нынешним недобрым временам, заячью петлю», — спокойное течение жизни своих колонистов порушил. И тайком перевёз их из «глубокой провинции» лесного хутора в саму Старую Гуту. К другу своему Рихарду Бауэру. Предполагая, «что здесь–то, — в случае явления новых напастей, — легче будет затеряться в массе старых колонистов». А друг Рихарда, Beisitzer конторы колонии, ещё и записал их всех — в том числе Павла Оттовича Нольте и Ивана Павловича Гордых — «бауэровскими родственниками — беженцами с Кавказа…».
20. Письмо.
Громом средь ясного неба распространился по Волыни «список» письма Ленина Молотову от 19 марта 1922 года! Кремлёвский тиран требовал «немедленного развёртывания в России повсеместной кампании по изъятию всех ценностей церкви и…решительного подавления в связи с этим возможного сопротивления духовенства…». Было письмо строго секретным. Адресовано «только членам Политбюро ЦК РКП (б)». Но моментально стало известным всем! Иначе и быть не могло: впервые в русской истории против Церкви, — а в России значит это — против всего народа, — выступила организованная военная СИЛА отрывающая человека от Бога, от морали, от милосердия и добра! И готовая для этого на любое преступление! Естественным была и реакция на бесовское, обжигающее души людей и поразительное по жестокости, содержание письма. Конечно же, её не могли сдержать никакие Чрезвычайки, войска и стены!
А письмо взывало и (тайное же!) откровенничало:
«Советскому государству нужно золото церкви. Предлог — отчаянный голод весьма кстати… Широкие крестьянские массы будут либо сочувствовать изъятию, предпринимаемому якобы для их спасения, либо окажутся не в состоянии поддержать духовенство…Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена нам голодом полностью… Глашатай нашей политики тов. Калинин (Тов. тов. Троцкий и Ярославский, — этот патологический народоненавистник и главный инициатор разбоя, — Зиновьев и Каменев во всём этом КАК БЫ совершенно не участвуют!); чудовищные УСТНЫЕ инструкции исполнителям; УСТНАЯ директива судебным властям…чтобы процессы против… мятежников…, сопротивляющихся помощи голодающим, были проведёны с максимальной быстротой и заканчивались не иначе как расстрелами очень большого числа самых влиятельных черносотенцев…Москвы…Шуи и нескольких других духовных центров… Патриарха Тихона…целесообразно… не трогать… Но ГПУ следить за ним неусыпно; …провести секретное решение… о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решимостью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…». (Пусть простит меня читатель за столь длинную цитату из ленинского письма… Но она стоит того — второго такого письма история человечества не знает!
Для впечатлительного, постоянно чувствовавшего себя преследуемым, не молодого уже и верующего глубоко и искренне Николая Николаевича, письмо это — после налёта в Кременец и выступления на тамошнем майдане самого Губельмана — стало мироразрушительным! А иначе–то как, если большевистский троглодит в трёх часовой речи непрерывно — через шелуху чередовавшихся лозунгов–рекомендаций и приказаний — сёк согнанный на митинг обезумевший народ робеспьеровским: «А ваших попов мы задавим кишками ваших кулаков!»…Старик не сомневался в том, что эта нелюдь может и такое! Буквально, причём. Потому сник. Было, опустился. И даже Великий лекарь — время, казалось, в его случае бессильным. Но…Но хоронить его рано! Он воспрянет. Трагедия народа тому поспособствует.
ЧАСТЬ 2. СОСРЕДОТОЧЕНИЕ.
21. Тревога!
Только стали стихать погромы храмов. Только в волостных центрах и в многострадальном Гутенском лесу отгремели залпы первой волны расправ над священнослужителями и крестьянами–прихожанами. Только, будто, прекратились вызванные ленинским письмом (12 марта 1922 г.) повальные ночные налёты на Церковь с арестами, обысками, изъятиями и убийствами…
…Как–то ночью однажды, — во сне, будто, — Николай Николаевич разбужен был громогласным торжествующе–тревожным мелодическим трубным звуком! Был он так громок, проникновенен и мощен, что — показалось — труба трубит тут, в каморке, над головой его!…И разбудит сейчас весь дом… Но поднявшись и обойдя тихо комнаты убедился: Спят!…Подивился даже наступившей тишине…Приснилось, тогда?… Но так громко и тревожно трубила труба! И здесь…
К чему бы? Знамение?… Глу–упости!…Нервы…Но так громко, так яростно и так тревожно трубила труба!…Не спроста это…
С той ночи — промолчав — ждал чего–то…Очень ждал!
…И вот, — снова, вдруг, в недолга, в начале осени 1923 года, — опять Учёный совет(?) Петровской академии! Вспомнив зачем–то о «затаившемся где–то и, казалось бы, напрочь забытом» Николае Николаевиче, Он срочно вызывает его в Москву! Того мало: Beisitzer колонии, вместе с повесткою, вручает ему под расписку «Комендантский пропуск» на проезд в столицу! (А такого мандата счастливчики даже из начальства, задумав куда–то ехать, ожидают аж по полгода, если вовсе не напрасно!). Можно представить, что в оставшихся до срока «вызова» бессонных ночах только ни передумал растревоженный и на смерть перепуганный старик?… Ему даже шальная мысль явилась в одночасье: — бежа–ать! Бежа–ать, куда глаза глядят! Но куда-а? Да под саму старость… Что только ни удумывал он тогда?…Но, — думай не думай, — деваться некуда: вся колония, от мала до велика, знает уже о вызове!…
…Собрался. И, обореваемый понятными в положении его мучительными подозрениями и сомнениями, двинулся в столицу.
В Москве, в Петровско—Разумовском, ректорская секретарша, посетовав: «Как же так — с таким опозданием (!?) прибыли», тотчас же отсылает его: «Очень срочно найти профессора Белянчикова с кафедры Зерна!». Тот, как оказалось, уже «с нетерпением (?!) ждёт» Николая Николаевича. И велит «незамедлительно–же, — ни–икому о своём прибытии не сообщая(!)», встретиться с Владимиром Васильевичем Адлербергом…
Необычно серьёзный брат, отворив ему, затягивает в переднюю. Обнимает наспех. И, не приглашая в комнаты, выводит на улицу. Отводит, поминутно оглядываясь заговорщицки, в самый конец Пресни. В парк. И там огорошивает, да ещё и официальным тоном:
— …Так… получается, что Вам, граф, НЕМЕДЛЕННО необходимо изыскать возможность поездки в Германию!…
— В Герма–анию?! Мне-е? — Проблеял пораженный Николай Николаевич… — Изыска–ать!…З–заче–ем?!… Да сро–очно!… И мне-е?…(Вот она — труба–то!… И сердце, будто, закатилось куда–то…).
— Осенью — прямо теперь — кремлёвские бандиты решились на путч в Германии! Дело за их «политбюро» или, как там у них, за «съездом». Созваны они будут со дня на день. Тогда и назовётся окончательная дата начала и утверждён состав–список руководителей и исполнителей провокации!…И, не приведи Господь, Николай Николаевич, дьявольской затее этой осуществится!… Не медля, — и в который раз, — Россия втянута будет в очередную бойню. Теперь — куда как в более страшную, чем Мировая и даже Гражданская…О подготовке путча Вы поставите в известность немцев…Да, да! Немцев! Немцев! Кого же ещё–то? Евреев, что ли?!… Предупреждённые обо всём, что уже стало известным нашим друзьям, только сами они способны будут, упредив события, не медля организовать сопротивление. И, Бог даст, сломают новую каннибальскую затею Троцкого с компанией!… Ленин… — он…Этот тяжело болен. И, будто, выбывает — или убыл уже — из игрищ!… Началась грызня за власть…Здесь, сейчас, остановить ход событий некому!…Нет таких сил у нас!… В Берлине, — через тех, кто знал тебя близко, кто доверял тебе, — выйдешь на способных сегодня, сейчас вот, действовать. И проинформируешь их обо всём, что узнали мы!… Ты понял?
— Что понимать?… Но как я их проинформирую?…И о чём конкретно?
— Узнаешь когда решишься!…Когда дашь согласие! —
Владимир Васильевич нервничал. И сердце похватывало… — Ты же знаешь: только у тебя были и, возможно, ещё остались там необходимые для такого серьёзного дела связи… Ведь предупредить надо высоко властных и особо надёжнейших!… Ну да… Ну да…Main Got!… — Он тёр лицо… — Зачем я ТЕБЕ, профессионалу, ахинею эту несу?!…Ты же лучше меня всё понимаешь! Как и знаешь лучше, что именно тебе, ТЕБЕ, — прожженному дипломату, — немедленно надо делать!
— Допустим, понимаю… Но ещё точно — точнее некуда –
знаю, что не только никто меня сегодня не пошлёт и не пустит туда. Никто НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСТИТ меня отсюда!…Из мышеловки… Это то тебе понятно?!… Самому же… попытаться… перейти границу…?!… Господь с тобою, братец!… В своём ли ты уме?… Ты не знаешь о повальных расстрелах в пограничных округах?… Не–ет?!… И о массовых казнях перебежчиков тоже не знаешь?!…Не знаешь. Что же вы тогда здесь, в Москве, вообще знаете?!… И ты предлагаешь МНЕ «срочно выехать в Германию!» Предлагаешь ТАКОЕ старику?! Которого и без твоих «перебежек» через границу, — опознав лишь только, да лишь узнав, что я жив, — тут же… Да они же меня… Они же до стенки меня даже не доведу–ут!
— Всё так…Всё так…А ты посоветуешь: кому ещё могу я ТАКОЕ предложить, если не самому надёжному и самому пригодному, — рождённому для того, — РОДНОМУ человеку? Подумай только: любой ценой, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ, нужно исполнить судьбоносное для России Высочайшее поручение!… Повторяю: надо встретиться с самыми надёжными и действенными фигурами Германии. С людьми трудно доступными по определению. Или, того более, сегодня недоступными абсолютно! И, возможно, в сегодняшнем германском ералаше только ТЕБЕ ОДНОМУ откроящимися! Только одного тебя пожелающими увидеть и выслушать!… И… тебя, дипломата, в том убеждать?… Предстоит, как ты лучше меня понимаешь, чрезвычайный дипломатический акт — твоя прямая работа! Хлеб твой! …А ситуация там сейчас более чем трагическая! Тамошние бесы, — уже успев однажды предать и эту истёкшую кровью страну, и воспользовавшись ими же сконструированной жидовской «демократией», — захватили все ниши правительственного и, быть может даже, военного аппарата — о последнем не знаю, не осведомлен… (подумать о том страшно!)… — От волнения Владимира Васильевича несло стремительно в не свойственное ему не корректное многословие! — И по команде своей московской родни собираются снова предать Германию, вкупе с нашей, уже преданной и проданной ими же! Предать теперь уже не «просто организацией подписания» очередного позорного капитулянтского документа — один такой в 1918 вызвал уже первый, и тоже октябрьский, мятеж… Но активным военным вооруженным участием в затеваемом теми же мальбруками кровавом вселенском путче! Спровоцировать для того на разбой немецкий народ. И бросить его — авангардом! — на захват беззащитной Европы, демобилизовавшей армии и хозяйства!… Ясно!?…Всего ничего, дорогой мой!!!…А строится всё снова и снова на нашей русской крови!!! На «мясе» русском!… Повторить ещё раз?!… —
Николай Николаевич был в полной растерянности…Он привык за годы в глухомани, пусть к относительному, покою. К спасительному бездумью. К не участию в любых чреватых бедою авантюрах…Он был Beatus ille qui procul negotiis! (Блажен тот, кто далёк от дел!. Эта Горациева сентенция, в одночасье, даже девизом, программой жизни его стала!). И расстроился невероятно и постыдно…Ошалел от внезапно свалившегося на него несчастья возникновения необходимости в неподъёмной и опасной заботе! От крушения кредо жизненного!… Но, однако, отважно подавил в себе, не раз выручавшее его в экстремальных ситуациях, защитительное равнодушие матёрого чиновника–мидовца. И даже «осадил» разошедшегося брата: — Погоди, погоди, дорогой мой!…Остановись! Помолчи!…И, пожалуйста, без агитпропа!… Мы не на митинге… Скажи–ка: — те, кто стоят за тобой… Они — что — хотят послать меня именно?…Они именно МЕНЯ назвали? Других кандидатур у них нет?… Совсем нет?…А что если вместо себя–старика я предложу адекватнейшую замену?! При чём, со связями в Германии более «свежими» и куда как более мощными, чем мои! Да ещё в элите ВОЕННОЙ?… Пойми, дорогой мой человек! …Мне стыдно говорить об этом:… Но за годы бездействия, — бегства, по сути, из активной жизни, — я состарился… Да, да, состарился. Сдал катастрофически…Да что там — я разрушился морально, и физически тоже. И не гожусь… на такое. Не-е го–ожу–усь!… Не-е вы–ытяну!… — Он так волновался — слёзы отчаяния заполнили глаза его…Текли по лицу…Он плакал… И, будто «хватаясь за соломинку», шептал в отчаянии: — А вот моя кандидатура…О!!!… — Он будто ожил! — О!!!…
— … Кто?
— Назову, как только встречусь.
— Ждать? Снова?! Не можем мы ждать! Больше не моожем! Без того потеряна уйма времени на ПУСТОЙ вариант с тобою! А съезд… или… пленум ЭТОТ… — он вот он — вот!…
— Встречусь тотчас! Не медля!… Если она на месте…
— ОНА?!… Же–енщина?!…
— Женщина… Владимир Васильевич. Женщина… — Николай Николаевич, думая о ней,… — он в эти минуты будто живой водой омывался!… — Но она армий стоит!
— Кто она…?
— Доктор… Врач…Полевой хирург четырёх войн. А участник шести… С конца 2–й Балканской,…с началом поездки с нею в свите Елисаветы Феодоровны — она близкий мне товарищ! Кроме… того… — Он волновался и торопился — Она друг детства и товарищ по Русско–японской войне Колчака. Приятельница, с младых ногтей, Кутепова и Маннергейма… Она…Она же — Председатель самого «Манчжурского братства»!…Предтечи…
— «Бог мой!…Доктор Фанни»?!…
— «Доктор Фанни»… Ты зна–аешь её?!
— Конечно, конечно! Она же с Михаилом Васильевичем (Алексеевым) Новочеркасскую, — Войска Донского, — встречу готовила в ноябре 1917!… Бог мой!
22. «Доктор Фанни».
…«До–октор Фа–анни»!…Да она же Теремом на стене Даниловского монастыря (местом постоянного пребывания Патриарха Тихона, после месяцев заточения под лубянской стражею, в открытую близкими не поминаемом) — она же прежде тебя названа была, — в сердцах выкрикнул Владимир Васильевич! — Она, именно она ехать должна была по поручению Владыки!…Только… нельзя ей! Никак нельзя!…Ну, не может она… И потому побеспокоили тебя в твоём волынском сидении……Но вот,… и ты не можешь!…Печально!…Катастрофически печально!…Кто же тогда может?!…Кто–то ведь обязательно должен…Обязан ехать!
…Здесь, вослед великому Николаю Михайловичу Карамзину, тоже сознаюсь, что «нет ничего более мучительного и чреватого, как мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах»). Но что делать, если остались лишь только их воспоминания, и то в детях их?
Вечером того же дня вконец расстроенный Владимир Васильевич, — чувствующий себя, мало сказать, не самым лучшим образом, — и обескураженный «никчёмностью» своей (природою «не наделённый отвагою души») Николай Николаевич посетили, по окончании позднего врачебного приёма, поликлинику Басманной больницы в старом трехэтажном доме, 23, а/1, что на углу Новобасманной и 1–го Басманного переулка (в Москве). И там, в смотровом кабинете предоперационной, встретились с «Доктором Фани»…
Утром дня следующего, — в гостиной особнячка бабушки её Розалии Гааз (Чамберс) по Доброслободскому переулку 6, у Разгуляя, — «Доктор Фанни» приняла приятеля своего — мужа подруги её Лины Голицыной — Георгия Михайловича Осоргина. Сына организатора Всероссийского Комитета Помощи Голодающим Осоргина Михаила Андреевича (двумя годами прежде, в числе «Прочих Двухсот», изгнанного Лениным из России). Не лишнее вспомнить, что Михаил Андреевич был Председателем, — пусть не свободного уже, — но всё же Всероссийского Союза журналистов, и редактором единственного не подцензурного печатного издания в огромной стране — комитетской газеты «Помощь».
…Молодой Осоргин ни к каким общественно значимым «течениям» русской жизни не относился. Дистанцировался от них (Потому, видимо, избирательный Перст Тишайшего и остановился именно на нём!). И теперь взял он на себя исполнение чреватейшего тяжкими последствиями, — для него самого и для близких его, — тайного Поручения опального, методически уничижаемого преступной властью, Патриарха: «Не мешкая, тайно встретиться с сестрой Анастасиею, врачом Марфо—Мариинской обители».
Владыка тем более тоже хорошо осознавал опасность, которой подвергался отныне Его порученец. И, — конечно же, — оценивал величину риска на который шла — не впервые — глубоко уважаемая Им и многие годы опекаемая вниманием Его отважная женщина. При чём, риска теперь не только, — и не столько, — для неё самой!… Однако, после беспредметной беседы Владимира Васильевича с Николаем Николаевичем не было у Него, ОТВЕЧАЮЩЕГО, иного решения.
Конечно и естественно, меж владевшими тогда тайной готовящегося преступления и потенциально способными встать на защиту России были не одни только наши знакомцы и мордуемый властью престарелый больной русский Патриарх. Всё трое, вспомним, поднадзорные, или первоочередные кандидаты в расстрельный подвал! И уж, тем более, не женщина (и не молодая) в предродовом положении! — «цены не имевший полевой Хирург Божьей Милостью!». Чей даже краткий «межоперационный простой» оборачивался верной гибелью её потенциальных пациентов! Да, да, были не одни они. Были, быть может, — и безусловно, — ещё люди, не менее достойные быть отмеченными Высочайшим Вниманием. Могущими и право имеющими, — исполнением Воли Владыки, — защищать своё отечество и свой народ. Мало того, те из них, кто искренне полагали себя великими российскими патриотами. Даже самыми что ни на есть расправоверными и расправославными!… Были. Были. Но где же они все были?!… Где?…
Вот, пятью годами прежде нависла смертная угроза над Венценосным…Пусть не самым любимым. Пусть даже не самым достойным. Пусть силою неумолимых обстоятельств согрешившим малодушным отречением в годину беспримерной народной трагедии… Нависла угроза убийства и Самого, и Семьи Его!… И ни один из миллионов подданных Его… «Своих по Вере», не поднялся на защиту… Не поднялась даже Армия дворян Его, офицеров войска Его, — присягавших клятвенно на верность Ему и престолу Его. Тех самых дворян и офицеров, что не одно столетие щедро — щедрей некуда — окормлялись из рук Его… (О том только ленивыми не писано ещё и не говорено!).
Пальцем о палец не ударила сила эта огромная, — от 4–х летней войны не остывшая ещё, — чтобы хотя бы попытку сделать спасти от гибели не Россию саму, не Его Самого — Семью Его! Детей Его безвинных хотя бы спасти!… Прочтите замечательное, — равного которому по теме не существует, — исследование историка и публициста Михаила Хейфеца «ЦАРЕУБИЙСТВО в 1918 году (Москва. Иерусалим.1991г). То же было и теперь, осенью 1923 года. В огромной стране никто из знавших о подготовке страшного преступления, — никто кроме ежечасно ожидающего насильственной смерти Монаха и горстки истинных почитателей и друзей Его, — никто не нашли в себе ни сил ни мужества, чтобы хотя бы лишь помощью ПОПЫТКЕ разоблачения готовившегося в Германии злодейства упредить торжество вселенского зла. И тем способствовать пресечению планетарной катастрофы…
Меж Осоргиным и «сестрой Анастасиею» состоялся тогда же примечательный разговор (помянутый в «Экспедиционных» записях мамы 40–х гг.). Военный хирург — всё и всегда привыкшая брать на себя — она спросила–предупредила собеседника:
— «Георгий Михайлович, голубчик! Осознаёте ли Вы риск, на который идёте, именно со мною связавшись?… Я ведь не с диппаспортом наркоминдела отбыть собираюсь. Не через официальный пограничный контроль зафрахтованным спальным вагоном… (Это, повторяю, спросила его не молодая, на седьмом месяце беременности, Женщина!). Вы не можете не понимать, что с минуты, когда я окажусь, — и замечена буду, — вне России (или если возьмут меня на границе), — на кону головы большевистской верхушки!…И схватив вас, они будут… чёрт знает что с Вами будут они делать?…Быть может даже…пытать, Георгий Михайлович! Они будут делать с Вами всё, чтобы вытянуть всю «цепочку»! И Вы можете не выдержать… Не обольщайтесь! Не обольщайтесь!… Тогда погибнет и Ваша семья… Другие…
— Я русский офицер, Ваше превосходительство!… Но…сами Вы?… Вы — как?!…
— Я?… Мне секунды нужны, чтобы кончить с любой пыткой… Вообще… с допросом.
— О, Господи!… Но Вы ж дитя носите!…
— Ношу. И доношу, Бог даст…Но то…наша с ним семейная проблема…».
Разговор двух на смерть идущих россиян начала 20–х гг…
Днём доктор закончила дела на кафедре. В клинике. И дома. Расписала назначения и отдала не терпящие отлагательств распоряжения. Договорилась обо всём с близкими и попрощалась с ними. Поздним вечером вновь встретилась с теперь уже готовым передать ей всю свежую информацию Осоргиным. А ранним утром, — в «занятой» и придерживаемой для неё друзьями отгородке проводника битком забитого народом вагона Псковского «пятьсот весёлого» поезда, — двинулась в путь.
… «Забавно»… Николай Николаевич, при беседе доктора с Осоргиным конечно же не присутствовавший, но о ней впоследствии осведомленный, удивлялся потом: — «Как же ж так?! Георгий Михайлович–то сиднем сидел с собеседницею столько часов! Комплименты отважной женщине расточал, несомненно….И не скажешь про него, что лишен он рыцарства или, тем более, воображения…Дворянин же!… А вот решился хрупкую и уже не вовсе молодую женщину, — да ещё и Божьей милостью Великого Доктора, — отпустить в невероятный по сложности и, — кто знал, — возможно гибельный вояж! И настолько увлекся, — «великой ли исторической миссиею» своею, или первым успехом её — нежданным обретением ТАКОГО посла?!, — что позорнейше заметить не изволил: миниатюрной–то собеседнице его… Ей, — это невинной девице видно, — через каких–то три–четыре месяца стать матерью предстояло… Рожать, попросту… Где ж сам он был?».
…Бог знает сколько прошло времени. Сын Стаси Фанни (покорный слуга читателя, р о д и в ш и й с я в с ё ж т а к и «через три–четыре месяца», именно, 24 февраля 1924 года), — в 50–х гг. тогда тоже — как и наши герои — ссыльный, — на правах УЖЕ родственника их, решился напомнить им о случившемся в далёком 1923 году действительно «позорнейшем» факте. Если не с Осоргиным–младшим случившемся, то уж точно с уже покойным графом.
— Дело прошлое: — А сами то Вы, — когда узнали потом как Николай Николаевич маму мою «на седьмом месяце» и «Божьей милостью Доктора Великого» взамен себя рекомендовал один Бог знал на что, — сами то Вы «где были?». Как известно, тоже «не лишенные ни такта ни, тем более, воображения?».
23. Друзья.
В январе 1918 года большевики схватят в Кременце доктора Стаси Фанни ван Менк и упруга её, профессора Залмана Додина. Отвезут в Киев чтобы там, вдали от боготворящих их населения и раненых, убить. Бросят в одну из «смертных»…
Значит, конец? Конец, скорее всего…Но располагает всё же не комиссарская мразь. Располагает Создатель! В ночь на 4 марта, — тотчас по подписании с большевиками «Брестского мира» пробившись сквозь колонны двигавшихся на Восток германских оккупационных войск, — ворвётся в Киев спец подразделение немецкого Генштаба, возглавит которое сам его начальник генерал Гренер! Захватит тюрьму. Отловит не медля, растащит по её дворам–блокам — и тут же развешает по их периметру — застигнутых «на горячем» тюремщиков. Отыщет, наконец, сутки спустя, — в битком набитых бесчисленных камерах и карцерах огромных корпусов, — доктора и её мужа. И рано утром 5 марта по поручению Главнокомандующего фельдмаршала Эйхгорна, — молниеносную операцию эту санкционировавшего, — поздравит Доктора Фанни и супруга её с освобождением…
Судьба Великой княгини Елисавты Феодоровны оказалась воистину чудовищной даже для страшного века — вмешаться в неё и спасти Мироносицу никого не нашлось! Ни из лучших представителей великого и доброго многомиллионного православного русского богобоязненного народа — Богоносца, даже! Ни из «отщепенцев» — родственников из германских милитаристов и оккупантов. Ни из британской дружественно–союзнической августейшей родни. А ведь даже, — вспомним, вспомним, — проклинаемый безжалостный изверг Иван Каляев, безбожник, убийца мужа Её Сергея Александровича, не однажды спасал Её и спас от гибели. Не раз примериваясь (повторим), рискуя жизнью, чтобы ненароком не задеть роковой бомбой… Как же за тринадцать лет пало низко русское «общество»!
24 апреля / 7 мая 1918 года, на третий день Пасхи, — на Иверскую как раз, — схвачена она была и арестована «как член императорской семьи». Беззащитный, и сам преследуемый, несчастный Патриарх пытался заступиться за неё. Унижаясь перед каждодневно истязавшими его бесами, он молил их об освобождении княгини! В попытке спасти святую женщину обращался даже к предавшим его самого «своим» церковным организациям–оборотням… Тщетно! Тщетными были и обращения–вопли Тихона к московским дипломатическим представителям самых могущественнейших монархических семейств Европы. Заинтересованным, — казалось детски наивному Святому Старцу, — судьбою своей ближайшей родственницы!? Ведь Елисавета родилась (20 октября, а по новому стилю 1 ноября 1864 года) в семье Германского Великого герцога Людвига IV Гессен—Дармштадского и Великой княгини Алисы, урождённой принцессы Великобританской!…
Могущественные и христианнейшие инакие тоже открестились. Предали, как и СВОИ, православные.
И Елисавету Феодоровну с сестрой Варварой Яковлевой, келейницею, убийцы этапировали к месту казни на Урал.
Через несколько дней туда же, из Вятки, привезли Великого князя Сергея Михайловича. Сыновей Великого князя Константина Константиновича Иоанна, Константина и Игоря. И князя Владимира Палей, сына Великого князя Павла Александровича…
…Императорская чета с детьми и близкими уже ждала. Рядом. В Ипатьевском доме Екатеринбурга…
Августейшие жертвы были в сборе.
Что сотворили с ними в страшную ночь на 18 июля 1918 года известно… Когда в Алапаевск вошли войска Белой Армии адмирала Александра Васильевича Колчака, из 60–и метрового провала разрушенной взрывами шахты подняты были Её останки. Железной дорогой отправлены в Читу. В апреле 1920 года — в Пекин. Оттуда гробы с останками Елизаветы Феодоровны, и не оставлявшей Её до смертного часа, инокини Варвары — через Шанхай — отправлены были в Порт—Саид. Далее в Лондон — в Вестминстерское аббатство, усыпальницу английских королей. 28 января 1921 года, — в сопровождении британской принцессы Виктории, — земной путь мучениц окончился. И они обрели, наконец, вечный покой в мраморных раках под сводами нефов базилики церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании Иерусалимской на Масличной горе. В виду древних стен Великого Города…
…Для профессора Залмана Додина внезапный приход немцев на Украину (и в Киев) был не только, — да и не так, — спасением. Но и бедою был, великой бедою: закрытие ими Днепровских металлургических заводов с остановкой доменных и литейных его производств явилось, в сущности, концом его так удачно складывавшейся десять лет инженерной и научной деятельности. И удушением с беспримерным разграблением богатейшей древней российской провинции! Другое дело, что помимо науки и заводской инженерии работы у него к тому времени хватало! С его вновь открывшимся талантом организатора и природным, — от Бога, — математическим феноменом не первый год (а точно- с марта 1915) занят он был в Комиссии герцога Ольденбургского обще фронтовой оперативной схемой срочного размещения и эвакуации бесконечных потоков раненых… А они росли не по дням а по часам! Так, за первые пол года войны через неё прошло их более двух миллионов! В 1915 году потери на русской стороне были ещё более страшными: в среднем 235 тысяч человек в месяц против 140 тысяч в месяц же за всю войну! «Великое Отступление» этого года, — во время которого 1300 километровый русский фронт, после прорыва его 11–й германской армией Макензена под Горлицею, за два месяца откатился далеко на Восток (Россия потеряла Галицию, Польшу, большую часть Балтии!), — принесло ещё более страшный «урожай». О 1916 годе нечего и говорить…Дьявольская затея «Выжженной земли» (с «никуда негодно организованными депортациями» — перегоном на Восток 25 миллионов жителей охваченных эвакуацией и бросаемых армией областей) «устремила» в тыл бесчисленные полчища беженцев. Раненых и искалеченных (больных, тем более!) в этих неуправляемых ни армией ни тылом толпах было ещё больше, чем в окопах и на полях сражений…И вся эта масса несчастных и обездоленных, — которую необходимо было СРОЧНО накормить, обогреть, осмотреть, одеть, хоть как–то обеспечить и передать в руки врачей, — сваливалась на единственно ещё работавшую службу — Медицинскую полевую. Которая должна была, прежде всего, всё происходившее учесть тщательнейшим образом и скрупулёзно просчитать. Счётной же техники тогда не выдумали ещё. И «Счётной машиной», которая могла справляться с многослойным наваждением такого расчёта, как раз и была феноменальная (дающаяся Создателем одному из миллионов!) способность Залмана Додина оперировать «в уме» любого уровня и порядками чисел. Слава Господу, способность эта была Ольденбургом–умницею во время обнаружена. Востребована тотчас. И в полной мере — пусть лишь только в им возглавляемой Медико–санитарной службе — использована во благо России.
24. «Школа».
Я уже писал где–то, что для «доктора Фанни», — четвёртый год (и вот уже пятой её войны) в практически нечеловеческом, в полуобморочном напряжении всё склонявшейся и склонявшейся над оперируемыми ею сонмами страдающих и измученных людей, — для неё и для её супруга «школа» Киевской внутренне тюрьмы стала откровением, открыв звериную суть большевизма. А ведь её предстояло не философствовать — её действовать предстояло! Работать! Спасать людей. В одних только её лазаретах и госпиталях обреталось и ожидало её помощи более ста девяноста тысяч раненых и больных! На порядок больше взывало о милосердии и спасении пораженноё войною и в десятеро разбухшее эвакуируемыми с запада население Кременца, множество местечек и городков вокруг, сотни окрестных селений и колоний, насельники десятков монастырей… Невероятно, но кроме неё — с её в молитвах даже поминаемым именем — спасать сонмы этих несчастных было некому. Потому–то вопреки нормальной логике она и Залман остались на Волыни (трёхлетний сын отправлен был к деду и бабушке в Белоруссию), не ушли с Кутеповым. Теперь уже зная точно, какое будущее ожидает их с воцарением красных.
И вот, в марте 1918 года, по освобождении из тюрьмы, они возвратились к себе под Кременец. Здесь впервые «Доктор Фанни» пережила совершенно не свойственное ей состояние абсолютной беспомощности. Как человек военный, — в конце концов, медицинский генерал–лейтенант, — она так надеялась на то, что выдержит сама. Что непременно выстоят товарищи её — врачи, в первую очередь. И все вместе они присоединятся к усилиям остатков здоровых сил русского общества что бы остановить провоцируемый троцкими окончательный развал русской армии. Во всяком случае, попытаются сохранить её медико–санитарное ядро. А это дорогого стоит: в наступившей народной трагедии военно–врачебный корпус — единственный действенный механизм спасения самой армии и населения. Народа. Ведь именно — и только — спаянные воинской дисциплиной медики (Они — крайние, спихивать судьбы вышедших из строя беспомощных воинов дальше не кому!): — только они в состоянии организовать и обеспечить выживание хотя бы малой части бросаемых распадающимися фронтами десятков стационаров с сотнями опекаемых ими тифозных бараков. И бесчисленных, — как грибы после дождей множащихся, — тифозных и даже холерных палаточных городков для больного и уже обречённого населения с женщинами, стариками и детьми…
Так надо же такому быть: именно спасители — врачи, фельдшера, санитары и даже сёстры милосердия, — одетые ещё (за не имение другой) в «царскую» форму, — превратились отныне в чуть ни в ритуальную жертву охотников то до крови «москальской» (санитарами и фельдшерами были колонисты–меннониты и частью евреи; врачами, — как правило, — русские и немецкие интеллигенты–разночинцы, и они же дворяне — дворян было более трети), то до «жiдiвской», то до нiмiцкой крови (евреев во врачебном офицерском корпусе было не много; евреями была значительная часть состава вольнонаёмного из мобилизованных земцев). Или до ненавистной дворянской (женской получалось) — дворянок среди сестринского состава, — главных и самоотверженнейших тружениц войны, — в большинстве, из студенток и гимназисток, в патриотическом порыве бросившихся сломя голову в войну с первого её дня, — было более трёх четвертей, а то и ещё больше!… К счастью, кровь этих последних интересовала активистов в несколько ином, и вовсе не в каннибальском, плане…Несравнимых с окружавшими военных сонмами «простых баб», высматривали их зорко, — в законные жены, — молодые крепкие, отчаянные батьки, никогда не забывавшие о своём изначально хлеборобском предназначении. За четыре года непрепывных боёв по крайней мере навоевавшись всласть, по горло упившись кровью, а за одно наполнив добытыми «дукатами» надёжно закопанные казаны, набив «экспроприированным» барахлом семейные коморы, а гаманы с черепками звонкою монетою, отваливались они из разгромленных банд во снах привидевшуюся им буколическую жизнь. Отмывались. Наряжались. Взбодрялись, для храбрости, огненным первачём. И подносили — всё заранее знающей — избраннице из больничных — букеты волошек…
…Игралась весёлая свадьба…А какой ей было ещё быть, когда кругом, источая гнетущее зловоние, разбросаны не зарытые братские могили не доживших… ни до какой ?…
…Позднее чуть, комиссары и новоиспеченные красные командиры делали то же самое…доброе дело. Потому, — в отличие от неисчислимых сгнивших в степях и балках России и Украины, или раскиданных по белу свету своих мужчин, — слабая безусловно, женская половина российского дворянства в страшное время перемоглась. Выжила. Ожила. Оставила здоровое потомство, худо–бедно пережив с ним — не без страшных новых потерь — сталинщину. Продолжив, — пусть по своей, женской линии, — животворное течение русской истории. С Божьей помощью безошибочно подсказывал что надо, — как всегда, — здоровый инстинкт. Как и с кем — историческая память. Потому со своими главными династическими задачами русские дворянки умело справлялись не только в смутные времена. Как могли, и как у какой, и с кем получалось: у одних с истопниками, гвардейцами и певчими. У других — эти были по проще — с конюхами и дворниками. И никто породы не испортил…
…Что до свадебных игрищь в Кременецкой епархии, они были не только самыми светлыми и праздничными событиями в безрадостной и беспросветной госпитальной жизни «Доктора Фанни». Но ещё и шли впрок. Славные девочки Её, — работящие, по доброму воспитанные с детства, хорошо образованные, тяжким трудом наработавшие самую гуманную и востребованную обществом профессию и потому сильные, но… безвозвратно растерявшие родительские семьи, и от того трагически одинокие, они все были глубоко несчастными, потерянными людьми. И вот, — в расколовшемся на красных и белых враждебном и холодном мире, не нужные никому, — они, вдруг, обретают семьи. Как правило многочисленные и дружные. И это — без интервала на осмысление — тотчас после тысяч умытых слезами страшных ночей. После опустошенных убийственным одиночеством — с людьми вокруг — тысяч дней снедающей душу смертной тоски…Вдруг, рядом возникают мужья–мужчины. Мужики. Способные (умеющие) в кровавом месиве безвременья не только прокормить жену и (Бог даст) детей. Но, — что важнее важного в наставшем «веке–людоеде», — надёжно их защитить…Правда, не от людоеда–государства.
…Не сразу, не вдруг поняли будущие родители мои (старший брат родился в 1915–м) каких и скольких друзей обрели они на полюбившейся им и ставшей родной земле многострадальной Украины, которые почитали их мамой и отцом родными? Армию! И вся она была и до кончины «Доктора Фанни» и супруга её оставалась их детьми…
Это — светлые страницы истории «Больничной империи» мамы и отца моих. И всё же…И всё же. Когда мама вернулась в Кременец выходило, что её надежда — медики её — стали жертвами политиканов, националистов и хулиганов–грабителей всех мастей и оттенков. Потому — получалось — необходимо было в первую очередь не лечить и оперировать раненых и народ, а защищать от погромов и грабежей сам медперсонал, спасать нищенское госпитальное имущество, прятать остатки оборудования… Значит, конец?!
Нет, оказалось. Не конец.
25. Оккупанты.
…«Протокол № 271/64 от 26 февраля 1918 г.» киевской Чрезвычайки, — единственный сохранившийся (на июль 1955 года) в Государственных Украинских архивах документ, удостоверяющий комиссарским губернским кагалом начальную дату организации «контрреволюционной банды медиков–белогвардейцев» — Общества «Спасение», созданного действенным отчаянием Стаси Фанни Вильнёв ван Менк, Залмана Додина, их коллег и единомышленников: «20 февраля 1918 года».. Получается, благотворительное общество это зачато было ещё в тюрьме?! Да, именно в тюрьме было оно задумало, организовано и начало работать. Работало в подполье всю Гражданскую войну и… до развала империи — «не возникая» и не объявляясь. Как? Это другое дело. Можно было, оказалось, десятилетиями «творить добро» даже в «недоразвитые» и даже в «развитые» эпохи…Не обманывая никого, не геройствуя, не подвергаясь остракизму и репрессиям (в том числе надуманным). В конце 1991 года, в саму кульминацию новой российской катастрофы, — после очередной встречи организаторов–функционеров Общества в Японии, в университете Токио, «Спасение», — усилиями лагерных японских друзей сына «Доктора Фанни», — превратилось в Независимую интернациональную ассоциацию волонтёров для помощи жертвам тирании и геноцида — THE INDEPENDENT INTERNATIONAL VOLUNTEERS ASSOCIATION FOR RELIEF TO TIRANNY AND GENOCIDE VICTIMS — IVAR. В Общество международное…
…В апреле 1918 года, в Кременце, «Доктора Фанни» посетил генерал Гренер. Он поинтересовался и положением дел в её «хозяйствах». Она рассказала, что месяц назад у неё, проездом, был бывший командующей её 5–й армией генерал Александр Зальф. Он «обрадовал» её, между прочим, тем, что «поскольку фронт, — да и само государство, — развалены, решать задачи полевой медицины в её епархии ей придётся самой»…
Такое отношение и к русской военной медицине и к судьбам раненых солдат для неё не ново — то же поняла она много раньше. Ещё во дни светлого праздника российского народовластия, — на стыке февраля–марта 1917 года, — когда вместе со своим супругом и Александром Павловичем Кутеповым, вырвавшемся в краткосрочный отпуск для поездки к родным, они оказались в Петрограде. Ни тогдашнему командующему армией Драгомирову, ни, тем более, самому Керенскому было не до «каких–то» (именно это слово прозвучало!) госпиталей и лазаретов. Занятые политическими разборками и дележом синекур на зыбкой трясине уже начавшейся смуты, они отказали ей даже в выделенных правительством на первую половину года, для её учреждений, медикаментах и оборудовании! Будто не о судьбах десятков, сотен тысяч смертно бедствовавших русских солдат она хлопотала!… Так же, как будто не судьба России заставила Кутепова возмутиться несостоятельностью военных и гражданских властей столицы, никаких мер не принимавших против опаснейших бесчинств заполнивших её смутьянов–резервистов! Отбросив интеллигентские экивоки и субординационные условности он, фронтовой офицер, попытался напрямую вмешаться в события. И сразу же встретил не просто злобное сопротивление призывавших к свальному дезертирству подонков. Но откровенную ненависть полностью деморализованного Советом военного руководства. Которому, — как это хорошо знал Александр Павлович, — и надлежало немедленно принять меры по спасению города и Отечества! «Меры» эти попытался принять он сам. Не медля. И «По кутеповски» жестко. Но сразу поняв, что, — не ко двору придясь, — воюет в одиночестве. Что не медля будет арестован. И, — единственный оказавшийся способным тогда организовать наведение порядка в открытую сдаваемом внутреннему врагу Петрополе, — он, простившись с сёстрами (они жили на Васильевском) и с родителями моими, уехал. Возвратился, тоже не без приключений, в ещё сражавшуюся армию. Где ожидал его обезноживший генерал Дрентельн, — командир, — чтобы передать ему Преображенцев…
…Печально: русские, — пока ещё русские, — власти отказались участвовать в спасении своих раненых. На кого расчитывать? Не на немцев же, оккупантов?
На оккупантов! На немцев, как оказалось. Ибо именно немец Гренер, — начальник штаба Германской оккупационной Армии, — предложил: «Рассчитывать… на него именно! Сами говорите — не на кого больше!». И обещал… остановить трагедию — гибель раненых русских солдат. Разрешить проблемы медицинского персонала. Помочь ему излечить, поставить на ноги и отправить по домам пусть хоть толику (а «толика» — это, по меньшей мере, десятки тысяч, — было, «списанных» уже «здравым смыслом» чиновников военных ведомств, — россиян!). Спасти чужих ему, в принципе, людей!…
Смеётся немец?… Как можно?!…Шутит? Кажется, на шутника генерал не похож… И вообще, можно ли так шутить? Но…
…Тотчас по отбытии высокого германского визитёра немцы начали завозить в лазареты медикаменты, госпитальное оборудование, продовольствие, одежду и топливо. Медики глазам не верили. Но ведь везли, везли!…И всё же, пугающе непонятна была для «Доктора Фанни» избирательная щедрость оккупационных властей: завозили–то этакое добро — и в невообразимых для неё количествах! — именно в её госпитали и лазареты! Но почему? Известно же было, что сами немцы свои очень ограниченные ресурсы расходовали предельно, — до крохоборства, — экономно. Да и по их собственным рассказам население дома у них само голодало отчаянно. Даже здесь, на Украине, практически уже не воевавшей с ними, солдатские Butterdosen были куда как скромны. Голодными были рационы! А ведь по «Брестской капитуляции Москвы» они, — скрупулёзно вывешивая и учитывая каждое статистическое «место» вагона, — сотнями эшелонов вывозили в Германию к себе установленные кабальным договором «75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2,5 миллиона пудов сахара, 20 миллионов литров спирта, 2,5 тысячи вагонов яиц, 4 тысячи пудов сала, огромное количество животного и растительного масла, сырой кожи, шерсти, леса и пр.». Опустошая, — грабя откровенно, если быть точным, — не только до чиста разорённую войнами и смутой Украину, но и свои собственные жалкие «неприкосновенные» армейские резервы…
Разгадка необыкновенной щедрости «германских оккупантов» явилась в конце апреля в лице посланца Вильгельма Гренера — Рудольфа Эсбе — его военного коменданта. Он представил «Доктору Фанни» спутников: пастора Августа Баумера и…Тона Вяхи — однополчанина и товарища… Маннергейма ещё с до маньчжурских времён. Мама познакомилась с ним по возвращении её из Японии. Знакомили их Катерина и сам Густав… Было это в имении друга Маннергейма художника Варена под Вииппури… Тогда там гостили ещё и гельсингфорский товарищ будущего маршала Аксель Галлен. Художник тоже. И уже очень больной великий Валентин Серов с приятелем общего их любимца Галленом—Каллелою…Словом, компания была тёплою…
Тон рассказал: Густав, — через Катерину узнав об Одиссее Фанни и Залмана в Кременце и Киеве, и, конечно же, об их бессилии что–либо предпринять в защиту раненых, — как всегда начал действовать: связался с другом (у него друзья были повсюду!) в Вестфаллии, графом фон Галеном, Мюнстерским епископом. Через него обратился напрямую к конфессиональным иерархам и к их Германской пастве за немедленной помощью. Вмешались меннониты, никогда не забывавшие российских своих защитников в веке прошедшем — банкиров Абеля Розенфельда и племянницу его Анну Розу Гааз. (См. повествование «Площадь Разгуляй»). И недавно совсем, в веке нынешнем, друзей «украинских» — саму Стаси Фанни ван Менк. Вместе они собрали необходимые средства, оплатив инициативу Гренера. И германское оккупационное командование получило распоряжение Берлина полностью обеспечить больничные учреждения патронируемые доктором Стаси Фанни Вильнёв ван Менк приобретёнными для них ресурсами правительства. Вскоре генерал Гренер вновь посетил её. Он передал ей личное «ободряющее» послание фон Галена с благодарственным благословением «Благородного Дела Её». Официальное приглашение ей и супругу посетить его в любое удобное для них время…И… письмо «Божией милостью смиренного Магистра Священного Странноприимного Дома святого Иоанна Иерусалимского и Военного Ордена Святого Гроба Господня, убогих во Христе Иисусе» (не вина автора, что названное имя так длинно). Надо сказать, что для неё и для Залмана письмо это великой наградой было за всё годы, проведенные на «их» войнах!
…Ответили они на приглашение графа и встретились с ним — будущим кардиналом Клеменсом Августом фон Галеном — десять лет спустя… Позднее, «Орден Иоаннитов» сам, — в ореол доброго могущества своего, — явился им в образе ангела спасителя. Но о том ниже…
…Ноябрь 1918 года. В Германии революция. В конце декабря немцы покидают Украину. Комендант Эсбе, прощаясь, по распоряжению командования (всё того же Гренера, и Секта) оставляет «Доктору Фанни» ВСЁ имущество эвакуируемых германских лазаретов. Вскоре, командир Осадного корпуса Директории Евген Коновалец, — фронтовой друг брата Залмана — Якова Додина, — принимает ставшее уже огромным «хозяйство» её. Принимает теперь уже вместе с нею и её мужем. Не на долго, правда.
До конца Гражданской войны медики будут пользовать сотни тысяч людей — охраняемые от налётов и погромов трогательной любовью и уважением народа. Нетленным авторитетом одного из бывших уже руководителей Украинской Директории «батьки» Евгена Коновальца — скромного полковника, великого радетеля Народа Украинского, верного друга родителей моих (убитого в Роттердаме 23 мая 1938 года). И Опекаемые ревностно и отечески иерархом Каневским и Богуславским Кононом Беем.
К слову, Бей Конон в 1922 году посвящён был в епископы. В 1928 году схвачен ГПУ. По Украинским энциклопедиям числится без вести пропавшим…Однако, без вести Он не пропал — освобожден был восставшими в мае 1954года заключёнными «ОЗЁРНОГО» № 7 лагеря на лесоповальной подкомандировке Усть—Кут Иркутской области прибалтами, чехами и западными украинцами. 70–илетним стариком ушел с беглецами в тяжелый — через глухие таёжные дебри — поход на свободу. Мужественно переносил все его тяготы, ободряя товарищей. И, — дня не проболев на воле, — На 26–м году апокалипсических страданий скончался во сне 11 июля 1954 года в безымянном охотничьем зимовье у вершины впадающей с юга–запада в озеро Байкал не большой таёжной речушки Малой Голоустной…
26.Берлин
Вечерний Берлин, — как и Псков несколькими сутками прежде, — встретил ветром с мокрым снегом. С вокзала ожидавший «доктора Фанни» генерал Гренер привёз её в свою резиденцию. Там их уже ожидал генерал Сект. За поздним ужином доктор рассказала, — не без юмора, если верить свидетелям, — о только что пережитом ею на занавешенном плотным снегом штормовавшем Псковском озере. О вьюжной, — с солёным дюнным песком в глаза, — Эстляндской ветви «коридора», открытого пятью годами прежде ею и друзьями Маннергейма. И именем его названном спасающемуся по нему из совдепии на Запад россиянами.
С Вильгельмом Гренером, добрым гением Стаси Фанни по Украине, читатель знаком. Там и тогда — начальником штаба после гибели летом 1918 года фельдмаршала Эйхгорна — командующего оккупационными войсками Германии. Он — немец Гренер — спас от неминуемой гибели сотни тысяч раненых россиян. Россиян, валявшихся по брошенным на произвол судьбы штабами распавшейся Русской армии Волынским её госпиталям. Умирать оставленным «исчезнувшими» невесть куда, после октября 1917 года, высокими, именитыми и безусловно заслуженными «консультантами» её. Коллегами. Даже прямыми «начальниками по медицинской части» профессорами Фёдоровым, Рейном, Вреденом, Яновским, Оппелем. Крайне необходимым ей, уставшей (так скажем) от невыносимой ответственности, даже учителем её по Медико–хирургической академии Вельяминовым. И даже, — прежде ничего и никого не боявшемся, и все военные годы единственно по- настоящему помогавшем доктору Стаси Фанни, — принцем Ольденбургским — «Безупречным»! Но то, возможно, вина не его (возможно даже и не их всех: судьбы этих безусловно выдающихся медиков проследить после начала Гражданской войны преследуемые родители мои не сумели…).
Гренер, — появившись в Украине во главе оккупационных (по Брестскому «миру») войск, — не только вызволил «Доктора Фанни» и супруга её из киевского застенка. Но в том же феврале 1918 года распорядился не медля обеспечить подчинённые ей медицинские учреждения питанием, перевязочными средствами, медикаментами и оборудованием. Что тотчас было исполнено. А поздней осенью через своего коменданта Эсбе передал ей все резервные запасы эвакуируемых им на родину германских лазаретов. Я повторяюсь вновь. Но…не повторяться невозможно: вот уже 80 лет я не перестаю видеть страшные сны — переполненные страдающими калеками мамины лазареты тех войн…
Чуть позже, мама и будущий мой отец познакомились на Волыни и с Сектом, — тогда уже генерал–полковником Рейхсвера, — которому Гренер и президент Эберт поручили в самом конце 1918- в начале 1919 года отвод войск из оккупированных районов России. Это был ТОТ САМЫЙ Ханс фон Сект, который, — будучи начальником штаба 11–й Германской армии генерала Макензена, — разработал и осуществил план прорыва Русского фронта у Горлицы весной 1915 года. Тогда армии России были разгромлены. Немцы овладели Польшей, Прибалтикой, частью Белоруссии, Галицией и Западом Украины, где находились госпитальная «империя» мамы. Между прочим, это был тот саамы Сект, который позднее, — в 30–х годах, в революционном Китае, станет Главным советником Чан Кайши. И, — вопреки усилиям советского советника Блюхера (впоследствии за то Сталиным расстрелянного), через тернии 1949 года, — вознесёт великого китайца к блистательной виктории Тайваня.
В конце 1918 года Сект станет «начальником Управления сухопутных войск» — командующим Рейхсвера. Отпрыск старинной юнкерской фамилии из Померании, — сын генерала, друга и соратника Бисмарка и Мольтке, — он начал службу 19–и летним кавалеристом гвардии. И в 1899 году, «благодаря блестящим способностям и ясной голове», переведен был в Генеральный штаб. Великолепный музыкант — пианист, он был ещё и талантливым художником–станковистом — мастером проникновенного пейзажа и психологического портрета. Каждую свободную от службы минуту отдавал он любимым искусствам. Во время недолгого отдыха в окрестностях одного из Кременецких лазаретов Стаси Фанни успел дать несколько фортепьянных концертов для русских больных и врачей. Выполнил и подарил маме серию впечатляющих масляных эскизов окрестностей. А медикам её — их акварельные портреты…Полевой генерал…
Концерты Секта чередовались изредка правда, божественной красоты игрою солиста–альтиста. Тоже немца. Имя которого почему–то тогда не называлось. Временами, этого «безымянного» маэстро сопровождала его приезжавшая из Берлина жена (ухаживавшая там за его искалеченным братом). Милая, молчаливая женщина. Стаси Фанни с мужем познакомились на концертах с этой тишайшей парой. Возникло общее понимание причин и последствий происходящей Германо–русской трагедии. Началось подобие…дружбы — враги, всё же…Неких искренних взаимоотношений.
В кровью залитой серой фронтовой жизни–существовании произошло нечто похожее на…радость. На неуловимое счастье, быть может. Тем более (в «оправдание»), «стороны» — то не стреляли друг в друга…
Мрак буден растворялся, таял в сполохах высокого искусства…
…Осенним вечером 1918 года доктор Стаси Фанни ван Менк и генерал Ханс фон Сект вызваны были в Одессу: покончил с собою, не пережив известия о революции на родине, верный присяге и монарху, командующий армией генерал фон Бёльц…
…Ночь. «Операционная» клинической больницы.
…Труп под снежно белой простынёю… Прострелянная в виске знакомая голова — беззащитной голой шеей на «полене» секционного топчана. Изнуряющее привычно сверкающий развал инструментов на стеклянных столиках. Привычно душная вонь хлороформа…рутина…
…Потом, — к утру уже, — «Золотой кабинет» Дворца коменданта Одесского Военного округа, что в дивной дуге великолепных, русского ампира, зданий…
«Струнами» — шпалеры солдатских шеренг. Матовый блеск полос последнего парада примкнутых штыков–ножей. Огромная погасшая люстра в каскадах крепа. Под ней, на ложе из резко пахнувшего лесом елового лапника, мертвец в полевом, без регалий, генеральском френче. Вырванный направленным лучом из траурной тьмы прекрасный лик скрипача под огромным лбом мыслителя, чуть прикрытым наброшенным по верх него офицерским шарфом…А в давящей душу мелодии реквиема огромного оркестра, — будто погружающееся в волны её и там тонущее, — живое тёплое пятно навсегда умолкнувшего страдивариева альта, прислонённого к левому предплечью покойного…
…Было, было о чём вспомнить…
Вильгельм Иоахим Хеймнитц, один из близких Гренера, тоже вспоминает:
«…Согрелись чаем и вином…По приглашению Секта явились офицеры штаба с находившимся в Берлине полковником Нолькеном, — начальником военной разведки генерала Врангеля. Последними вошли четверо высших офицеров полиции (один из которых, — мюнхенец, — был… будущим шефом гестапо Генрихом Мюллером!). Гостья на несколько минут удалилась к ожидавшим её врачам генерала. Вернулась вскоре. И в наработанной за годы профессорства командно–лекторской манере, — будто на докладе на учёном совете (или в Генштабе), — изложила в трёх часовом сообщении всё, что по поручении иерарха Русской Православной Церкви рассказал ей московский её информатор Осоргин–младший…»
И далее:
«Ожидавшийся Вами, доктор, и Вашими друзьями красный сбор состоялся за трое суток до Вашего прибытия к нам», — завершил её доклад Сект. И, снимая напряжение, озвучил высказанную и на нём «страшную угрозу» коминтерновских мальбруков Троцкого и Зиновьева, соответственно, первого: «Я готов отказаться от всех своих постов и пойти рядовым солдатом в бой за Германскую революцию: она вот–вот грянет!». И второго: «Я тоже готов уйти в отставку и отправиться сражаться рядовым солдатом!…». Второй, Зиновьев, лукавил: со своим верным другом, — который впоследствии скинет его в расстрельный подвал под Третьяковским проездом, — он попытается, того мало, он всё сделает, чтобы Первый на самом деле не оказался, вдруг, во главе удавшегося путча!)…(Конец цитаты).
«Да, они готовы… — продолжал Сект, — между прочим, Зиновьев, Киевский, Каганский и Радек с Клингером побывали в Гамбурге и в Берлине в начале осени…Последний даже повидался с Ревентловом!…Клингер, как доложили, уже по пути в Моабит. Радека ждут…Ловят (Карл Радек — фигура известная и на слуху. Густав Клингер — один из заместителей Зиновьева и руководитель ИКИ Коминтерна — личность подковёрная, закрытая. Тогда же Зиновьевым и выданная германской контрразведке. Оба — личные друзья Ленина. Это не помешало, первому, в средине 30–х тоже поиметь пулю в загривок; второму, в марте 1941 умереть, точнее, «дойти» окончательно в Бутырках, до того обработанному мясниками–костоломами Сухановки. Пацаном, имел честь полтора месяца — январь–февраль — «загорать» рядышком со стариком Клингером на нарах 19–й камеры этого кичмана. Ревентлов — приятель Гитлера. В будущем, видный функционер–нацист…Эвона куда вышел–дошел коммунистический интернационал! А Моабит — то известная тюрьма в Берлине. В. Д.).
Поберегитесь, господа!
Но, шутки в сторону! Положение серьёзно, — продолжал Сект. — В Москве пик схватки Троцкого с пытающимся отобрать у него власть Сталиным! Однако, именно в эти часы — сообщают — верный соратник и, в сущности, «начальник генерального штаба» кремлёвского Льва, Георгий Пятаков, вместе с Радеком и Раковским оставили Москву. И уже по пути в Берлин. И если Раковский «лишь только» хозяин Украины, то Пятаков — фигура занимающая сразу три высочайших поста в большевистской иерархии: заместителя председателя Совета труда и обороны всего СССР, заместителя председателя ВСНХ и председателя Главконцесскома — а это сердцевина разведки…Как видно, организатор путча Председатель РЕВВОЕНСОВЕТА Троцкий, крупно рискуя в кремле, здесь у нас собирается сразу брать быка за рога!…Отсюда активность оппонентов!».
Террариум с гадами.
27. Путч.
С поздним рассветом Гренер, Сект и доктор Стаси Фанни ван Менк раскланялись с гостями. Маму отвели отдыхать — прибыли вызванные Сектом врачи–акушеры…Сутки спустя, ночью, путешественницу разбудил Хеймнитц. Он привёл её, — переодетой, под густой вуалью, — в центр города. Провёл в библиотеку имперской канцелярии… Там уже собирались напуганные несколько, и частью чуть ли не спортивно одетые, — некоторые не бритые даже, и без непременных галстуков(!), — видимо, только что поднятые с постелей министры правительства. Президент Эберт и председательствующий рейхсканцлер Штреземан тоже взволнованы. Явно нервничают. Паники, конечно же, нет (настаивали газетчики). Но…как из реплик собравшихся политиков и чиновников мама поняла, «в воздухе библиотечного зала витает один но судьбоносный вопрос: как поведёт себя Рейхсвер?!».
Ответа на него нет. Пока….Ждут Секта! Неясность нервирует. Наконец, «открывается одно из полотен парадных дверей и, — как эпически писали утренние берлинские газеты тех дней, — появляется безупречная с головы до ног фигура главы Рейхсвера… С холодным бесстрастным выражением лица он еле заметным поклоном приветствует зал. Блеснув моноклем садится за стол. И на вопрос взволнованного Эберта: — Будет ли Рейхсвер стоять ЗА НАМИ, господин генерал? — Следует немедленно ставший историческим холодный ответ Ханса Секта: — Рейхсвер СТОИТ ЗА МНОЙ, господин президент… Но за нами и сама Россия. За нами История. Творимое сегодня квартирантами кремля затворено на их ненависти к русскому народу. К народам России вообще. А чувство это, — известно, — разлагающее и разрушительное!».
Наступила ясность. Для немцев — это сигнал к действию!
Как дальше события развивались — известно.
За ними маме привелось наблюдать, — будто за спектаклем из директорской театральной ложи, — из резиденции Гренера, куда генерал, время от времени, направлял посыльных.
Очередная и последняя троцкистская провокация первой половины ХХ века, — с большими трагическими последствиями для многострадальной Германии и — с не меньшими — для многострадальной России, да и Европы в целом, — на её глазах была задавлена. О том более полу века принято вспоминать с придыханиями. О чём с придыханиями вспоминать почему–то не принять (а стоило!). Задавлена она была не только «столетиями перманентных европейских войн выкованным могуществом Рейхсвера под командой всемирно известного военачальника».
И Стаси Фанни ван Менк, — мама моя, — не только живой свидетель жесткой по–немецки и по–сектовски стремительной армейской ликвидации большевистского путча. Но как параллельно ей, — как бы «встречным палом», по–егерьски активно и чётко, — действовали… только что вылупившиеся из веймарского «инкубатора» «дикие орды» «Национал социалистической германской рабочей партии». В момент начала путча большевиков в Германии их вывел на гамбургские и мюнхенские улицы не известный широкой публике ефрейтор Гитлер.
Финал кровавой затеи, вкратце, таков: 25 октября армией разгромлены тысячные толпы «красных» в Гамбурге, а импортированные в город эмиссары коминтерна повешены. Одновременно, Сект приказал генералу Мюллеру (однофамильцу Генриха. В. Д.) — тогда командующему войсками Военного округа в Саксонии — огнём пресечь попытки вооружения германских кальсонеров, уже возглавленных тоже прибывшими из советской России троцкистскими их родственниками, и занять в этих районах все жизненно важные объекты. И здесь не обошлось без успокаивающих «ошейников». Наконец, армейские части вошли в Тюрингию. И генерал Мюллер, тоже вздёрнув заводил, жестко разогнал марионеточные «правительства» очищенных от мародёров Земель. Путч подавлен был в зародыше: чему–то 1918 год в Финляндии и немцев научил!
В Баварии операции Рейхсвера начались тоже сразу после событий утра 9 ноября. Всё тем же «встречным палом», стремительно опережая троцкистских путчистов по свержению по свержению законных Земельного и Имперского правительств, и здесь действовали «орды» молодой партии. Было: с двумя егерями Гитлер вошел в Мюнхенский «Бюргербройкеллер». Там шел яростный…Нет–нет — не бой! Но трёп… о необходимости, что «надо что–то делать?!». Он, — вспрыгнув на стол президиума, — показал ЧТО: выстрелом в потолок «упросил» витийствовавших комиссара Баварии Кара, командующего войсками Седьмого Военного округа Лоссова и начальника Мюнхенской полиции Зайссера быстренько заткнуться. И, — не спрыгнув ещё обратно на пол, — назначил первого — правителем Баварии, второго — военным Министром Германии. Рот не успевшего открыть генерала–героя Людендорфа он поставил Верховным главнокомандующим. Ну, а…себя, себя — Рейхсканцлером, конечно! Воспринято это было (сообщалось) и присутствовавшими и самим Гитлером с юмором (?). Только ведь и смешное от трагического лишь временем отделено…Трое первых названных высших государственных чиновников «револьверному аргументу» конечно же вняли и подчинились. Но уже утром «посчитали себя свободными» от взятых на себя(!) чреватейших обязанностей. Знали ли они себе цену? Нет, конечно. А вот Гитлер знал. Наперёд, причём. Хотя «проставлена» цена была официально лишь десятью годами позднее. И не им самим — шутки ради, и в порядке самодеятельности. А всерьёз — Его Величеством Народом Германии.
А ведь некоторые — попугаями повторяя «подробности» самого факта — этого до сегодня так и не уразумели!
Тогда, — в 1923 году, — Секту, человеку дисциплины и точного исторического расчёта, поспешность само провозглашенного «канцлера» была не ко времени.
Уже прощаясь с мамой, логику своих действий объяснит он так: «…Дело сделано. Но даже самым активным, пусть добровольным, участникам наведения порядка, — в том числе «диким ордам» симпатичнейшего но не терпеливого самозванца, — необходимы скромность и ТЕРПЕНИЕ. Время его не наступило ещё. Но оно непременно придёт…Пока же…Пока далеко не скромное и очень уж шумное для бюргерского музыкального уха карнавальное шествие молодчиков его, — торжествовавших свою бесспорную победу на издохшим, как представлялось им, большевистским драконом, — полиции приказано было успокоить, придержав их у Галереи. Не успокоились. Над здравым смыслом возобладали не здоровые эмоции. Непорядок!…Главное же: на внятное, — по времени обоснованное и уж ничуть не чрезмерное, — распоряжение полиции ответили они вовсе не игрушечным огнём!… Огнём их и остановили…»
Сект, или тот, кто докладывал ему, скромничали: Мюллер, — теперь уж «ТОТ», Генрих (полтора десятилетие спустя «МЮЛЛЕР-ГЕСТАПО»), — с «довольно мирно» настроенной ордою поступил тоже «по времени» круто: 16 демонстрантов было убито. Десятки ранены. Геринг в их числе, человек во всех смыслах видный, знаменитый лётчик–асс — герой Мировой войны. В их числе несший знамя средний из трёх братьев Гиммлер — Генрих, будущий рейхсфюрер СС. И шедший в первом ряду рядом с братом и Гитлером Гиммлер–старший — Гебхард. К слову, последний ни в чём предосудительным позднее не замешанный, и после Второй мировой войны не обвинённый ни в чём. Инженер–радио техник. Интересен тем, что (как и младший из братьев Гиммлер — солдат, павший в Берлине) он один из очень не многих значимых людей Германии, — ни в те, ни в более поздние времена массовых постпораженческих разоблачений, не предал родного брата — пусть чудовища, пусть выродка, пусть достойного тысяч казней, окажись он живым в руках Трибунала. Не отвернулся от брата. В Нюрнберге — свидетель после двух лет тюрьмы (Именно ЗА ТО, что брат преступника! Получается, что и там у них, «у демократов и человеколюбов» те же ленинско–троцкистские принципы обвиния граждан!), он старался всячески, как мог, Генриха обелить, выгородить, защитить честь или хотя бы память дорогого ему человека. Пытался объяснить не объяснимое. Достучаться до сердец судей, человечества…И с Высокой Трибунальской Кафедры, — значит, на весь оскорблённый главным нацистским извергом и люто ненавидящий его мир, — не устрашился назвать «любимого брата человеком доброго, отзывчивого, нежного сердца» (каким — по многочисленным свидетельствам — тот и был в юности и в годы молодости, пока социалистическая скверна не поразила его мозг!).
Другим бы, в аналогичных, — как у Гебхарда, — ситуациях, хотя бы тень такой порядочности…Хрен!
…Остановил дальнейшее побоище у Галереи бывший Главком кайзеровской армии маршал Людендорф (тот самый, «назначенный»), шедший тоже в первом ряду колонны рядом с назначавшим (тогда же спасённым одним из прикрывших его собою штурмовиков; штурмовик тот погиб).
Гитлер, оказавшись в тюрьме, не бездельничал. Вышел с рукописью первого тома своей книги: «Четыре года борьбы против лжи, глупости и трусости». Книги в своём роде исключительной, знаковой, сокрушительной. Позже книга издана была фронтовым его товарищем Максом Аманом под окончательным названием «Моя борьба». Но написана она, — и это следует знать, на носу зарубить и помнить всегда всем «исследователям» нацизма, — под свежим шоковым впечатлением от недавней, в апреле 1921 года, встречи и откровений возвратившегося из Русского плена Мартина Тринкмана — друга детских, — в Браунау и Линце, — и фронтовых лет. («Густав и Катерина».С.82–91.МОСКВА. М.7/2002.////).
28. Сект.
Сект, отлично знавший состояние России (и самим россиянам, народу России, симпатизировавший), сказал маме провидчески:
— «Большевистский дракон далеко-о не мёртв. Страна под ним на Востоке огромна и богата. ЧЕЛОВЕЧИНЫ в ней на корм ему — невпроворот. На годы. На десятилетия! Нажрётся ЕЁ. Напьётся русской крови. Поднимется. Сил наберёт. Изготовится. И, этак лет через двадцать, — снова через нас, — надумает ворваться в Европу. В мир. Тогда и придёт время «нескромного и нетерпеливого». Но пока дракон в спячке. Пусть во временной…И осведомленный об особом «интересе» мамы к метаморфозам судьбы главного убийцы кумира её, — Александра Колчака, — неопределённо (загадочно) заметил, итожа разговор: — а Троцкий–то — он, видимо, из игры изымается!? —
- ???
— И, будто «поправляясь»: — Ничего особенного: авантюрист, — проигравший в грызне эпигонов за наследство у постели умирающего, теряя авторитет и власть, — он сделал ставку на, казалось ему, безошибочный и эффектный ход. На очередную кровавую авантюру. Снова у нас. Снова за счёт нас здесь. И конечно за счёт русских — там у Вас. Не выгорело! Решил спастись, мерзавец. Сыграв ещё раз ва–банк!…Не прошло?…Сбежал(?)… Пока?…».
…На свидании в Ишимбинском зимовье в конце 1953 года, по возвращении из четверть вековой «PASTEURской экспедиции-Одиссеи» (о том ниже) мама сказала: — «Интересно!…Кузен–то ревельский… Фреди…Ну, Александра Львовичев племянничек… Штудент… Тот, что в 1918–м в Германию сбежал…Тогда, — в 1923, в октябре, — офицеры хеймнитцевы насилу отыскали его в ералаше берлинском и явили… Так вот, он потом то же почти, слово в слово, что Сект предрёк о «скромном и нетерпеливом»… Вспомнить не могу — старая совсем — к чему это было?…Скорей всего, к тому, что потом «22 июня 1941» случилось…Помню только, что после событий осени 1923 года он успел огромную книжищу написать… Что–то в духе студенческих увлечений, ревельских ещё…Моден стал тогда у нас в Балтии, — на дрожжах «еврейского засилья», в разразившейся российско–европейской смуте забываемый, было, — кондовый мистицизм…Позже узнала: Partaigenosse его и шеф книгой этой был очень не доволен!…Плевался!… Приревновал даже, беснуясь, к невероятным, — мигом раскупавшимся, — тиражам «этого рецидива средневековья!»… Надо же!…Сам–то…Чьего рецидива гайдар?… Да, был Фред босяк–босяком…Правда, человеком оказался цельным…Не отнять. (…На вопросы…тогдашних — 1946 года — высоких интервьюеров отвечавшем «честно и последовательно». Как свидетельствует в мемуарах значительная фигура того времени: «Все попытки убедить его публично отречься от своей идеологии, — мол, сознайся в её порочности — глядишь, и не вздёрнут, и останется в истории след, — эти попытки ни к чему не привели». Albert Speer, ERINNERUNGEN. 1930–1945. М. 2005. В. Д.).
…Но ведь и Гитлер тогда о том же говорил!…Витало оно, значит, в воздухе…
В последнем слове на заседании Баварского специального суда он скажет: « - Когда я узнал, что стреляла в нас полиция, я был счастлив: по крайней мере не Рейхсвер себя замарал. Рейхсвер остаётся таким же незапятнанным, каким был всегда. И настанет час, когда он, его офицеры и его солдаты встанут на нашу сторону!(…)«дикие толпы» обратятся в батальоны, батальоны в полки, полки в дивизии… А старые знамёна вновь будут реять…».
Газеты тогда писали: «Ясно, что через головы судей он призвал будущий Вермахт и немцев видеть в нём, и только в нём, свою опору!».
Пророчество его — в 1939 году — возьми и осуществись!…
А спустя два года пришла очередь и Сектовому предвидению… Так, вот… Не спроста же именно тем, кто должен был, кто обязан был знать писанину гитлеровскую наизусть, — народу России, и евреям в особенности, и в первую очередь, — читать её не дозволяется и по сейчас! Знать бы, кем персонально, снова и зачем?
Что до сегодня вызывает яростные споры и порождает невероятные домыслы — это бросающаяся в глаза исследователей новейшей немецкой истории «подозрительная согласованность» действий в октября 1923 года германских национал социалистов Гитлера и террористов Троцкого! Ведь абсолютно по всем адресам предполагавшегося (и установленного) хода большевистского мятежа, и боевые отряды новорожденной партии на часы, — на минуты иногда, — тоже УПРЕЖДАЛИ все действия московских швондеров! Только… пусть доброхоты–историки не относят это за счёт рабочих издержек, якобы (или на самом деле), сопротивления Зиновьева и Сталина, стремившихся, якобы, не допустить главенство Льва Давидовича в «знаковых» германских событиях осени 1923 года!
29. Мемориал.
Маме, к тому времени скальпелем своим спасшей на «её» войнах около двух с половиною десятков тысяч россиян, — не до рассуждений было, естественно, о гипотетике «чудесного спасения» предполагаемых жертв так и не состоявшейся — и по её милости тоже — новой европейской бойни. Но октябрьским — 1923 года — вояжем в Берлин «Реестр–мемориал Светлой памяти Его Белоснежного Величества адмирала Колчака» она пополнила! А числилась в нём и Кронштадтская её эпопея года 1921. И подвиг шести братьев её: Юхо, Арво, Леннарта, Эриха, Пера и Пааво, и кузена — Павлика Редигера…В феврале года 1918, — с группой друзей–ревельцев, с Феликсом Керстеном (тоже кузеном) в компании, — перебрались они по льду «Маркизовой лужи» в сражающуюся Финляндию. Присоединились волонтёрами к прошедшему обучение в Германии, и тремя сутками прежде высадившемуся в Вааса, «27» егерскому батальону. И прошли, в связке с ним, в непрерывных боях с большевиками всю Войну за независимость. Мама узнала о том весной 1921 года, прибыв из мятежного Кронштадта в Гельсингфорс с караваном раненых Балтийских моряков.
С сентября 1939 по март 1940 года они вновь вынуждены были, бросив дела и семьи, защищать свою Финляндию в «Зимней войне». И снова жестко, — жестоко даже (на войне, как на войне!) наказывать напавших на их Суоми «родственников». Наказать снова за наглость и глупость. Керстена Феликса, правда, с ними на сей раз не было — он был в Европе. Учился. Работал. Делал карьеру. Блестящую надо сказать. Зато наличествовали все его друзья и родичи. И Белоснежный Адмирал помянут был по–доброму в семейном «Реестре» мамы ещё раз. Оказалось, не последний!
И без Эриха уже, — вечная ему память — погиб в 1918, — собрались они в начале августа 1941 года снова. Съехались, чтобы ещё раз защитить Финляндию от полчищ всё того же несчастья. Которое в тюрьмах, лагерях, депортациях и ссылках истребило к тому времени новые миллионы несчастных россиян. Защищать теперь уже об руку с… немцами. С Гитлером! (В «союзе» с ним — иного варианта спасения Финляндии «кремлёвский горец» и постоянно бдящие интересанты ей не оставили! И такое надо было пережить!…). Защитить от всё той же беды, но теперь уже с выломанными у неё только что… жвалами…
Да, снова пришлось браться за оружие. Что бы ещё раз защитить родную страну. И ещё раз попытаться «уберечь» незадачливых соседей от попыток врываться сквозь неё (сквозь нас, финнов) в нашу Северную Европу…Но то — потом. Потом.
…А сейчас — сейчас финт с Троцким!…
На помянутой — в декабре 1953 года — Ишимбинской нашей встрече — мама с гордостью и с совершенно не свойственным ей… пафосом, что ли, подытожила: — «Вот теперь Реестр наш чего–то стоит! И стыдно не будет перед светлой памятью Александра Васильевича… Подумать только, — с именем Его в сердце…Да, да, — только так, только так!… С именем его в сердце никто из Наших в этой страшной войне не осквернил ни себя, ни нас всех, хотя бы мгновением осознанного прямого действенного участия в ней на стороне Гитлера. Но и, Боже сохрани, за личные интересы рябого палача. Якобы, «отстоявшего» нашу Россию и «выигравшего» войну. Он–то её — точно, — с подачи всеядных «союзников», — выиграл. Но какую немыслимо страшную цену уплатил за это несчастный народ? …
…Не жмурься!…Словом «проиграл» не бросаюсь. А словом «русский»… Моё оно, слово это — Финка я. Пусть в Эстляндии рождённая, но финка. Значит русская… Удивлён?…Чем?! И удивляться доколе — борода уже вот какая выросла!…Был или нет на свете Рюрик с братьями, варяги в Новегороде и Киеве?! Были! Княжили! Пришли княжить над словЕнами (не над славЯнами, «славяне» — измыслы позднейшие! Настоящих историков читай! Читай великого россиянина Александра Семёновича Шишкова. Адмирала–писателя. Это он, — Президент Российской Академии ещё в 1813 году, и министр просвещения, — в своих «Рассуждениях о старом и новом слоге российского языка» писал, что «высокий стиль должен состоять из красноречивого смешения СЛОВЕНСКОГО величавого слога с простыми и всем понятными оборотами»…Вот! Шишкова читай. Читай Ключевского Василия Осиповича об ассимиляции финского населения «Русью» и об обратном следствии этого процесса — влияния финнов на «русь», убеждённого что и то и другое составляет «этнографический узел вопроса о происхождении великорусского племени. Конечно же, читай по тому же поводу записки Горчаковские — лицейского отличника — умницы!)… Да, пришли княжить над словенами — над чудью
и весью княжить пришли. Над нами, значит. Тем самым, мы — финны, чудь — русские! И Мы дали имя пришедшим скандинавам… Имя русь — тоже финское: Рутсы (Ruotsi) — Швеция! Это и было сказано в Новегороде Гостомысла по–фински… Один умный человек вспомнил: Века спорили о происхождении имени Русь. Копья ломали. Возводили его к Пруссии аж! Династию Рюрика представляли хазарской. У немцев справлялись…Господи! Ответ–то — он перед носом. У новегородских стен. «Бессловесных» финнов — спросить не догадались. А они, — МЫ, значит, — всегда знали, что Россия по–фински — «Швеция»!…Знатоков не прикормленных читай: Шишкова, Арцыбашева, Валишевского и конечно Ключевского, «О Государстве Русском» Флетчера… Карамзина… Ну, Карамзина — и его иногда…О том, что не путает… Путаник он…Или того хуже… Но не Соловьёва!…Этого не читай — вредно. Устрялова — Устрялова можно… Можно Валлотона. Грюнвальда…Есть истинные знатоки, ценители и охранители нашего прошлого…
…Финляндию свою братики мои с кузенами защищали потому, что они РУССКИЕ». Потому что истинные русские предки наши пришли строить державу именно на финскую землю.
(Не спроста, не для красного словца позволил я себе напомнить от автора к своей же «Повести о Густаве и Катерине» о недавнем поступке Владимира Путина–президента: «В понедельник 3 сентября 2001 года, во время краткосрочного визита в Хельсинки, президент России возложил цветы к памятнику бывшего президента Финляндии Карла Густава Маннергейма», союзника Гитлера во-Второй мировой войне. Руководствовался он, — в этом я не сомневаюсь, — долго и мучительно вынашиваемой, тщательно скрываемой даже от себя самого, и впервые «высказанной» таким вот неординарно решительным жестом, благодарности от имени народов России русскому генералу и маршалу Финляндии за его тридцатилетнее героическое сопротивление общему лютому врагу обеих народов. И за трёхкратную над ним победу».
…Отпевая в 1920 году Александра Васильевича Колчака, епископ Евлогий и члены русской колонии, — вместе с Иваном Сергеевичем Шмелёвым и Буниным Иваном Алексеевичем в далёком Париже, — плакали… Сообщалось о том в эмигрантской газете «Общее дело» за 4 июня 1920 года, которую тогда, в 1923 году, нашел для мамы вообще–то очень занятый Гренер. Да, они, как нормальные русские люди, плакали. Что ещё могли они? А она? Мама? Она же на панихиде не присутствовала. Но была бы — плакать не стала. Точно знаю. Рождённая в Эстляндии, Эстляндией воспитанная, — она от природы сентиментальной не была. Тем более, профессия её свойству этому не поспособствовала. Помянула Александра Васильевича в 1923 году «Тихоновым подвигом–походом» в Берлин Коридором «Маннергейма» — славным детищем финского друга.
О чём соотечественникам своим честь имеет сообщить автор этих строк… Правда, только теперь.
Да, только теперь… И только теперь напомнить имеет честь: действительно, перечень победных пунктов маминого Мемориала Колчака полнился постоянно. И в него потому, — кроме многие годы продолжавшихся посильных вкладов детей и друзей её, — необходимо занести пункт очередной. Быть может, при жизни мамы один из важнейших и принципиальнейших, связанный с арестом, отнятием и исчезновением детей. А за тем четвертьвековым изгнанием родителей моих (с более чем 20–и летней «Трансокеанской экспедицией»; о чём терпеливый читатель ещё прочтёт). Во время, которого скальпель её не возвратил в строй ни одного нарушителя заповеди «Не убий!». Чтобы оценить этот вклад вспомним ещё раз: только по «Офицерским книжкам», — за её четыре войны (1911–1922гг., Русско–японская не в счёт — там была она только операционной сестрой), — доктор Стаси Фанни ван Менк — сама — прооперировала более 27 тысяч раненых… Армия военного времени цена этому! Армия! А сколько Армий вернули в строй её медики?!…Кто и когда это подсчитает…
Однако, на той же Ишимбинской встрече в декабре 1923–го, она охладила меня: не подумай только, что переиграй интересанты 1929 год — с подлостью их в Кременце — пусть даже на искреннее «раскаяние», и даже, извинившись, возврати неким чудесным образом тебя с Иосифом, — я вернусь в полевую операционную. И стану вновь «собирать» им ландскнехтов… Болт в гайку! Как говаривали в Кронштадте мои подопечные матросы… Это не значит, что жалею себя за свой «сомнительный» труд в Гражданской войне. Нет конечно: я целитель, никогда никому не навредивший. верю в дело, которому служу. Верна клятве Цеху. Пусть тогда я не знала, не могла точно знать для кого и для чего поднимаю на ноги полегшие, было, армии. И сообразила лишь только в Кронштадте и Берлине. Но я врач.
30. Хельсинки.
Коротко, об обратном — в декабре–январе — пути «доктора Фанни» в Россию. Сопроводить её в Штральзунд приехал с нею, и простился, полковник Нолькен. Прибыли из Гельсингфорса Тон Вяхи и генерал Кирке — близкие друзья Маннергейма. Маршрут выбран был Гренером самый щадящий. На всякий случай рядом, в соседних купе их спального вагона Стокгольмского экспресса, следовали берлинский гинеколог Иоган (?)Штарк и патронажная сестра Наташа Ольт — ревельская землячка! Паром перенёс их в Швецию. Через Мальме, а потом через Кеми, добрались они тем же поездом до Гельсингфорса…
Встретил маму очень заметно охромевший Густав — видимый результат очередной, начала года, охотничьей африканской поездки. Результат не видимый: — «пилотируемый» им автомобиль налетел где–то в Марокко(?) на виноградные стойки. Перевернулся. Загремел в глубокий кювет (пропасть, пишут биографы, — канавы им мало!), выбросив самого. «Сам» же и наблюдал «с интересом», как огромная машина на него валилась (то ли по рассказам мамы знаю, то ли из мемуаров самого?)…Придавленный, четыре часа провалялся под ней пока не заметили…Итог: перелом бедра, ключицы, пары рёбер,…а на десерт — двухнедельное воспаление лёгких…». Словом, букет удовольствий…Гостья — не пожалев — успокоила: « - И всего–то? Делов!». В свою очередь, успокаивая её, обещал клятвенно: «Вот крест святой, мать, впредь ничего подобного себе не позволю!…Вообще… угомонюсь…». «Пора!» — одобрила. «Пора!».
А потом… «как всегда осенью, снова съездил в Тироль поохотиться», тем усугубив последствия.
С «хромотою» было у него тоже не всё просто: перелом бедра и…бесконечный традиционный, — ставший к старости натурою, — спор–перебранка с врачами–друзьями «о методике лечения»…Укоротивший ногу на пару сантиметров. Потому навсегда — вкладыш в обувь. И, — вовсе «не к лицу» гвардейской стати человеку, — до конца жизни походка «аж присядкою»…Кривой уткою.
Самое время наябедничать, перенесясь вперёд чуть. С клятвою «матери» впредь ничего подобного себе не позволять, вновь не получилось. Уже в январе он, в ситуации мало сказать экстремальной, посетил её, появившись в Москве…
Тогда же, в Гельсингфорсе, Густав с вокзала привёз её в уютнейший 2–х этажный особняк по Kalliolinnavagen, 14. Там она, наконец, — почувствовав себя почти как дома. Извлекла, поцеловав, из мешочка — «медальона» Фаберже амулетик. Окончательно отдышалась. Перед дорогой в Россию проверилась серьёзно и без спешки. Проконсультировалась у старо–знакомых коллег. Отдохнула всласть…
Конечно, был, среди прочих, разговор о смерти Ленина. И о Троцком: барон думал о том, кому достанется теперь Россия. Деталей очередного «финта» действующего большевистского председателя Ревввоенсовета–главкома он в подробностях не знал. Знал: — «Тот в нетях, пока!». Но развернул, вытянув из подстольной газетницы, московскую «Правду» от 14 октября со статьёю Радека. Нашел отчёркнутый карандашом абзац. Вслух прочёл: «…Троцкого можно охарактеризовать, как стальную волю, обузданную разумом». Хлёстко! И, пожалуй, точно! Если по нынешнему краху его германской авантюры «стальная эта воля» выпадает из московской обоймы на самом деле — поздравляю!…Тем более, он твой «доброжелатель». Но кто займёт его место?… И хотя «тому глаз вон, кто старое помянет!» — помянул таки, не поленившись встать и подойти к книжному шкафу в кабинете. Пошарил в нём глазами. Потом рукою. Нашел что–то. Снял с полки номер 662–й «Царского вестника». Долго перебирал, читая, сигнатурки густо расставленных в нём закладок. Помолчал. Сказал–спросил, будто пытаясь закончить мысль о, видно, до сегодня не перекипевшем, покоя не дающем: «Троцкий! Гений Троцкого! А наши–то, русские наши–то настоящие люди где были?»… Подошел. Подсел. Глубоко вздохнув, стал читать заложенное…Вот… Керсновский. Авторитет из авторитетов. Для меня, хотя бы…Послушай–ка, что он пишет о наших настоящих: «…Располагая страной с 70–и миллионным населением (уже отошедшим от большевиков и разочаровавшимся в них), Деникин умудрился иметь на фронте под Орлом в решительную минуту (в момент, когда подходил к главной цели Белой Армии — к Москве! В. Д.) всего 10 000 штыков…Имея до 100 000 офицеров, он не пустил их на фронт, а запер в склепы реабилитационных комиссий — и обрёк на пагубное безделье, пьянство, (…) сыпняк и наганы подоспевших к зиме чекистов. А на фронте не то что каждый офицер — каждый солдат был на счету, и в строй ставили только что взятых в плен красноармейцев. Портовые пакгаузы ломились от навезенной англичанами амуниции и одежды, а на фронте строили обмундирование из случайной сарпинки, набивали за пазуху солому, чтоб грела, стаскивали с пленных опорки…
…Никто ничего не знал. Никто ничего не делал…Это — правление генерала Деникина!» (Автор, для точности цитирует Керсновского не по памяти — по рассказу матери — но по Михаилу Хейфецу, «ЦАРЕУБИЙСТВО в 1918 году». Труду, на его взгляд классическому).
31. О, Россия!
— «Правление не Троцкого! Не Троцкого! — продолжал Густав…Встал тяжело. Подошел к гаснувшему камину. Присел перед ним на корточки. Неловко — по медвежьи — развернулся. Снял со стойки пару берёзовых поленьев. Потом ещё пару. Ловко пристроил–уложил их в шуршащих углях. Припечатал щипцами, пошевелив. Приподнялся. Направился вприсядку к креслу… — Ещё из Керсновского, если не устала… Вот тоже о «жутком безлюдье» вокруг трона. О настоящих. О наших настоящих!… Слушай!: «Ошибки короны обсуждались всеми кому не лень, и никому в голову не пришла мысль: а что мог сделать Государь? Передать власть Государственной Думе?…Мы уже знаем, что именно получилось из власти, полученной Думой в марте 1917–го. Подобрать из среды правящего слоя лучших людей? А где они были, вот эти лучшие люди?
Вот, «лучшие люди разорвали оковы проклятого царского» или «проклятого распутинского режима». Было Временное правительство. Была Белая армия Деникина. Была Белая армия Колчака. Была Белая армия Миллера, Юденича, Унгерн—Штернберга. Где во всём этом калейдоскопе хоть один талант, которого Николай II не догадался поставить у власти? Мы ещё можем поспорить о военных талантах наших генералов, невеликие были таланты, прости Господи, но в государственном отношении это была одна сплошная жуткая, стопроцентная бездарь!» (Тот же контрольный ист. В.Д.)…
— Что Керсновский?… — после не долгой паузы, — порывшись в разрозненных закладками блоках листков какой–то рукописи, покоившейся в толстенной папке, — продолжал Густав: — В Новороссийск прибыл из Одессы известный тебе генерал–лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро. Тогда, в 1919 году, числился он ещё командиром казачьего кавалерийского корпуса. Но самого корпуса уже не существовало — два трубача от него остались. И сопровождала генерала лишь только знаменитая тогда по вилле Родэ румынская цыганская капелла Гулеско. Городской бонтон встретил генерала–героя балом маскарадом. Набравшись за торжественным ужином, он потребовал от города… двести миллионов золотом на новый антибольшевистский корпус. А пытаясь объяснить потерю старого, пожаловался на «неблагодарность» своих воинов. Заявив, что, якобы, разрешенные им грабежи ими гражданского населения до того обогатили казаков, что те потеряли всякое желание воевать против жидов–большевиков и разбрелись по своим станицам и куреням…Был скандал. Очень громкий….
Из той же Одессы и туда же в Новороссийск явился и генерал–лейтенант Константин Константинович Мамонтов (правильно Мамантов), тоже бывший командир во истину героического конного корпуса «Вооруженных силах Юга России». Командуя легендарным рейдом по тылам красной армии, разгромив её Южный фронт и, — смертельно угрожая большевистской Москве, — взял Курск. Но не удержал его и вынужден был отступить. Однако, успел в городских церквях, монастырях и у частных лиц собрать и вывезти — вагонами — золотые и серебряные иконные оклады; золото и бесценную злато- и сребротканую парчу и несколько ящиков с драгоценными камнями и золотом…Что бы не досталось большевикам, считалось. И всё ладно да складно обошлось бы, не обратись Константин Константинович для конфиденциальной реализации всех этих предназначавшихся им для «дела спасения России» благоприобретений к разбойничавшему тогда же в том же Новороссийске Аарону Симановичу — бывшему Киевскому а потом Петербургскому ювелиру и деловому человеку. А в 1907–1916гг. — секретарю и «поводырю» Григория Ефимовича Распутина. И хоть как–то поделясь, конечно же, со своими однополчанами. О контактах с Симановичем мало кто из них знал. А вот жлобство командующего «вызвало вал недовольства» верхушки офицерского корпуса». Новый скандал добавил грязи в и без того до нельзя и вовсе уж не ко времени испакощенный имидж Белого войска…
Бездари хватало. И она своё чёрное дело сделала… Когда возвратился из Маньчжурии, встретился с Джунковским–умницей. Помянули в «Славянском базаре» убиенного Сергея, Великого князя — Владимир Фёдорович у него ещё и секретарствовал… Не синекура, не синекура, скажу тебе… Так он, помянув российскую эту бездарь… Покойников не принято всуе поминать… Так он, помянув Его высочество в бытность того московским генерал–губернатором, вспомнил великие победительные жидовские баталии Великого князя (Ты замечала: что у нас ни возьми — всё великое да превеликое). Как тот похвалялся, что в славное своё губернаторство отловил и «почти что вчистую» выкинул из Первопрестольной «всю как есть пархатую шайку–лейку»… Почившему в Бозе 4 февраля 1905 года, — ему, на счастье его, не довелось узнать, как, после московских его викторий пятилетней давности, повели они себя во время позорной Маньчжурской кампании — там число их в солдатской массе куда как было заметно! Тогда, впервые, отмобилизовывалась и «черта оседлости» Юго–запада России. И, естественно, районы компактного традиционного проживания евреев в Восточной Сибири. То и другое — и в те годы — источник социально опасного обывательства, — по выражению Владимира Фёдоровича… Не дожил княже Сергей до беспорядков, а за тем и разбойной анархии демобилизованных солдатских масс, под командою всё тех же московских изгнанников, захвативших в 1905 году Транссиб и придорожные на нём города. Не дожил, тем более, до того, что проделывали евреи тоже, — но уже гражданские, — в обоих столицах в конце того же года. Когда в одной из них Троцкий захватил власть, став председателем городского Совета. А ведь всё это и его, Сергея, августейшая «заслуга»! Или не он выкинул из Москвы десятки тысяч молодых евреев? Главным образом, студентов и учеников старших классов гимназий, реалок и всяческих ремесленных школ, сломав все их надежды на получение образования и достойную жизнь? А ведь именно образование — и только образование — важнейшее и наиглавнейшее традиционное, — из поколения к поколению со времён Книги передающееся, — устремление еврейской массы! Цель существования… Ладно. Из Москвы он её, — массу эту, тогда только Книгою ещё вооруженную, — потеснил. Мудрость не велика. Что дальше? Необоримой динамичности и взрывной энергии массе этой — деться куда? Не в Чёрное же море? В нём — по Витте — топить её не пожелал даже венценосный брат покойного… Возможно, брезгуя. Пусть.
Куда же тогда?
А всё туда же — в гостеприимный и во всеобъятный Sozialismus. В норы. В подполье. В смрад ненависти. И оттуда — в беспощадный террор! В безжалостную и всеразрушающую революцию! В звериную месть! И — ломать–крушить всё, что само ломало и сокрушало их жизнь! Что унижало и оскорбляло… И, — напрямую адресованное и обещанное не очень грамотным и не далёким самодержцам, — «как бешеных крыс передушить последнего царя кишкою последнего попа!»… Эффектно? Nicht var?…
Словом, лепту свою в завершающую стадию процесса обрушения великой империи Великий же князь, в своё время, внёс.
Друг именно и вправду великого немецкого Нойборнского (на Волыни) колониста Юлиуса Кринке, Пётр Аркадьевич Столыпин, — «железной кистью» обуздав политическое насилие, — пресёк на время вместе с ним погромную стихию. Но стихия — будучи уже сильнее — пресекла его жизнь.
…Во второй половине 1914 года Грянула Германская война. Другие «Великие» умники загнали под немецкую шрапнель русскую Гвардию. Пали не за грош, никого не защищая и не собираясь никого побеждать, — миллионы кадровых российских солдат и офицеров. Пал Цвет Нации. Пала невосполнимая Элита народа Русского. Естественным образом, годом позже, русская армия потерпела самое тяжкое поражение в своей истории: утеряны были Польша, западные губернии, большая часть Прибалтики. Раненых было неимоверное, неисчислимое количество. Начался тягчайший, чреватый паникой, «эвакуационно–беженский» период военных действий с более чем тремя с половиной миллионами только зарегистрированных и как–то окормляемых беглецов в обозе. Скандально провалившаяся в глазах западных союзников (на реакцию общества российского плевать было!) Ставка Главковерха Николая Николаевича, тоже, как известно, Великого князя («деспота, мистика, фаталиста» по Григорию Каткову). «Самовлюблённая и злобная бездарь» по Михаилу Васильевичу Алексееву, он кинулась искать «виновных». Естественно, «шпионов». Само собою — немцев и евреев. А последних в полосе фронта и на прифронтовых территориях — а это именно сама «черта оседлости» и была — большинство населения! Самозабвенно, в охотничьем азарте исступлённо выискивали их (кого там ещё искать–то в еврейском крае?). Находили конечно! И… пошло–поехало: по огромному тысячекилометровому фронту начали заседать сотни военных трибуналов. В действо их втянута была тьмя тьмущая юристов и медиков — дворян, преимущественно. Легионы казачьих частей и офицерского корпуса (многие из коих тоже дворяне). Заработали экзекуционные команды…
Тем временем, выбитые вчистую почти что офицерские кадры необходимо было не мешкая заменять новыми. Кем? Гнать на курсы в солдатской массе искали хотя бы мало мальски грамотных. Пришлось брать и евреев. Ещё один слой великих умников решил, что евреи не должны быть офицерами русской армии. Потому жидов–офицеров курсы не выпускали — выпускали только жидов–унтер–офицеров. Унтеров. Фигуру на фронте важнейшую, ключевую!..Тем самым, под русской армией, под Россиею, под Тысячелетней Империей, — и теми же великими умниками, — закладывался «фугас немыслимой разрушительной силы». А великие вновь осознать не изволили: «Серая» солдатская масса озлоблена до крайности всем как есть её начальством. Больше не доверяет никому. В любом командире видит только злейшего ненавистника. Каждый вернувшийся с курсов вновьиспеченный офицер, — бывший свой же солдат–мужик, — он уже отныне, — если русский, — ваше благородие. Значит, смертный враг теперь, как все прочие офицеры! А вот вновь же испечённый унтер, — пусть еврей, — он всё тот же солдат. Наш! Только более грамотный и отныне уважаемый. Друг и брат. Керюха! Керя!
Когда в преддверие переворота организовывались Советы солдатских депутатов, и окопная масса кинулась избрать для представительства в них самых грамотных и уважаемых товарищей своих — предпочтение только другу! Только брату! Керюхе только!… Получилось… евреям, в большинстве своём. И единогласно — всем миром — избранные евреи–унтера повсюду заполнили и возглавили Советы. Возглавили повсюду новую Власть. Власть военную! Но, известно, зло порождает зло. «И когда преступной верхушке этой Власти понадобились надёжные исполнители для организации массового истребления ненавистных ей дворянства, офицерства и вольного казачества, — их искать не надо было: они уже заполнили все структуры власти и активно действовали в них. Они сами. И, — по законам стаи, — бесчисленные родственники их и друзья. В том числе, из переживших в 1915–16 годах трибунальские бесчинства Великого… Николая Николаевича…»
Видение случившегося глазами Маннергейма.
32. Москва.
Дальше, к дому, сопроводили маму, — бывшую уже о-очень, ну, «о-очень на сносях» (или в «тягостях»), — та же Наташа Ольт. Рикард Фальтин — врач, приятель Густава. И, — через границу, «коридором» у Алакуртти, и до конца, до Питера, — трое офицеров–егерей «27» густавова егерского батальона. Егеря распрощались с нею только уже в самом Петрограде. И восвояси отбыли. Не подозревая о скором свиданьице с нею аж в самой Москве.
Подробности пути её домой «карельской ветвью коридора» мне (и отцу тоже) не известны…
Тотчас по возвращению мамы случился, — в связи с неожиданным визитом финских гостей, — не предвидено срочный визит «в терем на стене», где родители повидались с Тишайшим. Во время кратенького маминого отчёта Патриарху она узнала: крах «германской затеи» коминтерна во главе с «опекавшем» её самим председателем реввоенсовета, вызвал в большевистской верхушке истерику и склоку! Как и предполагалось, — с нетерпением(!) и вожделением, — ожидавшихся «верными» его соратниками–товарищами по партии. И началось!… Началось то, о чём намекнули в Берлине! Сперва — с самого болезненного для привыкшего во всём первенствовать Троцкого: — имя его, — годами всенепременно называвшееся всегда прежде в паре с именем вождя № 1, — изгоняется отныне и бесцеремонно из списков членов почётных президиумов всех бесчисленных сборищ!… А ведь только что — накануне 9 октября — газеты ещё заполнены были приторными панегириками Зиновьева, Луначарского и, конечно, главного подхалима и лизозада «Ем. Ярославского» в адрес Льва Давидовича. И в них ещё: «…имя Ваше в сознании народа слишком неразрывно связано с Ленинским!»… Теперь публика эта, — почуяв внезапную перемену ветра, — разбегается, прячась по кабинетам при одном виде идущего по коридору героя всего этого спектакля…О том «что происходит в этих кабинетах за закрытыми дверями страшно подумать!»… Наш герой перепуган на смерть. И в саму кульминацию «антитроцкистской» кампании (начатой за долго до октября), — когда самое время хоть как–то защититься, используя несравненный полемический талант, — он по–тихому из Москвы сбегает!… По слухам — на «заячью охоту»!
Но где в Москве, или даже в огромном подмосковье, спрятаться?!
…И верно. Адриян Васильев, — диакон церкви села Большое Семёновское, что по просёлку от Талдома на Большое Михайловское, — прибыв давеча, донёс Самому: — Видел господина Бронштейна с двумя товарищами во Власовском (в Заболотском, по–прежнему) урочище на замёрзших чащобных топях близ Парсенки — правого притока Дубны!… На острову в ловчей избе с битыми беляками…Не особо чтобы и прятались…Но, по первости, не откликались… Когда же, постучав, приотворил : — «Не обознался ли?» — Да, обознался, ответили!… Но я же охотник. И знаю его давно. Встречались не однажды и на тех же болотах…А вот где нынче квартируют — не знал…
Конечно же, спасённая Патриархом, Осоргиным–младшим и доктором Стаси Фанни Вильнёв ван Менк, благодарная родина, подвиг их (о котором ничего ещё не знала — и слава Богу!) оценила гипотетически, как всегда делать это умела. Так, Преподобного, уже в 1925 году, быстро свела в могилу. Не удосужась в последующем отметить память Его хотя бы грамотным обращением. Как не сделала этого и гонимая постоянно РПЦ… Рядом с пустовавшей его официальной резиденцией у Цветного бульвара, в доме 13, по 3–му Троицкому переулку, жил Виктор Михайлович Васнецов, «выдающийся русский художник», почивший годом позднее Патриарха. Много лет в квартире мастера — музей. Память! А место жительства в Первопрестольной столице России Великого русского Гражданина забыто…
Оценила родина и заслуги перед нею Георгия Михайловича Осоргина–младшего — в 1929 году расстреляла.
Маму с отцом в том же году арестовала, но убить не успела! (Кто знает, быть может даже и не намеревалась убивать. Вожди революционные, — как любые вожди — и повсеместно, загоняя пасомых в мировые революции и бойни, — сами хотели и старались жить долго, хорошо и даже вечно. Для чего тщательно берегли собственное драгоценное здоровье. И такими врачами, как мама, не разбрасывались. В особенности и почему–то Генрих Ягода, крепко зацепившийся за власть шестёрка и порученец Троцкого. Именно он, — по поручению изгнанного из России бывшего ПредРЕВВОЕНСОВЕТА и главкома, ненавидевшего маму и не простившего ей публичного разоблачение его «колонистского холокоста» 1919 года на Украине, — распорядился арестовать родителей моих. И отправил их — разлучив с детьми — то ли в лубянский, то ли в бутырский столичные «садки». На свой, ягодовский, кукан. Где подобных целителей тщательно отбирал, собирал, коллекционировал и консервировал.
На этот раз, однако, получилось у него (или у них) снова по писанию: «Власть полагает. Но располагает–то всё ж таки не она»…Потому и тут оказались они не всесильными. Ночью однажды, на давно отработанном и обкатанном тюремщиками этапном пути, старые верные армейские друзья родителей моих, — теперь об этом можно говорить — под патронажем Сергея Сергеевича Каменева, — мастерски их перехватили. Приветили. И сложной эстафетою отправили к ещё одним, тоже верным и старым, друзьям «нобелевской епархии». В глухой северный посёлочек. В Коми. На один из притоков Северной Двины. Там они и жили, трудясь. А три года спустя (скоро сказка сказывается…) — невероятной «оказией» 1932 года — ещё одна группа старых друзей (и здесь обошлось не без верного Густава Маннергейма) — отправили маму и отца…морской Арктической Экспедицией на Северо–восток Азии. А там — Тихим океаном — в Большой мир…
…Только 21 год спустя, в конце весны 1953, — не без хлопот опального уже Александра Евгеньевича Голованова, — их Большое Госпитальное судно вновь бросило якоря на внешнем Архангельском рейд. И они возвратились домой, в Россию, к нашедшимся детям. До маминой кончины в декабре 1954 года (и до отцовой в июне 1962–го) опекаемые теми же «силами». Присматривавшими, — «глаз не спуская» (как оказалось), — за нами, детьми их. И спасли нас в кромешном пятнадцатилетнем месиве ГУЛАГа.
58. Патриарх.
Так ли, иначе, но в начале ноября 1923 года Вторая мировая война отброшена была ими и их немецкими «партнёрами» на ЦЕЛЫХ 16 ЛЕТ!…Народ русский, Россия были спасены до времени. «Проходное», казалось бы, событие истории. А ведь архитектором спасительных этих усилий был Сам Тишайший — Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин)!
Изо дня в день казнили Его скогтившие Россию мерзавцы. По саму смерть терзали душу. Больной, не молодой уже, Пастырь нашел в себе сил не просто не позволить обнаглевшим разграбителям собираемой и накапливаемой веками церковной благодати, — распродав её, — загнать народы России в очередную бойню. Но, попутно, примерно наказать — пусть не всех — но особенно зарвавшихся злодеев.
В годы становления бесовского наваждения, Светлого этого Человека грязно оклеветывала большевистская верхушка. Ей вторили бесчисленные, подпевавшие ей бессовестные эпигоны, умевшие никогда ни за что не отвечать. Им помогала со дна поднятая вихрями переворотов всяческая сарынь. И даже — не скрыть этого! — собственные свои иуды обвиняли «в безразличии к бедам и страданиям насилуемого большевиками населения». В «оставлении без духовной поддержки собственной паствы». Даже в прямом предательстве народа!
…Пройдут годы. «В начале XXI века глава католической церкви Иоанн Павел II найдёт в себе мужество покаяться за преступления средневековой инквизиции… Сколько же времени должно пройти, — скажет в проповеди своей настоятель монастыря в Горней на Оливах преподобный старец Иероним, — чтобы у кого–то из наших иерархов нашлась сила воли просить прощения у россиян за жизни тех людей, которые были заключены или даже расстреляны хотя–бы по доносам служителей Церкви, презревших тайну исповеди. А то и, — что куда страшнее, — носивших под рясой гэбэшные погоны? За то что семью десятилетиями спустя по кончине Преподобномученика Местоблюстителя Тихона, — ни колеблясь ни мало, — заступит многозаслуженный ветеран этого почтенного ведомства. И станет «приглашать» преданный однажды несчастный народ… обратно в средневековье?…
ТИШАЙШИЙ оказался сильнее самых, казалось бы, сильных «радетелей» из высоких сословий. Оказался самой сильной личностью времени величайшей смуты. Оказался самым мужественным человеком. И из тюремной тиши наглухо замурованной в келье «терема на стене», из заточения, да что там, — уже из рук палачей, — спас Россию.
П о м н и т е, л ю д и, о п о д в и г е Е г о!
П о м н и т е!
Тем более, что был подвиг этот ещё и проявлением величайшего самопожертвования. «Доставшаяся ему в наследство Церковь так и не привнесла в окармливаемое ею общество истинно христианской культуры, сама в ней так и не утвердясь. Самодовольно застыла в безвременье. Страшась «умствования», и возведя косность и невежество в ранг высоких добродетелей, отвергла диалог с народом. Изначально не умея убеждать, утвердилась в единственной и мало почтенной (за то доступной и доходной) ипостаси платного соглядатая на службе «града земного», став послушной ему. «И, не приведи Господь, противоречить и самостоятельно мыслить!».
Вспомним, как в ХV веке Василий 2–й отверг подписанную московским митрополитом Исидором Флорентийскую унию с католичеством, «давшую пусть эфемерную, призрачную возможность хоть какого–то диалога меж западным и восточным христианством». Сам же Исидор «Как предатель православия!» заточён был в Чудов монастырь откуда чудом же спасся, бежав за границу! Столетие спустя, по велению Ивана IV, Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, посмевшего лишь только противоречить царю в прочтении церковного законоучения. Подумать только, что с Тихоном сделали бы в 1923 году новые московские владыки за немыслимо отчаянную и чреватейшую — ан не удайся она, и узнай о ней — попытку ЕГО спасти Россию?!
Василий Иванович Белавин не пастырь мой. Не Патриарх мне. И, конечно же, не Владыка или Предстоятель. Нет у меня — меннонита — по мироосознанию моему ни тех ни других посредников между мною и С о з д а т е л е м. Беседую с Н и м напрямую. О таких уважаемый мною Великий Россиянин говорил близким моим: «человек со мною иной веры, но Господа–то нашего единого!». И многие годы — с1906–го до кончины её — был другом героини моей повести. Кумиром её супруга. И любовью незабвенной Анны Розы Чамберс (Гааз—Окунь), Бабушки, прожившей во истину Мафусаилов век. В годы, когда одно только упоминание о Нём грозило тюрьмою, они никогда не оставляли Его. Не забывали даже на час. По кончине Его чтили неизменно С в е т л у ю п а м я т ь В е л и к о г о С т а р ц а. Я же не уставал рассказывать, когда можно писать о том. В чём–то даже, не достойный, пытаясь подражать им. В Братском лагере (ОЗЕРЛАГ, Иркутская обл., 1948 г.) судьба счастливо — и не напрасно — свела меня с другом детских лет Патриарха — о. Афанасием (в миру, Дмитрием Ивановичем Алексинским; + 1952). Мы дружили. Вместе приняли исповедь ещё одного мученика — Рейнгардта Майера. Тоже меннонита. И с п о в е д ь в е к а! О том мой рассказ «Последний свидетель» (РОДИНА, М, 7/1990. С последовавшим за ним многолетним шлейфом откликов историков и журналистов СМИ планеты в 90–х гг.).
ЧАСТЬ 3. ОТКРОВЕНИЯ.
59. Истоки.
…В то время как дела в Германии шли своей чередою, наш Николай Николаевич, — весь в понятных тревогах и волнениях, — всё ждал и ждал невесть где запропастившуюся посланницу. Надо полагать, что за это время он вдосталь поиздёргался. А ведь ещё не знал ничего — старик, и не узнает никогда, о самом «коридоре». Что есть он, частью которого — на Запад, и обратно в Москву — довелось пройти «Доктору Фани»!
В самый канун Святого Крещения дождался!
…Узнал, что положено ему было. Ужаснулся, конечно: — «Ка–ак же вы та–ак?!». — «А та–а–к вот!… Ведь там, граф, детство моё, там моё девичество прошли… — И расслабившись наконец за время с отъезда… — Дядечка мой, — светлая ему память — Яан Розенфельд, на лыжики поставил меня прежде, чем на ножки встала!… Юрочка, кузен (старший сын его), — завзятый скаут, — с семи–восьми лет брал меня на сборы. А с десяти — даже в походы лыжные. Долгие и дальние, между прочим. И после — с младшей сестрой его, — она 77–го года (он на три года старше), — кузиною моей Лееною (а потом с моими младшими братиками), на настоящие «боевые» вылазки брал. С нею, и с Сашей — Александром, другом их закадычным — мы всю Эстляндию и всю Псковщину лыжнями по расчёркивали!… Александр и Юра в Петербурге учились. В 6–й классической гимназии, что у Чернышова моста… На Рождество друзья Юры (он в нашей компании старейшиной был — авторитетом!) в поместье их розенфельдовском, Мыйзмаа, и в Waldchene — в Лесках у Павлика (кузена тоже). И, не в далеке, в нашем — Редигеров и Шипперов — родном финском гнезде, на мызе Kiefernwald (Сосновый бор), в ночь на 10 августа 1916 года осиротевшем (родителей моих в Финляндии, под Турку, унесла холера; папа многие годы трудился там уездным врачём, и мама с малышами в праздники к нему приезжала). Родителей мамы не знаю. Помню только их лица на дагерротипах в столовой. Ещё помню, — тоже дагерротип, наверно, или уже фотографию, — деда моего Jacoba, Старшего брата Symera Шиппера — того, что похоронен в Нагасаки… Финско–голландская не очень состоятельная семья… Наши Редигеры все почти медики, все друг друга — сын отца — заступали земскими врачами или фельдшерами имений в Финляндии, Эстляндии и на Псковщине — в самих пушкинских местах. Были в Питере ещё Редигеры не нашей веточки. Но тоже дедовы. Эти — чиновники–россияне. Военные. Священнослужители…Но больше военные. Наши Шипперы, — голландские выходцы, — они с покон веков мореходы. Но бывали пустые времена, когда Ревель или Петербург не приглашали. Тогда все они, — Schiffskapitan,ы и судовые механики–инженеры, — нанимались на голландские суда. Кроме финнов в роду были голландцы– Шипперы…Роднились С ними даже…
Вот в этом «треугольнике» родовых имений мы всем скопом собирались на лыжах побегать! Места в губернии и вблизи неё не было, куда бы мы в каникулы не забредали…У Леэны с Александром даже что–то… вроде романа завязывалось… И если бы не сосед… Ну, то другая история…А в конце Рождества, за неделю перед началом занятий, нас с ней отпускали в Петербург. Или во Псков. С моей или её бонной, конечно. К родным… К нашим Редигерам. Или к Розенбергам, К тем, с которыми сперва у них, потом в Манчжурии и в Японии работала…Они жили в доме, где клиника была у них, по Кузнечному,7…Из Ревеля, на неделю, приезжал к ним племянник. Студент тамошнего университета Альфред. Фреди… Ну, и обе кузины — дочери дяди. Компашка собиралась… я Вам скажу — оторви и брось! «Государственная Дума» на ушах…
Тут как раз пристал к компании и будущий жених мой…(…Пережито всё тысячу–тысяч раз…В прошлом всё… А саднит…)…Мишель в те годы успешно оканчивал Медико–хирургическую…(Питерский — он в Ларинской гимназии учился!)…Где–то — классе в пятом — перевели отца его, лесного инженера, в Череповец… Уехал и Мишель. И вернулся потом в академию… Так случилось, часть занятий в адъюнктуре проводил он под руководством Александра Львовича Розенберга…Дядьки моего… А там — мы! Там дядькины дочери — кузины наши!…Взвод братиков моих!…Фред… Этот — затевала! Лидер, хоть и самый младший — совсем мальчишечка ещё. На девятнадцать лет младше был Юрия!… А затеял поездки в Финляндию, к Репиным в Куоккала… И на острова, на этюды…Ну… и сошлись… Не знаю, не помню как со мною, но с мальчиками моими — особенно с «татарчонком», — так папа Александра звал, — Мишель подружился сразу. Быть может, поспособствовала этому близость его ещё с одним молодым человеком — новым земляком его и однокашником по паре лет Череповецкой гимназии, где он стал учиться. Тоже Сашей. Кутеповым. С «Сашенькой», как мы его сразу назвали — расчудесным череповецким юношей! Черепаном… «Ушкуйники мы!» — хвалился…Потом узнала — ушкуйники — разбойники это тамошние, ходившие на «промысел» в ушкуях — в лодках–расшивах таких местных… Там отцы у обоих, в одночасье, коллегами были по лесному ведомству… Инженерствовали. И когда этот симпатичнейший провинциал–ушкуйник, однажды, прикатил к Мише на Рождество — впервые в жизни в столице оказался — они явились оба. И Саша не только вошел тотчас в нашу компанию, но как бы подтолкнул друг к другу наши отношения с Мишелем… Когда же — всей компанией — узнали, что сам знаменитый Елпидифор Васильевич Барсов, — величайший собиратель и исследователь русской северной старины, организатор и секретарь Общества «Древностей российских», — что он ближний родич нашего нового друга–черепана, вовсе ополоумели. И в ближние каникулы всем кагалом поехали знакомиться с ним в Москву, на Шаболовку, в дом, подаренный учёному другом его и почитателем Николаем Ивановичем Пастуховым…
… Бог мой…Было ли всё это?!
…И…Вам–то, Вам зачем я такое рассказываю?…
…В том же доме, — где Юрина гимназия, — располагалось (до 1909 года, кажется, Географическое общество Российской Академии Наук. Мы туда вместе ходили на лекции именитых — и любимых даже — учёных–путешественников. Мы–то с Леэной–кузиной потому, конечно, что мальчишки наши туда рвались. И ещё потому, что мои Шиппера все были моряками. Путешествовали. А дедушки моего младший брат Symen, служивший на Батавском флоте, так он тоже, — в средине прошлого века, — оказался в Японии и даже там погиб… Фреди, правда, — он архитектурным рисунком увлекался. Он же на архитектора учился! Постоянно ходил с мольбертом…В Питере ему, — даже избалованному удивительной красотой его города — ревельцу, — было что смотреть и зарисовывывать. Со своими учениками вместе — он подрабатывал преподаванием рисования. Ну, а Юра с Павликом и Александр — те занимались в обществе всерьёз (Семья Павлика — евагелисты–лютеране — прочила его в пасторы, хотя были среди его предков всякие…Генерал даже…известный). И мечтали о морских исследованиях! О полярных экспедициях…Как многие мальчишки тогда…Отец Александра, Василий Иванович, увлечения мальчиков одобрял и поддерживал. Подпитывал даже: приглашал заниматься в святая святых, в своей домашней библиотеке — надо сказать — обширной для простого горного инженера. Он — из морских артиллеристов. Работал когда–то на Урале. А в Петербурге служил на Обуховском заводе приёмщиком орудий, кажется (или я читала?)…Преподавал в военном училище. — был генералом… Я знакома с ним мало. А вот с мамою «татарчонка», Ольгой Ильиничной, и сестричкой Любочкою, младшей! О! Обе были чудо как милы! Мы все вечера в столовой и в библиотечной, — тесненьких, — у них проводили. У Розенбергов было не так. …Неудобно. Хотя с дочерьми их мы росли и дружили…Родня всё же…И квартирища — дворец! В прятки когда играли — искали часами друг друга!… Но народ там собирался всё медицинский, профессорский, серьёзный…Обстоятельный народ: разговоры разговаривали вовсе про не понятное…Не уютный для нашей братии дом.
… …Мечты свои Юра, Александр и Павлик осуществили — каждый по своему, конечно… «Татарчонок» после трёх лет гимназии окончил в 1894 году Морской кадетский корпус Петра Великого. Ушел на флот. Стал учёным–гидрографом… Стал Александром Васильевичем Колчаком… Да. Да. Тем самым… Исследователем Арктики… Зимовал на Котельном острове с Толлем, Эдуардом Васильевичем, где тот и пропал…Александр Васильевич потом год искал его!… Ходил в дальние экспедиции… Юра, после гимназии, учился в землеустроительном, хотя «Татарчонок» тянул его с собою. Но быть военным Юра не мог: он ведь тоже меннонит! А потом… Потом «события» в Ревеле 1906 года… Того мало — официально отказался призываться! По нашей вере не только убить — оружия в руках держать нельзя! А Заповеди святы… Скандал, конечно. Суд. Юношеский гонор–бред «последнего слова»! Ну и результат: крепость. Акатуй потом даже!… Бабушка Анна Роза вмешалась, спасибо ей! И очутился кузенчик, — кузнечик мой родненький, — у старого Бабушкиного компаньона — у Шустова Ивана Васильевича — аж в Восточной Сибири…В Арктике. О которой мечтал с «татарчонком»…Домечтался…
Павлика отправили в Ригу — в медицину. Стал офтальмологом…Вечность не виделась с ним…
Саша, Сашенька — Александр Павлович… Кутепов, после падения Крыма, с Врангелем эмигрировал. А Фред наш… Этот окончил таки архитектурный. «Политех» его перед самым падением Риги, во время «Великого отступления», эвакуирован был сюда, в Москву, на Рождественку. Отсюд в 1918 году, — успев сдать выпускные экзамены и защитив диплом, — умотал в Германию…
60. Начала.
…А тогда… Ещё в школьные годы ходили мы в каникулах на ботиках и на шлюпках под парусами. По нашему Псковскому «морю» ходили. По Чудскому озеру…Ничуть, к стати, — в частые наши осенние «серые» балтийские шторма, — «не уступающему» морям настоящим под ураганами… И я не какой ни будь пассажиркой–профурсеткою «плавала» — не думайте! А ходила в настоящих «галерных рабах»! Паруса сама ставила. И управлялась с ними сама… А уж зимою–то!… По льду–то на буерах…!
…Так что, особо не ужасайтесь, пожалуйста. Тем более, рядом со мной были друзья…Всем бы таких!…
…И «положение» своё в вояже нынешнем я не забывала ни на минуту. Такое не забывается! Даже перед берлинским поездом «проконсультироваться» успела в Юрьеве с известным Вам Цего фон Мантейфелем, на кафедре его…А прежде, здесь, ночью — даже с моим Благоволиным! Вот так! Полезное с приятным успела сочетать…
— С Александром Васильевичем, и с Кутеповым Вы больше Не встречались?
— Ну как же! В Дайхене, в Манчжурии! Кутепов «Сашенька» был на нашей с Мишелем свадьбе! «Свидетелем по жениху», даже! А Александр Васильевич, тот объявился, вдруг, в Порт Артуре летом 1904!… Вошла утречком в палату заступать дежурить, а он — с койки: — «А–а–а! Кого мы ви–идим?! Доктор Анне—Фанне яви–илась–не запыли–илась!»… Он (да они все — компания наша вся) меня девочкою дразнил так в имении ещё, в Сосновой роще нашей, когда я «в доктора да в пациенты» с куклами играла: «Доктор Анне—Фанне! Доктор Анне—Фанне!». Почему «Анне»?…Так за мною это его «Анне—Фанне» с тех пор и потянулось. И, надо же, прикипело навечно, когда — позднее — японцы в нашем лазарете завелись, — раненые и врачи… «Фа–анне!», «Фа–анни–тян!» — так им нравилось — и все стали меня так, по крестному имени, звать… Саша командовал тогда миноносцем «Сердитым», на котором схватил гнойное воспаление лёгких… Потом откомандировали его (не списав — слёзно просил, чтобы не списывали!) на «22–й Форт» крепости. После падения её лазарет наш отправили в Японию. А его, тяжело больного, — через Америку, — домой, в Россию…У нас лежал он не раз — раненый, и по болезни: он же в Арктике почки угробил!… Того мало — схватил острейший суставный ревматизм…Боли у него были во время приступов страшные! Вообще, он после экспедиции с Толлем стал классическим рецидивным больным. Хроником. Инвалидом, практически. Ему бы, в лучшем случае, в береговой науке остаться. Но, го–онор!: «Морской офице–ер! — и чтоб в тылу-у»?!…Его наши врачи не раз пытались списать…И даже Кондратенко сам — где там!…
…Последний раз на той войне виделись мы в 1904 году 4 декабря. На отпевании и похоронах Мишеля в Порт—Артуре…И тогда же — на прощании с Романом Исидоровичем Кондратенкою…Командовавшем крепостью. Начальником дивизии. Генерал лейтенантом. Погибшем при взрыве «2–го форта»…Они с Мишей в один день погибли…Я рассказывала — тоже при взрыве форта…Только у Миши «форта 9–го»…Состояние, — да и вид, — Александра Васильевича был тогда страшен! И не меня от Мишиной могилы — его тогда надо было в лазарет уносить…
…Через 4 года, в 1908, встретились с ним в Питере, в самоё Рождество — готовили вместе с Густавом документы для легализации нашего «Манчжурского братства»… Несколько раз вместе с Лееной в театрах были…В самый канун 1909 выступал он с Густавом на собрании однополчан в старом здании нашего Военного лазарета по Литейному… Виделись в Питере и в ноябре 1910. Потом ещё…
…Семейная–то жизнь его с самого начала не сложилась. Не удачно очень, по глупому, — говорил сам, и не раз, — женился в Иркутске «по дороге из Якутска в Порт—Артур… Зато Юру хоть повидал!» — вся радость…Словом, не задалась жизнь.
…Жены его не знаю…Слышала — с сыном в Париже где–то…А каким Александр Васильевич человечищем был! …Керсновский в статье своей не прав по отношении Колчака: — Колчак, прежде всего, блестящий учёный, исследователь! При чём, не только в полярной гидрологии, где выше его в России, — да и не только в России, — не было. Он гениальный техник в области приборостроения и обеспечения судовождения! Он, в конце концов, — мне говорили это Бо–ольшие доки, — был единственным у нас специалистом по минной стратегии!…Ну, это…чего не знаю…Ему в науке остаться, где у него было уже громкое имя…Но он У МЕНЯ из тех, «кто не мо–ог иначе!»…Не мо–ог !…Вот, и не мог он отказаться от навязанной, — совершенно ему не свойственной, — трагической роли «Верховного Правителя» саморазрушавшейся империи. И стал тем, кем назначил его Создатель в трагическую годину России, когда «Никто ничего не знал. Никто ничего не делал…». И тут густавовы Керсновский (с Солоневичем) правы абсолютно. Прежде всего, о «мертвящей пустоте возле трона» и о «жутком безлюдье» на вершинах административного аппарата!…И в государственном отношении там была одна сплошная жуткая, стопроцентная бездарь… Историк пишет: «Государь–император был для этого слоя слишком большим джентльменом. Он предполагал, что такими же джентльменами окажутся близкие ему люди, и эти люди, повинуясь долгу присяги, или, по крайней мере, чувству порядочности, отстоят его семейную честь (и, за одно, честь России). Ничего не отстояли. Все предали и продали».
Да что историк?… Пересказать бы Вам, Николай Николаевич, что по тому же поводу говорил один из отцовых родичей — министр начала века…Военный к тому же… Да не возьмусь…
Колчак, — человек чести, — решился заступить, хоть на час, преступно утерянного империей Государя… Только не вздумайте убеждать меня, что Он сам, отречением, предал империю — Его заставили отречься!… А «благодарные» сограждане льют на адмирала потоки грязи… Но придёт время, и в исторической памяти воссияет имя Его…
К монологу Стаси Фанни, — героини моей, которую автор переживает вот уже на пол века, — добавлю: пророчество её осуществилось! Только…не уверенно как то. Как всегда и всё у нас… Конечно же, преодолевая яростное сопротивление наследников его убийц. «Со второй попытки!, — сообщает журнал ПОСЕВ, 7/2002. — российскими патриотами 17 апреля 2002 года в Санкт Петербурге на здании Морского корпуса открыто было «мраморное художественное воплощение облика адмирала. Вдохновенное и точное! Рядом, на чёрном мраморе золотыми буквами в двенадцать строк : Морской корпус В 1894 году окончил АДМИРАЛ КОЛЧАК Александр Васильевич, выдающийся российский полярный исследователь флотоводец 1874 – 1920 ».
Когда предстояло доску открыть выяснилось, что священник из недальнего Николо—Богоявленского морского Собора… прибыть не может. Освещение мемориала и планировавшаяся короткая лития не состоялась… 82 года спустя всё ещё работали приказ-Шифрограмма Ленина: «Шифром. Склянскому: Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром» (Обнаружена в Америке, в архиве Троцкого, позднее, в оригинале, в Российском центре документов новейшей истории: фонд 2, опись 1, дело 24362, лист 1)
…Ещё повидались с ним и в 1913 году, весной — встретились у дядьки. У Эссена Николая Оттовича. С ним, и с Катей — Александра Васильевича сестрой старшей… В 1914, — в июле, кажется, — снова ездили с ним в Ревель. К дядьке опять. Пригласил Александра Васильевича по каким–то их делам…
А вернувшись «убыла» с Драгомировым на «театр». И очутилась сразу в кромешности Вечной Операционной… На похороны Николая Оттовича не вырвалась даже…И «Татарчонка», и Юрочку, — кузнечика моего, — так больше и не увидела… Никогда…
С «Сашенькой»?… С Сашей Кутеповым служили мы вместе всю войну почти… В Галиции. И на Волыни после Горлицы. У Зальфа в Гвардии. И у Дрентельна… В полку…В конце 1917 попрощались…Когда он на Дон уходил… В слезах расстались…Я в истерике — будто с покойником…Ни с кем так…».
61. Секреты.
— Простите, пожалуйста, доктор: — а откуда «Стаси» в Вашем не простом имени?
Да от мамы с папою. Но и от Вас тоже, Николай Николаевич, дорогой! От Вас тоже! Забыли, что в 1913 году в Мюнхене в новый паспорт мне вписали? Забы–ыли! «Мать АНАСТАСИЯ» вписали!… Сами Вы родительское «Стаси» в «Анастасию» растянули в имени моем? Или то, светлой памяти, Елисаветы Феодоровны, покойницы, фантазии — поди, разберись теперь?…Мало того. Вы ведь тогда и с фамилией моею «по своевольничать» изволили-с. Показалось — заметной слишком фамилия Миши покойного: «Де ВИЛЬНЁВ»! Громкой слишком для «миссии». Да ещё и «ван МЕНК»! Вот Вы и урезали «лишнюю», французскую, её часть. «Ай не так?» — как казаки–забайкальцы говорят. А ведь тем память Мишину обидели: Фамилии–то этой, французской, — роду–то (клану–ли?) этому, Вильнёв, — без малого лет эдак тысячу с гаком! Полистайте–ка романы исторические, французские…Всюду, — при упоминании малейшем о знаменитом ли, скандальном ли «Амьенском кардинальском сидении», — прочтёте обязательно и о фортах, и о крепости, и о городке Вильнёв! Даже о переправах, или, тем более, о мостах к нему непременные отсылки… И вот, — по возвращении из Палестины, — живу я с «обиженным» Вами, Николай Николаевич, паспортом. Девичий–то мой, эстляндский, — чухонский, проще, с фамилией моей от родителей Редигер—Шиппер, — его я дома в Tannengeholze своём оставила ещё когда к Мише, невестою, сбегала!… Может, лежит ещё там, где ни будь…И не кому беречь его больше…Только что у кого–то из младших меж бумаг обретается памятью обо мне…
…А супруг мой нынешний, второй, — любить прошу его и жаловать, — Залман Самуилович Додин. Кстати, профессор. Девятый год преподаватель непременный в двух, между прочим, по разным углам Европы «разошедшихся» его университетов. Человек потому предельно занятый. Загруженный обязанностями, — в том числе, на заводах своих. Загруженный заботами. Которые только сам и разрешить может… Так он, граф, моего «ДА» — часа обручения нашего после гибели Миши — ДЕСЯТЬ ЛЕТ, без полутора месяцев, до 19 октября 1914 года ждал, бесценное время на жданки «теряя»…. А почему? Потому, что со мною вместе, годами, час оттягивал когда фамилия Миши — а значит письменная память о нём — из моих бумаг исчезнет навсегда…И всё это время жили мы, — не обижайтесь, Николай Николаевич, по милости Вашей, — будто ещё к одним похоронам покойного готовились…Теперь уже вечным. С «лишней» частью его фамилии…
…Поминать не стоит…Однако…Однако, спрашивается, граф дорогой: для чего тогда стольких теней на плетни свои наводили с именами этими? (Ведь не только с моими, надеюсь?!).
— Доктор, дорогая, поездка–то строго конфиденциальной планировалась! Ну намечалась такой, во всяком случае! Секретной строжайше! Сами знаете, что В. княгиня, по повелению, инкогнито же паломничала!…Государственная нужда тому была. И не я её выдумал… Не Вам не знать. Вы же в курсе…
— В курсе, в курсе! В курсе! Но «конфиденциальность» то — в чём она? В том,
что экипаж «Богатыря» чуть было не узнал «паломницу»?
— Не скажите: о нашей поездке по сейчас никому не известно: охранители её службу свою знали…И Ваше «чуть» обидно…
***
…Для доктора Стаси Фанни ван Менк, главного хирурга русских лазаретов в Белграде и Скопле, Вторая Балканская война заканчивалась, предположительно, в конце ноября 1913 года. И хотя уничтожать и калечить друг друга высокие воюющие стороны перестали, вроде бы, в августе ещё, — койки в курируемых ею больничных учреждениях и персонал уже готовы были к новым пароксизмам славянской солидарности. Вместе с тем, плановые операции расписаны. Распределены по бригадам. При чём, её больные переданы для подготовки надёжнейшему коллеге–терапевту — клиническому ординатору Николаю Александровичу Семашко. (В России он станет комиссаром здравоохранения. А прежде, — с год назад, — приведёт к ней и познакомит с нею репортёра известной на Юге «Киевской мысли» Льва Троцкого — будущего своего хозяина. Как читатель она знала что, как и сам Семашко, тот социалист. С биографией даже. Как врач–диагност — с порога — что параноик он. «Зато» ярый противник шовинизма (потому позволила интервьюировать коллегу). Во время Гражданской войны заезжал в Кременец. Пожелал, — теперь уже не репортёришкой, но Самим Председателем РЕВВОЕНСОВЕТА Республики, — «встретиться на коротке со старой знакомой». А за одно и проконсультироваться у диагноста–провидца. Мама «за занятостью»…послала.
Всезнающий Семён Сергеевич Халатов рассказывал: «Убийца десятков тысяч несчастных протестантов–меннонитов, — просто безнаказанный убийца, — был Троцкий не только лютым её врагом…Не семейные бы традиции доктора и не «гиппократовы обязательства» её — врача — «заказала» бы мерзавца!…Меркадер Рамон дель Рио Эрнандес, — или как его там, — ей не потребовался бы… Наглухо замурованная режимом, намертво повязанная другом–инвалидом (существовавшем только жертвенною её любовью) и судьбами тысяч ещё не прооперированных раненых, она сумела только отправить в Рим и Берлин протоколы о Холокосте на Левобережье. И лишь в 1928 году решилась, — рискуя детьми, с помощью Мюнстерского епископа фон Галена, — организовать Залману (заодно себе, и коллегам его по металлургическому подотделу ЦАГИ — Тевосяну Ивану Тевадросовичу, и АВИАПРОМУ — Андрею Николаевичу Туполеву) командировку в Германию. «Позволила» им всем по прибытии в Берлин разъехаться по интересующих их фирмам и заняться делами. Сама же, — созвав медицинскую элиту чуть ни со всей Европы, — прочла подлинные документы–свидетельства об ауто–дафе на Украине, учинённом в 1919 году Троцким над колонистами–меннонитами.
…И так, с 15–го ноября Стаси Фанни можно, наконец, пошабашить. И — в долгожданный краткосрочный! Ура!
Друг её (мой будущий отец) работал и учился в те дни в Льеже. Они должны были провести вполне заработанный ею одиннадцатью месяцами обеих внутри славянских войн отдых в Финляндии, куда отъехали уже из Москвы Катерина–кузина с Бабушкою. И изготовился отбыть их «варшавянин» Густав. Неделя пролетела в приятных хлопотах, очень редко навещавших маму. Но вот упакованы вещи. Присланы визы и билеты. Цветы заказаны!…
Всё рухнуло вдруг, когда секретной егерской депешею Русской миссии в Баварии её «Высочайше приглашали, — по возможности незамедлительно, — прибыть в Баден—Баден!». На месте оказалось, что «доктор… милостиво включена в свиту… матери Манефы (Какая Манефа ещё?!), срочно следующую…в Палестину!». Вскоре их приняла сама виновница паломнического… экспромта — Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Извинившись, она сообщила, что инкогнито (это было подчёркнуто!) — путешествует по Сербии под сообщённым именем. И направляется теперь под ним же во Святую Землю. Приглашение она подтвердила, «надеясь, что ея с е с т р а ей не откажет…
Что делать?
Можно было, конечно, сказаться больной. Придумать драматические «семейные обстоятельства». Можно было закапризничать, наконец. Такое тоже проходило у мягкой — меж своих — уступчивой по мелочам, много пережившей женщины. Но то было недостойно в их «сестринских» отношениях. Вообще, не для мамы было.
Человек точно знающий цену себе и на службе независимый абсолютно, Стаси Фанни не терпела вмешательств в свою жизнь; в планы свои, тем более! Однако, что она поделать могла, если отношения меж ними так сложились? Ведь именно Великая княгиня, по возвращении Стаси Фанни из Японии, определила счастливо дальнейшую её судьбу немыслимо тёплой беседою после неожиданного «персонального Высочайшего приёма». Повелением, вслед за тем, главноначальствующему над Медико–хирургическою академией, — куда женщин не брали: — «Пригласить (…) операционную сестру госпожу ван Менк Стаси Фанни в качестве приватной слушательницы с именной стипендиею и содержанием». Престижною казённой службой. Судьбоносной учёбой. Не доступной многим соискателям практикою в Ольгинских лазаретах Балтии. Казёнными квартирою по Английской набережной и дачей в Териокках. И, по окончании адъюнктуры, — 10.10.1912 года, — инициированным именным направлением Медико санитарной службою Генерального штаба на командную, — по медицинской части, — должность главного хирурга российских полевых лазаретов на «счастливо подвернувшейся» сутками прежде Первой (пока ещё) Балканской баталии…
Да! Да! И практика у Стаси Фанни в Манчжурии, Порт—Артуре и Японии богатейшей была. Сестринская, правда. И работа (тоже не врачебная ещё!) в операционных Риги, Гельсингфорса, Вииппури, Ревеля и Петербурга аттестована («Высочайше» даже! по достоинству). Наконец, и диплом с «Отличием»!…Но всё это — только при деятельной и заинтересованной поддержке Великой княгини Елисаветы Феодоровны и опекаемых ею больших русских медиков! При, — конечно же, — на фоне достигнутых ею самой первых ЛЕКАРСКИХ успехах. Сперва приведших её к методическому руководству российскими лазаретами «Первой Балканской» (обернувшейся, вскоре… «Второй»). А с августа 1914, — с началом Мировой войны, — ко взятию вершин полевой хирургии. И победе — над собою, в первую очередь! В отчаянных усилиях вытянуть — не сорвавшись — неподъёмную, — чудовищную по напряжению, — работу–каторгу оперирующего хирурга–руководителя… И опять при поддержке искренне благоволившей ей Великой княгини.
62. Провокация.
Стаси Фанни «сдалась», испросив «милости» следования со своим другом. Николай Николаевич Адлерберг познакомил её с составом свиты. Выходило, — в Сербии, и здесь в Баден—Бадене, — «Манефу» сопровождают сами сёстры-Черногорки Анастасия и Милица! Только ли? Или с супругами? Значит… Здесь… Великие князья Николай Николаевич и Пётр Николаевич?… Но их граф Николай Николаевич Адлерберг не назвал. Входила в свиту и княгиня Софья Тарханова, приятельница Царя и подруга Царицы. И совершенно уж фигуры одиозные… — явно и откровенно маскировочного назначения: почти весь «грузинский застольный ареопаг» — князья Нижерадзе, Никошидзе, Дадиани, Эристави, Орбелиани и Амилахвари. Все — отчаянные и знаменитые таблисчири! (Рыцари за столом. Груз.). Они–то зачем «Манефе»?.
…В своё время, востребовала их в Питер вдовствующая Императрица, задумав благое дело — посадить на российский трон любимца Георгия, человека сильного, волевого, решительного. Отчаянного спортсмена–спринтера (пусть даже больного) — взамен безвольного Николая, который (она — мать–умница — сердцем это чувствовала!) погубит Россию. Но Георгий на три года моложе Николая. И при живом брате права на помазание не имеет. Она страстно хотела совершить задуманное, понимая, что в противном случае быть Большой беде! Однако же…Женщина, всё ж таки — она архинаивно решила, что именно записные грузинские застольные рыцари, — умело выгибавшие наваченые груди и вбирая грозные чрева, станут верными исполненителями её плана а потом и слугами Георгия! Но Бог не дал затее (быть может, воистину спасительной!), осуществиться: любимец её — с детства страдавший прогрессировавшим туберкулёзом — в компании тех же самых собутыльников ввязался в Абастумани в тяжелые горные велосипедные гонки. Переусердствовал. Простыл жестоко. Слёг. И 28 июня 1899 года скоропостижно умер…
В мгновение ока эта эпикурействующая рать переметнулась из лагеря вдовствующей Императрицы (премногим его обязав!) в лагерь царствующей… Тем более, конвою своему Царь не доверял. И правильно делал, предчувствуя, что именно им и будет предан. Конвой этот, — «цвет Превеликого Казачьего войска», — немедля по отречении Императора развернулся спиною к Нему. И, — нацепив по верх Георгиевских, за ранее припасенные красные банты, — сдал гражданина Николая Александровича Романова коменданту Временногоправительства. Сдал ненавистникам Его! Врагам. Поспешествовав тем самым …любимцу мамы моей генералу Лавру Георгиевичу Корнилову взять уже бывшего царя и семью его под стражу. Якобы, — а тогда, возможно, веря искренне в это, — «с целью обеспечения безопасности августейшей семьи!»… Обеспечил… C Казаками понятно всё: страшные судьбы Ивана Исаевича Болотникова (1608), Степана Тимофеевича Разина (1671), Емельяна Ивановича Пугачёва (1774), — имя им легион, — известны всем. Вечно на слуху, обыденностью не вопия ни чуть… Но умница–то, Лавр Георгиевич–то? У него что — извечная генеральская дурь обнаружилась? Глупость–тупость состарившегося служаки проявилась? Неизвестно откуда взявшиеся у этого военного интеллигента и изначально порядочнейшего человека… безответственность и, прости Господи, пароксизм…подлости? (Подумать о таком — себя не уважать!)… Или всё же, — «обратно», — казачий корень?… Не понимаю. Не знаю. Вот только…делалось всё так, что бы до Ипатьевского Дома рукой подать оставалось… И наверняка…
…Но, всё же, что это за тайный визит в Палестину, если он «маскировался», — пусть только на балканском этапе его, — таким балаганом, с именами такими кабачно–ресторанными?!… Будто поход в Вилу Родэ.
…Не «просто так», — и не для пиетета, — перечисляю участников «иверийских посиделок», как, — позднее разоткровенничавшись, — назовёт «сербскую часть визита» ещё один участник поездки — генерал Владимир Викторович Орлов (в будущей Гражданской войне начальник контрразведки Антона Ивановича Деникина, а в миссии нынешней — шеф её охраны). Перечисляю из за того, что нигде больше имена эти, в сочетании с именем благодетельницы Стаси Фанни, Великой княгини Елисаветы, никогда не назывались. Ибо прикрывали замышленную августейшими ненавистниками России губительную провокацию! Закончившуюся чем задумано ими было — войною. Теперь уже все европейской. Мировой. С тысячелетним государством нашим (и не только) покончившей.
«Всего–то»…
А задумка, — она в нескончаемом «обдумывании» крестьянского вопроса, — была «конгениальной». В 20–х гг., уже за границею, раскрыл её умница-Амфитеатров Александр Валентинович. «Крестьянину трудно даже просто покинуть общину (по Столыпину) и переселиться на заработки в город — надо было преодолеть много формальных и неформальных препятствий… Но действительно ли среднестатистический мужик страстно мечтал стать фермером–предпринимателем? Ход реформы показал, что скорее нет, чем да. Страстные мечты были о другом. С общинами соседствовали дворянские поместья. И деревенские общества спали и видели, как присвоить их земли себе. Русский крестьянин жил не на западе. Производительность его труда была мизерной (где–то, сам три). Нехватку земли ощущал самым реальным образом. Вдобавок, чувствовал — нехватка растёт. К тому же, русская деревня переживала демографический взрыв. Менее трети прироста населения убывала в города или на освоение целинных и залежных земель (выражения не из хрущёвско–брежневской «ПРАВДЫ» — из думского лексикона начала ХХ века!). Остальная оставалась дома, увеличивая количество претендентов на наделы и… критическую революционную (бунтарскую) массу — и это тотчас после грозных событий начала века! Вот эту вот МАССУ надо было во что бы то ни стало — и немедленно — сократить, перемолов (в буквальном смысле этого слова!)…в окопах. Локальные, — типа Русско–японской, — войны для таких масштабов «размола» не годились. Нужна была бойня всеевропейская хотя бы. За ценою–то русские (да и не русские тоже) хозяева России сроду не стояли! Время подпирало отчаянно. Пожар надо было запалить возможно быстрее». Участники «иверийских посиделок» осени 1913 года этим и были заняты.
А поджог — «освящение» преступления — возложен был ими, понятно, на понятия не имевших об этой затее. В нашем случае, на… ставших уже европейски известными и почитаемыми именитых медиков русских лазаретов на Балканах. По определению, — по природе своей, — лютых ненавистников самых что ни на есть рассправедливейших и даже самых расосвободительнейших войн. Что и требовалось.
И начал исполняться порученный русскому послу в Белграде Николаю Гартвигу сценарий чудовищной (иного определения слову этому не найти) провокации. Высказано было (им, или кем то ещё из окружения его, или «посидельцев»?) кулуарное предположение, что «известного полевого хирурга Стаси Фанни ван Менк в о з м о ж н о побудить выступить на представительном митинге в сербской столице с призывом защитить честь, достоинство, свободу и даже оказавшуюся под угрозой жизнь, — уничижаемых австрийцами и немцами подконтрольных им славянских народов!…». (В. Е. Ламанский. «Записки постороннего». Погибшая Россия. Гранит. Берлин. 1925).
63. Кутепов.
Александр Павлович Кутепов (будучи уже, — после кончины Петра Николаевича Врангеля, — председателем «Русского общевоинского союза») писал: «…Только вмешательство Ирины, дочери В. князя Александра Михайловича (будущей жены Феликса Юсупова), — работавшей с «доктором Фанни» сначала сестрой милосердия в «Маньчжурском братстве», а в 1913 — секретарём её в Белграде, — только вмешательство её пресекло разразившийся было скандал р а с к р ы т и я целей этих «посиделок». (…)
Ирина бросила тогда:
— «Да ей–то, лютеранке, — меннонитке даже!, — ей–то что за интерес до вашего тифлисского «славянства»?! Идиоты!»
Дело, конечно, вовсе не в колываньском происхождении Стаси Фанни.
Не в веровании её. Дело в отношении к шовинистам. Русским ли, немецким ли — любым! Вообще, к провокаторам. Главное, дело в характере её, который уж я‑то знаю отлично! Женщина эта камня на камне не оставила бы от затеи Гартвига или от тех, кто с цепи спустил провокатора!» (А. Кутепов. «Из черновиков». Париж.1929).
(Получается, — по Кутепову:… «Если бы не сорвали её в поездку то…»… Но это очень сильное, и ещё более смелое авторское предположение…)
На деле же ломать затею, — о которой знала из первых рук, — бросилась сама Великая княгиня Елисавета Феодоровна!
Немка. Но «каждой частичкою своего существа русская (говорила она позднее), — может статься более русская, чем многие из русских!». Повторим: через восемьдесят лет причисленная Архиерейским Собором Русской Православной Церкви к лику новомучеников российских…Не немецких.
…В ненастнейшую полночь 12 декабря, броненосный крейсер Балтийского флота «Богатырь» (вот уже год проводящий в Шхерных проливах гидрологические замеры, — между прочим, — по Колчаковской методе!), — приняв на борт «тайную» экспедицию, с которой отправлялся и граф Николай Николаевич Адлерберг, — покинул Салоники. Ни минуты не медля, будто подгонял кто–то, на залитой палубе, да под дождём, тут же перешедшем в ливень, раздалось: «Все наверх!». При сразу же налетевшем шквале, — крепчавшем с каждой минутою, — командир, капитан 2–го ранга Евгений Иванович Криницкий, встретил и приветствовал Великую княгиню. Провёл её под тенты, натянутые над нактоузом главного компаса. И, — в виду тряпкой провисшего гюйса, — дал ей возможность представить маленькой свите новых спутников, прибывших на броненосец из Севастополя эсминцем «Сердитым» двумя часами прежде; то были о. Илларион (в миру Владимир Алексеевич Троицкий, товарищ их по «Маньчжурскому братству»), магистр богословия, архимандрит, без пяти минут профессор Московской Духовной Академии по священному Писанию Нового Завета. Владислава Анджреевич Мельник (впоследствии сподвижник Александра Васильевича Колчака, племянник расстрелянного в Екатиринбурге вместе с Романовыми в 1918 году врача Боткина). И упоминавшийся генерал Орлов.
…Буйствует шторм…Снаружи хляби небесные, разверзшись, топят в беспросветной кипени ливня рангоут с марсами. Поливают мелко дрожащие, «дымящиеся», палубы. Хлещут — в сверкании мигающих огней габаритных прожекторов с гакабортов — по циклопическим надстройкам застывшей глыбы ходовой рубки под «обломком» косо срезанной фок–мачты, по спящим орудийным башням, по поникшим под брезентами пушечным стволам, по кожухам. Фонтанами бьются у комингсов…
…Внутри судна, — куда ведёт их подшкипер с вестовым, — на спар и твиндеках, будто бы успокаивающий полумрак помещений. Уют и нарочитая простота уступленной им каюты судового врача (доктора Павла Ильича Успенского — сокурсника Стаси Фанни по Медико–хирургической!), оставшегося в Салониках. Только не кричащая — вся в резных панелях — помпезность кают–компании. Настороженная тишина в ней. Но и в неё, — приглушенный бесчисленными переборками, отсеками и палубами, — доносится отдалённый но сосредоточенный грозный гул где–то в бездне корабельной утробы работающих и содрогающих идущий крейсер могучих машин. Уют диванов, упирающихся общими спинками в шпангоуты. В мягком свете лампионов и кенкетов под абажурами — усыпляющий уют…А за глухими бортами — невидимые массы бешено несущейся и ревущей воды. Только тёмные пятна редких задраенных иллюминаторов, вальяжным ритмом поперечной качки корабля обсыхающих враз. Разом светлеющих. В них — с пушечным грохотом и волчьим воем отлетающее к корме непроглядье…
…И вновь и вновь тошнотворно медлительный, как кошмар, долгий «взлёт». …Судно будто на дыбы вползает…Вползает…Вползает…Наконец, вползши, зависает в «полёте» гигантской своею железной тяжестью… Замирает… И, — тоже как во сне, — медленно опадает. Обрушивается…Проваливается в пропасть разверзающейся под тяжестью его ревущей пучины…
…А на палубе? На баке, — если преодолеть страх… И если крепко держаться за атлётов–сигнальщиков…Там видно, как взрезая лезвием форштевня летящие навстречу водяные хребты, крейсер, содрогаясь корпусом, проваливается, упруго «ныряя» в их бездонную кипень… И окатываясь горами белесой липкой пены, нёсётся стремительно к невидимому за штормом Югу…
…Стаси Фанни, «высочайше» втянутая в очередное «приключение», переживает вновь все те же знакомые рекламные прелести «великолепного и запоминающегося на всю жизнь приятнейшего морского путешествия…» (так завлекательно сообщалось в раздававшемся пассажирам, — при фантастических дозах разносимой для них дармовой выпивки, — красочном туристическом проспекте новой экспрессной британской межконтинентальной линии). События, что однажды — после японской эпопеи — выпало уже на долю её. Тогда, семью годами прежде, на огромном судне «Эмпресс–оф–Джепен», мотал её чудовищной свирепости девятисуточный ураган в «Тихом» океане по пути из Иокогамы в канадский Ванкувер…
64. Палестина.
…Хмурым, холодным, ветреным утром 16 декабря, — не пытавшись даже (на пути к цели) близко подойти к доброй половине расписанных к посещению, по Одиссее и Илиаде знакомых, греческих портов, — «Богатырь» бросил якоря «в виду» Яффской гавани… Ещё штормило. И белопенные буруны ярились в камнях некогда разрушенных молов…
Здесь видимость таинственности была соблюдена. Но тоже не совсем. Спущенный с палубы на кипящую воду моторный шлюп с «паломниками», — не без урону от тотчас вновь настигшей всех их морской «болезни», прорвавшись меж гигантских гейзеров «взрывавшихся» водоворотов у скальных гряд, — был (под зонтиками) встречен по будничному скромно архимандритом Леонидом (Сенцовым) — главой иерусалимской Русской духовной миссии. И матерью Евфросиньей — послушницею женского монастыря в Горней, подругою младых (дармштадских ещё!) лет В. княгини…
…Далее «паломничество» наших героев во святые места интереса не представляет. Ибо… неделею позднее оно прервалось внезапно и, — конечно же, — без объяснений причин, возвращением Великой княгини на родину…По–видимому, двор узнал о целях поездки Илисаветы Феодоровны. И отозвал её…Но это…в разряде домыслов…Что Стаси Фанни стало известно точно: высокие германские родичи княгини, — прибытие которых в Палестину было обусловлено «проектом», и встретиться с которыми она намеревалась, — …«задержались». (Только осенью 1923 года Стаси Фанни узнала от Вильгельма Иоахима Хеймнитца, что «задержаны они были по немотивированному(!) представлению русского посла в Берлине»). Узнала и то, что не за долго до того, как Великой княгине Елисавете броситься в Сербию а потов в Палестину спасать Европейский мир, Петербург посетил словянский братушка — болгарский царь Фердинанд в параллельной Старому двору попытке мир этот срочно взломать. И уж если не Большой Европейской войной, то ещё одной Балканской наверняка (И это — при ещё не оконченной «2–й Балканской!). Николай Фердинанда не принял. Фердинанд Бросился к Распутину. Распутин, — как нормальный мужик ненавидевший любую войну, — с удовольствием представил Фердинанда Николаю, по определению ненавидевшему всё то что ненавидел и Григорий Ефимович. И Фердинанд, — естественно, понятия ещё не имевший о том, что в 1914 году произойдёт в Сараево, — во свояси возвратился в Софию, где подготовка к будущим Сербским событиям шла уже полным ходом…
Отбывая домой с остальными участниками поездки, Елисавета Феодоровна, — раздраженная и расдосадованная, — тем не менее, пожелала «доктору, жениху её и графу Адлербергу счастливо продолжить поездку по Святым местам». Милостью её они воспользовались. Тем более, что, — как Стаси Фанни и предполагала прежде, — прошедшие дни целиком заполнены были для неё, по рекомендациям Патронессы, операциями в иерусалимских больницах. В том числе, несколькими «показательными», — а значит выматывавшими, — в монастырском госпитале при церкви Августы—Виктории.
И всё же… Всё же…Впечатления от поездки были незабываемыми. И от посещения всему христианскому миру известных и канозированных святых мест Иерусалима и Вифлеема. И от свидания со скромным и мало кому знакомым храмом в Петре Аравийской за Мёртвым морем.
«Виною» тому — инициатива Николая Николаевича, захватившего с собою «семейный путеводитель» — книгу своего отца графа Николая Владимировича «Из Рима в Иерусалим». Написана она глубоко и искренне верующим человеком по следам и по впечатлениям первого его паломничества 1845 года. В 1853 издана. Встречена Россиею тёплыми откликами. Добрыми рецензиями прессы и руководителей Географического общества. Даже высокими оценками собственно Российской Академии Наук и церкви. И до изданного в 1867 на французском языке двухтомника о втором — в 1860 — его путешествии по Ближнему Востоку («En Orient; impressions et reminiscences. Par le comte Nicolas ADLERBERQ», 1867 г.; Библиотека Еврейского университета Иерусалима, каталог, S68 B73) оставалась популярнейшим и постоянно востребуемым пособием–справочником для россиян, отправлявшихся к лону Христовой веры.
Книги эти не просто редки. Нет их уже не только в частных собраниях. Первой нет уже даже в главных библиотеках Европы и именных коллекциях Президентских центров США.
Позволю себе потому процитировать отрывок из неё, относящийся к истории основания упомянутого храма.
«…Не довольствуясь священными воспоминаниями Иерусалима, которые начертаны в глубине души моей, желая ознаменовать чем–ни будь полезным для христианства пребывание моё в святой земле и упрочить выражение благодарности моей к Богу сподобившему меня посетить святыя места земной жизни Спасителя, я просил духовного отца, преосвященного Мелетия, указать мне каким истинно полезным христианским делом мог бы я достигнуть своей цели. Достойный митрополит, обращая внимание моё на бедственное положение своей паствы, указал на селение Керак за Иорданом… в Петре Аравийской… одной из четырнадцати епархий иерусалимского патриаршего престола, состоящей в ведении наместника иерусалимского, патриарха. Простираясь от северной части Мёртвого моря до восточных предместий Аравийской пустыни, она граничит на юг горами Моавитскими до Чёрного моря, заключая в себя и гору Синайскую; далее обращается к южному краю Мёртвого моря, где и оканчивается пределами Вифлеема. В этой обширнейшей епархии осталось одно бедное христианское селение — Керак, некогда большой город и столица царей моавитских, разоренная временем и междоусобными раздорами. Керак был взят и опустошен евреями при Моисее, потом царём иудейским Амасиею, идумеями, измаелитами и, наконец, во время крестовых походов, крестоносцами. Балдуин возобновил его, окружил крепостью, и назвал Кириакополем. Через 40 лет аравитяне, взяв город, истребили мечом всех жителей, кроме православных, которые пользовались там большой свободой и постепенно размножились; они имели церковь во имя св. Георгия Победоносца и при ней двух священников…
В 1834 году местные аравитяне возмутились против паши Мехмеда Али. Ибрагим–паша взял город, разрушил крепость и убил всех возмутившихся против его власти, а православных перевёл в окрестности Иерусалима. Спустя два года им было позволено возвратиться в Керак. Но война и переселение уменьшили число их до двухсот семейств, и у них не было до селе ни церкви, ни священника. Впоследствии, число христиан увеличилось, неименее церкви стало ощутельнее, и сооружение нового храма в этой полудикой и скудной стране оказалось необходимым для поддержания православия; это посвящённое Богу место могло поддерживать, питать тлеющую там искру христианства.
Расположенный против Мёртвого Моря на высоких Горах Маовитских Кириакополь, или как ныне его называют Керак, именуется в св. писании «камнем пустыни» и «градом Моава». Он был родиной Руфи, праматери царя Давида. В Кераке оседлых жителей христиан около 300 семейств.
…Сознавая и вполне разделяя мысль преосвященного Мелетия, в пасхальные дни 1846 года дал я обет послужить церкви Христовой во вверенной его попечению епархии — в том месте, где на дивной горе Бог даровал закон человекам…
…По испрошении Государя Императора…и по соглашению с нашим консулом г. Базили… избрано было удобнейшее место для сооружения церковного здания, которому в 1847 году положено было основание…А 17 июля 1849, в воскресный день, одинокая церковь христианская, сооруженная на земле неверных, освящена во имя св. великомученика и Победоносца Георгия…»
….Две недели посвятили они путешествию к семейному храму Адлербергов за Мёртвое море. Но о том, подробно и обстоятельно, в путевых дневниках Стаси Фанни ван Менк.
65. «Тайны».
…Виноват!…Виноват! — это Николай Николаевич, — забыв прежде спросить. — Но, простите, доктор…Вы как то обращались к супругу своему: «профессор!». Слышал когда–то, как к этому званию его и высокую степень — Вы же сами — присовокупливали… А вот на свои собственные регалии не реагируете. Не откликаетесь даже…Даже на армейские. Даже на службе!… Не надеваете никогда отличий даже на Высочайших соборах. И не подписываетесь даже на важнейших служебных бумагах. Будто не существуют они… Служба, всё же… Закон…Почему?
— Потому, что рождённая равной среди равных, так живу. По Закону!
Или и Вы допускаете возможность ревизовать Моисеевы–ли, Христовы ли святые заповеди под «жизненные обстоятельства»?… Ревизия Их есть ложь… Евангелие от Матфея учит: Иисус советует нам не требовать титулов уважения как раввин или отец. Велит уклоняться от таких названий. Только «брат» и «сестра». Вот и живём в нашей общине семьёю братьев и сестёр… А из носителей чинов всяческих отличительных, да званий, да степеней, — любых отличий, — одно над другим — какая дружная семья?…Да ещё «из любящих друг друга»?
— А Ваш талисман, или амулет?
— Этот? — Она сняла с шеи маленький зелёный мешочек. За ленту вынула из него сверкнувший медовым золотом Знак Офицерского Георгия…Бережно опустила на ладонь… Меж раскрывшимися пальцами вспыхнула белая эмаль лучей креста. Заискрились бриллиантики чёрного орёлика–двоеголовика в золотом кружке по центру ордена… — Да, это действительно мой талисман, сработанный самим великим Агафоном Фаберже. И преподнесенный мне Государём в присутствие мастера.
— Большая честь!… Большая честь!
— Нет, Николай Николаевич! Только прошедшие через руки Его величества Государя знак благодарности! Лишь только Знак благодарности трудом Карла и Агафона за мой труд спасения племянника их Сергея, Мальчика—Прапорщика… С этим условием разрешила себе душою принять это чудное творение великих мастеров… А Серёжа — он был одним из малой гостки счастливцев, выживших в одной из первых атак кавалергардов летом 1914 года почти целиком павшей гвардии…
…Ну, а формальные первопричины… Вообще всё, вызвавшее создание именно вот этого вот экземпляра Знака… Тем более, сопутствовавшие Высочайшим решениям формальности… Это — увольте — не для меня…
— Вот только… почему «орёлик–двоеголовик — по золоту»? — допытывается дотошный Николай Николаевич. — Хотя, конечно, конечно, именно — с орёликом — изделию этому вообще нет цены! (Он, оказывается, и такое знает! Особую въедливость и скрупулёзность собеседника собеседницу не смущает и обидеть не может).
— «Дипломатия» герольдмейстера, наверно. Естественно, уважение и чуткость мастеров–французов к особенностям философии именинницы… —
— Возможно. Но я к тому, что «орёлики» — по золоту, редки чрезвычайно! Их по пальцам руки можно сосчитать. Потому как награждаются ими иноверцы. Для православных же Знак со Змием разящим по красному полю кружка…
— Что же, правы все (Все были не правы: «Доктор Фанни» понятия не имела, что не «для Православных» Змий разящий. Но для всех христиан. Не очень сведущие чиновники департамента геральдики зачислили её — меннонитку — не иначе как только не в… басурмане. Ей было это безразлично — Бог един. Мастера, — лучше всех «знатоков» зная то, что даже Николай Николаевич знал, — с удовольствием смолчали) —
— Что ж, за исповедь спасибо, доктор, дорогая!…
— Спасибо и Вам, дорогой Николай Николаевич, что выслушать не поленились…Не знаю, как с исповедями… Но выслушивать их некому теперь…
— Помилуйте, голубушка, доктор! Такое старику выпало счастье: в кои то веки раз — вот так вот откровенно, — да ещё и Zwischen fur Augen, как немцы говорят, — побеседовать с Вами!…
66. Юг.
…Простите, пожалуйста… Услыхал я краем уха о Вашей, в ноябре 1917 года, «поездке на Юг»… С покойным ныне Михаилом Васильевичем (Алексеевым)…Любопытно очень… правду о ней услышать. От Вас — свидетельницы такой!… Всякое ведь болтали…
— Вам — правду? Да о тех, которые Вам интересны?… Так их нет уже… И особой «правды» нет тоже. Кроме, конечно, правды великого мужества и отваги Первых… Знаю, знаю о чём Вы хотите услышать!.. Так вот: никаких недомолвок между Алексеевым и Лавром Георгиевичем (Корниловым) не было и быть не могло! И «предубеждений» никаких. И разногласий. А уж как хотели того всяческие интересанты и похоронщики. Какие сплетни о том ни разводили… Неужто не понятно: святые люди эти одно великое и не подъёмное дело начинали! Всяк, конечно, по своему. Иначе как? Оба боевые генералы. Оба отвоевавшие по две войны. Несчастную, в том числе, на Востоке, которая ох как не многому их научила! Только один потом, в последней, управлял миллионными армиями и распоряжался миллионными бюджетами, не мараясь о политику. Другой из рукопашных боёв не выходил. Как могли они мыслить и поступать одинаково в той обстановке, что тогда складывалась?…
Знаю их с 1909 года, когда поднимали «братство». Знались домами. С Алексеевым была, как с отцом. Как с дедом даже. С Наташей, Лавра Георгиевича дочкой, не просто работали вместе — подругами не разлей вода были!… Корнилова любила. Боготворила. И вечно буду любить и боготворить. Потому наверно, что любил его и боготворил как учителя и мудреца Густав. Ведь именно Лавр Георгиевич, в Генштабе ещё, задумал и подготовил Восточную экспедицию Маннергейма. И на подвиг этот научный сам его проводил! Калмык, он лучше кого бы то ни было понимал, что даст научный аспект этого разведочного вояжа в знании истории и культуры не только финно- угорских, но и народа Корнилова. Исторической судьбою которых сумел заинтересовать своего адъюнкта–чухонца… Безусловно, за Корниловым, как за легендарно храбрым и блестяще образованным офицером, шли самые молодые — за кем ещё им, — гимназистам да студентам, или тем же желторотым юнкерам и корнетам, — за кем им было идти тогда если не за своим кумиром?! А за Алексеевым, вождём русской армии на такой Мировой войне, — за мудрецом, — старики, естественно. Старший офицерский костяк добровольцев!…И уж как не терпелось кому–то посеять раздоры меж ними… Какие тогда грязные байки ни распускали?…Что до формального акта Государева ареста по возвращении его из ставки… Не Сам ли Государь сделал такое возможным? (Это мои бабьи мысли… Но вот слова Лавра Георгиевича: «Покончил самоубийством с собою и с империею!»… Бог им судья…Вечная память. Земля пухом… Сколь накручено было, наверчено было вокруг взаимоотношений их, хотя бы, с казачеством?…
…Казачество… Ох, казаки–казаки!…Что ж, было с казаками не просто. Не просто всегда, к стати. Не просто во всю не простую российскую историю… Казачество — оно конечно, великая сила. Общественная…Социальная точнее… Воинская скорее всего. Вторая Армия! Да лихая…Однако, только когда есть над нею, над армией этой, где–то «Там», — хоть бы невесть где, — какая никакая Длань. Десница. Управа. Царь, тот же!…Ну, словом, над её силою — Силища! Когда — добрая для неё, когда — лютая и беспощадная. Повелеть она, в одночасье, может отличившимся — без счёту — бочонков «зелена вина» выкатить на потеху и веселье, без счёту цельных быков на копьях над куренными кострами зажарить. А когда может и покарать. Люто даже. К примеру, девятистам «зашалившимся» молодчикам враз головы на плахах по оттяпать. И, на «десерт», гирляндами вкруг Кремля по развешать!
А нет той силы?… Ну, тогда казачество — это болотниковская, разинская или даже пугачёвская вольница. И, — того хуже, — «орёлики» Мазепы, Пилипа Орлика или проходимца — «кошевого атамана» Гордиенки. Которые своих не просыхавших сечевиков продали они сперва шведам. А вслед за тем подложили под «Паньство крымское», под хана. Дружба с королём шведским кончилась свальным позорным бегством и, по дороге, грабежом русских провинций. А вот с ханом…Тотчас, — в 1711 году, — вместе с татарами, казаки пошли в набег на…Украину. И, — хватая без счёта на продажу беззащитных украинских крестьян, — превратились в бандитов. В ханских сатрапов… Продолжалось всё пока не взялась за предателей Екатерина Великая — пока не занеслась над ними всё та же Длань. Всё та же Десница карающая… Да что говорить!… Не «за веру, царя и отечество!» у неё на уме. А «сарынь на кичку»!… Вот… Не такое ли оно и было тогда, в ноябре 1917–го, вкруг Новочеркасска, в смуту?!…А ведь правил там и Алексей Максимович Каледин, Донской первый выборный атаман… На Германской водил он казачьи сотни в сплошной пулемётный огонь! Под стальной «накров» германской шрапнели! На австрийские «железные» кавалерийские лавы!… Владел безраздельно идущими на смерть людьми и всегда побеждал — отважный и прямой человек! Казачий вождь нашего времени!…Именно о нём мечтал, и его именно прочил Алексеев в руководители войска Донского! На него ставил, надеясь… И что? В тамошнем организованном полнейшем развале, — что во сто крат страшнее был любой вольницы, — что оставалось ему?…Подумать только: как же растеряться в этом зыбучем болоте нужно было? Как остро ощутить бездну беспомощности своей, чтобы такому цельному и сильному воину — Каледину — руки на себя наложить, приложив к виску… дамский Браунинг?!…Тут, правда, красные «помогли»: двинули орды свои на Дон! И донцы, прежде не пожелавшие объединяться с добровольцами за пределами своей земли, бросились к Деникину!…Да поздно…
И всё же… Всё же… Перед самой кончиной своей Алексеев сумел организовать и направить новорожденное патриотическое Движение. «Белое». А Корнилов — возглавить его!…Не вина Лавра Георгиевича, что 31 марта, по утру, прилетела по нём смерть… Она ведь не спрашивает. Но…То не перст ли Божий был? Перст. И дело его попало действительно из… огня да в… полынью! Из рук человека огненного темперамента и железной хватки — в руки холодные… В холодную душу… (Не о том ли писал Керсновский?!)… И потерпело поражение. Ложь, демагогия и российская тупость пересилили Святое Дело. Значит, всё зря? Нет, не зря! Не было бы Его вовсе, — Дела этого, — чем тогда оправдалось бы наше поколение «Великой России» перед потомками?…Ничем.
…Да, да, — о покойном так не гоже. Да и не злая я…Только… сколько же светлых, святых сколько судеб загублено было? Поколение целиком!… Знаю, говорю потому, что оно и вот через эти вот руки прошло, кровью умытое…
…Само собою, обязанности свои «медико–санитарные» я в Новочеркасске исполнила.
И ещё…наплакалась всласть, снова повидавшись и попрощавшись снова с моим Сашенькой… С Александром Павловичем… Со своей Наташенькой…
Возвратилась теперь уже через фронт! Напрямую!… Встретили. Проводили до заветного разъезда, где с моим поездом ждал муж. Впереди — ставшей родной Волынь. Кременец впереди. А с января 1918 и по 1 марта — киевское ЧК. Потом Гренер. И снова Кременец…Раненых спасать.
А где–то на Юге родные люди пытаются спасти Россию… Господи!…
67. Екатеринодар.
Спустя год, осенью 1918–го, — снова через фронт, точнее, над фронтами, но снова с приключениями, — вырвались с супругом в Екатеринодар, попрощаться с покойным уже Михаилом Васильевичем Алексеевым. Во время получасовых сборов друзья успели посчитать нас начисто сошедшими с ума. «Туда?! И снова через фронт? — очередная Авантюра мадам!?»…Но мы должны были, мы обязаны были быть на Его похоронах — с Ним уходила часть наших сердец… И мы несли Ему последние пожелания светлой памяти и земли пухом от тысяч лежавших у нас бывших его солдат и офицеров, которые помнили Его и чтили…В каком–то смысле наше решение — вправду было авантюра. Хотя бы потому, что о времени и месте похорон узнали из… вольного пересказа (из сплетни, значит) «секретного» телеграфного донесения штаба за не полных трое суток. И рассчитывать могли только на исправность базирующихся у нас под Кременцом с лета 1916 года, и постоянно ремонтируемых там, французских «аппаратов» Международного Красного Креста. Наши лётчики, в основном бывшие русские офицеры (остальные французы — все служащие Фармана), были опытны. Вышколены службой. Надёжны — знала по своим экстренным полётам с ними примерно с того же времени…
По прямой — чрез Николаев — до Краснодара около 1300 вёрст. Что–то 30 часов лёту. По трассе — площадки фирмы, ремонт, горючее. По самолёту с опознавательными знаками международной организации тогда никто ещё (предположительно) не стрелял. Даже озверевшая комиссарщина… Выдюжим…Если выдюжит всё остальное. В основном, зарекомендовавшая надёжность экстерриториальности действий «Красного Креста». Прочее — от лукавого, и думать о том перед дорогой не стоило: выносило же столько раз!… Живы вот!… К моменту, когда у нас всё решилось, механики залили горючим, разместили между плоскостями и закрепили там запасные бачки. Тотчас нас «принял» пилот, бывший штабс–капитан, Иван Степанович Панкратов. С ним не однажды куда только не летала я по вызовам армейских штабов…
Добрались. Успели…
…«Маленький Париж» — Краснодар, столица Кубани, — после Кременецкой глуши и военного убожества, — выглядел воистину Парижем. Первым делом поклонились памятнику Екатерины II на Крепостной площади. Он стоял так же гордо, как в Петербурге у Александринского театра. Попросили извозчика найти контору «Красного Креста». Представившись там, узнали нужный адрес, и, — о чудо, — на Ришельевской застали худенькую и по прежнему молодую Наталью Лавровну Шапрон дю Лоре, дочь генерала Лавра Георгиевича Корнилова… С первых дней возникновения «Маньчжурского братства» Наташа — подруга моя. Она рассказывает, — в слезах, — грустную историю (после пересказа мамой её рассказа все смешалось в бедной моей голове — её, мамы, рассказы, мамин пересказ рассказа Натальи Лавровны, чьи то другие рассказы–свидетельства — то ли услышанные, то ли прочтённые когда–то…): «Это было во время штурма Екатеринодара тридцать первого марта восемнадцатого года…Наши перешли Кубань под Елизаветинской и пошли атакой через окраины к Кожевенным заводам и Сенному рынку… Генерал Эрдели обошел с конницей город с севера…Уже по Кузнечной жители, встречая армию–освободительницу, спешили выставить столы с яствами и вином… Вдруг, шальной снаряд попадает в штабную хату и убивает папу… Кто–то забежал ко мне — Господи прости: четверть часа назад убит Лавр Георгиевич Корнилов!… Командование принимает Деникин… Начинается общее отступление!.. Тело папы взяли с собой… «В станице Елизаветинской, — вошли в курень, куда привезли папу… Ставни закрыты. Он лежит со скрещёнными руками на груди. Не высокий. Скуластый. Мой «калмык». В ладонях свеча зажата горящая…»
«…Вода греется…
Налили воды в таз. Переставили свечу в подсвечник. Раздели его. Он весь в крови, повыпачкан… Мы омыли его, вытерли. Принесли бельё. Внесли его золотые часы и золотой кортик… Надели на него всё…»
«Вам сказали, что это генерал Корнилов? — обратился его адъютант генерал Лисевицкий к казачкам. — Вот вы моете генерала Корнилова, — знайте: кто из вас раскроет рот и произнесёт это имя пока мы не уйдём из станицы, те будут расстреляны. Ни слова о нём никто, нигде! Всё! Ни от кого не слыхали, и никто не знает!»
«Поехали дорогой вперёд с нашими отступавшими. Повезли его. В немецкой колонии Alter Liсhtenfeld выкопали могилу. Похоронили его. Затоптали лошадьми, заровняли, завалили соломой, кизяком… Никто не должен был знать где он закопан…Только несколько высших офицеров получили чертёж–карту захоронения Белого Вождя». (С тем чтобы кто–то, пусть последний, вернулся когда ни будь и указал место… Никто не вернулся — все умерли в эмиграции. В.Д.)
Когда в Краснодар ворвались красные, начались повальные поиски тела Корнилова. В городе, в Кубанских плавнях, в ЧК были расстреляны сотни, якобы злостно молчавших свидетелей–соседей злосчастной хаты. Разъярённые сговором казаков, пришлые и местные швондеры, — привязав за ноги к поводьям, — лошадьми таскали трупы вырытых из могил солдат по городским улицам и площадям. Тоже в отместку за всеобщее молчание. А молчание было настолько глухим, что беснующаяся комиссарщина не узнала даже о какой–то колонии. Не только о том, что там кто–то захоронен… Молчали немецкие жители Alter Lichtenfeld,а, видевшие страшную сцену «калмыцких» похорон тела Лавра Георгиевича.
(После беловежского убийства Великой Страны в декабре 1991 года, дети и внуки покойных хранителей тех секретных карт–чертежей, рассказали о них. Никому, однако, не показав. Рассказы эти попали в СМИ. Только тогда чудом выжившие старухи–казачки, 31 марта 1918 года обмывавшие своего погибшего Вождя, раскрыли рты. Можно ли не восхищаться таким народом? Можно ли не уважать его?).
Судьба генерала Алексеева была милостива к нему: умер шестидесятилетний патриарх в собственной постели, что тогда удавалось не многим. Умер достойно, прожив не простую и не лёгкую жизнь в вовсе уж не легкий и не простой век. Оставив даже заметный и яркий след в достаточно бледной и в совсем не доброй к России истории. И хоронили его тоже достойно, когда такое можно считать чудом. Родители мои встретились с Михаилом Васильевичем в величественном Александро—Невском соборе на отпевании его. И в молитвах своих передали ему всё то, с чем явились. Что в скорби похорон доброго осталось на сердцах у надолго расстававшихся друзей… И после встречи в уютной квартирке по Ришельевской и двух дневное общение в ней с Наташей и, ни на час не оставлявшим их, верным другом и товарищем Стаси Фанни — Александром Павловичем Кутеповым. Только десятилетие спустя встретятся они в вестфальском Мюнстере у преподобного фон Галена…
…Но свидетели происходившего твердили, что боль оставило неизгладимую увиденное на Екатерининской…
«Да, главная улица забита была народом. Народ на тротуарах, в окнах, народ на балконах. Народ на крышах, на фонарях, на телеграфных столбах — все жаждали увидеть покойного. Но все — только зрители. Похороны — только на плечах армии. Не спроста пьяные офицеры жаловались: Участь нам досталась горькая — нести самый тяжелый крест и погибнуть! Народ, россияне, вроде не при чём…» Мало того:
«О Боже, святый, всеблагий, бесконечный, Услыши молитву мою». Услыши меня, мой заступник предвечный, Пошли мне погибель в бою! Смертельную пулю пошли мне навстречу, Ведь благость безмерна твоя! Скорей меня кинь ты в кровавую сечу, Чтоб в ней успокоился я! На родину нашу нам нету дороги, Народ же на нас же восстал, Для нас сколотил погребальные дроги И грязью нас всех забросал…»«То, — прочтя вслух эти скорбные строки объяснял нам, сжав кулаки, Александр Павлович Кутепов, — кем–то из офицеров написанная молитва, текст которой — в нагрудном кармашке каждого нашего воина!… И с таким настроением идут они в бой за спасение России от скверны!…»
«По всей Екатерининской улице от самого Александро—Невского собора — шпалеры войск… Странная армия! Как она одета? В лафете с гробом усопшего вся упряжка офицерская, вся прислуга, все ездовые — офицеры. Целые шеренги пехоты — офицеры разных родов оружия: сапёры, артиллеристы, пластуны, моряки. На них трижды лицованные гимнастёрки, старые белые и цветные рубахи, сапоги, краги, ботинки, обмотки. Только винтовки русские. А вокруг, в городе, невиданная спекуляция, открытый откровенный торг драгоценностями. С аукционов молодые сытые жеребцы несут, похваляясь, бутылки шампанского за 3450 рублей, пять фунтов рафинада за 150, молочных поросят за 2745, серебряные самовары — один даже подарок Великого князя Михаила Николаевича; облетевшая столики ресторанчика после своего номера актрисочка собирает на тарелочку три тысячи… Заманивают друг друга на какие–то платные курсы… Тучами налетают гастролёры… Открывают съезды–ловушки… Продают подворья. Дачи продают у моря в Геленджике. Заработала машина винокурения. И всё — в руки шлюх и в карманы мошенников, пережидающих момент… Едва в шесть утра подкатывают первые трамваи, толпы свободных молодых спекулянтов забрасывают вагоны чувалами, корзинами, вёдрами и рвутся на базары захватить по любой цене всё, что выставят трудяги–казаки на прилавки: хлеб, молоко, сыр, мясо, рыбу, чтобы часом позже перепродать всё работающему населению. От армии — защищающей всю эту мерзость бегут. К нам не идут. А самой армии — ничего, ни гроша… И всё это — за каких–то несколько недель после гибели Лавра Георгиевича. Прежде покончившего с тем же непотребством в тылу за пару суток…»
У не имевшего ни на что права Александра Павловича скулы свело от гнева….Бросил, разъяренный, маме: — «А вот у Троцкого за спиной его армии и право на всё — и ни одного кровососа! Потому она и бьёт нашу, — голодная, нагая и босая — без британских краг, без американских ботинок и французских сапог… Кровососов хватало бы и у вас. Только там с ними не церемонятся. Как со всякой пакостью не церемонился сам я прежде! В том же Новороссийске. Потому, верно, что там было чрезвычайное положение…»
— Либерал ты говённый, — в сердцах резюмировала мама. — А здесь у вас сейчас, что — не чрезвычайное?… Скажи просто: «Старею»
Не лучшая тема, не лучшее настроение перед расставанием одинаково мыслящих друзей.
68. Восвоясех.
В который раз по стариковски вдосталь по наужасавшись и по на ахавши по поводу Псковских, Эстляндских да германских приключений Стаси Фанни, Николай Николаевич изготовился к отбытию восвояси. Отстоял с московской роднёю праздничные службы в Храмах Богоявления в Елохове и у родного Николы Обыденного. По дороге меж ними прочувствовав сокрушительную крепость крещенских морозов, давно не виданную на Москве её аборигенами. На посиделках перед дорогою пожелал «от сердца» благоденствия и покоя семье Кошонкиных по Соломенной сторожке, 3, в Петровско—Разумовском, в котором терпеливо ожидал путешественницу. Дому Анны Розы Гааз в Доброслободском, 6, где распрощался с «доктором Фанни». И с миром отбыл к своим, на Украину.
…А сутки спустя, всё той же лютой и метельной январской ночью, в занесенные снегом старинные резные двери особнячка по тому же Доброслободскому постучался «новый» гость… Карл Густав со своими егерями. Но были он героями совсем другой истории.
Лишь только позволю себе напомнить, что у этого гостя «доктора Фанни», появившегося в Москве тотчас по смерти Ленина, возникли проблемы. Родители мои поняли одно: сами они их не разрешат. Тогда кто? В какой срок — время подпирало отчаянно! Вот тогда Бабушка и посоветовала маме вновь побеспокоить «своего Американца» (Во время знакомства их за океаном в 1906 году Архиерея Тихона Задонского — профессора на кафедре Богословия в Северо—Американских Соединённых Штатах, там же разыскавшего маму и тогда же познакомившегося с нею). Теперь же Патриарха.
Преподобный принял родителей моих в монастырском уединении своём, в Тереме на Стене Свято Даниловского монастыря, очень тепло и радушно, радости не скрывая от их прихода.…По домашнему, как всегда, угощал чаем с любимым мамою особенным каким то вишнёвым вареньем, усадив за такой знакомый столик свой в трапезной келье…
Мама кратко осведомила гостеприимного Хозяина о своём «Ноябрьском путешествии». О его результатах. Выслушала краткую же оценку его. Благодарность — себе, и тёплые слова в адрес «Истинного россиянина!» (Осоргина–младшего). Перешла ко дню сегодняшнему.
Сообщение о «прибытии» в Москву не обычного Гостя Патриарх принял вроде бы спокойно. Только, рассказывала мама, будто повеселел. Засветился. Был явно и счастливо горд неординарным Его поступком. Потому, верно, сетования мамы «о неоднозначности религиозной принадлежности сестры и её избранника» пропустил как бы мимо ушей. Бросив, глубоко и облегчённо вздохнув: — «Мы с тобою, Фанечка, тоже разных религий дети. Однако оба вместе такое таинство недавно разрешили, которому, возможно, аналогов нет даже в драме нашего времени… А Ваши с Катериной Васильевною заботы…Их мы решим тоже по времени. Тем более оба христиане Оне…»
Решил, Царства Ему Небесного!
В украинском доме Николая Николаевича как будто всё в порядке… Но кругом–то было как прежде — во время и после Гражданской войны. А в чём то страшней.
Местечковая комиссарщина свирепствовала на Волыни до весны 1927 года. Меж тем, в преддверии начала сплошной коллективизации, уже завершалась повсеместная кампания ликвидации этой большевистской вольницы массовыми её… отстрелами. И то: куда–то надо было девать расплодившуюся до безобразия погань, десятилетие набивавшее руку вселенским грабежом и разбоем. К тому же, — и изначально и в новом своём естестве, — вообще ни на что полезное не пригодную. По Алексею Толстому («Хождение по мукам») одно оставалось новой власти: — «в овраги её, вольницу, и — пулемётами!». Так, примерно, три–четыре года оно — вкруг Кременца (да и не только) — и практиковалось.
Соседи–колонисты и поселяне навсегда запомнили что эта «вольница» проделывала с их стариками в «заповедных» лесах и на фольварках Волыни. И счастлива была собственными глазами увидеть в тех же Гутенских чащобах, «пусть менее впечатляющие», сцены начала процесса возмездия палачам…
Часть 4. ДОРОГИ.
69. Крушение.
В самом начале 1929 года мама и отец мои, — уже в Москве, где с середины 1922–го года жили и работали, — оказией узнали о лично их касавшейся трагедии на Украине — о жесточайшем раскулачивании–расправе над близкой им семьёю нойборнского колониста Юлиуса Кринке. Оставив нас с братом, — ему 14, мне 5 лет, — на попечение соседям (полагая, что на несколько суток) тотчас сорвались. И бросились на помощь друзьям. Между прочим, на помощ поминаемому российскими и зарубежными справочникам и агрономическими учебниками Хлеборобу. Другу и советнику Петра Аркадьевича Столыпина. Потомку древней Баварской крестьянской династии. Наследник которой Ота Кринке 1–й, — швейцарский мушкетёрский капитан, — приглашен был со своей ротою Великим князем Иоанном III-м в Московию тотчас после страшной беды — московского пожара 1493 года, когда город сгорел до тла и сгорело множество его насельников.. Надо было заселять Московский посад вновь, вновь застраивать и теперь уже крепко беречь. Потомок Оты, офицер Потёмкинских войск, — после первых приездов на присоединённую к Империи Украину колонистов–немцев и голландцев и поселения их на чернозёмах Волыни, — вспомнил своих крестьянских предков и решил вернуться к хлеборобству. Бил челом Генерал—Фельдмаршалу Светлейшему князю о положенной ему — герою и инвалиду — земле (землице, наверно). Торжественно получил её. И уже в 1785 году осел на большом собственном фольварке. А спустя 129 лет, — с началом Мировой а потом и в Гражданской войне, стала семья Кринке одной из многих сотен колонистских семей, добровольно и самоотверженно трудившихся в огромном госпитальном «хозяйстве» «Доктора Фанни». Трудившихся героически — иным словом не означить, не оценить труд людей, бескорыстно работавших Именем Спасителя чёрными санитарами во фронтовых операционных для тяжелых больных (большого воображения не надо, чтобы представить их «атмосферу»!). И единственных тогда, кто ухаживал за многими тысячами раненых российских солдат и офицеров и больных из населения во времена годами(!) свирепствовавших повальных тифозных и холерных эпидемий! Одним словом — меннонитов… По вере своей права не имевшие прикасаться к оружию, они, — не участвуя в боевых действиях, — работали во всех благотворительных учреждений военных лихолетий. На работах особенно трудных, тяжелых и опасных (на которые не шли, на которые не соглашались другие, даже военно мобилизованные!). И не только никогда не принимали за него положенного им военными законами вознаграждения. Но все годы своей службы у мамы регулярно, огромными своими пароконными фурами, — как милостыню, Христа ради, — завозили на больничные кухни и склады по две а то и по три десятины от всего, что тяжким трудом добывали в хозяйствах. Творили не понятную их соседям–христианам, но…иноверцам, благодать. Короче говоря, делились всем, чем только можно было тогда накормить, — и тем спасти, — многотысячное голодающее население армейских госпиталей и лазаретов. За что, естественно, впоследствии благодарной комиссаро–большевистской властью подло и сурово преследовались. Но, не страшась, сопротивлялись ей. Мирно пока. И, — понимая, что мира никогда не будет, мирно же, но настойчиво, — годами добивались освобождения — разрешения эмиграци.
В 1926 году, — тотчас после очередного массового раскулачивания, по просту, нового ограбления и новых арестов, — терпение самой терпеливой на планете общины кончилось. С подачи московских коллег и друзей «Доктора Фанни» Меннонитский Хлеборобский Союз организовал в Москве, в клубе бывшего завода Михельсона (уже имени Владимира Ильича) международную конференцию. Освистал на её заседании окончательно охамевшего оратора Губельмана (по кличке «Ем. Ярославский»). И, — «попросив» из зала с помощью слушателей–рабочих рыдавшего, впавшего в шумную истерику, пахана «воинствующих безбожников», — потребовал у красной власти свободу религии. Открытия регулярного импорта (или издания) Библии и даже права на эмиграцию. Мало того, при материальной поддержке меннонитской Общины Старой Немецкой слободы Москвы (где первое слово всё ещё принадлежало старейшине её Анне Розе Гааз) организован был приезд в столицу и демонстрация тысяч верующих. Такого афронта от мирной, постоянно мочавшей и всегда послушной секты трудоголиков большевики не испытывали со времён вооруженного Кронштадского восстания! Резонанс событий был настолько велик, что власти благоразумно капитулировали. И «совершилось чудо!»: в том же году более шести тысячам менонитов разрешено было уехать в Германию. Естественно же, у них отобрано было всё имущество…Но…
Казалось, власть, — пограбив, — одумалась. Оставила в покое своих истинных кормильцев…
…Ан нет! Этих святых людей вновь убивают, вновь грабят и даже угоняют на восток. На смерть!
Теперь известно всем, чем отвечала власть большевиков на попытки помочь обречённым. Или лишь только заступиться за них. Родители мои, конечно же, знала это и тогда. Но убеждены были, не смотря ни на что, в необходимость и правомерность своих чреватых для себя действий. Видимо, надеясь всё же и на солидарность и поддержку народа Украины, которого спасали в годы следующих одна за другой истребительных войн и эпидемий. С которым делила горе, но и хлеб и радость. Надеялась на свой авторитет спасителей!… Пронадеялась… Не поняли, не заметили из своего недолгого столичного далека, что народа, которого знали и любили — его нет уже… «Весь вышел». Не догадались, что у оставшейся, выжившей его части, — в том числе, у апологетов власти большевиков, культивирующей силу «авторитета массовых арестов и показательных казней», — не может быть «авторитета спасителей»…
Потому, как только они появились в разгромленной колонии, последовал их немедленный «административный» арест. Изощрённейшая, надо сказать, мера «реагирования» не только на какое бы то ни было противодействие режиму. Но даже лишь на не согласие с ним! При чём, реакция, не требующая от этого режима никаких оснований для «назначения» превентивного, — без объявления причин, срока и последствий, — «пресечения» и наказания… На первых порах реакция, якобы, «только в виде временного лишения свободы». Не объявляя Время! Словом, произошел грубый захват. Арест. И, с места не сходя, силовой этап «Куда–то… Куда — там скажут!»…
70. Арест.
…Четверть века спустя отец мой, уже вдовец, вспоминал дорогу в Житомир, куда из волости, в сопровождении трёх конвоиров, «гнали» их несколько дней на перекладных, лошадьми. Потом поездом везли в Харьков, украинскую столицу…В Харькове, с вокзала, — надев обоим(!) наручные кандалы, — отправили во внутреннюю тюрьму. Развели по одиночкам. И держали, не допрашивая, несколько недель, — три или даже четыре — не вспомнил. Ночью, однажды, теперь в сопровождении уже четырёх конвоиров, и даже проводника «с симпатичнейшей — в отличие от поводырей — овчаркой», отвезли на вокзал. Через «комнату милиции» провели к поезду. Затолкали в битком набитую отгородку — «камеру» тюремного вагона. И везли суток восемь–десять… Больше, быть может…
А потом…
…Вот потом–то началось непонятное и, по началу, пугающее даже. Тоже ночью однажды разбудили. Но уже не те — другие. Завели в тамбур. Заговорщицки перерасспросили–перераспроверили: «Додины? Точно Додины?…Обои?… Залман Самуилович—Вы? Стаси Фанни ван Менк (Редигер—Шиппер, в девичестве) — Вы?». Удостоверившись, что они, они, — снова: «Тихо! Тихо! Без шума, пожалуйста!? И молча! Молча!», пригласили из вагона выйти. Подождали. Вывели. Через тёмный перрон и пристанционный закут завели на улочку за вокзальчиком… А там — снова: — «Пожалуйста, быстро! Быстро, пожалуйста!» — подсадили, — почти закинув, — в затянутый брезентом кузов автомобиля (полу грузовичка). Отвезли куда–то — чёрт–те куда! Держали где–то, — чёрт–те где — часа два–три. Подняли, — разбудив–растолкав, — ночь же! На нервах всё…Попросили–помогли слезть, и перейти, — тоже: «Быстро, пожалуйста, быстро! — И тоже — Тихо, молча!», — в подъехавшую машину. Снова везли с час–два… В машине, в сухомятку, накормили. Но как–то прилично. Сытно. Той же ночью снова привезли на вокзал. На тот же — на другой ли? — не поняли. Там провели в чистую комнатку при помещении караула военного коменданта (по табличке на двери). Принесли новое постельное бельё. Чай и бутерброды. И, … извинившись снова, предложили…отдохнуть. А следующей ночью разбудили опять неожиданно. Каким–то путаным маршрутом отвели, — и опять извиняясь, поторапливая, и прося тишины, — в не освещённый конец одного из перронов. И посадили в странный вагон стоявшего «под парами» странного же коротенького сцепа («Не бронепоезд ли (?!)» — съехидничала мама по военному опыту)…
Вагон (поезд) тут же тронулся. И, будто катапультой выпущенный, понёсся!… Понёсся!… Повёз, как сообщили, в Вологду(?)…
Дальше, — после Вологды, — вновь непонятные тайности–предосторожности…Остановка в лесу. Игрушечный разъезд. И снова путь перекладными. Лошадьми…
…Путь, — и не малый, — через Тотьму и Великий Устюг. Потом до Котласа. Из Котласа, — снова с предосторожностями, — куда–то, часах в трёх–четырёх хода, — аэросанями даже(!) помчали, укутав тепло…(Тента, крыши не было). Привезли. Поселили в уютной чистой заезжей (гостиничке) «Базы нефтеразведки» какого–то «Смешанного Акционерного Общества». А оттуда, пока возили–привозили — весна на дворе, — привезли поздней ночью на речной дебаркадер. Перевели на катер. И сразу «пошли» полой водою вверх по Северной Двине, оказалось…Шли долго. А за тем — тоже вверх — по притоку её Выми — вёрст тридцать, или чуть больше. И причалили, наконец, тоже ночью, у дощатых сходен затерявшегося в тайге приречного посёлочка… «Островного»(?)…
…Вспоминал поезд: — Всё же, был это салон–вагон бронепоезда(?)! Ну, знал я их… При чём, вагон не простой, а «хозяйский». А какой же ещё, если при тройном, — апартаментом, — купе со спальней, кабинетом и столовой наличествовал ещё и великолепный санузел с ванною, туалетной и бойлерной! Вагон новенький с иголочки, хотя по заводской «Крупповской» табличке — ещё 1914 года постройки! Новенький настолько, что поражало: каким таким образом техническое и эстетическое совершенство это, чудо это, сохранилось, будто только из цеха? И когда? В погромно–разбойном ералаше военных и революционных лет. А потом в годы всеобщей разрухи, когда до нельзя озлобленный на судьбу народ — со зла — крушил всё вокруг себя?…
Пассажиров кроме них в вагоне не было. Это стало ясно. Как не было, точно, конвоя!? По началу, смущало даже гробовое, — тюремное совершенно, — молчание явно вышколенной обслуги. А она, — обслуга, — была: к ночи, постучав аккуратно, входила привидениями и самолично проверяла тщательность зашторенности окон–амбразур. «Невидимками» приносила еду и «напитки». Меняла регулярно бельё — на новое и тщательно переглаженное…
О-очень прилична, — и даже слишком, — была кормёжка (и это в пик повального голода в стране!), по времени всегда разнообразная и горячая. Не иначе, рядом был или вагон–кухня или даже вагон–ресторан!… Сплошные загадки… Пусть, правда, — после хамского ареста, лихорадочных этапов и первых мало приятных тюремных недель и переездов, — приятные…Словом, вопросы, вопросы…
71. Дорога.
Вопросы…
Ответ на них, — и вообще на всё, что после отъезда из Волыни происходило с ними, — случился не сразу. Однажды, тормознув резко, на миг встали на безымянном разъезде перед Вологдою. По зуммеру в тамбуре кем–то (охраною?, — так всё ж была какая–то охрана!) впущен был некто с его сопровождающим. Пройдя бесшумно по ковровой дорожке коридора, вошедший вежливо постучался в дверь купе. После приглашения… своим ключём–рычажком отпер, по хозяйски — рывком, открыл–сдвинул створ (полотно двери) из затемнённого коридора в затемнённое купе…
Перед пораженными супругами, — мягко освещённый стенными бра, — предстал (оставив спутника не видимым в коридоре)…и кинулся обниматься с ними, хорошо и много лет по доброму знакомый им один из управляющих делами Нобелевской империи в России профессор Семён Сергеевич Халатов!… Однокашник Стаси Фанни по курсу Петербургской Медико–хирургической Академии. Патофизиолог. Товарищ её по «Братству», по Мировой войне и по «Спасению»! Старый друг Сергея Сергеевича Каменева — тогда товарища наркома по Военным и морским делам, заместителя Председателя Реввоенсовета страны…
…Не даром же глазастая Стаси Фанни, профессионально умевшая подмечать всюду даже самую незначительную мелочь, незадолго до появления гостя обнаружила внизу прежде указанной ей «Крупповской» таблички, ещё и русскими буковками мягко оттиснутую надпись: «Имущество шведского Дома Нобеле в России. 1916 г.».
Не железный характер её — эта «встреча» с нобелевским оттиском дорого бы ей обошлась! …Чтобы осознать взрывной его смысл. Тем более, судьбоносность внезапного явления столь неординарного гостя в купе «странного» поезда, — несущегося пока что ещё не известно куда, — необходимо перенестись в начало века. Во времена юности мужа её.
Отвлечение.
Родился он в городке Мстиславле на Белорусской Могилёвщине в семье николаевских кантонистов. Достаток в ней держался на хорошо обихоженном шести десятинном хозяйстве. Но не только. Как и многие свободные крестьяне, трудившиеся на тощих каменистых после ледниковых дерново–подзолистых землях северо–востока Белоруссии - , мужчины занимались переходившим из поколение в поколение отхожим промыслом. В частности, их семья традиционно ставила в своей и окрестных губерниях всяческие мельницы и крупорушки. И глава её, — отец Залмана, обучая подрастающую трудившуюся у него молодёжь, сам делал с ними все работы — плотницкие, столярные, каменные и железные. Сам отливал жернова — искусство редчайшее и дорогое. Которое, кроме высочайшего мастерства, требовало знаний тончайших нюансов литейных и обрабатывающих технологий, тщательно хранимых наследственных секретов производства и, конечно же, недюженой, — воистину самсониевой, — силы!… Залману стукнуло семь лет, когда он пошел в приходскую школу и пришла беда. Отец, вывешивая 220 пудовую отливку мельничного жернова, оплошал — «повредил» позвоночник…Оплачивать учёбу младшего сына на стороне он больше не мог. И тот отправлен был к дядьке своему в Рославль на Смоленщину. Тоже учиться. Но в школу свою, домашнюю, коммерческо–математическую.. В те годы она славилась своими великолепными педагогами и особенными методами приобщения детей к наукам и труду. Для этого хозяин её использовал, в частности, и… собственный большой оптовый склад колониальных товаров. В нём ученики в свободные от занятий в классах и хозяйственных дел часы работали. Работа была не Бог знает какая мудрящая: большой компанией аккуратно распаковывали прибывавшие железной дорогою ящики, мешки и бочки с колониальным товаром. Расфасовывали его по малым пакетам, коробкам и банкам. И взвешивая тщательно, и скрупулёзно регистрируя, упаковывали. И по заявкам отправляли в магазины, в лавки и на рыночные лотки. При этом, они учились попутно грамоте, ответственному устному счёту и профессиональному ведению довольно сложных, по первости, приходно–расходных записей в амбарных книгах и конторских тетрадях, счетоводству и основам бухгалтерского учёта. А за тем и бухгалтерскому мастерству. Постепенно постигая секреты составления замысловатых арифметических задач и решения возникавших в работе математических головоломок. И всё это — в процессе глубокого освоения повседневной практики устного счёта — введения в освоение и изучение основ высшей математики! Потому ещё ребёнком, уже в первые годы учёбы в Рославле, мальчик осознал — сам удивляясь, но сумев продемстрировать это своим педагогам — что в состоянии решать «в уме» любые задачи с любыми порядками и значениями чисел! Не затруднялся в ответах на любые предложенные ему их комбинации. И мог свободно «дифференцировать и интегрировать, в уме расчленяя или, наоборот, суммируя и переходя к пределу» «в фантастического построения стереометрических образах, которые стали для него материализуемыми реалиями… …Эти «его реалии–построения были настолько определёнными и чёткими, что годы спустя позволяли — при решении практических задач проектирования — чувствовать не только дыхание (по другому не скажешь) сложнейшего конструктивного образа (сотканного его фантазией или уже инженерно исчисленного им в проекте и даже возведенного в натуре). Но ощущать саму анатомию метаморфоз движения ореола деформации каждого узла…Чудеса да и только! Мало того: в переплетении гигантских по тому времени многослойных пространственных пролётных перекрытий рассчитываемых им сборочных цехов (площадью каждый более восьми гектаров!) авиационных заводов, он чувствовал всё (…) Например: точечные пусть, но всё равно остро беспокоящие некие рецепторы его мозга, перенапряжения самой малой, самой незначительной балочки конструкции из недопустимой здесь, — именно в этом месте!, — кипящей стали. Видел, — проходя далеко внизу, — своим дистанционным термографом–деффектоскопом, — или, чёрт знает чем ещё, — неприятные! ему ПЯТНА абсолютно невидимых незакалённых болтов соединений… Дьявольщина какая–то…».
Это цитаты из опубликованного в «Вестнике Академии Наук» и в «ИЗВЕСТИЯХ» «Прощального слова другу» коллеги его авиаконструктора академика Андрея Николаевича Туполева.
Но то было много–много позднее.
…
А пока дети во время работы на складе ещё и читали по очереди вслух хорошие книги. И даже писали по услышанному не дурственные предметные рефераты. Учились, словом. Учёба и содержание оплачивались младшими собственным трудом на фасовке, а старшими на ферме. С 12–и лет отец репетиторствовал сам, и учил недорослей «со стороны». А в 14 отправлен был к другому дядьке — подрядчику строительных работ на Днепровском Металлургическом заводе Нобеле и Гааз (той самой Анны Розы) в Запорожье—Каменское под Екатеринославль. На Украину. Чтобы обучаться делу настоящему: подрядчик строил и ремонтировал доменные и мартеновские печи, коксовые батареи металлургических заводов и машиностроительные предприятия. И братья (с отцом Залмана) решили, что именно там их племянник найдёт себя.
Несколько лет его успешно «натаскивали» на расчётах конструкций, благо не воспользоваться в собственных проектных мастерских собственной же Уникальной «Вычислительной Машиной» было грешно!…
Все были довольны. Но… однажды, было ему в цеху «видение»: Внезапно, солнечно сверкнуло жерло только что пробитой рабочими лётки! Оглушил свистящий рёв раскалённого дыхания недавно совсем рассчитанной и построенный и ИМ ТОЖЕ гигантской печи… В то же мгновение чугунная лава вырвалась мягко из содрогающего душу грохота вулкана огромной домны. Осветились ослепительно огнедышащим упругим золотом волны расплавленного металла изливающегося в глубокие тоннели «улиц» стадионоподобного «двора» литейки. Звёздным пламенем вспыхнули и многоцветьем фейерверков взорвались стройные кварталы заполняемых форм. И… «втянули» юношу в феерическое сияние Чуда павшего на землю космоса!…
Залман… поражен был и… «заболел» литейкой…!
Дядька–подрядчик, использовавший его безжалостно на очень выгодных ему ежедневных рутинных расчётах, тем не менее, силком удерживать племянника у себя не стал. Помог ему найтись и в литейке: убедил литейное начальство поставить подросшего и окрепшего парня подручным формовщика. Потом подручным горнового. Потом горновым мастером…Годы шли. Он счастлив был: — нашел то, что искал! Однако же… — человек полагает. Но располагает–то, — это уж точно, — вовсе не сам он, человек… А пути Располагающего, известно, неисповедимы.
72. Нобели.
Однажды, — по мальчишескому досадному нетерпению-сочувствию (такелажные работы в литейке в обязанности Залмана конечно же не входили), — он бросился на помощь старику–грузчику, который вместе с напарником из новичков изготовились — оба явно неловко — «перекинуть» из охладительной масляной ванны на фрезерную станину тонкую трёхсаженную протяжку… Непрошеный энтузиаст и такелажник, по команде, щипцами взяли её концы…
…Предвиденное несчастье произошло в ответственное мгновение сложной — «через себя» (над собою) — перекидки раскалённого стального прута… Напарник Залмана внезапно «отпустил» с такелажных щипцов свой конец «изделия»… Залман свой удержал!…Обронённый конец пластичной («полужидкой») нити, «остывшей» до 2500 градусов, — освободившись, — хлестнула по земляному поду… Спружинилась! Свернулась мгновенно плотной «плавающей» — до бела раскалённой — спиралью над Залманом, как бы окружив, как бы обернув его…Мгновенно же развернулась. И… не коснувшись… отлетела!… (Финт плазмы, литературой не описанный!)…
…И сам герой, — если в те мгновения он что либо соображал, — и те, кто всё это видели, — вряд ли успели подумать…что так же мгновенно, тем же сложным движением, раскалённый «хлыст» мог «пройти» и его самого, и искромсать! (Огненная струя разогретого металла «движется» сквозь живую плоть, как через воздух)… Но случилось чудо!… Спецы — «фантасты» потом, восстанавливая происшедшее, «установили»: естественный диаметр свёртывания пластичной (условно, полужидкой, плазменной) спирали оказался как бы «как раз на него, но с припуском»! Видимо, «не малым». Потому доли мгновения длившийся «полёт» жаровни–пружины около (пусть вкруг) тела, жаром его не испепелил…
Почему?…Непонятно…
И ещё… но это уже точно: немыслимое хладнокровие гибнущего, или ужас осознания им происходившего с ним тому причина, но спасительным толчком откинуты были им щипцы, державшие конец прута. И броском вверх — как взрывом — «крыльями» подброшены были освободившиеся руки!… Они тоже не только не были отожжены–отсечены не были!… Не стали роковой «заклинкою» спирали с торсом!…
Однако… Однако… И без того последствия были страшны: Мгновения внутри двухсполовиноютысячно градусной спирали «разогрели» живое тело и, было, испекли его…Милосердная Медицина, ужасаясь искренне, искренне же ПОЛАГАЛА последствия необратимыми. Но, МИЛОСЕРДЕН был РАСПОЛАГАЮЩИЙ!… В заводской лечебнице оказалась не просто медицина, пусть самая распромилосердная. Дежурили медики Божией милостью «скорой аварийной». Хотя и обыкновенные хирурги. И в Каменском гостила, — в отпуск приехавшая к Бабушке из Петербурга, однокашница их по столичной Медико–хирургической, — Стаси Фанни. А она, — с февраля 1904 года, с Манчжурии, — руки набивала на денно и нощно выхаживаемых ею сонмом именно вот таких вот тронутых (пусть не так «аккуратно»!) и обожженных огненным (пусть и не в 2500 градусов!) металлом бедолаг…Констатация факта: вместе «они сделали невозможное!» — пустые слова.
И ещё. Именно, «не было бы счастья, да несчастье помогло!». Остался бы будущий мой отец, — пусть даже в новую кожу обёрнутым, мастерски залатанным и сшитым, но не нужным никому, — «рядовым» заводским инвалидом–калекою. Каких легионы. И как они мыкал бы горе своё, безусловно «обеспеченное», один на один с незадавшейся судьбою. Скорей всего, ничьим отцом не став…Как, впрочем, и мужем. Но на месте, — как всегда, бывает, когда Он бдит, — оказался один из хозяев завода Эммануэль Людвигович Нобеле. Ему тут же доложили о «несчастном случае». Он «взял случай на контроль». Посетил находившегося ещё в коме юношу. Не забывал посещать его позднее. И в очередной раз, когда тот, — через пять месяцев, после одиннадцатой уже операции, — пришел в себя…
Несколько ночей они проговорили…Потом были новые ночи…
…Судьба «из огня воскресшего Феникса» определилась. И пошла, пошла, двинулась вперёд счастливо под пристальной и доброй опекою этого удивительного человека.
…Было сперва долгое долечивание в Петербурге и в Стокгольме. Потом учёба в Норвегии. Потом учёба в Бельгии. Потом учёба и работа в Императорском Высшем Техническом училище в Москве и, наконец, в Льежском Технологическом институте. Было счастливое, «На коне!», возвращение на свои Каменские заводы. Но были перевороты и печальные результаты их. И, — по закрытии заводов в 1918 году, — исключительная по накалу милосердия и общественной значимости работа до 1922 года организатором–диспетчером в сети лазаретов на Волыни в ипостаси «Советника Магистра Ордена Госпитальеров—Иоанитов и ведомства принца Ольденбургского». И, уже позднее, — через Нобелевское Объединение ГАССО-ЦЕЛЛУГАЛ и МАННЕСМАНН, — счастливое возвращение (до ареста в 1929 году) к истинной цветной металлургии — в Гипро«ЦВЕТМЕТЗОЛОТО» по Большому Черкасскому переулку в Москве. На свою кафедру Московского университета (со Шмидтом), на Моховой. В математическую лабораторию ЦАГИ (с Туполевым) на Немецкой улице в Немецкой же Слободе…
Тогда же определилась судьба и самой Стаси Фанни: 19 октября 1914 года (через десять лет после гибели в Порт—Артуре первого её мужа, доктора Михаила Вильнёв ван Менк, и после семи лет их знакомства) они поженились.
48. Гость.
…Гость, — теперь освещённый включёнными кенкетами, — сообщил, что об аресте четы Додин шеф узнал на вторые сутки от своего информатора — сотрудника секретариарьята Ягоды, Буланова. И что «брал доктора и её супруга сам он, Павел Петрович». Понял, что всё серьёзно — сверху!
Не медля, связался с Сергеем Сергеевичем Каменевым, Главкомом вооруженных сил. С Густавом, мобилизовавшем старых российских друзей. И оба они, — каждый по своему каналу, — разыскали–настигли супругов уже в Харькове. О детях — грешны, оба сразу — не подумали, и не успели к ним (Детолюбивые ягодовские оппоненты были шустрее). Друзья сообразили, что сами схваченных детей не разыщут. Потому продолжали делать то, что успешно делать начали: — уводить от тюрьмы и расправы их маму и отца (При «неизвестно куда, и с чьей помощью девшихся родителях», с детьми их тот же Ягода ничего поделать не сможет. Устрашится, генетический трус. Не посмеет). Теперь, «таким вот образом», их — Фанни Иосифовну и Залмана Самуиловича — доставят к друзьям в одну из глухих пока и мало кому известных северных нефтеразведочных партий геологоразведочной Экспедиции «не зависимой» Фирмы. Там придётся им ждать известий о судьбах детей. Работая… пока. Сколько времени? Бог знает! Сергей Сергеевич всесилен, но…не настолько… А люди Густава — могут ли нормальные люди, европейцы, представить и вычислить всё что в состоянии измыслить и осуществить террористы Ягоды и похитители детей, захватившие Россию? Ясно одно: дети им нужны. Пусть чтобы держать за души и шантажировать родителей! Возможно, не только. Но родители исчезли. Куда? Каким образом? Загадка! Потому, — казалось бы, — за детей можно не беспокоиться. Тем более, за детей всему медицинскому миру известного медика, и учёного–технаря с мировым именем…Но!…Мы же в пленённой России…Бог мой!… Что я несу?!… Не обращайте внимания… За эти месяцы я вымотался…Нет! Нет! Не с Вами, не с Вами и с Вашими детьми!… Словом, так или иначе, Вам, — нам всем, — придётся ждать окончательного разрешения «загадки» с детьми. И разрешения сопутствующих проблем… Естественно, решаться они будут только и всегда с Вашего ведома. Но, — и Вам придётся согласиться с этим, — без Вашего участия! Вы, ваше местонахождение не должны быть раскрыты! Для властей Вы потеряны! Исчезли. Это их провал. Проигрыш. Но и наша победа, если факт «исчезновения» мы с Вами не раскроем. Это Вам надо осознать… и привыкнуть к положению не существующих!… Пока…
Он вручил маме и отцу разложенные по вскрытым им, на глазах у них, опечатанным пакетам новые их советские документы и «имеющие хождение» рутинные (подзаконные) справки. Успокоив, что все они подлинны. Какими и должны быть «выправленные» и выданные государственными учреждениями официальные бумаги. Попросил внимательно с ними ознакомиться. Заново привыкнуть к ним. И хорошо помнить «не хитрое но жизненноважное» их содержание. Передал советские деньги, в том числе, разменной мелочью и монетой. Снабдил напутствиями, советами и распоряжениями «друзей Густава и Эммануэля». И…его самого, которые придётся выполнять неукоснительно!…В ответ они раскрыли гостю имена и адреса тех, кто может, кто должен, кто обязан помочь в поиске детей.
— Пока всё, — заканчивая «инструктаж» сказал Семён Сергеевич Халатов. — На месте Вас встретят. У Вас там будет связь. Там Вас найдут и наши люди…Кстати!… — Он развернулся чуть. Резко сдвинул дверной створ. Жестом заправского фокусника «извлёк» из полутьмы коридора и впустил в купе под яркий свет кенкетов высокого светлоглазого мужчину. Тот был круглолиц под ёжиком седины, в коротких густых усах. Удивительно крутоплеч. Костюм его, — тёмно бордовый свитер серым спортивным брюкам, впущенным в высокие шнурованные ботинки, — очень шел ему. Был к лицу. — Знакомьтесь, пожалуйста: — Ваш постоянный сопровождающий Иван Иванович (Toyvo, если только строго Zwischen vier Augen!), откомандированный в Ваше распоряжение Вашим финским другом!…Прошу любить и жаловать… Его личные сопровождающие, — что бы Вы знали, что они есть и всегда где то рядом, — они, при необходимости, проявятся сами. На всякий случай — у Ивана Ивановича (но только не у Вас!) Ваши «Нансеновские» паспорта…
«Пусть и не до конца, но всё, — кроме ваших судеб, — стало более или менее ясным и определенным для нас с папой», — окончила свой рассказ мама…Хотя их с отцом очень смущал не так сам драматизм ситуации, в которой они оказались, но очень уж авантюрный её фон. Дико всё, непривычно для них всё выходило! Но всё ж таки были они не в тюрьме. На воле, пусть и относительной (воли полной они не чувствовали ещё).
Не им не понимать было, каких усилий потребовали действия Густава во вражеской ему и…любимой им стране, чтобы без крови(!) освободить их и надёжно укрыть. Так же как известно было: не сработай, или сорвись, «каменевский» вариант с «дорожной трансформацией», егеря «27–го», шутить не умеющие, шороху бы наделали! («У них — служба!», — вспомнила мама первые слова Густава в дверях особняка по Доброслободскому в ленинские дни)…И вот тогда–то была бы кровь…
Казалось: чего проще — забрать маму и отца к себе, переведя их по годами выверенному «коридору». Но тогда каких неимоверных усилий потребует поиск нас, детей? А прежде отыскание рук, в которых мы оказались? (Или это вполне не профессиональный мой домысел?).
49. Север.
До Тотьмы из Вологды, — недели две, не спеша, — «бежали» по зимнику. Останавливались, — на отдых, да менять и кормить лошадей, — в будто Петрова времени «ямах» — заезжих с трактирами–чайными. По северному светлых, опрятных и тёплых. Иван Иванович всегда рядом. Сопровождающие его самого четверо простаков–амбалов — тоже рядом где–то…
Прибыли как раз ко времени: Двина с Вымью совсем очистились ото льда… По высокой воде пошли большим катером.
В тиши до блеска выдраенной каютки, — наполненной солнцем, душистым весенним воздухом, залетавшим с зеркала ледяной воды и из кипени начинавших цвести вдоль берегов тёплых лесов, — хорошо отдыхалось. Думалось спокойно. Самое время и место было попыткам уяснения, наконец, истинной (не эмоциональной только, лишь с судьбою несчастных меннонитов связанной!) причины случившегося с ними на Волыни.
Оговорюсь, и напомню: родителей моих сам факт ареста особо не беспокоил. Вернее, не волновал чрезмерно. В повести «Густав и Катерина» я писал, что уже в камерах киевской Чрезвычайки в зиму на 1918 год, из которой вырвал их ворвавшийся в город генерал Гренер, сообразили они что за режим скогтил Россию. Верно его оценили. И, наученные всё решать самим, не медля объявили ему собственную свою войну! Потому не гадали никогда, что произойдёт с ними и с нами, их детьми (ибо на войне как на войне!)…
И так причина… Допустим, за сам факт поездки мамы с Михаилом Васильевичем Алексеевым (до переворота — Верховным) в Новочеркасск? Или за эвакуацию в Финляндскую заграницу раненых моряков из мятежного сперва, а за тем казнимого Троцким, Кронштадта. За сам факт эвакуацию восставших из под его же носа? За её Берлинскую «прогулку» октября 1923 года? За раскрытие ею в Германии в 1928 году правды о ритуальном сожжении троцкистами в 1919–20 годах меннонитов на Украине? За что–то ещё, что они считали необходимым делать и сделали — за что «стенка» им обеспечена была!? При этом они, — конечно же, — старались, по возможности, уберечься (и нас уберечь) от вполне определённой «реакции» режима на свои действия. Не важно — собственной ли осторожностью, или ответственностью или аккуратностью тех, от кого зависели. И критичным осознанием не такой уж и эфемерной силы собственной власти мамы — «врача от Бога» над властью режима. Куда как отлично осознающего абсолютную персонифицированную ценность лично для него самого и апологетов ТАКОГО ХИРУРГА!
Потому родители мои готовы были к любому развитию событий.
«Ясно» было: арест, — само собою, и прежде всего, — что ни на есть «здоровая» реакция московской власти на прошлогоднюю (1928) командировку мамы в Берлин. Ответ на документированную, — особо скандальную по этому, — «лекцию» — заявление мамы с трибуны Мюнстерской ратуши о ШОА 1919–20–х годов, учинённого комиссарствующими мерзавцами Троцкого в Левобережных колониях Украины (О том — в названных выше публикациях).
Но, никоим образом, на встречу тогда же с Кутеповым и Маннергеймом. А потом с Иоанитами. Виделись они в доме своего друга Клеменца Августа графа фон Галена (тогда только ещё прелата и папского нунция) в вестфальском Мюнстере. Потому «прикрытом» так, как это может быть лишь только у католического клира такого уровня! Хотя… конечно, конечно, могло быть всё. Упущения служб, в том числе… Хотя бы в той же Парижской резиденции Александра Павловича — РОВС. Опрометчиво расположенной к тому времени в безусловно прощупываемом Лубянкою доме Третьяковых, арендуемом Союзом. Из которого маме в Мюнстер телефонировал Кутепов (кто знает, быть может, не осторожно!)…Но Густав был тогда с Эмилем! С сыном. И вот именно потому его–то службы и не допустили бы промашек!
И не на свидании тогда же, в церкви Святого Ламберта (в Мюнстерском храме Галена), с помянутвми выше супругами Шапрон дю Лоре — Алексеем Генриховичем и Натальей Лавровной Корниловой, давней подругой мамы…Наташин супруг — он разведчик высочайшего класса! Храм, где служил граф Гален, посещал не раз. Знает все его секреты. И он не из тех, кого можно обойти…
…О, Боже, Боже!… Столько говорено было тогда, чтобы Алексей Генрихович ни на час, ни на миг не оставлял генерала!…Сколько случаев дичайших последствий цирковых антраша русской гусарской бравады перебрано было…и на каком уровне! А ведь все знали о расходящихся из Москвы новых «цунами» политических похищений и убийств!…О новых всплесках заплечной её активности…Всё напрасно! Всё — горохом о стену!… Да и сам Александр Павлович не хотел понимать, что уже не молод. Что реакции его не те, что когда–то… И вот… два года спустя несчастье 29 января 1930 года!…
…Раскрытие новочеркасской поездки?… Внезапное «озарение» по поводу кронштадской эпопеи?…Берлинский визит 1923 года и, — тотчас за ним вслед, — скандальнейшее совершенно, мальчишеское, явление в Москву Густава?…Не–ет!…Не–ет! С 1924–м годом всё в порядке! «27–е» Густава, — да и он сам, — бдят!.. Вот… только что с… Новочеркасском?…Но раскройся Новочеркасск 1918 года?… Ну, тогда реакция власти была бы немедленной и крутой! Беспощадной была бы реакция!…И не было бы никаких больше позднейших «фокусов»… А Берлин? Там, в Берлине, работала отлаженная система защиты. Система армейская! Когда требовалось не допускающая фиглей–миглей реакция верхушки штабов контрразведки!…Всяк сунувший в неё голову или ухо даже…Обошлось бы без приглашений «свободных» адвокатов и газет…
Возможно ещё, — и, по свежести, даже скорей всего, — арест — «нормальная» реакция патологического маминого ненавистника–маньяка Губельмана («Ярославского») на действительно уж очень не ко времени недавно затеянное друзьями переиздание маминого трёхтомника «Восточный Дневник. 1904–1913гг»…
Впервые «Дневник» опубликован был Балтийским издательством «Orient» семью годами прежде. При чём, с тремя предисловиями: именитого швейцарского доктора Залманова, лечащего врача Ленина; профессора Бехтерева — учителя мамы в Медико–хирургической Академии а потом и коллеги её; и наркомздрава Семашко — участника обеих Балканских войн, ординатора одного из её Белградских лазаретов. А незадача–то с «Дневником» была. И серьёзная. Несколько разделов третьего тома целиком почти посвящался проблемам организационным. В частности, многолетней деятельности в военной медицине и конкретным заслугам перед нею двух искренне уважаемых и почитаемых мамою россиян. Зверски убитой в 1918 году Великой княгине Елисавете Феодоровне — патронессе её, опекунше с 1906 года, подруге даже. Перманентно до неприличия поносимой немыслимо грязно даже для немыслимо же грязной красной прессой. Сплошь, к тому же, кальсонерской до начала «кировских» санитарных чисток! И, — за заслуги же, если неизмеримо большие, — Василию Ивановичу Белавину (После 1917 года патриарху Тихону), во времени первого издания «…Дневника…» добиваемому властями откровенно, подло и жестоко!).
В 1922 году том этот «прошел» в печать лишь только острой потребностью живых ещё, — хотя и умиравших уже, — Ленина и шурина его Марка Тимофеевича Елизарова в помянутых и пребывавших в фаворе медиках, написавших статьи предисловия. Специалистах неординарных. Главное же, удостоившихся доверия обитателей Горок (Не Самотёчных!). Прошел вот ещё потому: убийственная для родителей моих легенда причисления главного детища их — «Маньчжурского братства» — к «Предтечам Белого движения» (в начале Гражданской войны упорно распространяемая), не вышла ещё an Mass — за порог Чрезвычайки.
Теперь всё было иначе! Губельман разбрызгивал токсины анафем уже во всеуслышанье. Не по мелочи — в адрес какого–то отдельного непролетарского автора, к тому же загоняемого. И не с подмостков никому не известных «рабочих клубов», в «аудиториях», куда слушать «жидовского мессию» силком сгонялся после трудовых смен люто ненавидящий его фабричный люд. И даже (по–модному) не в заводских цехах посередь смен дорогими рабочему человеку «обеденными» минутами. А по крупному теперь уже! И не разовыми анонимными наскоками на подчинённые и ему, сплошь партийные, редакционные коллегии. Пусть и не зависящие целиком от того, с какой ноги встал сегодня один из её партийных вождей. Но рыком — во всеуслышание — на всю страну с передовиц и редакционных подвалов центральных много миллионно тиражных газет!…
И всё — вдогон к уже «принимаемым административным мерам»!…
50. Врангель.
…За год до ареста родителей скончался Пётр Николаевич Врангель, один из основателей маминого «Маньчжурского братства». Тотчас гласности предано было («просочась», как теперь говорят) откровение барона с оценкою им места и значения в российской истории благотворительного общества «Маньчжурского братства». Высказал он её в Югославских Сремских Карловицах ещё при подписании им Приказа (№ 35 от 1 сентября 1924 г.) о создании Русского Общевоинского Союза. После краткого вступительного слова начальника штаба генерал–лейтенанта Кусонского, Пётр Николаевич перечислил важнейшие вехи предыстории новорожденного Союза. И напомнил — «…Чтобы никто никогда не забывал: В канун 1909 года, на пике трагического разброда российского общества и преступного уничижения им русской Армии, — усилиями наших боевых товарищей, военными медиками Стаси Фанни Вильнёв ван Менк (Редигер—Шиппер), участниками героической обороны Порт Артура, и цветом полевого офицерства Русско–японской войны, — создано было славное Благотворительное Маньчжурское Братство. Десятилетие консолидировало оно офицерский корпус. Стало Предтечею Нашего Движения. А после народной трагедии 1917 года превратилось в колыбель Белой Армии!».
Само собою, Сремско Карловицкие откровения барона не могли не достичь ушей московских швондеров. И достигли! А ведь та же оценка «Братства» дана была и дотошными следователями киевской ЧК уже при первом, — декабрьском 1917 года, — аресте родителей!…
Если не всё это?…Тогда что же?…
Быть может… попытка спасения подруги — Сашеньки, Александры Львовны Толстой?!… Александра Львовна Толстая — младшая дочь великого писателя…Ей было уже сорок пять лет!…Позади у неё остался дом в Ясной Поляне, уединённые, «тихие» беседы с отцом. Смерть его. Позади осталась первая мировая война. На фронтах, — в маминых лазаретах в том числе, — сестра милосердия Александра Толстая выхаживала раненых и больных сыпняком. Организовывала столовые для голодающих и летучие санитарные отряды парамедиков…В конце войны попала под газовую атаку — было бесконечное лечение и долечивание «на ходу», с отлёжкою в госпиталях. За мужество и самоотверженность — у неё три Георгиевские медали… Естественно, с приходом швондеров — аресты, Лубянка, допросы. Судебное разбирательство в «Верховном революционном трибунале» (взахлёб упивались местечковые лабазники вывесочными «красивостями»!). Обвинительная речь кровавого альпиниста–шахматиста Крыленко. Наконец, приговор: три года заключения…Около двух лет — до освобождения по амнистии — продержали её в Исетьском концлагере…И так же, позади остались годы самоотверженной работы хранителя Ясной Поляны. А с 1925 года — директорствование музеем Л. Н. Толстого в Москве, в Хамовниках…Преодолевая противодействие невежественных местных властей (Ленин и его окружение — эти Толстого откровенно ненавидели!), она отреставрировала дом в Ясной Поляне. Превратила его в музей. Построила школу–памятник отцу, построила и оснастила больницу, библиотеку и клуб–театр, образовав подлинный культурно–просветительский центр…
Но ей было душно и страшно жить и работать на благо своего народа в атмосфере трагического противоречия с убеждениями, внушенными ей отцом. Быть свидетелем не прекращающего ни на день разгрома–раскулачивания крестьян — её бескорыстных помощников, изгнания их из отчих домов, узнавать ежедневно о всё новых и новых репрессиях, об арестах людей близких ей по духу. И безропотно ожидать своей очереди…
В 1928 году, перед самым отъездом родителей моих в Германскую командировку, Александра Львовна встретилась с ними… О чём говорено было тогда — не знаю. В Берлине мама и отец посетили японского посла. Подробности и этой встречи мне не известны (узнал в 1991 году о её телефонной беседе 63 года назад оттуда же со старым почитателем её Хейхатиро Того, воспитателем наследника, о судьбе Толстой). Но осенью 1929 года — спустя восемь месяц после ареста родителей — Александра Львовна получила правительственное приглашение выступить с чтением цикла лекций о Льве Толстом в университетах Японии. Взбесившиеся губельманы и компания пасовали: друзья мамы в Токио были неизмеримо сильнее…
В «волшебной стране Японии» Александра Львовна прожила около двух лет. За тем переселилась в США…Далее жизнь её известна. Мне важно, что в 1939 году соотечественники её основали, — по примеру родного ей «Маньчжурского братства», — «Комитет помощи всем русским, нуждающимся в ней». В память её отца названный «Толстовским фондом». Его главою стала Александра Львовна… Полвека спустя, организованное в 1918 году и отработавшее на ниве служения терпящим бедствие мамино «Спасение» (Rescue) преобразовано было в Независимую международную Ассоциацию волонтёров для спасения жертв произвола и геноцида» — IVAR (The Independent Volunteers Association relief to tyranny and genocide victims Founded 1918).
Замысловато и знаменательно движение эстафеты милосердия: мама, — организовавшая сперва «Маньчжурское братство» а за тем «Спасение», — отправляет Маньчжурскую сестру Александру Львовну Толстую в свою Японию; сестра уезжает в США; организует там «Толстовский фонд» («Tolstoy Foundation Inc»); и когда на съезде устроителей в Токио «Спасение» превращается в «IVAR», в «Мемориальный благотворительный Фонд Стаси Фанни Лизетте ван дер Менке», Александра Львовна посмертно, — чрез заступившего Её, — благословляет его…
51. Тайга.
…На заре раннего прозрачного солнечного утра катер приткнулся к свежесрубленному, игрушечному будто, дебаркадеру, примостившемуся в заливчике у опушки соснового бора. Домики посёлочка у «порта» тоже были новыми совсем и тоже «игрушечными». Будто…от немецкой игрушечной железной дороги. Как, впрочем, домик экспедиционной комендатуры, к которому их провели и в который вскоре, после отдыха, попросили. Всё встало на своё место, когда комендант, усадив родителей и угостив чаем с бутербродами, стал заполнять их формуляры. С отцом всё было «просто». Он предупреждён был в поезде ещё, что отныне он «Самуил Бэр Хенкен» (Хенкен — клан американских Додиных. В. Д.). И что ни в коем случае не должен ни в разговорах ни при заполнении каких либо бумаг упоминать каких бы то ни было своих академических и инженерных регалий, званий и степеней. Самое главное, чтобы «до времени, — и опять же с пользою для себя и для своей уважаемой супруги, — начисто забыть о своих Бельгийском и Шведском подданствах! Они Вам пока не пригодятся. Пока! Будут только мешать»(?). А маме сказал, что, — «тоже до времени», — она теперь — по новым документам — более не «Стаси Фанни ван Менк». А как в девичестве — Стаси Фанни (Фанни Иосифовна Редигер—Шиппер). («Отец её — Редигер—Шиппер Иосиф Иоахим… Так? Мама — Крик Стаси… Правильно?»). На свет появилась 21.01 (по старому стилю) 1886 года в усадьбе Мызы «Kiefernwald» (Сосновый бор) Вяйке—Маарясского лютеранского прихода Вирумаасского уезда волости Вао (Wacko) Эстляндии. Правильно?… Так же как и супруг, Вы нигде и никогда не должны поминать (и демонстрировать) знаки своих академических, медицинских и военных регалий советского и — не приведи Господь — «мирного» времён… «Располагающие» знают, что Вам, исповеднице философии меннонитов», мишура эта и без того противопоказана. И не принимается Вами. Но, всё равно, предупреждают. Как, впрочем, и о том, что о содержании этой нашей беседы знать никому не нужно. Ни–икому–у!
…Месяца через три после прибытия нового доктора в экспедиционный посёлок, срублено было «для неё» из выдержанной красно ствольной сосны, и ещё через пару месяцев штукатуркою (и на славу) отделано, помещение больницы. Снабженцы состоятельной Нефтеразведки расторопно расстарались генераторами, оборудованием, бельём, инструментарием и медикаментами. Ну и…на месте была главный «генератор» — доктор Фанни Иосифовна! Клиника с операционными, амбулаторией, лабораторией и аптекой заработала. В камералке Геологоразведки, нашлось дело и для её мужа. Кстати, там же, в камералке, узнал он взволновавшую его «новость»: оказалось, что месяца за четыре до их ареста (это значит, во второй половине 1928 года) в дирекции ЦВЕТМЕТЗОЛОТА муссировался вопрос об отправке, наконец, полевой партии института в один из не освоенных районов Севера для продолжения изучения его золотоносности!…Только вот в какой район «информатор» не знал. Не знал он и того, почему вдруг решено было партию послать. Тянули с нею, до того, лет шесть–восемь! Залман Самуилович мечтал когда–то о работе в экспедиции (инвалид, он активно искал участия именно в «настоящей мужской работе» в геологической провинции; как впрочем мама, — порядком от своей настоящей мужской работы подъуставшая тоже, — давно задумывалась о смене её в операционной в сельской больничке). И оба искренне жалели о пока никак не состоявшемся.
И вот теперь, — в таёжной глухомани, в благостной монастырской тиши приполярного лесного посёлочка, — для них, людей и в быту скромнейших, и в работе неприхотливых, началась новая, испрошенная ими у Провидения и по своему счастливая жизнь… Не правда ли — как неожиданно и как странно осуществляются надежды?
Так, или иначе…Восприняли они произошедшее с ними как благодать Господню. Как награду покоем за труды на всех их войнах. Но… покоя–то и не было: покоя не давало и истязало днём и ночью терзавшее их непонимание(!!!) происшедшего с нами — с детьми их! Не разгадываемая загадка глухого исчезновения нашего! Позволенные бдительным Тойво «предельно осторожные» попытки найти нас с Иосифом единственно доступным способом — через эпистолярное посредничество тщательно отбираемых «добрых людей» из геологов–поселян, и хоть что–то узнать о нас — тщетны. Нормальным людям, — вот хотя бы родителям моим, и тем более их скандинавским друзьям, — где им догадаться было, что меня, пятилетнего, взрослые государственные чиновники уже лишили собственного имени? Что — ребёнку — навязали уже чужое! Зачем?! Да всего–то для того только, чтобы ни коим образом я никогда больше не мог найтись!…Дичь!? Бред!? Единственный близкий человек в Москве — Тётка Катерина — с сентября где–то на гастролях. Надежда: только в мае, по возвращении, найдёт её (Если найдёт?! Если найдёт?!) спрятанная в тайнике Рублёвской дачи мамина записка… И то, только ещё только с сообщением о её с Залманом отъезде именно на Украину! Так ведь всё равно, об аресте их Катерина не узнает — не кому ей сообщить об аресте мамы и отца по исчезновении из колонии семьи Кринке и Николая Николаевича!…Они понимали, что понятия не имевшая куда мы все исчезли вдруг Екатерина Васильевна из гастрольных городов бьётся телефоном и телеграфом обо все учреждения, где по представлениям её (и её советчиков и «консультантов») могли бы о нас хоть что–то знать. Но там, где знать могут и даже должны знать всё — там всё уже сделано, чтобы никто ничего не узнал! Там «всё уже схвачено!»…Она истязает запросами именитых и даже могущественных друзей и поклонников…Но что могут они, сами вот–вот, — до КИРОВСКОГО декабря ждать не долго, — пристраиваемые уже в очередь тех, кто должен вскоре тоже без вести пропасть!
…Вспомнить надо ещё, что «просто», по–людски, искать тогда кого либо из подвергшихся преследованиям невозможно было! Того более. Нельзя было тогда, — в годы повальных арестов, ссылок и расстрелов, — даже представить себе состояние тех, кто ищет кого–то, вот как родители мои — через неизвестных адресатам людей? Кто ищет в мучительном страхе подставить этим под топор ПРИЧАСТНОСТИ тех, к кому обращаются за помощью. От кого ожидают МИЛОСТЫНИ судьбоносного ответа!?
Подумать о том страшно! И кто решится на такое?
А ведь тогда родители мои, — уже находясь в надёжной безопасности, — в полном неведении были об аресте и расстреле ещё в 1929 году Осоргина–младшего! Не знали они и о совершенно синхронном, — в те же дни, а возможно и в часы казни Георгия Михайловича, — убийстве — именно об убийстве в «авиационной, якобы, катастрофе», Яна Фрицевича Фабрициуса. «Комбрига. Члена ВЦИК СССР. В революционном движении с 1901 года. Героя Гражданской войны» (По энциклопедиям). Маминого земляка. Друга. Российского гражданина. Патриота российского из Эстляндских немцев. Мужественного и отважного Человека, доложившего Патриарху Русской Православной Церкви — Главе Единственной Законной Власти в России — о готовившемся в Германии «октябрьском» преступлении большевиков!… Как, впрочем, не знали ещё, что уже два года как под чужим именем «воспитываюсь» я в московском, — по улице Новобасманной, 19, — «Латышском» детдоме. И «содержусь» в нём в корпусе, что напротив — у Сада Баумана, в одном из боксов «образцового тюремного изолятора» — вивария под патронажем детоубийцы — «учёной тёти профессора» Лины Соломоновны Штерн…
(Перипетии с моим и брата моего Иосифа исчезновением и попытками поиска нас, а так же «художествами» Штерн, и усилиями автора–мальчика по публичному разоблачению убийцы и войны с нею, описаны в повествовании «Площадь Разгуляй»).
Часть 5. НАГРАДА ПОКОЕМ.
52. Архангельск.
…Только спустя три года, в одну из перламутровых ночей начала июня 1932–го, — как раз когда река Вымь вновь очистилась ото льда, — родители мои были разбужены и приглашены торжественно Иваном Ивановичем — «не мешкая, в 24 часа! — приготовиться в дальнейший путь». Сборы, как в песне, не долги. Тряпки — в сундук–упаковку из под полевого рентгеновского аппарата. Книги — в два фанерных ящика из–под макарон. Всё! Книг уже много. При чём, нужных. Целая медицинская библиотека — паллиатив оставленой дома при внезапном отъезде на Украину. (О тотальном ограблении дома по Доброслободскому переулку ,6 — вскоре после аресте их в 1929 году вдалеке от него, — они не знают. Знаем только мы с братом! В посёлочке новая библиотека приобреталась почтою и с помощью отпускников и командируемых — нужную книгу для доктора и её мужа разыскивали они и привозили с удовольствием!) Заочная, — через приятеля–соседа, — раздача долгов: книг, в основном, одолженной посуды, приобретенной и нанесенной соседями «мебели», накопившихся хозяйственных мелочей. Возвращение завхозу казённого постельного белья, одеял и марлевых занавесок — своими так и не обзавелись. Всё? Да, ещё хозяйство больнички! (Но его заблаговременно, сутками прежде, передал маминым коллегам вечно бдящий Иван Иванович). Не долгое, не шумное, в узком кругу, прощание с добрыми людьми. «Та не волнуйттесь!, — успокоил их Тойво. — Кутта Фас комантируют — тамм фамм бутетт софсемм не плоххо…». … И — глубокою ночью уже, — «На пристанн! И — Перётт! Перётт!… По ттомму же чтто и в 1929 готту реччному путти. Но уше внисс! Внисс!»
За месяц, — Вымью, вновь ночами сперва, а потом — круглыми сутками — Северной Двиною не спеша спустились до Архангельска. Погоды стояли чудесные. В каютке и на палубе катера — рай!… Не тревога бы за детей — посчитали, что были в счастье…
Причалить подгадали(?) тоже в полночь.
Встретили какие–то — чьи непонятно — моряки во главе с человеком в…сутане(?) под шинелью. Провели к ожидавшему легковому автомобилю. Солдаты погрузили вещи в грузовичок. Провезли по тёмному ночному городу. Привезли в его центр. Тёмный зелёненький тупичёк улицы «Павлина(!) Виноградова». В приоткрытую для них металлическую калитку в высоченном, металлическом же (заглушенном щитами) заборе, — пригласили через небольшой двор к не сильно освещённому закрытому подъезду–крыльцу аккуратненького двухэтажного особнячка. Блеснула тускло, справа у двери, табличка с тою же, — что и в поезде, — «Нобелевской» символикой… А в доме… Ну, а в доме — чудо! В доме чудо из чудес: ожидал их в дверях… сияющий, — будто только из бани, и как будто лишь только вчера распрощавшийся с ними в доме у них, — друг! Доктор Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович)! Товарищ мамы по Русско–японской войне и гайдар–соратник по их совместным общественным институтам первого тридцатилетия ХХ столетия. Известный, не подвергшийся проституциированию проститучьего межвременья, публицист. «Не позволивший» себе уподобиться, — старый большевик всё же, — российской «общественности». В начале века, — в угоду упивающемуся поражением на войне российскому истеблишменту, — забрасывавшего Императора Японии, генерала Маресукэ Ноги и адмирала Хейхатиро Того поздравлениями! И не устающему выражать в них «искреннюю радость» в связи с разгромом России под Ляояном, под Мукденом, под Цусимою и т. д. (Как демонстративно проделывал это великий пролетарский писатель Горький и ассистирующие ему прочие социалистические шлюхи!).
Для меня важно, что Вересаев был ещё и великолепным литературным критиком. И конечно же блестящим писателем, в глазах родителей моих прославившемся рассказами о «той войне». В особенности профессиональнейшими «Записками военного врача»! (Под маминым патронажем массово изданными товариществом А. Ф. Маркса в Петербурге приложениями к журналу «Нива» ещё за 1913 г.!).
…Викентий Викентьевич и Тойво обнялись по братски — она, оказалось, давно друг друга знали…
…И — внезапно — встреч пораженным родителям моим, только что молча тоже обнявшимся с Викентием Викентиевичем и в себя ещё не пришедшим:
— Объясняю обстановку, — отрапортовал сияющий доктор
Вересаев… — И, будто по написанному «прочёл»: …
— Прежде всего…Где–то за Соломбалом, — сам не был там, но знаю из радёвки, — на внешнем рейде Двинской губы по траверсу устья реки Золотцы, — четвёртые сутки Вас ожидает Ваш новый дом. Ждёт — для немедленного отбытия — только что спущенное со стапелей Эдинбурга Большое Госпитальное судно «LUI PASTEUR». Принадлежит оно Магистрату «Ордена Священного Странноприимного Дома святого Иоанна Иерусалимского и Военного Ордена Святого Гроба Господня» в Риме… Прощения прошу, но Орден так длинно называется уже…900 лет!… И Красному Кресту Вашего друга в Хельсинки… Цель рейса — Тихоокеанский регион. Предполагается, — пока, пока, — что судно на первом этапе — Северным морским путём — будет следовать впереди «Охотской арктической Русско—Британской экспедиции» АРКОСа — All Russian Cooperative Society Limited, London, Moorqet St, 49… И как бы в составе её…Что нужно об АРКОСе знать?
(А гости стоя выслушивали этот вересаевский спич в ожидании, что им предложат чего ни будь испить… Или присесть, хотя бы… Но их друга несло!)… Учреждёно общество в 1920 году Россией и Англией под председательством покойного Красина Леонида Борисовича. И…(скороговорочкою) усилиями известного Вам первого невозвращенца с августа 1923 года. Близкого и давнего друга Ленина Георгия Александровича Соломона (Исецкого). Большевика. Русского дворянина… К слову, великолепно организовавшего удачнейшую Первую Карскую Арктическую экспедицию АРКОСа в 1921 году к устьям Оби и Енисея…С того времени АРКОСом проведено было несколько очень успешных рейсов тем же Северным морским путём. В основном, коротких, каботажных, в одну навигацию. Все — к устьям больших сибирских рек. Там суда перегружались в баржи речных пароходств и принимали сибирские товары… Предполагается…Но пока…
53. Реакция.
Тут мама не выдержала: — «Викентий Викентьевич, дорогой, — нам попить и пожевать дадут чего ни будь? И…Пописать бы…А?…Это — мне…А Залману Самуиловичу, — кто знает, — ему может статься чего–то более существенное понадобиться. Он у нас с Вами человек не очень здоровый».
Реплика гостьи мгновенно выключила водопад. Но парою часов позднее докладчик продолжил:
— Предполагается — пока, тоько пока — что за предстоящей «Сибиряковской» экспедицией под командой коллеги Вашего, Залман Самуилович, Отто Юльевича Шмидта, и даже в составе её, килеваторной колонною отправить «PASTEUR» в сопровождении одного танкера и одного рефрижератора. Однако, кого–то у нас в СССР раздражает «не советский состав» экипажей Госпиталя и судов его сопровождения. И, якобы, «не ясные» замыслы и цели их офицеров…Не сомневаемся, что эти суда просто не хотят пускать в омываемые Ледовитым океаном «советские» моря. Не хотят, чтобы они входили в арктические порты или подходили к полярным зимовкам. И, боже упаси, приближались к поселениям и стойбищам аборигенов: уж больно страшными окажутся впечатления иностранцев от знакомства с практикой в них дружбы народов. От царящих там порядков…Всё так… Но наши архангельские умники забыли, что нельзя в мирное время запретить каким бы то ни было судам заходить в нейтральные воды (тем более, за пределами установленной нами же 12–и мильной прибрежной пограничной полосы!). Прямо не говорят. Хамят пока. Надеются, что «пугливые» Иоанниты и финны от экспедиции откажутся. Но штабы Магистра и Густава, — по договорённости с ведомством Сергея Сергеевича и исходя из возможностей своих судов, выучки экипажей и прогнозов ледовой обстановки в Арктике, — уже приняли достойное решение. И, кажется, отдали команду на автономное, — не зависящее от провокаций и не очень ясных задач экспедиции «Сибирякова», — прохождение судов Вашей экспедиции Северным морским путём. На выход их в Тихий океан… А там… А там на время, на какое мне не известно, «PASTEUR» и суда сопровождения станут решать задачи отправивших их медицинских организаций. В частности, по программам Международного, Финского Красных Крестов и Ордена Иоаннитов. Иными словами, превратятся в автономную эскадру глобальной экспедиции. В Мобильный медицинский профилактический Центр для прибрежных районов или стран (не знаю точно, знать будете Вы по вручения Вам «командных» документов). А в целом, для Тихоокеанских побережий Азии, Америки и, возможно даже, Австралии…
Оправившиеся и сытые гости, — за последнюю пару лет привыкшие, что ими командуют (если не помыкают даже), и всё это время лишенные элементарных развлечений, — продолжали вежливо слушать. …Госпитальное судно загружено британским АРКОСом закупленными в Англии, Голландии, Германии и Дании комплектами операционных и рентгеновских кабинетов. Предметных лабораторий и электрическими генераторами а так же декомпрессионным оборудованием для ЭПРОН (Экспедиции подводных работ особого назначения, В. Д.). Медикаментами. Бельём. Перевязочными. Продуктами питания, — с двух летним аварийным запасом на время плавания в Арктике, и ещё на год, — для работы на Востоке. Водой, конечно. И сопутствующими товарами… Ещё (это он говорил, явно гордясь!) — в трюмах полные комплекты десяти мобильных полевых лазаретов… Каких — узнаете…И, — палубным грузом, — под брезентами. В том числе, двумя двухмоторными санитарными эвакуационными Летающими лодками Юнкерса (Савойя). Четырьмя комплектами аэросаней. Тоже Юнкерса…Кроме того, судно несёт два десятка моторных эвакуационных вельботов и два, тоже эвакуационных, моторных баркаса!…Ну как!?… (Не без некоей восторженности) Здорово?!…»….?!
Здорово, конечно, Викентий Викентьевич, «согласился» отец… За лекцию благодарим. Но нам–то она зачем — Ваш красочный доклад? Мы–то при чём?…
…А при том, — друзья, — что с часа сего и вплоть доприхода Плавучего госпиталя «PASTEUR» со свитою на Тихий океан (а возможно и далее), главным хирургом экспедиции и госпитального судна утверждена кандидатура Вашей уважаемой супруги (сказал, будто не о присутствующей!)…Да, Вашей супруги, дорогой мой человек! Кандидатура товарища моего по войне Стаси Фанни ван Менк…Простите, Фанни Иосифовны Додин. Устроителями, — и в числе их — да, да, опять же наш Сергей Сергеевич Каменев, — не забыты и Ваши заслуги в организации полевой госпитальной деятельности на Волыни по ведомству верховного начальника санитарной и эвакуационной части Русских армий принца Александра Петровича Ольденбургского (+ 6 сент. 1932 г.; приказы по военному ведомству от 3 сентября 1914 года №568 и от 2 января 1918 года № 981!). Потому и Ваше имя, наряду с именем супруги Вашей, названо в качестве со руководителя Плавучего Госпиталя. Названо Правлением Международного Красного Креста в Женеве. И не просто названо, но по рекомендации…Вы попытайтесь… устоять на ногах:…по рекомендации «Божией милостью смиренного Магистра Священного Странноприимного Дома святого Иоанна Иерусалимского и Военного Ордена Святого Гроба Господня, охранителя убогих во Христе Иисусе, с Резиденцией на виа Кондотти в Риме»…Благоволите прочесть?…Это Вам не кто ни будь. Это Великий Магистр Иоаннитов. Ватикан это!…
…Родители мои на ногах устояли. Того более, по прочтении письма с «виа Кондотти» им ничего не надо было гадать: Провидение имело имена — епископ Мюнстерский фон Гален, Карл Густав Маннергейм и всё тот же, всё тот же Каменев Сергей Сергеевич.
Через три дня, — в которые им рекомендовалось не выходить даже в закрытый высоким забором сад особнячка (а вечерами — ночами тем более — перед зажженными лампами в доме с зашторенными окнами не мелькать!), — Иван Иванович объявил, что они насовсем, «с вещами», покидают и Архангельск и саму страну…
В полночь, сопровождаемые Викентием Викентиевичем и управляющим, они вместе с Тойво и его чичисбеями, — отправились в путь. Добрались за пару часов до берега Двинской губы, где «на рейде где–то» ждал их «PASTEUR». Потом долго ехали берегом… Въехали, наконец, на мол…
…В сизой дымке утреннего тумана в глубине бухты, над стальным зеркалом моря сказочным призраком, нарисовалась перед их восхищённым взором отшвартованная на якорях–бочках, ослепительно белая громада судна. По центру, — и наискосок чуть–чуть, — оно было кокетливо перечёркнуто широкой вертикальной красной опознавательной полосою «Его Величества Великой Гуманной Принадлежности»… (Красный и Мальтийский кресты где–то так и напрашивалися!… Но они и парили на вымпеле нока фок–мачты — глаза только стоило от сверкавшего корпуса оторвать и, голову задрав, взглянуть в верх. В лазурь белой сияющей ночи…).
54. Преддверие.
Подойдя к судну двумя часами позднее — дважды обойдя его вокруг а потом круто развернувшись — моторный вельбот с путешественниками нырнул в бездну прозрачного отображения корабля. Вспорол и разметал искрящееся поле осколков бело красной зыби у опознавательной полосы. Подошел по вдребезги размолотой тени к высоченному, — в полнеба (казалось) — откосу борта. И здесь, у нижней площадки парадного трапа, притёрся кранцами к плавающему около него на жестких концах швартовочному плотику.
Вплотную подтянутая к нему страховочной тягою «лыжи» — поплавка, посверкивая рифлёным металлом ярко оранжевых поверхностей, покачивалась на лёгкой зыби Большая летающая лодка. С боков китоподобного корпуса её, — круто спереди, от форштевня, поднятого к пилотской кабине а потом вздёрнутого сзади, от кормы, — уютно теплилась цепочка иллюминаторов, не ярко подсвеченных изнутри длинного фюзеляжа. Сразу за кабиной пилотов корпус лодки нёс опёртую на него, и слитую с ним, изящную — «крылом чайки» изломанную — и мощную плоскость. Провисающие чуть истонённые концы её, через разнесённые широко шасси–стойки, опирались на два длинных шлюповидных поплавка. Плоскость, — спереди сверху, по оси стоек, — несла на консолях пару двигателей, полу прикрытых брезентами. Из под них, «стыдливо» будто, выглядывали трёхлопастные укороченные чёрные тянущие винты. Завершали композицию красавца–моноплана распахнутые крылышки оперения на вертикально стоящем высоченном стабилизаторе. Лихо торчащий «Хвост» моноплана украшен был знакомыми всему миру фирменными эмблемами «Юнкерса»…Правда, под боковыми стёклами кабины красовался ещё один, пока ещё менее знакомый, но громко уже заявивший о себе символ: Savoy. Тогда, в 1932 году, он, верно, никому кроме спецов вообще ни о чём ещё не говорил. А вот четырьмя годами позднее победительное имя итальянской «Летающей акулы» SAVOYA-55 будет на слуху у всего человечества. Заставив его узнать и надолго запомнить чем иногда заканчиваются под фанфары начавшиеся кровавые аферы. Хотя бы, та же «Испанская». Когда «Акулы» спасли от гибели ввергнутую в гражданскую войну страну Сервантеса и Гойи. И не одну её… И на 5 лет вперёд перенеся «День М» (В. Суворов—Резун).
…Коминтерновские паханы, посчитав Испанию (по их традиционному выражению) «уже в кармане», зарвались. Гнали к берегам её из своей не изжившией ещё пережитых потрясений нищей страны, — не оправившейся от небывалого в человеческой истории украинского голодомора с поеданием собственных детей, — бесчисленные караваны с украинскими же пшеницею и салом. Гнали корабли с вооруженными до зубов собственными «комсомольцами–добровольцами» и проплаченными коминтерном за счёт народов России мародёрами–террористами всех мастей и наций планеты. «Ещё немного, ещё чуть–чуть и Мадрид наш! Можно начинать освобождение Европы уже с Запада! От Пиренеев!». Поторопились: «Летающие акулы» отследили, отловили и методически «выжрали» по–акульи в акваториях Средиземноморья и Атлантики всю имевшуюся тогда у «освободителей» и без того жалкую наличность торговых флотов Чёрного и Балтийского морей. А за одно львиную долю военных кораблей базировавшихся в Севастополе, Поти да и в Кронштадте и показывавшихся в этих водах. Итальянцы, — нация высочайшей культуры, — воевать за чужие интересы не умели да и не хотели. Зато строили великолепные лидеры (Например, крейсер «Ташкент»; но этот — для Сталина) и создавали замечательные самолёты., летавшие дальне, выше и быстрее всех. Для себя… Да, солдатами были они всегда никчемушными. Фридрих Великий: «Итальянцы хороши противниками — один батальон пруссаков и они сдаются. А если союзники — надо держать армию, чтобы их защищать!…Итальянцы слишком мудры что бы быть храбрыми солдатами. Они предпочитают быть первыми в науках и искусствах».
…Первым прибывших встретил пилот самолёта Анатолий Дмитриевич Алексеев, занятый талями с ростров (которыми опускается на воду или поднимается на палубу самолёт)… Они, — родители мои тоже, к их стыду, — не знали, что перед ними Сама…Её Величество Легенда Арктики!… В 1928 году в немыслимых — без края и конца — ледяных просторах Севера отыскал Алексеев оставшихся в живых участников злосчастной итальянской экспедиции полярного исследователя Умберто Нобиле. И, после гибели дирижабля «Италия», рискуя жизнью вывез на материк генерала и членов его экипажа! По настоянию спасённого им воздухоплавателя, — с 1932 года консультирующего в Москве «Дирижаблестрой», издавна дружащего с самим Магистром Ордена Иоанитов–госпитальеров, — лётчику Анатолию Дмитриевичу предстоит сопровождение Экспедиции на «PASTEUR».
Надо сказать, что внезапная встреча в час расставания с советским военным пилотом не могла не обеспокоить Ивана Ивановича. Почувствовал ли это сам Анатолий Дмитриевич, или так задумано было, но…из наружного кармашка комбинезона он извлёк бумажник. Раскрыл его. И Тойво увидел под целлофаном маленькую фотографию, на которой рядом с Анатолием Дмитровичем Алексеевым изображен был…Александр Иванович Замятин!…Комкор (корпусный генерал, по современному) — медик. «Манчжурец». Активный участник маминого «Спасения». Даже друг молодости кузена её Юрия Яановича Розенфельда. И потому близкий знакомец Бабушки Анны Розы. С мамой Замятин работал на Мировой и Гражданской войнах. Инспектировал её госпитали от Военно–санитарного управления, а позднее — от Совета врачебных коллегий…(Он часто бывал у нас дома — ребёнком, я запомнил его. После «вивария» Латышского детдома — со второй половины 30–х гг. и до моего ареста, пренебрегая положением моим, — дружил со мною: часто заходил к Бабушке и ко мне, принимал нас у себя в семье, трогательно ухаживал за начавшей слепнуть Екатериной Васильевной Гельцер, опекал мою старушку. И, как оказалось, посвящён был в святое святых семьи — в тайну взаимоотношений тётки с Маннергеймом).
При встрече лётчика Алексеева с родителями моими и демонстрации им фотографии получилось нечто похожее на предъявление им пароля:
«Пароль?» — спросил в шутку отец.
— Пароль! — Всерьёз ответил пилот Алексеев. — И пожалуйста будьте спокойны: я Сергею Сергеевичу (Каменеву) друг…
…В своё время их судно войдёт в пролив Дмитрия Лаптева и Алексеев облетит с мамой, отцом и Тойво Новосибирский Архипелаг — от мыса Святой Нос, через Ляховские острова, остров Котельный и Землю Бунге с островом Вилькицкого. Угрюмое и мрачное преддверье светлой сказочной, — и из покон веков недосягаемой, — мечты поколений скандинавских и русских поморов — Гиперборею с Fata morgana Земли Санникова где–то на Севере… Сядет на проталину ледника у самой легендарной «Поварни Толля» на Земле Бунге. И вчетвером они проведут сутки в гостях у Светлых Душ одного из покойных хозяев её — Толля Эдуарда Васильевича, руководителя экспедиции Российской Академии наук 1900 года на яхте «Заря». И товарищей его, пропавших где–то там два года спустя…Помолчат у святого пристанища при зажженных факелах. Вспомнят и подумают о времени, когда страдал там, — и куда рвался, и куда не раз возвращался искать пропавших, — друг детства мамы и товарищ молодости её моряк Александр Васильевич Колчак. Тогда, на Бунге, только ещё флотский офицер, но успешный учёный–гидрограф и уже сложившийся полярный исследователь; потом пациент мамы и герой Порт—Артура — начальник артиллерии «22–го форта» крепости. Потом вновь исследователь. Потом Адмирал. Командующий Балтийским флотом. Флотом Черноморским. Наконец, Верховный Правитель Российского Государства… Преданный чехами и убитый в 1920 году под Иркутском ещё не чуявших собственного конца, позднее тоже расстрелянными, чекистами…
Вспомнят, залетевшие, ещё одного моряка — участника той же злосчастной экспедиции — капитана 2–го ранга Николая Николаевича Коломейцева. До Русско- японской войны капитана легендарного ледокола «Ермак». А при Цусиме героического командира героической команды славного миноносца «Буйный»…
Вспомнят и организатора гидрографической экспедиции к Северному полюсу Георгия Яковлевича Седова на судне «Св. Фока», с которого в 1912 году попытался он на собачьих потягах выйти на вершину планеты и… умер близ о. Рудольфа…
Ещё вспомнят они двух славных россиян — Бориса Андреевича Вилькицкого–первооткрывателя, фамилией его Академией Наук России названны острова, над которым только–только совершил почётный круг их красавец–моноплан. Тоже Полярного исследователя — начальника Гидрографической экспедиции в Северной Ледовитый океан на судах «Таймыр» и «Вайгач» в 1913–1915 гг.; с 1920 года — эмигранта… (Тогда, в 1932–м, дальнейшая его судьба была им не известна. О ней, кратко: он много работал, жил достойно, и в 1961 году умер…).
И Вилькицкого Андрея Ипполитовича, отца Бориса Андреевича, полярного гидрографа–геодезиста, руководителя гидрографическими исследованиями Ледовитого океана и шельфов его от Печорского до Енисейского устий. Писателя, художника–графика. В 1903–1913 гг., — генерал–лейтенантом, — возглавлявшего Главное гидрографическое управление. И в этом своём естестве начальника, научного руководителя и кумира самих Бунге, Толля, Вилькицкого–младшего, Колчака… Имя им Легион… Но какой Легион!
Господи! Какая же мощная плеяда больших русских учёных возникает, вдруг, — будто на проявляемой фотографической пластинке, — лишь только из одной маленькой частицы маминых воспоминаний! Что ни имя — личность! Что ни эпизод — подвиг! Что ни название — история державы!…Даже в «мирное» время глумясь над нею безумными «экспериментами», рушим и теряем главное и невосполнимое — величайший Дар Божий и бесценный плод цивилизации, — Пытливый и Благотворный Мозг Нации…
На колченогом, временем истёртом столике расставят они по крахмальной салфетке захваченные с собою, и из казённых фляг наполнят до краёв стопки. Хлебом их покроют. Осияют светом поминальных свечей. Вдосталь поплачут над ними никого не стесняясь… Стесняться–то нечего. И некого! Вокруг — на полмира — пустота кромешной темени начинающейся полярной ночи! И при НА ВОЛЮ отворённой, до пепла иссыхающей от времени дверце (в пепел иссыхающей «Поварни» — в Арктике ничто не истлевает, даже покойники в ледяных могилах) помянут светлую память былых её насельников…Теперь уже, — верно, — на веки вечные Бессмертных…
А перед возвращением к судну, ружейным и пистолетными салютами и новой стопкой, отметят ещё одно случившееся здесь же двумя десятками лет прежде событие — Хождение в этих местах легендарного норвежца Фритьофа Нансена на «Фраме». Да не только здесь и не только на тоже легендарном его судне, но пешим ходом на лыжах…(Представить только — где и расстояния какие!?). И в честь и в светлую память о том, пролетят на самолёте своём часть исторического маршрута героя Арктики! Не «просто» героя для них. Но, — двумя годами прежде, — ушедшего в мир иной спасителя истязаемых в лагерях военнопленных граждан Европы — жертв Мировой войны, затеянной авантюристами и денежными мешками. Спасителя голодной смертью умиравших россиян, загоняемых насильно в ловушку «свободы, равенства и братства». Фокус, тысячелетиями назад отработанный теми же мешками — ненавистниками всяческих братств, равенств и свобод…
…Так дотошно пишу о деталях куда как многим более чем полу вековой давности рассказа незабвенных родителей моих про первую встречу их в Архангельске с Оранжевым Монопланом и со славным Пилотом Его. Потому, во первых, чтобы вновь и вновь помянуть их и напомнить о них всем, кому доведётся прочесть мою повесть. В первую очередь, моим детям и внукам. И из за того ещё, что Оба Они, — Человек и Самолёт, — по Высочайшему Предопределению сыграют не маловажную роль и в драме собственной моей и народа моего судьбы…
55. «PASTEUR».
…У трапа встретит маму, отца, Викентия Викентьевича, нобелевских управляющего и сопровождающего родителей «Ивана Ивановича» капитан Госпитального судна Кристиан Рехаузен–младший. Мамин земляк. Первый помощник его Ээркки Рамсей. Тоже земляк мамы. И главный врач экспедиции профессор Магнус Петерсен. Надо же — земляк тоже! Сказать следует: их, — ингерманландцев, — с Петрова Времени не счесть на российском флоте, коммерческом и военном, земляков её! Встретившие маму и отца, через Викентия Викентьевича, перезнакомятся с ними. И, — люди дела, — сразу начнут долгий и обстоятельный обход корабля…Но, люди гостеприимные интеллигентные и чуткие, — первое помещение, в которое тотчас проводят они родителей моих до начала обхода и покажут, — отведенный им изолированный жилой блок в «операционной» палубе. Проводят чтобы, наконец, пришли в себя. Обвыклись со своим новым положением. Откроют и покажут их пять кают: Салон (кают компанию), столовую, спальную и два кабинета — уже приготовленных для них и тщательно прибранных так, как умеют это делать только на флоте. В передней поприветствует хозяев вестовой мамы Пётер Пунгас… Старший матрос. Юноша…И он — надо же — тоже земляк её!…Встретит и её адъютант — капитан 3–го ранга Ольгердт Свебелиус. Этот — из Упсалы, Швеция. Взойдя на борт, проходя палубами, поднимаясь на больших бесшумных лифтах к своему блоку (пребывая в совершенной прострации от увиденного функционального великолепия блистающих свежею отделкой судовых интерьеров) они по началу внимания не обратили на одежду команды. Только теперь, глядя на рапортующих вестового и адъютанта, осознали: ИХ корабельный экипаж, — он, весь как есть, — военные моряки! И «LUI PASTEUR» — военный корабль!… Вернулось, будто, время пережитых ими войн. Военных лет — время молодости… И снова они, будто, в своем «поезде–лазарете», который восемь лет был ИХ подвижным домом и походной маминой операционной–летучкою…В его отмытых и отдраенных до блеска, — как на этом корабле, — купе, отсеках и покрытых ковровыми дорожками светлых переходах–коридорах. В его освещённых мощными лабораторными лампионами и подсвеченных потолочными зеркалами, полированной сталью сияющих операционных…
Надо знать: эта дорогостоящая «роскошь» — не приманка для привлечения заинтересованного взора будущего богатого клиента или даже покупателя. Не нарочитое сопровождением и сопутствием знаковыми элементами кричащего интерьера ультрасовременная и рвущейся в престижнейшие и наиболее востребуемые лечебница. Не потёмкинская деревня, призванная прикрыть функциональные убожество и, что хуже, недееспособность лечебного учреждения. Ибо, не просто для медицины, для медицины военной тем более, такой аксессуар. А сколок рабочей атмосферы госпиталя в США, где пользуют только президентов — главнокомандующих вооруженными силами. Более того, важнейший элемент лечебного и оздоровительного (выздоровительного, уточню) процесса.
«Представь раненого, искалеченного, в дерьме и в крови вывалянного и землёю засыпанного солдата, — говорила мама,. — Представь человека в шоке тягчайшей личной катастрофы. И, — если он в сознании, — мучимого непереносимой животной болью, невыносимыми моральными страданиями абсолютной брошености, одиночества и трагической беспомощности. Представь Божью тварь, душу человеческую, утерявшую всяческую надежду выжить. Надежду Спасения… Что сие значит для верующего, — просто для любого человека, — объяснять нет нужды… И, вдруг, — в ярких паузах секундного выплывания из коматозной трясины беспамятства, тотчас после всесокрушающего ужаса окопной действительности, — Чудо Воскресения! С вознесением в серебряные, — сверкающие ослепительными линиями стен и потолков белого металла, освещённые сияющими «солнцами» — чертоги… Рай Боттичеллев! Ангельский глас «поэта игры линейных ритмов!»…
А в раю нет места ни страданиям ни смерти…
Новая больничная архитектоника — какой же это мощнейший стимул излечения и выживания!…И не вспомогательный вовсе. А наиважнейший аксессуар надежды! Это не мои фантазии, — закончила мама. — Это воплощенные мечты Гиппократовых апостолов и озарения истинных архитекторов–гуманистов. И конечно нетленные впечатления–оценка великого множества тех, кто прошел драматический путь задетых раскалённых металлом».
…Тем временем, — в каютах их блока добрыми и умелыми руками извлечён уже из дорожных ящиков не мудрёный скарб, нажитый несколькими годами труда в таёжном поселочке. Вещи разобраны, отчищены, выправлены. Отглажено тщательно и разложено аккуратно по ящикам и полкам шкафов бельё и развешаны носильные вещи. Книги перетёрты и умело, — «с головой», — расставлены по полкам кабинетов, стопками разложены на столиках, стоят на тумбочках у изголовий коек. А сами койки застелены по домашнему не казённого вида бельём и устланы верблюжьими одеялами…Дебют вестового — мальчика в таких родных кондриках погонов!
…Рабочий кабинете главного хирурга — в маминой каюте–кабинете — по чёрному дереву переборки тёмной бронзы буквы пастеровского откровения: «Желание — великая вещь, ибо за желанием всегда следуют действия и труд, почти всегда сопровождаемые успехом». В нём организован был и посошок на дорожку.
…И тут же поминальная, — по светлую душу и память Эммануила Людвиговича Нобеле, — стопка и ломоть по светлую душу и память Безвременно усопшего в не давние дни. А потом нобелевский управляющий (NN) и Тойво (пока ещё Иван Иванович), без предисловий и объяснений, вручат родителям новые Бельгийские и Шведские паспорта с финскими визами. Паспорта «Нансеновские» — те самые «вездеходы». И папочку с мамиными именными (секретными) реквизитами–кодами прямой её радиотелеграфной связи с Маннергеймом (С «резервными» волнами и позывными радио–обсерватории «PASTEURа»).
С сюрпризом папочку: откинув чёрную шагреневую обложку её, мама увидала отлично выполненную копию–факсимиле оставленного ещё в 1929 году, — в квартире по Доброслободскому 6, — … своего Диплома. Выданного ей Попечителем Именного Е. И. В. отделения Санкт Петербургской Военно–хирургической академии. И на обороте редчайшего этого документа, — с удушающим волнением, со спазмом сердечным, — прочла оттиснутую серебром первую свою и единственную на всю оставшуюся жизнь Клятву—Присягу на верность делу, которому служит:
«Принимая с глубокой признательностью даруемое мне наукой право Врача и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, я обещаю в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим, свято хранить вверенные мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами её процветанию, сообщая учёному совету всё, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам–врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того потребовала польза больного, говорить правду прямо и без лицеприятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей более меня сведущих и опытных; когда же сам буду призван на совещание, буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям»…
Свою Присягу знала она наизусть. Так же, как на коже Диплома, Она оттиснута была в её всегда ясном сознании.
В не ею сочинёнными, но вечно в уме повторяемыми словами Клятвы—Присяги, она постоянно проверяла прочность философии своего существования…
Провожающие её поздравят с предстоящим походом. Пожелают счастливого плавания. И, — попрощавшись с мамой, отцом и Тойво с его командой, — отбудут, вместе с обцелованным плачущей мамою и, тоже с глазами на мокром месте, Викентием Викентьевичем, восвояси… (Они знали, чувствовали — больше не встретятся. Но «на связи» были все годы до кончины Вересаева в 1945–м, за восемь лет до возвращения её…).
Годы спустя, — говоря о первых часах и днях на своём удивительном судне, — она
вспомнит, как покойный Папа, перед кончиною своей созвав братьев и сестёр, сказал им: «сёстры и братья мои, я ничего вам не оставляю, кроме моего благословения, потому что из этого мира ухожу таким же нагим, каким в него пришел». Святейший невольно лукавил: сестре своей «Доктору Фанни» оставил он чудо бесценное — замечательный Госпитальный корабль… Оставил «АЛЫЕ ПАРУСА»…
56. Экскурс.
…Последнее, что покажут им в тот очень не простой день прощания с родиной… Быть может даже прощания с нами — кто мог тогда разгадать и предсказать НАШУ судьбу?!…Кем–то хорошо сказано: «Создав нас, Всевышний даровал нам великое благо непредсказуемости нашей судьбы»… В противном случае, родители наши должны были бы уже знать что случится в конце лета 1934 года. А случилось вот что: почти в то же самое место, где три года прожили они у нобелевских нефтяников, в посёлок Чибью (будущую Ухту), пригнали этапом моего старшего брата Иосифа. Пригнали с пятилетним лагерным сроком по «особому совещанию». Почти тем же путём «пригнали», что их. А одиннадцать лет спустя, — в январе 1944 года, — и меня доставят немыслимой конвойной оказиею на легендарный остров Котельный Новосибирского Архипелага (Где только что «гостили» они на «Поварне Толля» с Алексеевым. И где навестили Тени Александра Васильевича Колчака и коллег его по науке). Доставят навечно (как тогда считалось), загнав в шахту–отстойник убойного лагеря… «Земля Бунге»…
Теперь же, — чтобы успокоить и как–то поддержать их, потерявших нас, детей своих, и от нас трагически удаляющихся, — их проведут чрез новую анфиладу отсеков. Чрез ярко освещённые лампионами и сверкающие полированным металлом операционные залы на баке четвёртой палубы. (Где отдельным изолированным блоком расположены предназначенные и занятые уже ими каюты). Никогда ничему не удивлявшаяся, — и потому, практически, не успокаиваемая ничем, — мама всё же придёт в себя. До подступающей депрессии истязаемая неизбываемым горем прощания с прошлым, — в конце концов, — покорится действительности. Сдастся открывшемуся взору её, — изголодавшемуся по настоящему делу мастера, — строгому величию интерьера функциональных палуб огромного судна! И спросит, вдруг: «А что, Додька (так она звала отца), если всё это — ЕГО награда?… Хотя бы за годы ТАКОЙ работы… В разрушенных землянках… В залитых траншеях… В загаженных окопах… Везде — под настилом из гнилых брёвен под осыпающейся на голову и на «стерильные руки и инструмент» землёю (Было, было и такое!)…Всегда в грязи, в мерзости, во вшах…В крови».
— «Возможно… — Ответит осторожный супруг её… — Но, быть
может, что и за всё, за всё остальное, тоже что то стоившее, родная моя». —
— «Всё остальное, родной мой, ничего не стоит в сравнении с одной хотя бы единственной спасённой человеческой жизнью!… Ни–че–го!».
…По ассоциации с думою о «награде», вспомнили они днём прежде посетившую их мысль (не кощунственную ли, впрочем?!). Разом пришедшую и Вересаеву… Подумалось им об истинной сути недавних, откровенно ура патриотических, рассказов Викентия Викентьевича: О следовавших, — года эдак с 1928–го, — одного за другим, и на годы вперёд готовившихся АРКОСом к переводу на Восток, в СССР, богатейших караванах с промышленными богатствами мира! «Именно, — но ТЕПЕРЬ уже с Запада, — в Сибирь и на Европейский Север России!». И подумалось: как счастливы были бы сегодня, узнав о том вместе с ними, и два теперь уже и вовсе далёких друга их.
Первый — академик АН СССР Ольминский Михаил Степанович (если точно — Александров). Некогда яростный деятель революции… года чуть ли ни с 1890–го или даже прежде. А ныне молчаливый, безропотный, сломленный напрочь и беспомощный член большевистского гадючника. Он всё ещё ярится. Но про себя. Про себя петушится ещё по поводу грязных гешефтов грабителей народных достояний. Хранитель Эрмитажа, искренне переживает разбазаривание его веками собиравшихся сокровищ. Но уже не воюя за них. Правда, ему и семье его открыто угрожает расправой наглая, чёрт знает из каких щелей набежавшая, банда новых «хозяев страны». Банда жадного и наглого жулья из бесчисленной, — постоянно почему то множащейся, как тараканы, — «когорты старых питерских большевиков». И не простых! А во главе с предводителем клана — самим крестным отцом Петроградской каморы. Самим «заведующим Ленинградом и коминтерном» товарищем Зиновьевым!
…Десятилетие шушера эта нагло и безнаказанно открыто растаскивала и широко распродавала западным спекулянтам бесценные раритеты Величайшего Музея мира! Величайшие сокровища России!…
Второй — организатор первой Карской экспедиции АРКОСа, — сам столбовой дворян и тоже неудавшийся большевик, зато вполне успевший русский интеллигент, — Георгий Александрович Соломон (Исецкий). В 1923 году он бежал из брюссельского филиала лондонской Акционерной лавочки московского внешторга — тогда одной из ведущих шпионско–воровских малин «страны советов». Бежал, — ХВАТИВШИСЬ!, — от отвратительных и непереносимых для порядочного человека подлых и непереносимых «законов», царивших в заграничных «учреждениях» ленинского режима. Точнее, в воровских синекурах–кормушках. В средоточии валютной и товарной «междусобойной» контрабанды. В атмосфере беззастенчивого «отстегивания» своим доли «общака», в который превратили они народное достояние…
Дело до того дошло, что и ему, — потомственному дворянину Исецкому (о том знали все), «как ближайшему другу Ильича!», — погань эта тоже навязывала отстёгивание доли!…
…Крыша у него — было — поехала!…Но схватился: бежал на Запад!
Генетически порядочнейший, честнейший, прямой но оступившийся в юности человек, — вырвавшись из капкана, — начал он свою войну с жульём, родину его ограбившим. Воевал как мог: в том числе бил, бил и бил во все мировые колокола–набаты по–бухгалтетски выверенными, до тошноты скрупулёзными книгами–свидетельствами. Документами о том, как и с кем дело имеют и чем торгуют «честные» европейские и американские негоцианты и правительства. Воевал, слёз жалобных не лия в дружеские жилетки, как всемирно известный академик! Атеист — из безысходности непонимания сытым миром — пытаясь докричаться даже до «христианской совести» мира! Пытаясь обратить внимание пусть не торговой Европы, но Европы культурной (была же такая, чёрт бы её побрал!) на творящийся в России, — аналогов не имеющий в истории цивилизаций, — разгром культуры национальной! Следовательно, — опять же, — культуры европейской! Домогался внимание хотя бы обратить на беззастенчивое разграбление пусть одного только российского золота Гохрана и раритетов того же Эрмитажа, грозящее валютными катаклизмами… Одним, — тем же зиновьевским, — кланом хотя бы. Семейным сообществом–саранчою, действующим, — вкупе с криминальной семьёй Хаммеров, — через расшифровываемые им «внешнеторговые» малины. Вот, через тот же АРКОС, через который недавно потрошили они в ы м и р а ю щ и й от голода народ!
— «Теперь оба они, и все мы, — вырвалось вдруг после этого спича у «не совсем правильного» большевика Вересаева, — мы благодарить должны Иосифа Сталина! Да, Сталина! Именно!… Подумайте: каких то пять лет назад начал он разгон по расстрельным подвалам державы навалившейся на поверженную ими Россию бесчисленной своры нахрапистых и, казалось бы, всесильных грабителей. И вот уже к началу прошлого года часть их разогнал. Грабёж начал пресекать… Пусть не окончательно ещё. Пусть жестко. Жестоко даже! Но пресёк хотя бы одно единственное из множества их преступлений! (Надеюсь, Викентий Викентьевич не спросит у Ольминского относительно правомочности продажи товарищем Сталиным охраняемых академиком музейных ценностей. Пусть уже не ради банального грабежа, как его предшественники. Но для приобретения… десятков тысяч танковых двигателей и авиационных моторов для затеваемых в Европе «освободительных» походов?)…И вот они — ОСЯЗАЕМЫЕ результаты святого дела далеко не святого человека, Сталина, — караваны товаров для народа, купленные пусть только на часть убереженных им ценностей!»…
Не знали бы родители мои автора панегирика как облупленного, не представляли бы всего что предстоит детям их, и не будь они теми кем были, — самое бы время, гипотетически пусть, «опуститься» им за борт…В ледяную воду…Охладиться. Просохнуть. И присоединиться (подписав его) к откровению Викентия Викентьевича…
57. Приуговление.
…В 1928 году, в Мюнстере (Вестфалия), в доме тогда ещё епископа графа фон Галена, родители мои встретились со своим племянником Эмилем, сыном маминой кузины Екатерины Гельцер и Густава Маннергейма. Не виделись они 18 лет, с тех пор как в 1910 году стал он воспитанником монастырского пансиона Валь—Мон в Глион сюр Монтрё (Швейцария). От них впервые узнал он всё драматические подробности трагедии матери, с 1917 года оказавшейся в захлопнувшейся перед нею советской мышеловке. И в 1930–м году тайно, — как его отец в январе года 1924–го, — явился в Москву. Явился по глупому: о поездке в известность никого из близких и надёжных не поставив! Мать увидел только из зрительного зала — не встретился с нею из страха ей навредить. Родителей моих, нас с братом по телефонам не нашел — и не мог найти. В поисках нас забрёл в кем–то уже занятый наш дом…Ужаснулся…Растерялся…Заметался…Запаниковал… Слава Богу, в доме на тот час не оказались новые его владельцы…
Что за иностранцами в Москве «присматривают» и хвоста им вешают он наслышан был. Потому во дворе не расспрашивал никого. А ведь в доме жила семья захватившего его исполнителя Короля!). В состоянии близком к истерике возвратился в Мюнхен. Бросился оттуда в Хельсинки к отцу, с которым из–за матери конфликтовал и даже не общался Бог знает сколько времени…
Маршал увидел перед собою сломленного горем сына. И ещё… до нельзя потрясённого увиденным в Москве — а не увиденным ещё больше(!) — несчастного человека. Понял, что с Эмилем происходит нечто такое, на что немедленно должен реагировать. Но реагировать не на следствие — на причину! Причина — исчезновение племянников. На арест Фанни и Залмана Густав уже отреагировал!
Теперь он «подключил» друга — Аладара Паасонена. Люди генерала тоже быстро «нагнали» маму и отца в Харькове. Тоже, «ни на минуту не теряя, вели» до посёлке геологов в тайге. И на месте. Но нас тоже не нашли. И, как Эмиль, найти не могли: мне, пятилетнему, — перед отправкою из Даниловского «детприёмника» в «Латышский» детдом, — гиппократова падчерица Лина Соломоновна Штерн успела сменить имя. А Иосиф в 1929–м году, при «захватывании» нас, сбежал. Однако, на этот раз финны продвинулись: подтвердили бабушкин «прогноз» мотивов причин ареста родителей и создания «дела». Они оказались ни чем иным как прощальными, не иначе как инфернальными, фантомными коликами мстительного до вечных истерических припадков параноика Троцкого. Объекта, — в Сербии ещё, — случайной мгновенной, как всегда снайперски точной, маминой диагностики. Ведь не с проста же сам он измыслил и настойчиво, — годами, и где только получалось, — поддерживал чрезвычайно выгодную ему парашу о паранойи Сталина! (Диагноз которой, якобы, установлен был, в декабре 1927 года Владимиром Михайловичем Бехтеревым). Уже выметенный из–под пыльного ковра российского политического балагана, — в далеке своём, — Троцкий чрезвычайно силён и опасен пока ещё не расстрелянными кагалами своих апостолов, апологетов, последователей и фанатов–террористов. К тому же, сам он наделён редкой злопамятностью и сугубо большевистской боязнью неизбежной и скорой верёвки на шее. Не трудно его понять: днями и ночами ожидает он — патологический трус — неминуемой расплаты за годы изощрёнейших надругательств над изнасилованной им Россиею. Ведь чудом только ушел от этой вот верёвки, когда Юденич Николай Николаевич уже подошел к Питеру, когда Антон Иванович Деникин подходил к Москве…
Расплата неизбежна — в этом он прав. Но не скорая.
Сталин — любитель и мастер повременить. «Сторонник растяжения удовольствия понаблюдать над конвульсиями томительных ожиданий избранного им кандидата в подвал» (Бажанов). И милостивая верёвка Троцкого не ждёт: скорой и лёгкой смерти в петле товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, — бывший личный политкомиссар товарища Главкома Льва Давидовича Троцкого, — своему бывшему начальнику не уготовит. Смерть его должна быть мучительной и долгой…Думал ли он о том и ждал ли такого постоянно, или временами, о том можно только гадать. Но думал. Потому опасен был для своих недругов чрезвычайно. И, отец планетарного терроризма, продолжал из своих эмигрантских нетей, из иммигрантского далека целеустремлённо мстить. Маме, в том числе. Мстить за всё! За её былые попытки остановить осуществлявшееся по его команде зверское уничтожение меннонитов Украины. За стремление её за это его наказать. За московское, — вместе с Бехтеревым, — разоблачение ею детдомовской креатуры его Штерн — детоубийцы–изуверши. Озверевшей окончательно после громкого и потому скандального, по её адресу, панегирика в печати высоких употребителей её интеллигентных услуг. А за тем по выдаче ими «великой омолодительнице» мандата на безнаказанность, когда кремлёвские старцы окончательно подрастеряли потенцию мыслить. Наконец, за прозвучавшее в 1928 году в Вестфальском Мюнстере — теперь уже на весь мир — документированное в адрес его обвинение мамою в организации и личном участии в массовых ритуальных казнях христиан — немецких и голландских колонистов–лютеран.
Для спасения моих родителей Маннергейм «поднял» всю «Президентскую рать»! Через финские спец службы «вошел» даже в полусоветский АРКОС в Лондоне. Через АРКОС же — не сразу — но вышел на агентов, а за тем и на штабы, «за семью печатями» рейса «PASTEUR-а» (узнав с огромным удовлетворением, — счастливый, — о планируемом заходе экспедиционного судна–лидера в Архангельск!). Лично познакомился с руководителями самой «Трансарктической Экспедиции Красного Креста и Иоанитского Ордена Госпитальеров». Из первых рук получил сведения об особенностях принятой ими схемы прохода каравана на Восток Северным Морским Путём, с прогнозируемым скандинавскими синоптиками и гляциологами временем выхода его в Тихий океан — в Большой Мир. Решил, что для его Фанни и мужа её то будут варианты оптимальные. Наконец… дал всей «затее» своё «Добро!». Тем самым обезопасив и устроив, — Волею Всевышнего (его выражение!), — свободную и, что уже точно — точней некуда, предельно активную жизнь его друзей на всё непредсказуемое время плавания по Мировому Океану Большого Госпитального Корабля. В сущности, Нового их — Богоданного — Дома. Дома с персональной действующей клиникою для «Хирурга Божией милостью». Библиотекою, с одним из виднейших шведских библиографов профессором Эриком Мисса, для супруга её — учёного. И с наисовремённейшей радио обсерваторией (системами связи) с ним. Надёжнейшим убежищем на всё непредугадываемое ими, и друзьями их, время всё ещё никак не продумываемых всерьёз путей поиска нас с братом. Без чего, — конечно же, — вся эта многосложная, удивительная и, в принципе, замечательная затея Густава по временному, хотя бы, оставлению России была бы… не для наших мамы и отца…Людей глубоко и искренне верующих. Постоянно сверяющих намерения свои с Великими России, внимающими им с небес…
***
…И вот она — самая значительная самооценка практического результата всех неимоверных усилий их Финского Друга — первая радиограмм Его в адрес родителей моих (На которую мама ответила всем, чем тогда могла — слезами): — «Родные! Счастлив!»…
Об этом рассказала сама она в декабре 1953 года в моём зимовье на Ишимбе. Об этом рассказал Карл Густав Эмиль–младший (племянник мой и внук Маршала) во время второго его приезда к нам с Ниной Оттовной в Москву
58. Отплытие.
…В полдень неяркого полярного дня 28 июля 1932 года Архангельск, заполнив гавань, торжественно и шумно провожал в Арктику ледокольное судно «АЛЕКСАНДР СИБИРЯКОВ» под командой Владимира Ивановича Воронина. Экспедицию на нём возглавлял знаменитый Отто Юльевич Шмидт, коллега и товарищ отца по математическим обществам и Физмату Московского университета.
А в 22 часа на 1 августа, — сопровождаемый танкером «КЛОТО» и рефрижератором «ЛАХЕЗИС», спокойно и тихо, с погашенными габаритными огнями, ушел в океан и «LUI PASTEUR». Командовал экспедицией сын сподвижника Нансена и руководителя первого Карского похода АРКОСа капитан Эрих Свердруп…
На Баренцевом и Карском этапах маршрута их, как и «СИБИРЯКОВА», страховал ледокол «ЛЕНИН». Это был перекрещённый, — при подготовке Карской ещё экспедиции, — ледокол «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», в конце Первой мировой войны построенный в Британии по заказу Русского правительства…
Менее чем через два месяца «PASTEUR» и оба сопровождающих его судна без происшествий завершили поход на Восток. Для чего прошли Белое море. Море Баренцево. Южнее Новой Земли вошли в Карское море. Проливом Вилькицкого — в Море Лаптевых. Обойдя с Юга остров Котельный, вошли в Восточносибское море. Южнее острова Врангеля вошли в море Чукотское.
…Было это 22 сентября. Их Госпитальное судно проходило Беринговым проливом на траверзе островка Little DIOMEDE — островка Американского. Внезапно заговорило аварийное радио: голосом Карла Густава Маннергейма оно сообщило буднично о Свободе, которая для них наступила.
Когда же несколькими часами спустя они отсалютовали сиреной проблесковому маяку «Kape PRINCE of WALES» на Seward Peninsula — на самом Западном мысе Аляски, — из репродукторов по всему огромному их кораблю, и с маяка, возвышающегося на мысе, — душераздирающе и ликуя пронзительно зазвенели серебром римские литавры! И грянул могуче хорал Гимна Итальянского Рисорджименто «Va pensiere sellable donate» из оперы Набукко (Навуходоносор). Гимн борьбы за возрождение страны и её освобождение от австрийского владычества: «Лети наша мысль на золотых крыльях!» поют евреи, вырвавшись из Вавилонского плена…
Слёзы…Рыдания…Свобода! Но какова цена её?…
…Прошли на Юг, в Тихий океан. Далее они проследовали в Анадырьский залив. И на рейде в устье реки Анадырь стали на якоря…
Рейс «СИБИРЯКОВА» был не таким безоблачным.
Вообще, не под счастливой звездою спущено было на воду в 1909 году и окрещёно злосчастное судно! В этот раз Берингова пролива достигло оно через два месяца и четыре дня по выходе из Архангельска. Тоже, как до него и «LUI PASTEUR», прошло оно Северо–восточным путём в одно лето без зимовки. Но дался путь этот не легко: судно чудом прошло страшный мыс Шелагского, раздавлено — было — у мыса Биллингса, потеряло винт, и последний участок прошло…под парусами!…Рейс судна наречен был героическим. Таким он и остался в истории освоения Арктики…Однако, во истину героической была повседневная мирная трудовая жизнь этого судна до 1932–го года. И после, в годы до военные… И в первые полтора военных… В августа 1942 года, в Карском море, 33–х летний старик–ветеран полярного флота «СИБИРЯКОВ» оказался на пути широко, открыто и нагло пиратствовавшего в глубинах русской Арктики германского рейдера — «карманного» крейсера «АДМИРАЛ ШПЕЕР». И был им потоплен…
В навигацию 1932 года, — во время аварийных работ (по случаю потери винта) на злосчастном «СИБИРЯКОВЕ», — рацией «PASTEURа» получена была «международная» радёвка. Ею капитану Госпитального судна и старшему пилоту Алексееву предписывалось: «…случае необходимости взять на борт зпт профессору Петерсену оказать «гематологическую» помощь механику Бармину (Василию Фёдоровичу) матросу второго класса Баранову (Геннадию Семёновичу) тчк членов экипажа Сибирякова вернуть месту службы». Радиограмма подписана была капитаном аварийного судна Ворониным (Владимиром Ивановичем), судовым врачом Никитиным (Константином Александровичём) и Кренкелем (Эрнстом Теодоровичем) с позывными последнего «Р–А–Е-М», известными всему читающему газеты и слушающему радио человечеству…
Капитаном Кристианом Рехаузеном копия её тотчас легла на стол дежурившей по лазарету маме… Вот тут то вот как раз и следовало бы… «пожелать ей удержаться на ногах!». Ведь Эрнст Теодорович Кренкель был не просто её знакомым. Он близким другом был нашего соседа по дому в Доброслободском переулке у Разгуляя в Москве, и дальнего родича мамы — Александра Карловича Шмидта (им посвящены главы повествования о детства «Площадь Разгуляй»). И он хорошо знал меня ребёнком! Этого оказалось «не достаточным»: доктор Никитин несколькими годами прежде мамы, в 1912–м (он старше её на два года), окончил Медико- хирургическую академию. Проработал до «СИБИРЯКОВА» 11 лет в качестве морского и военного врача. И, как однокашник, не раз встречался с мамою на всяческих юбилейных сходках.
Мама не из тех, что упадают в обмороки…
Не ординарного врача и доброго товарища, Константина Александровича Никитина, она очень ценила и глубоко уважала. Но… бдительные «друзья–сопровождающие» в возможной встрече с ним ей отказали! Огорчённая, она и тут «устояла». И, не медля, за собственными именными позывными, ответила на позывные Кренкеля собственной радёвкой:
«Шмидту Воронину Александру Карловичу Кренкелю тчк исчез слушатель лекции природе полярных дне ночи (эпизод беседы со мной — ребёнком — Эрнста Теодоровича. В. Д.) бога ради разыщите тчк».
Ответ пришел тотчас:
«Рехаузену Квитанция доктору Тчк Александр Карлович умер Тчк Ищем Тчк Счастливого плавания Тчк».
Эрнст всё понял! Всё поняли и до времени «успокоились» родители.
Самое интересно, что «случай», о котором говорила радёвка Воронина, Никитина и Кренкеля, представился вскоре. Анатолий Дмитриевич Алексеев и второй пилот–штурман Герхард фон Рихтгофен (брат известного германского лётчика, с 1918 возглавлявшего истребительную эскадрилью своего имени, а в 1932 году — военного атташе Берлина в Риме — Вольфрама Фрайхера фон Рихтгофена) слетали к «СИБИРЯКОВУ» и гематологических больных к себе доставили. Пользовали их там три ли, четыре дня — достаточно для общения с ними мамы. Главное, для её «обмена» через больных (и только через них!) с Кренкелем, и пожелания всем добра и здоровья!…
59. Провозвестие!
О том, что родители живы (и только о том!), я узнал в зиму на 1935–й год. Через полтора года после того как в Москву торжественно возвратились спасённые участники трагической Челюскинской эпопеи. Среди них оказались и… машинист Бармин Василий Фёдорович и старший матрос Геннадий Семёнович Баранов, члены экипажа помянутого выше судна «СИБИРЯКОВ». Их привёл в детдом ко мне, а потом сразу к тёте Кате, Кренкель… Сам он должен был молчать. Тётка, оберегая маму, долго ничего мне не говорила…
Тайны, тайны…
***
Набрав в Анадыре свежей воды и продуктов, все три судна экспедиции снялись с якорей. Чуть более чем за полторы недели обогнули Камчатку, зайдя на трое суток на рейд Петропавловска Камчатского. Вошли Охотским морем в Гижигинскую губу. И бросили якоря на траверзе рыбачьего посёлочка Олы — у тогдашних ворот Колымы. Это было то самое место на планете, та самая крохотная точка на глобусе куда, — если не считать тюрем их детей, — рвались в поиске своём мама и отец… Мама, — понятия не имевшая об Одиссеях своего кузена, — надеялась найти, и даже встретить, исчезнувшего после московского их свидания 1925 года двоюродного брата Юрия Яановича Розенфельда. Или хотя бы что–то о нём услышать. Отец — узнать: не здесь ли высадилась — если высадилась — упомянутая таёжным их осведомителем изыскательская партия ЦВЕТМЕТЗОЛОТА в конце 20–х гг.? И нет ли в составе её его старых, — по екатеринославльскому Каменскому, — заводских друзей — Очеркана и Семенихина? Но даже если надежды их и не исполнятся, — а они очень надеялись что исполнятся! — всё равно, тогда и сам их драматический трансокеанский рейс, и само Госпитальное судно — Промысел Божий!…
Конец
Иерусалим. 2009 г.
Пояснение.
Для моего редактора А. Н. ПОЗИНА.
«ПОМИНАЛЬНИК УСОПШИХ»
Семейная повесть
(В 5 частях и 59–х главах).
Повествование охватывает время 70–х годов века ХIХ — 30–х ХХ века. События и факты ею освещаемые подлинны. Подлинны и герои её, часть которых автор десятилетиями назвать не мог, сохраняя имена их в благодарной памяти.
Прежде всего это старейшина протестантской (меннонитской) общины Московской Старо—Немецкой слободы, потомственный финансист элиты обеих столиц, собиратель здоровых сил российского общества, — подтачиваемого уже бесами безбожия, — Анна Роза ГААЗЕ (в девичестве ЧАМБЕРС — из славного рода птенцов гнезда ПЕТРОВА), племянница и сподвижница почитаемого народом Московского Тюремного врача Фридриха—Иосифа HAASE, в память о коем возведены храмы и часовни в сибирских каторгах, а в Москве, — на территории его Гаазовской больницы, — установлен памятник. Мафусаиловой жизнью связала она несколько поколений москвичей и своих потомков (Автор — правнук её).
Это Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова, страстотерпица, святая при жизни (В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил её, преподобномученицу, к лику новомучеников российских). Вопреки воле царствовавшей сестры и её венценосного мужа пытавшаяся по окончании Балканских войн предотвратить откровенно готовившуюся российскими и германскими родичами её новую — только уже Большую — войну в Европе. Тайно собирала она воедино мыслящую их часть, для того на исходе 1913 года вырвалась — инкогнито — в Белград а за тем в Палестину… Свои провокаторы дело Её святое сорвали, в бойню вступили, обрушив тем три европейских империи и унеся на обломках миллионы человеческих жизней и десятки миллионов искалеченных судеб. Вместе с убитыми Романовыми сброшена в уральскую шахту и Она сама — основательница Марфо—Мариинской обители милосердия. Сброшена в бездну смуты и Россия. С нею рушится судьба питомицы и единственной подруги В. княгини — Марфы Николаевны Бирулёвой, дочери адмирала — героя Севастополя. Но заступает ушедших молодая сподвижница Елисаветы в милосердном служении — Стаси Фанни Ван Менк, операционная сестра в Маньчжурии, Порт—Артуре и Японии. Возвратившись на родину, — в 1909 году, вместе с бароном Карлом Густавом Маннергеймом и друзьями, — организует она благотворительное «Маньчжурское братство» (десятилетие поддерживавшее и спасавшее от безысходности и нищеты излечиваемых раненых). Общество, по утверждению Михаила Васильевича Алексеева и Петра Николаевича Врангеля — предтечу Белого движения…А отстояв у операционных столов три новых войны, — обе Балканские и Первую мировую, в бытность уже Главным хирургом госпиталей Гвардии на Волыни, — создаёт в 1918 году Общество «Спасение». «Институт защиты спасителей — военных медиков» (Так, в марте 1921 года, — «убыв в краткосрочный отпуск», — вывезет она по льду «Маркизовой лужи» в финские клиники раненых моряков и корабельных медиков из восставшего и казнимого большевиками Кронштадта. И вместе с «братом» — Густавом Маннергеймом — организует десятилетие действовавший «коридор», по которому уходить будут на запад тысячи преследуемых россиян. Два года спустя Великий Гражданин России — Патриарх–мученик Тихон (В миру Белавин Василий Иванович), — в последние годы земной жизни каждодневно уничижаемый и оскорбляемый скогтившим его и страну комиссарским режимом, — совершит беспримерный подвиг! Во дни когда по всей огромной стране беснующиеся толпы рушат храмы и убивают пастырей, Он, — больной и, казалось бы, трагически одинокий и беспомощный, — невидимой стеною встаёт на пути сатанинской власти. И сломает, порушит подлые и коварные попытки её развязать новую мировую бойню. Случится это за два года до кончины Старца — поздней осенью 1923–го года.
С Ним были верные почитатели Его:
Ян Фрицевич Фабрициус, красный военачальник, крестьянский сын (в 1929 году погибнет он, якобы в авиационной катастрофе);
Георгий Михайлович Осоргин, — журналист, сын высланного Лениным противника большевизма, — литератор (он будет расстрелян в том же 1929 году);
Николай Николаевич Адлерберг — граф, Сын баронессы Амалии фон Лерхенфельд, дочери Вильгельма III короля Прусского, и кровной сестры Александры Феодоровны (принцессы Прусской), супруги императора Николая I (отец Николая Николаевича Владимир Феодорович Адлерберг — государственный деятель, 16 лет был Наместником в Финляндии; он — отпрыск великих шведских и русских родов: Свебелиусов, Баггехофвудтов, Нелидовых—Отрептевых, Сенявиных, Скобелевых), до отзыва в 1914 году — Николай Николаевич дипломат, — агент Романовыых при Баварском дворе; добравшись в 1916 году в Россию, он, — никому не нужный, чудом найдя близких, — метался с ними по разгромленной стране; чудом же разыскан был Патриархом Тихоном и определён исполнителем Плана спасения, задуманного Святейшим; но — старик уже, — по возрасту, и измотанный преследованиями, — устрашился, не уверенный в себе… Вернулся к ожидавшим на Волыни его родным — трём несчастным женщинам и раненому и умиравшему племяннику — генералу–медику…К породнившейся с ними лютеранской семье. Попал под их «раскулачивание» и к этапу, которым в январе 1929 года депортировались они — немецкие колонисты. (Пройдя все круги большевистского ада, — на 22–м году ссылки и на 102–м году жизни, — он скончался в Восточной Сибири…Супруга автора повести — Нина Оттовна Кринке — внучатая племянница Николая Николаевича Адлерберга).
Наконец, четвёртая участница и исполнительница Патриаршего Плана — помянутая Стаси Фанни ван Менк—Вильнёв (Фанни Иосифовна Додин), полевой хирург четырёх войн начала ХХ века, наследница неисчислимых поколений колываньских лекарей и мореходов (скончавшаяся в 1954 году). Мать автора.
Примечание к части 5–й повести — «Награда покоем»:
И. В. Сталину никто никогда не ставил диагноза «паранойя» — «диагноза» вымышленного, по смерть свою настойчиво муссируемого Троцким и, — по сегодня, — повторяемую апологетами его и сонмами политических попугаев. Обязательно поминаемая этими лгунами «Консультация Владимиром Михайловичем Бехтеревым И. В. Сталина» якобы происшедшая в московском доме Благоволиных 21 декабря 1927 года не состоялась по занятости в те дни Генсека и в связи с отмечаемым близкими днём рождения его. О том подробно — в 600 страничном романе В. Додина «ПЛОЩАДЬ РАЗГУЛЯЙ», изданном в 2008 году в Иерусалиме. (Занимательно, что пользуясь тяжкой болезнью автора, эпизод этот «редактором» романа-Мортиролога Л. Юнивергом тайно от него и весьма не чисто, — грубо, с множественными кричащими «огрехами», — выдран был из текста книги. Как вымарал ещё более 50–и(!) страниц криминальной сути романа, долженствовавших, якобы, бросить антисемитскую тень на ни в чём не повинное племя. Сейчас полный текст романа восстановлен и предстанет перед куда как более широкой аудиторией читателей) [1].
О том, что мифеческая консультация не состоялась — прессе 20–х гг. и известное свидетельство самой Академика Натальи Петровны Бехтеревой, внучки учёного (впоследствии заступившей деда руководителем Ленинградского Института мозга). Дело в том, что параноиком был сам Лев Давидович. Болезнь эту снайперски, — на вскидку, — обнаружила мама моя («в любом случае» опытнейший невро и психопатолог) во время скоропалительного интервью Троцким сотрудников её в 1913 году (корреспондентом «Южно русской газеты», во время Второй Балканской войны, заскочившим в один из Сербских лазаретов доктора Стаси Фанни ван Менк). Предполагая реакцию хорошо известного ей бонапартствовавшего холерика, она тем не менее, — после осмотра его на внезапном в 1920 году приёме в Кременецком госпитале на Волыни, — напрямую предупредила его о некогда уже поставленном ею диагнозе. Для него, — с боями рвавшегося в вожди весьма болезненного и мнительного человека, страдавшего к тому же эпилептическими припадками, — «приговор» опытнейшего нейрохирурга армии — ученицы Бехтерева — был страшен. Ненависть к единственной носительнице точного представления о «случившемся», главное — страх перед хранительницей «тайны» возникли тотчас. Выступление доктора ван Менк в 1926 году в защиту преследуемых им, — ПредРЕВВОЕНСОВЕТА, — в Украине колонистов–меннонитов ненависть удвоило. Поддержка Бехтеревым на заседании в Институте психопрофилактики обвинения креатуры Троцкого профессорши Л. С. Штерн в каннибализме ненависть распалило. А раскрытие и обнародование доктором Стаси Фанни ван Менк в 1928 году обстоятельств и подробностей массовых экзекуций по приказу Троцкого меннонитов Левобережья в 1919–20 гг. привело организатора ШОА в патологическую ярость и беснование. До безумия злопамятный, развенчанный уже и опальный — но ещё очень опасный тучей последователей и ставленников (в тех же армии и ОГПУ), он уже из своего зарубежного далека вынудил всё ещё верных ему бывших его заплечных арестовать и заставить молчать ненавистного врача и её супруга… Ни мама с отцом, — ни я, тем более, — так и не узнали: вызов их в Кременец в январе 1929 года — провокация это гонителей? Или, — напротив, — чей–то дружеский сигнал тревоги, когда схвачена была, ограблена и частью перебита семья их друзей–колонистов Юлиуса Кринке? Годы спустя даже многознающие названные братья мои Сергей Егорович Егоров, да что там — даже Александр Евгеньевич Голованов, даже они не сумел ответить на этот вопрос…
…По прибытии родителей в Кременец на место их арестовали. И, что бы «заставить молчать» — через Житомир и Харьков, — отправили в Москву. Другое дело: если речь об истинных друзьях, у «Доктора Фанни» и её мужа было их неизмеримо больше чем у Троцкого. Мало того, они были сильнее. Семьюдесятью годами спустя назвать их можно: вернейшими из них в России был Сергей Сергеев Каменев, тогда заступивший Троцкого на всех его «силовых» постах… «сменив» охрану тюремного вагона, в котором гнали маму и отца в Москву, и заменив сам сцеп, он отправил их…на север…
Три года спустя, — так и не обнаружив «исчезнувших» в том же 1929 году в Москве нас, их детей, — родителей моих из Республики Коми перевёл он в Архангельск. И в навигацию 1932 года проводил в экспедицию…
Мир праху помянутых нами усопших. Пухом земля.
Действующими лицами повести являются множество других свидетелей эпохи русской смуты — близких и даже предков автора. В их числе лиц исторических, — воспоминания которых (и о которых), и судьбы их (до сегодня не раскрытые) явились источниками сведений, легшими в основание повести.
Вениамин ДОДИН.
Иерусалим.
Эл. почта: Benadodin@gmail.com и Fanisilk@gmail.com
Тел.: (02) 590 17 31.
Факс: (02) 625 10 77.
Примечания
1
Подробное о том «Предисловие к очередному русскому изданию» романа-Мортиролога «Площадь РАЗГУЛЯЙ» перешлю в самое ближайшее время.
(обратно)


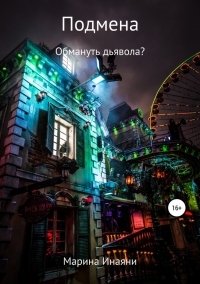






Комментарии к книге «Поминальник усопших», Вениамин Залманович Додин
Всего 0 комментариев