Алексей Александрович Федотов НАСЛЕДНИКИ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ роман
Я долго принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они нужны, они всё же полезны. Культура ничего и никого не спасает, да и не оправдывает. Но она — создание человека: он себя проецирует в неё, узнаёт в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он свой облик. Весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, его стоит любой.
Ж. П. Сартр «Слова»Сама по себе радость скорее похожа на особую печаль, но это именно те муки, которых мы жаждем. Несомненно, каждый, кто их испытал, не променял бы их на все удовольствия мира. Удовольствия, как правило, в нашем распоряжении; радость нам неподвластна.
К. С. Льюис «Настигнут радостью»— Что же ещё можно сделать с героем, — спросила миссис Макинтош, — как не поклониться ему?
— Его можно распять, — сказала Джоан.
Г. К. Честертон «Перелётный кабачок»ДУША И МЕДЯК ОТ АВТОРА
Автор одной из спорных философских систем, порожденных двадцатым столетием, Айн Рэнд считала, что «если бы от всех философов потребовали представить их идеи в форме романов и драматизировать точнее, без тумана, значения и последствия их философии в человеческой жизни, философов стало бы намного меньше, но они были бы намного лучше».
Предлагаемый вниманию читателя роман, конечно же, не философская система. Но в нем поднимаются очень многие проблемы, затрагивающие современного человека, как глобальные, так и мелкие, казалось бы, но влекущие за собой совсем не мелкие последствия. Мелочей вообще не бывает — эта одна из мыслей, сквозной нитью проходящих через весь роман, который можно охарактеризовать, как очень эклектичное произведение. Трагичное в нем соседствует с комичным, фантастические элементы с реализмом, очень серьезное с тем, что может показаться легкомысленным. Сквозь все это проходит основной мотив — даже «маленькое» добро или зло, совершенное человеком, не проходит незаметно, откладывая свой отпечаток на его дальнейшую судьбу, а порой, меняя не только его жизнь, но и жизнь вокруг него. И пока человек жив — эта возможность выбора и связанных с ним перемен для него остается открытой.
Проблемы политического мироустройства и проблемы здоровья отдельной человеческой души — казалось бы, как они могут быть между собой связаны? Как простой человек может изменить жизнь вокруг себя? Есть ли грань, за которой для человека уже невозможно вернуться к Богу? Роман ставит эти и много других вопросов. В нем много умолчаний — самые светлые стороны человеческого бытия невозможно выразить словами, а о самых темных сегодня и так много пишут.
При написании этой книги хотелось, чтобы она не была ни скучной, ни затянутой. Но в то же время стремление к краткости не должно быть абсурдным. Великая советская актриса Фаина Раневская вспоминала, что в доме отдыха, где она была, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема — любовь, но есть три условия: 1) в рассказе должна быть упомянута королева; 2) чтобы было немного секса; 3) присутствовала тайна. Первую премию получил рассказ размером в одну фразу: «— Я, кажется, беременна и неизвестно от кого! — воскликнула королева». Хочется надеяться, что роман не получился таким, как этот рассказ…
Один из наиболее известных православных проповедников двадцатого века митрополит Антоний (Блум) писал, что «Царство Божие — поистине царство тех, которые поняли, что они бесконечно богаты: ведь мы можем всего ожидать от любви Божией и от человеческой любви. Мы богаты, потому что ничем не обладаем, мы богаты, потому что все нам дано. И, кроме того, как только мы цепляемся за что бы то ни было, мы становимся рабами. Мне вспоминается, что когда я был молодым, один человек сказал мне: Разве ты не понимаешь, что в момент, когда ты зажал в руке медяк и не готов раскрыть руку и отпустить этот медяк, ты потерял свою зажатую ладонь, ты потерял руку и потерял тело, потому что все твое внимание будет сосредоточено только на том, как бы не потерять этот медяк; обо всем остальном будет забыто…»
Этот роман — о тех, кто предпочел потерять себя, лишь бы сохранить свой «медяк» и о тех, кто, казалось бы, зайдя за край бездны, из которой нет возврата, нашел силы вернуться к Богу. При его написании я советовался со многими людьми — одни советовали убрать из книги одни места, а другим, наоборот, именно эти места казались лучшими, и они советовали убрать именно то, что нравилось первым… Поэтому я решил в основном оставить все так, как оно написалось. И еще хотелось предупредить: этот роман не развлекательное чтение, хотя я и пытался писать его так, чтобы он не был скучным.
ЧАСТЬ І ПАДШИЕ И ВОССТАВШИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Интернат
Сэр Джон быстро шел по занесенному снегом огромному двору районного комплекса социального обслуживания населения. За ним, увязая в снегу, пыталась не отставать его переводчица Элизабет.
— Какое ужасное место! — по — русски с отвращением сказала она, в очередной раз споткнувшись. Даже чуть не сломав каблук, Лиз ухитрялась сохранять английскую чопорность.
— Ужасное нам еще предстоит увидеть, — также по — русски ответил хозяин. Его попутчики видели, как он упорно тренировался говорить на этом языке, который раньше не знал, уже второй месяц, и достиг больших успехов.
Через двадцать метров им попался паренек глуповатого вида, чистивший снег.
— Ты здесь работаешь? — спросил его сэр Джон, которого все интересовало в этом интернате.
— Нет, я здесь лежу. Уже второй год, — блаженно улыбаясь, сказал парень.
— А почему ты чистишь снег? Тебя заставляют работать?
— Нет, мне Людмила Владимировна разрешает снег чистить.
— А кто такая Людмила Владимировна?
— Как кто? Директор!
— Вот как! И она разрешает тебе чистить снег?
— Ну да. Она говорит, что без физической нагрузки мышцы атрофируются, и поэтому надо работать. А если не работать, то я быстро умру. А я хочу жить долго!
— А дворника здесь нет?
— Почему нет? Есть — дядя Людмилы Владимировны. Но он старенький, ему наплевать, если и мышцы атрофируются. А мне ведь нужно жить и жить, я молодой, я хочу долго жить!
В глазах англичан блеснули веселые искорки, но вслух они сказали, что для того, чтобы жить долго, нужно работать еще больше. Пройдя еще метров пятнадцать они, наконец, вошли в главный корпус комплекса социального обслуживания населения.
— Вы к кому? — недоверчиво спросил их угрюмого вида вахтер, лицо которого напомнило чистившего снег парнишку, словно на оба их наложили какую‑то печать, но было не в пример более злобным.
— На семинар.
Вахтер начал сосредоточенно обдумывать незнакомое слово, мучительно пытаясь хотя бы отдаленно понять, что оно могло бы значить. Но тут к ним уже подбежала молодая улыбающаяся женщина в белом халате:
— А мы вас так заждались! Идемте скорее, без вас не начинают.
В небольшом зале сидело человек пятнадцать. Семеро из них были иностранцы, остальные — представители администрации интерната, руководства областного управления соцзащиты. Была даже заместитель федерального министра, отвечавшего за социальную сферу. Увидев сэра Джона — представителя влиятельного британского благотворительного фонда, все они встали и по очереди подошли засвидетельствовать свое почтение.
Программу семинара, посвященного международным благотворительным проектам, составлял заместитель начальника управления соцзащиты — здоровый пропитой мужик, который считал, что весь смысл любого научного мероприятия заключается в том, чтобы под его предлогом хорошенько напиться и нажраться за государственный счет, а если уж совсем повезет, то и положить себе в карман какую‑нибудь денежку. Поэтому на пленарное заседание было отведено всего полтора часа. Начальник управления была в этой сфере человеком новым. Наивная женщина, она верила всему, что бы ей не говорили.
— А это правда так нужно, Валерий Петрович? — спросила она своего заместителя.
— Конечно, я ведь уже сто иностранных делегаций принял.
О том, что восемьдесят шесть из них были нелегальными бригадами рабочих из Средней и Юго — Восточной Азии, заместитель благоразумно промолчал.
Заместитель министра, приехавшая из Москвы из‑за сэра Джона, одобрила такой план:
— Нечего на публику треп разводить, все равно все разговоры будут кулуарно.
Сэр Джон же любил наблюдать, и делать выводы, поэтому программу согласовал без возражений. Остальные иностранцы были его подчиненными.
Через полтора часа все участники семинара сидели за столом, накрытом в очень большой комнате, по всей видимости, представлявшей собой конференц — зал из которого вынесли стулья. Стол ломился от обилия выпивки и всевозможных закусок.
Валерий Петрович разлил всем спиртное, и, чтобы показать, как нужно пить, залпом проглотил содержимое трехсотграммового фужера с водкой.
— Ах ты, шалунишка! — добродушно укорила его начальница. Обычно вежливая, выпив пятьдесят грамм, она становилась очень развязной, все у нее становились «Валерами», «Славами», «Машами», «Петями».
— Зоечка, — обратилась она к заместителю министра, — ты представляешь, что если нас, посторонних людей здесь так кормят, то насколько лучше тех, кто живет здесь на государственном обеспечении!
— Ты кого имеешь в виду? — усмехнулась та.
— Пациентов.
— Я по ту сторону пока не была. А у тебя есть шанс все это узнать опытным путем.
— В каком смысле?
— Да нет, я просто так, — отмахнулась заместитель министра, поняв, что сказала лишнее этой недалекой тетке, которая ничего не понимает и пьянеет от одной рюмки.
А тем временем директор интерната Людмила Владимировна демонстрировала гостям местную самодеятельность — хор медсестер, врача — гармониста. Если они работали так же хорошо как пели, то дела интерната должны были идти в гору. Валерий Петрович все подливал всем. В какой‑то момент забыли даже про сэра Джона, который воспользовавшись этим, потянув за рукав Элизабет, вышел из комнаты и отправился побродить по интернату.
В коридоре им попался больной, дергавший за руку женщину в белом халате с жалобами на то, что у него болит зуб.
— Ну а я что сделаю? — спросила она.
— Как что? Ведь вы зубной врач!
— И верно, — сокрушенно сказала та. — Ну, иди, попрыгай немного.
— Так ведь от этого зуб не пройдет!
— А ты пробовал прыгать?
— Нет.
— Ну, так попробуй сначала, а потом мы будем рассматривать, насколько целесообразно применение иных методов лечения.
Завернув за угол, они почувствовали запах нестерпимой вони. Здесь начинались палаты с лежачими больными. У многих из них по несколько дней не меняли судно, забывали кормить. Сэр Джон внимательно осмотрел несколько палат, при этом никто из персонала ему не попался — все были на мероприятии. Наконец, они с Лиз пошли обратно. По дороге им попался Валерий Петрович, которого отправили их искать.
Заместитель начальника управления был вконец пьян.
— О, а я вас ищу! — улыбнулся он. И тут же, нагнувшись, поймал толстую белую кошку и ткнул ею, чуть ли не в нос англичанину. Тот инстинктивно отшатнулся.
— Люськина кошка! Знаешь, каких она крыс ловит?
— Каких? — поинтересовался пришедший в себя сэр Джон.
— Вот таких! — для того чтобы показать Петровичу пришлось отпустить кошку. Если верить ему, то получалось, что крысы больше кошки. — А у нее котята есть. То же крысоловы будут. Хочешь, мы тебе одного подарим?
— Зачем?
— Будет у тебя в замке крыс ловить!
— У меня нет крыс.
— А мы тебе наловим на развод.
— Боюсь, что это сложно будет решить с таможней, ведь на каждого зверя нужен отдельный ветеринарный документ, — серьезно ответил англичанин, любивший такие абсурдные ситуации, которые его развлекали.
— Жаль, — расстроился Петрович. — А вон и Люська бежит. Елы — палы, и Зойка с ней!
Через несколько минут сэр Джон и шокированная всем увиденным, несмотря на всю свою подготовку, Элизабет вернулись за стол.
За столом
Пока сэр Джон ходил по интернату, атмосфера за столом становилась все более непринужденной. Врачи и медсестры, участвовавшие в самодеятельности, по приглашению Петровича присоединились к сидевшим за столом, а еще через пятнадцать минут он начал петь русские народные песни, которые подхватили многие из собравшихся.
Заместитель начальника управления соцзащиты обладал красивым густым басом, и знал наизусть десятки песен. Но все портило то, что он слишком уж задумывался над их содержанием. Когда Петрович в чем‑то не соглашался со словами песни, то он резко прерывал пение, и начинал объяснять, почему петь такое невозможно. Так, начав петь песню «То не ветер ветку клонит», дойдя до слов:
«Не житье мне здесь без милой, С кем теперь пойду к венцу? Знать судил мне рок с могилой Обвенчаться молодцу» —он резко перестал петь и громогласно заявил: «Еще чего не хватало! Из‑за какой‑то бабы в могилу идти! А дальше, ведь там еще гаже: «Расступись, земля сырая, дай мне молодцу покой; приюти меня, родная, в тихой келье гробовой». И что, петь такую дурь? Ну, уж нет!»
Вдохновленная примером чиновника и одна из медсестер, изрядно захмелевшая, когда запели песню «Напилася я пьяна», начала ее комментировать.
«Расскажи‑ка мне, расскажи‑ка мне, Где мой милый ночует. Если спит при дороге — Помоги ему, Боже. Если с Любушкой на постелюшке — Накажи его, Боже», —с чувством, уже не следя за мелодией, и перекрикивая друг друга, пели виртуозы социальной самодеятельности.
— А я вот пою: «помоги ему тоже», — заявила медсестра Даша.
— Дура ты, Дашка, — назидательно сказал Петрович. — Разве можно так легкомысленно к мужу относиться?
— Да она просто уверена в своем Андрюше, — вмешалась медсестра Лена. — Поэтому и понтуется!
«Черный ворон, Что ты вьешься, Над моею головой, Ты добычи не дождешься — Черный ворон, я не твой!» —затянул заместитель начальника управления, а за ним подхватили все собравшиеся, кроме англичан, которые с большим интересом смотрели на всю эту «экзотику».
— Слава, спой, наконец, что‑то женское, — сказала заместитель министра Зоя Георгиевна, которой, глядя на происходящее, то же захотелось попеть. И затянула противным сопрано: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Хотя подстроиться к пению не имеющей слуха высокой гостье было не просто, все старались подпевать, как могли. Когда песня кончилась, Петрович заметил: «А там потом еще один куплет есть!»
— Какой? — удивилась Зоя Георгиевна.
И пьяный чиновник с чувством пропел:
«Но однажды ночью Буря разыгралась. И тогда рябина К дубу перебралась».И тут же заявил:
— А есть и еще один вариант окончания! — и с еще большим воодушевлением скорее прокричал, чем спел:
«Но однажды ночью Дуб к ней перебрался, И о чем‑то долго С нею он шептался. После этой ночи Кто‑то появился; Даже сам Мичурин Очень удивился».— Дурак! — заявила заместитель министра, но тут же выпила рюмку водки, и заставила врача — проктолога Пал Палыча, который почему‑то работал здесь психиатром, и который, умея теоретически блестяще объяснить, в чем связь психиатрии с проктологией, причем объяснения его были складны, но абсурдны; на практике одинаково плохо разбирался в том, в чем должны разбираться и психиатры и проктологи, однако был в то же время хорошим гармонистом, аккомпанировать ей и запела романс: «Мне сегодня так больно». Пела она премерзко, но все в один голос заявили, что Зоя Георгиевна поет ни чем не хуже, чем Изабелла Юрьева.
— Барыню! — скомандовала Пал Палычу заместитель министра и, схватив за руку Петровича, начала с ним отплясывать посреди комнаты.
Потом пришла пора частушек, в том числе и матерных. А осоловелая начальник управления соцзащиты Нина Петровна блаженно улыбалась и, закатив глаза, объясняла англичанам, что они видят таинство явления русской души. Петрович ее услышал и заявил, что хочет сказать тост:
— Этот тост затронет за самое живое каждого русского человека. Каждый почувствует здесь что‑то родное и близкое его душе, затрагивающее самые глубинные и потаенные струны его сердца!
И после этого он с чувством хрюкнул. Все засмеялись, кроме английских гостей, которые были в шоке.
А заместитель начальника управления распорядился, чтобы включили магнитофон, и тут же принялся комментировать песню.
«Помни, не забывай, Буду ждать, хоть целую вечность»,— пела Кристина Орбакайте.
— И недели бы не стала ждать, слово вам даю! — заявил Петрович.
«Я спасу тебя там, где никто не спасает» — на этих словах певицы Валерий вообще сморщился и провозгласил, что звучит здорово, но на самом деле было бы хорошо, если бы она не то что спасла, а хотя бы сама в гроб не вогнала того, кто ее полюбит.
— Валера, а может ты к ней неравнодушен, вот и хаешь девушку? — лукаво спросила Нина Петровна.
— Да ну тебя, Нина, еще скажи, что я Джону завидую, что он английский лорд, а я нет, — недовольно отмахнулся от нее заместитель, но почему‑то покраснел, что вообще‑то за ним не водилось.
Директор интерната вдруг увидела, что нет сэра Джона и сказала об этом Зое Георгиевне. А та тотчас всполошилась, и отправила Петровича искать англичанина. Не слишком ему доверяя, заместитель министра выпила еще рюмку водки и отправилась вслед за ним.
Григорий Александрович
— Сэр Джон, я посмотрела материалы с вашими требованиями. С местными кадрами мы ничего не сделаем, — сказала Зоя Георгиевна, отведя вице — президента фонда в сторону.
— Что дальше?
— У меня есть на примете один человек, которому можно было бы это поручить, если он за это возьмется. Но он сейчас в Москве, то есть нужно сделать перерыв в переговорах до завтра.
— Хорошо, тогда мы поедем в гостиницу в областной центр.
— Охота вам туда тащиться? Остановимся у Людмилы, условия в ее доме намного лучше, чем в любой гостинице. Правда, Люсь? — сказала заместитель министра.
— Ну да, — подтвердила директор интерната, прикидывая, сколько дополнительно денег и из каких фондов можно будет списать за размещение иностранцев «на постой» в ее коттедже.
Этот «калькулятор» включался у нее в голове вне зависимости от того, с кем ей приходилось иметь дело: даже из помощи родственникам она умела извлекать выгоду. Сейчас перед ней были люди, значившие для нее намного больше, чем родной брат и его сын, но и в отношении их Скотникова начала считать, даже не осознавая, что делает.
— Я не против, — сэр Джон любил экзотику. — Но разве все мы поместимся?
— Конечно! — подтвердила Людмила Владимировна.
А Зоя Георгиевна уже набирала телефонный номер.
…Григорий Александрович еще несколько лет назад работал профессором кафедры психиатрии в одном из московских институтов. Темой его научных интересов было манипулирование сознанием. Но некоторые статьи стареющего профессора не понравились «наверху», и ученому предложили написать заявление об увольнении «по собственному желанию».
Чтобы не существовать только на скромную пенсию, Григорий Александрович, нередко проводил то, что называл «наработкой экспериментальной базы по наработке практического материала по индивидуальному манипулированию сознанием».
Профессор в общении был необычайно интересным человеком. Сколько всего он рассказывал такого, да так убедительно, что некоторые, не знавшие его, поначалу даже начинали верить. Да и как не верить убеленному сединами шестидесятитрехлетнему мужчине, который без тени иронии рассказывает о том, какими неординарными событиями была наполнена его жизнь! Вот и сейчас, сидя за столиком в летнем кафе с новым знакомым, пареньком из провинции, приехавшим в Москву в надежде познакомится со знаменитостями, втрое моложе профессора, потягивая коньяк из фужера, Григорий рассказывает истории из своей жизни:
— Мы были простые ребята, вместе росли во дворе, вместе дрались, вместе начали курить и выпивать, вместе портили девок. Вместе поступили в институт и вместе вылетели оттуда за лоботрясничество в армию, вместе в ней отслужили. А сейчас мои друзья — один в аппарате Президента, другой — советник Председателя Правительства, третий — генерал ФСБ. Да и я …
— Что — вы? — с интересом спрашивает провинциал Сергей, с интересом ловящий каждое слово человека, сумевшего самому сделать себя в жизни.
— Полковник ФСБ, — говорит Григорий Александрович и допивает коньяк. Потом обращается к собеседнику: — Сереж, купи еще немного.
Парень, хотя у него и плохо с деньгами, бежит к стойке и вскоре возвращается с фужером, в котором двести граммов коньяка и маленькой тарелочкой с порезанным лимоном. Ведь не каждый день подворачивается честь угостить такого человека. Григорий залпом выпивает коньяк, нюхает дольку лимона, затем пристально смотрит на Сергея и говорит:
— Вообще‑то я генерал. Но об этом нельзя говорить!
— Почему?
— Потому что звание мне присвоено закрытым приказом. Но тут очень запутанная история, такую без бутылки не расскажешь…
Паренек на этот раз уже внимательно считает деньги в карманах, затем бежит не к стойке, а в соседний магазин, откуда приносит поллитровую бутылку самого дешевого коньяка.
— Вот и правильно! — одобряет Григорий Александрович. — Нечего этим барыгам лишнее платить!
И выпив еще полный фужер коньяка, который заедает маленькой долькой лимона, придвинувшись к Сергею, дыша на него перегаром, спрашивает:
— Ты знаешь, кто такой Барак Обама?
— Знаю, конечно. Президент Америки.
— А слышал, что он на наши спецслужбы работает?
— Слышал, но это глупость, наверное…
— Да нет, не глупость. Я сам его и завербовал и за это получил закрытым Указом звание генерала.
— А как это было?
— Да просто. Сидели вот так, как с тобой, он тогда еще никаким президентом не был, выпивали. А когда выпили побольше, то я ему говорю: «Барак, оставь мне автограф на память», и сую ему бумажку. Он, ничего не подозревая, подписывается. А это не просто бумажка — а подписка о сотрудничестве с нашими органами безопасности! Ему позор, а мне звание генерала, но тайно, правда.
— Так ведь это недействительно…
— Действительно или нет, а он меня до сих пор помнит. Вот увидишь его — попроси для интереса показать записную книжку с русским алфавитом, в которой он русских записывает. Так там Гриша, то есть я — на самом почетном месте. Только почему‑то зараза на букву «Х» записал — прибавил какой‑то эпитет к моему имени.
Григорий допивает коньяк и заливисто смеется. Видя, что деньги у провинциала закончились, говорит:
— Хороший ты парень, интересно с тобой поговорить, но меня ждут дела государственной важности.
И, покачиваясь, идет домой.
… Таких «экспериментов» за месяц Григорий Александрович проводил более десятка, благо Москва большой город, где можно найти наивных людей. Чтобы не чувствовать, что он банально ищет, как выпить и пожрать на халяву, профессор детально записывал беседы и свои выводы. Но ему претило такое времяпровождение, хотелось чего‑то большего. И как раз, когда его мысли об этом стали совсем горькими, на его мобильный позвонила Зоя Георгиевна.
— Григорий Александрович?
— Да.
— Это Зоя Георгиевна, помните меня?
Еще бы не помнить! Когда‑то она была его студенткой, у них даже был короткий, но бурный роман, а потом, много лет спустя, став заместителем министра, она посодействовала его увольнению из вуза… Вот уж кого он точно не ожидал услышать! Но вслух проникновенно сказал:
— Конечно, Зая. Разве я могу тебя забыть?
— Ты еще помнишь это глупое прозвище? — засмеялась чиновница, но голос ее из официального сразу стал игривым.
— Я помню все, что связано с тобой, — тихо произнес Григорий.
— Так обиделся, что вылетел с работы, что не можешь простить?
— Нет, так благодарен за чудесные мгновения прошлого…
— Да ну тебя. Ты, наверное, на мне свои дурацкие методики апробируешь! — голос Зои опять стал серьезным. — А у меня серьезный разговор и предложение работы. Через два часа тебя заберет машина и отвезет на переговоры в …, впрочем, неважно куда. Здесь мы проведем переговоры.
— Ты меня похищаешь? — засмеялся Григорий Александрович, который, несмотря на сильное опьянение, владел собой и говорил, просчитывая, что при его словах подумает собеседник.
— А хоть бы и так! — Зоя Георгиевна опять приобрела игривое настроение. — Хочу предложить тебе очень интересную работу. Завтра в десять утра встреча. Ночь тебе придется провести в дороге, но оно того стоит!
— Верю тебе, Зая, — сказал профессор, которого в Москве абсолютно ничего не держало. С женой он развелся много лет назад, кстати, опять же из‑за Зои Георгиевны; детей у него не было.
— Ну, вот и отлично. Диктуй адрес, куда прислать машину.
И заместитель министра достала из сумочки блокнот с ручкой и начала писать.
Владычица Лузервиля
Город, в котором находился интернат, назывался Лузервиль[1]. Столь громким названием он обязан своему бывшему мэру — Александру Григорьевичу Семихвостову, который сумел в одном лице объединить официальную и криминальную власть, и безраздельно правил здесь с 1993 по 1998 год. Александр был помешан на фильмах Аль Пачино, особенно ему нравился дон Корлеоне. Он даже заставлял, чтобы его звали дон Санчо, что особенно забавно выглядело, пока он был мэром. Так вот этого дона Санчо, когда он стал официальным главой города, стало очень напрягать его название. А имя город имел еще то!
Раньше это было село Большое Скотинкино, затем в 1950 году оно превратилось в город Бериевск, но уже через несколько лет после расстрела Берии, было решено вернуть прежнее название. Поскольку же село стало городом, то его назвали Большескотининск. Став мэром, дон Санчо всерьез взялся за переименование города. Причем, ему хотелось, чтобы название было звучным и на иностранный манер. Один из его знакомых на волне полной перемен российской жизни 1990–х попал на работу в администрацию Президента России. Он не особо любил Александра, и решил над ним посмеяться. Им было предложено назвать город «Лузервиль», причем всячески говорилось, что это очень круто, такой город приобретет мировую известность, и была обещана самая высокая поддержка в переименовании.
Дон Санчо клюнул на это, провел даже местный референдум, на котором большинство жителей высказалось в поддержку нового названия, так как каждому из них за это бесплатно дали бутылку водки и кусок студня. Администрация области пробовала вяло сопротивляться переименованию, но звонок из администрации Президента их переубедил. И Большескотининск стал Лузервилем. При этом его мэр оставался в счастливом неведении о том, что значит имя, которым благодаря его стараниям был назван город.
А через несколько лет, путешествуя в Америке, Александр заставил, чтобы на одном приеме его представили «дон Санчо, мэр Лузервиля». Когда же присутствующие начали смеяться, а затем объяснили ему, как это воспринимается, то он от досады, вернувшись домой, сложил с себя полномочия главы города, и уехал в неизвестном направлении. И уже не было больше десяти лет в этих местах дона Санчо, но память о нем осталась в названии города.
Лузервиль был небольшим городком с населением чуть больше пяти тысяч жителей. Производства к началу третьего тысячелетия, еще благодаря стараниям дона Санчо и его команды, в нем уже никакого не было. Многие перебрались в областной центр, кто‑то «челночничал», кто‑то перебивался случайными заработками. В целом людям здесь жилось плохо.
Единственным исключением был областной комплексный центр соцзащиты, который финансировался не только из областного бюджета, но и попал в целый ряд федеральных программ. В центре находилось свыше тысячи человек инвалидов, преимущественно психоневрологического профиля, со всей области, а также здесь могли получать социальную поддержку жители города и района, имевшие на это право в соответствии с законодательством. В центре имелось свыше трехсот рабочих мест, и он был единственным «градообразующим предприятием».
Из десяти депутатов городского совета восемь работали в интернате, в том числе и его директор — Людмила Владимировна Скотникова. Она же была выбрана этими депутатами (что неудивительно) на должность главы города. Хотя зарплаты за это не полагалось, это давало много дополнительных возможностей самого разного характера. Достаточно сказать, что главу администрации городка, при таком составе городского совета, она имела возможность назначать и снимать вполне свободно. Поэтому человек, который был выбран ей на это пост, знал свое место и делал то, что ему скажут.
Людмила Владимировна в полном смысле этого слова была владычицей Лузервиля. Она купила дом из тридцати комнат, который когда‑то принадлежал дону Санчо, и имела в нем большой штат прислуги, оформленной в качестве сотрудников интерната и получавшей зарплату из областного бюджета. С областными властями и правоохранительными органами Скотникова умела договариваться, поэтому на все, что бы она ни делала, закрывали глаза. И даже наоборот: наградили ее к пятидесятилетию орденом «Почета». Бандиты, которые когда‑то работали на дона Санчо, теперь работали на нее, занимая разные должности в интернате, и получая тройные оклады, а в реальности выполняя лишь то, что приказывала им Людмила Владимировна.
Ее особняк поражал роскошью. Зоя Георгиевна бывала уже у нее, поэтому ничуть не сомневалась, что дом директора центра является таким местом, в котором не стыдно разместить не просто высоких иностранных гостей, а того, кто на самом деле был их хозяином.
Разговор в дороге
За Григорием Александровичем приехал большой черный «Мерседес». Кроме водителя — молодого парня чуть старше двадцати лет, в машине сидел тридцатилетний мужчина в строгом костюме.
— Меня зовут Петр Иванович. В мои задачи будет входить юридическое сопровождение проекта, над которым вам предстоит работать, — сказал он профессору.
Григорий Александрович чувствовал себя паршиво, но, отхлебнув приличный глоток коньяка из предусмотрительно захваченной с собой бутылки, почувствовал себя уверенно и решил попробовать разговорить попутчика:
— Значит вы юрист? — спросил он.
— Да.
— Извините, конечно, но, на мой взгляд, право — это самая мифическая из всех наук. Об этом хорошо писал еще Свифт во второй части «Путешествий Гулливера», когда сравнивал законы страны великанов, какие они плохие, потому что короткие и всем понятные не в пример английским, разбираться в которых крайне сложно и почти невозможно, и трактовать их можно и так и сяк, что свидетельствует об их совершенстве.
— Ну, это какой век? — пренебрежительно улыбнулся Петр Иванович.
— А из современных художественных оценок этого феномена рекомендовал бы посмотреть фильм «Трасса 60» — там есть показательный сюжет о целом городе, в котором живут одни юристы, превращающие в ад жизнь тем, кто случайно оказался в их краях.
— Смотрел я этот глупый детский фильм, полная чушь! — недовольно сказал собеседник, которого уже начинал раздражать этот старик, так запросто и походя пытающийся внести дисбаланс в его устоявшиеся представления о мире и своем месте в нем.
— Почему же чушь? В гротеске очень показательно отражена вся формальность и ложь юридической казуистики, когда буква закона ставится превыше всего, а содержание буквы зависит от того, каким его сделает опытный юрист. И еще более показателен крах этой системы: чтобы ее разрушить, оказывается достаточно одного смертельно больного полусумасшедшего, который носит на себе жилет со взрывчаткой…
— И разве это не глупо? Ведь его вполне могли застрелить, когда он вышел из зала суда, а принятые под воздействием его шантажа судебные решения отменить? — начал уже спорить Петр Иванович, который обычно в такие дурацкие разговоры с подвыпившими людьми не вступал. Но ему тоже было интересно, что за человек тот, с кем ему, возможно, придется работать.
— Думаю, что не глупо. Это образно показывает то, что в реальности не все так просто. Нельзя думать, что мы так просто можем совершить то или иное действие если захотим — нам ведь могут и не попустить это свыше…
— Так вы еще религиозный фанатик? — презрительно скривился Петр Иванович, который ни во что не верил, кроме чудодейственных сил юридической науки и своих способностей заставлять эти силы служить ему.
— Где уж мне! — добродушно махнул рукой профессор и сделал еще один большой глоток коньяка. — Я просто старый человек, который умеет видеть и делать выводы.
— И что вы видите во мне? — с вызовом спросил юрист.
— Вижу, что вы догматизировали свою профессию, и относитесь к ней, как к своего рода магии, являющейся одной из примитивных форм проявления религиозности.
— Что вы себе позволяете?
— Вы спросили, я ответил. Вы думаете, что все подвластно вашему умению манипулировать словами, заключенными в тех или иных бумажках, авторитет которых зиждется на том, что их приняли те или иные органы. К сожалению, сегодня у нас в России юристы начинают играть все большую роль, хотя в реальности государственное устройство, основанное на юридических хитросплетениях, на правоприменительных и судебных практиках, когда отсутствуют простые и понятные всем законы — основано на песке. Любой закон, любую конституцию, любой подзаконный акт можно повернуть как угодно, а при желании и принять новые. Но это неизбежное следствие растущей секуляризации общества. Когда нет реального авторитета в голове и сердце людей, то приходится замещать его кучей бумажных «авторитетов». Хотя сегодня многие уже начинают писать о постсекулярном обществе, о новой религиозности. Но в Библии сказано, кто в итоге будет мессией этой постхристианской религиозности. И правовые аспекты будут просто безупречны с «юридической» точки зрения. Наверное, Вы смотрели фильм «Адвокат дьявола», где проводится мысль, что антихристом будет юрист.
— А вы философ! — уже снисходительно сказал Петр Иванович.
— Да нет, где уж мне! Но все‑таки, разве у вас нет чего‑то дорогого, чему вы посвящаете всю свою жизнь?
Собеседник профессора задумался. Оказывалось, что на сегодняшний день — это карьера и создание твердой материальной базы — любой ценой, хоть по головам, хоть по трупам. В отношении правильности у него было лишь одно убеждение — верно — то, что помогает ему идти вперед, неверно — то, что мешает. Ни любви, ни дружбе, ни вере места в его жизни пока не было. И впервые ему вдруг стало тоскливо, и появилось сомнение, так ли он живет. А Григорий Александрович словно прочитал по его лицу то, что творилось сейчас у него в душе, и с легкой усмешкой сказал в ответ на молчание юриста:
— Ну, вот видите.
После этого он сделал еще глоток коньяка, откинул голову на сиденье и через минуту заснул, оставив попутчика наедине с мыслями, которые ему удалось в нем поселить.
Другая жизнь рядом
Ольга шла по коридору интерната, устало опустив голову. Сегодня она опять вышла на суточное дежурство, после которого у нее должны были быть два выходных. Фактически они и были, но все равно почти каждый день Ольге приходилось сюда приходить, хотя никто ее не заставлял, даже ругали поначалу. Дело в том, что санитарок в интернате фактически не было; все ставки санитарок были распределены между служанками Людмилы Владимировны, а из трех медсестер этого отделения никто кроме Оли не выносил судно у больных. А в этом отделении, где лежали люди с тяжелыми психозами, зачастую осложненными соматической симптоматикой, тех, кто не вставал было пятнадцать человек. И если бы Ольга не приходила в свои выходные дни, то они так и лежали бы в нечистотах, и никому до этого не было бы дела.
А во время дежурства Оля пыталась выкраивать время, чтобы еще и мыть этих больных, обрабатывать их пролежни. Ей было всего двадцать пять лет. На нее смотрели, как на сумасшедшую. Дома у нее была больная мать, которой требовался немногим меньший уход, чем пациентам отделения, в котором работала ее дочь. Ничего такого, что сегодня понимается под словом «личная жизнь» у девушки не было.
Когда она не работала, то утром ходила на службу в местный храм. В нем служили три священника, и богослужения были каждый день, но только с утра — утреня, а сразу за ней литургия. Всенощное бдение служили только накануне воскресных дней и больших праздников. Народ в Лузервиле был в массе своей невоцерковленный, но прихожан в храм ходило много. Этот парадокс объяснялся тем, что для определенной группы прихожан церковь воспринималась, как своего рода «клуб по интересам», место общения. Священники подобрались тоже подходящие для этого города.
Настоятель, сорокалетний архимандрит Петр жил в коттедже, ездил на иномарке, дружил с Людмилой Владимировной, Валерием Петровичем, общался только с местной «элитой», часто наведывался в Москву в гости к Зое Георгиевне, постоянно ездил в областной центр, и в храме бывал редко.
Второй священник, пятидесятилетний протоиерей Стефан, жил с матушкой в добротном каменном доме. Двое его взрослых сыновей уже женились, каждому из них в областном центре отец купил квартиру. Три раза в неделю он служил в храме, а остальное время ходил, совершая требы по просьбам жителей города. Он был открыт для общения, но за постоянной спешкой и суетой, отец Стефан разучился смотреть внутрь человека. Его не интересовали терзания мятущейся человеческой души.
Третий священник, двадцатитрехлетний иеромонах Онисим, жил в коттедже архимандрита Петра. В его обязанности входило совершать все богослужения, которые некогда было совершать старшим священникам, а также он должен был охранять дом настоятеля, убираться в нем (а площадь дома была около двухсот квадратных метров, да еще с полсотни квадратных метров — чистка снега на дорожке к дому в зимнее время, а в летнее — сад и огород), да еще стирка и готовка. Поговорить с прихожанами у него физически не оставалось ни времени, ни сил.
Но был в храме и один священник, который не входил в его штат, и который разительно отличался от остальных. Судьба была жестока к игумену Аристарху. В семьдесят лет он оказался пациентом в интернате Людмилы Владимировны. Получилось так, что у него возник конфликт с некоторыми сильными мира сего, а они сделали все, чтобы в церкви ему больше не было места, ни в одном монастыре и ни на одном приходе. Своего жилья у игумена не было, родственникам популярно разъяснили, что это не то родство, которым нужно гордиться. И как огромное благодеяние для отца Аристарха выставили то, что он будет жить в интернате на гособеспечении.
Архимандрит Петр был при некотором снобизме довольно добрым человеком, он взял бы игумена в свой коттедж, но не имел права. Настоятель пробовал поговорить со Скотниковой, чтобы священнику дали отдельную комнату, и та нашла каптерку под лестницей, где раньше хранили швабры, без окон и вентиляции. Отец Аристарх со смирением воспринял вселение и в эту «келью», но она недолго была его пристанищем. Комиссия из областного управления соцзащиты поставила на вид Людмиле Владимировне, что это человек живет у нее в антисанитарных условиях, но она, ничуть не смущаясь, заявила, что он сюда сам убегает из хорошей палаты, потому что психически болен, а лечить насильно она не имеет право. И игумен переехал в отделение психозов, и каждый день два раза должен был принимать нейролептики.
Последняя радость, которая ему осталась — это то, что ему разрешали каждое утро ходить в храм. Но ни служить, ни исповедовать ему не разрешалось, но он мог причащаться. Почти все время службы он стоял на коленях и сосредоточенно молился. В интернате сделать это с тех пор, как он утратил свою «келью», было очень трудно: другие больные, лежавшие с ним в палате, начинали сразу оживляться, бегать вокруг него, корчить рожи, иногда выливали на него горшки с нечистотами. Повара во время постов обязательно старались подсунуть ему непостную еду, думая, что этим уязвят старца.
А он, чем больше всего этого происходило, тем более царственно спокойным становился, и только каждую литургию со слезами молился за жителей Лузервиля.
Ему не рекомендовалось разговаривать с прихожанами; отец Петр акцентировал внимание на том, что в принципе, конечно, можно, но потом, возможно, он не будет ходить в храм, так как его сюда не пустят. Отец Аристарх лишь однажды нарушил это требование настоятеля ради молодой девушки с глубокими чистыми глазами, выпускницы медицинского училища, которая подошла к нему, попросить благословения идти в монастырь. Старый игумен проговорил с ней около часа. В итоге он сказал ей, что она должна остаться дома ухаживать за больной матерью, работать в интернате Лузервиля, и при каждой возможности бывать в храме — это будет для нее выше монастыря. Девушка его послушалась. Это была Ольга.
Договор
1615 год. Индия. В эту жаркую среду сэр Джон Эктон и два его друга вместе с пятью индийцами — проводниками продирались сквозь джунгли к храму Кали. Зачем сэру Джону — англиканскому священнику на службе Английской Ост — Индской компании понадобилась встреча со жрецом этого зловещего языческого божества, которому приносились человеческие жертвоприношения? Его спутники не могли ответить на этот вопрос, а он им не рассказывал. Они дружили с ним много лет, и привыкли безоговорочно доверять. Сэр Джон сказал им только, что этого требуют интересы компании.
Его друзья — Джеймс и Гарри — не разделяли восторгов своего лидера по поводу их службы в компании. Они считали, что куда лучше им было тихо жить в небольшом английском городке, где у Джона был приход, а они служили офицерами в местном гарнизоне. Но он так сумел убедить их, что интересы Англии важнее их личных, что необходимо оставить все и ехать в далекую Индию ради грядущей славы Английской Короны! Они ему поверили, тем более, что руководством компании сэр Джон был назначен на какую‑то важную должность, а их обоих повысили в звании. И им сразу же дали какое‑то ответственное поручение, суть которого знал только Джон.
И вот они у огромного храма. Эктон дает знак всем остановиться, а сам бесстрашно идет внутрь. Его встречает одетый в белые одежды жрец. Он начинает говорить что‑то на местном наречии, но сэр Джон почему‑то все понимает. И от того, что он слышит, сердце его холодеет. Он здесь для заключения договора между компанией и духами, которые управляют этой страной. Такой договор можно заключить лишь один раз в году — в среду на неделе перед Пасхой. Компания получит власть над этой страной на два с половиной века. Ее руководители будут править местными царями, заключать мир и объявлять войну. Они будут хозяевами всех сокровищ этой страны. Правда, в Англии эта власть уже не будет столь значимой, но ее отблеск будет ощутим и там. Но для этого избранные представители компании должны служить духам, которые управляют этой страной.
И сегодня сэр Джон в знак заключения этого союза должен принести первую жертву Кали — своих друзей и проводников. После этого вся природа Индии будет ему повиноваться, самые ядовитые змеи и самые страшные хищники будут послушно исполнять его приказы. Тогда уже через год он станет английским лордом, через пять будет повелевать местными раджами. Более того: он постигнет все тайны местных культов, научиться не чувствовать боли и усталости и сможет прожить пятьсот лет. Но его долгом будет готовить все новых посвященных. И чем больше их будет, тем более крепкими будут позиции Английской Ост — Индской компании в стране. Эктон может отказаться: ему ничего не грозит в этом случае, ведь он лишается всего влияния, власти и богатства, которые мог бы иметь.
Сэр Джон медлит лишь минуту. Он выходит из храма, зовет в него друзей, каждый из которых не раз уже, рискуя собой, спасали ему жизнь. Не говоря ни слова, он стреляет прямо в лоб сначала одному, потом другому. Жрец одобрительно кивает, затем выходит и зовет проводников. В отличие от Джеймса и Гарри, которые были неподвластны служителю Кали, эти находятся в полной его власти. Они идут, чувствуя, что обречены, не пытаясь сопротивляться. Каждому из них сэр Джон отрубил голову. И он идет по джунглям назад уже совсем иным: он чувствует, что приобрел огромную власть, но потерял то, что было неизмеримо важнее любой власти. На секунду в его сердце вкрадывается раскаяние, и он думает, не пустить ли себе пулю в лоб, как он сделал со своими друзьями. Но он отгоняет эту мысль. И через каких‑то пять лет лорд Джон становится полноправным властителем этих мест.
Единственное, что удивляет тех, кто раньше его знал, это то, что бывший священник не носит креста, и даже во время поездки в Англию, ни разу не зашел в христианский храм. А его влияние в компании все растет с каждым годом, но он не занимает в ней какого‑то значимого официального поста, имея при этом власть принимать все более серьезные решения. Вот уже и пятьдесят лет прошло; а сэр Джон даже не изменился. За эти годы он подготовил семнадцать учеников, все более упрочивающих власть компании в Индии, которая в этих местах чувствует себя фактически независимой от Английской Короны.
Обитатели замка Лузервиля
Лузервильцы еще со времен дона Санчо называли дом, в котором сейчас жила Людмила Владимировна «замок Лузервиль». Очень многие из тех, кто жил здесь при прежнем хозяине, пришлись ко двору и Скотниковой. Она имела сейчас даже больше власти и возможностей, чем в свое время дон Санчо. Всего в «замке Лузервиль» жило более двадцати человек, и еще имелось пять свободных гостевых комнат и двое апартаментов для особых гостей.
Особняк состоял из двух зданий; в одном располагались сотрудники «службы безопасности», в другом жили Людмила Владимировна, ее брат с сыном и несколько слуг, а также находились помещения для гостей. Все обитатели этого места с помощью ряда хитроумных схем содержались за счет интерната.
Людмила никогда не была замужем, не имела детей, с пятнадцати лет не поддерживала отношения с родственниками. До сорока лет ей хотелось жить в свое удовольствие, она меняла любовников, сделала несколько абортов, а потом узнала, что детей у нее быть не может. А после сорока, когда она достигла всего, о чем мечтала, ей захотелось семейного уюта.
После нескольких лет сомнений стоит ли это делать, она нашла своего старшего брата — Сергея Владимировича, который в свое время защитил диссертацию по Каутскому, преподавал в вечернем институте марксизма — ленинизма, а потом работал на кафедре философии в одном небольшом пединституте. Он был уже вдовцом, сын Олег был уже взрослым, зарплата в пединституте у доцента была маленькой. Его очень угнетало то, что такой умный и опытный человек, как он, не имеет возможности себя проявить. Поэтому Сергей Владимирович сразу согласился на предложение сестры, которую не видел около тридцати лет, стать главой администрации Лузервиля и переехать жить в ее дом. Новое положение вполне его устраивало, он, не задумываясь, исполнял на своей работе то, что ему поручала сестра, а перед другими постепенно начал на старости лет строить из себя барина.
С его сыном Олегом было сложнее. Он закончил факультет журналистики и женился на однокурснице. Сам Олег был боязливый и мнительный юноша, зато его избранница Елена, как и положено журналистке, была хваткой, резкой, смелой, даже немного «безбашенной». С Сергеем Владимировичем невестка смогла найти общий язык, но с Людмилой Владимировной общение не сложилось.
Олегу с Еленой нашлось и место в доме Скотниковой, и работа в Лузервиле. Племянник хозяйки города стал главным редактором районной газеты, а его жена — ответственным секретарем этого же издания. Елене очень не нравилось ни то, как идут дела в городе, ни то, что газета не могла выйти без цензуры. И однажды, через несколько месяцев жизни в Лузервиле, когда ее муж был в командировке, она самостоятельно выпустила номер, в котором опубликовала все, что ей хотелось.
Газета с «кричащими» заголовками была вовремя замечена теми, кто за этим следил, и изъята из продажи. Но несколько десятков номеров все же успели дойти до читателя. В номере, наряду с обычными материалами, были три статьи, которые Елене простить никак не могли. Одна из них называлась «Полное дирмо, как человек». Директор Лузервильской школы глазами своих учеников». А этот директор школы был любовником Людмилы Владимировны и депутатом Областной думы. Другая статья называлась «И куда вам со свиным рылом в калашный ряд», и была посвящена тем, находящимся в абсолютном меньшинстве, членам городского совета, которые не были сотрудниками интерната. Но больше всего не понравилась третья статья, вроде бы никак не связанная с Лузервилем. Она содержала критику американской комедии «Очень эпическое кино», в которой сквозной нитью через всю картину идет издевательство над фильмом «Хроники Нарнии», снятом по произведениию К. С. Льюиса, в котором в форме аллегорической сказки до детей доносятся евангельские идеи. В результате многие из тех, кто посмотрел «Очень эпическое кино» и к «Хроникам Нарнии» будут относиться со смехом. Возмущение вызвал не сам текст статьи, а заголовок, напечатанный такими большими буквами, что на него невозможно было не обратить внимание: «Королева Люси тупая сука» (так по версии одного из русских переводов назвал героиню бобер, которого по ходу действия картины она пинала несколько раз). Поскольку большинство лузервильцев читали только заголовки, легко было представить, какие ассоциации вызовет у них такая фраза в официальной районной газете.
Елену уволили, Людмила выгнала ее из дома, и сказала Олегу, что если бы она не была женой ее любимого племянника, то с ней поступили бы намного жестче. Лена уехала из города, а Олег остался: место главного редактора, которого в другом месте ему не светило и удобства быта оказались для него важнее, чем к тому времени беременная жена. А вскоре они развелись.
Еще один из обитателей «замка Лузервиль» заслуживает, чтобы о нем упомянуть. Это дворецкий Сергей Никанорович — шестидесятилетний мужчина, отличающийся крайне занудным характером, большой любитель спорить, придираться и осложнять другим жизнь. Раньше он работал в управлении соцзащиты, где вволю оттягивался, проверяя различные учреждения. Но он имел неосторожность выявить массу нарушений в интернате Скотниковой, а это ему даром не прошло. Людмила Владимировна попросила своих друзей в управлении подменить все страницы его акта проверки кроме последней. Теперь получалось, что Скотникова не может быть директором интерната в силу причин морального характера, потому что у нее даже кот педофил: ему девять лет, а он забрюхатил кошку, которой нет еще и года. И приводился еще десяток подобных замечаний. А последняя страница, содержащая вывод о несоответствии директора занимаемой должности и подпись проверяющего остались неизменными. Поэтому Сергей Никанорович в итоге был отправлен на пенсию, а так как положение пенсионера не давало ему возможностей ни над кем издеваться, он страшно мучился. Людмиле Владимировне же нужен был такой человек, чтобы ее прислуге жизнь не казалась медом. И она предложила бывшему чиновнику стать у нее дворецким, а он от радости, что может отравлять жизнь поварам, горничным, уборщице, дворнику и посудомойке, стал самым преданным ей человеком.
Лорд Джон Эктон
Лорд Джон Эктон жил и не умирал. Сто лет прошло, затем двести. Чтобы не привлекать к себе внимания, он менял страны проживания, предпочитал занимать не очень заметные должности. Лишь самые ближайшие ученики знали, сколько лет ему на самом деле. Он не чувствовал боли, владел множеством магических знаний и умений, понимал любой язык и мог на нем говорить. Опять же, лишь для того, чтобы не привлекать внимания, сэр Джон, делал вид, что учит новый язык месяц или два и брал с собой переводчиков, когда ехал в новую страну. Выглядел он всегда, как будто ему сорок лет.
Он погубил множество людей, но уже в основном не своими руками. Эктон стоял у истоков основания многих зловещих тайных клубов и обществ; через своих учеников организовывал путчи и революции, поддерживал террор революционеров и террор против них. Сэр Джон был человеком без Родины и без привязанностей. Духи, которым он служил, заставляли его совершать все новые злодеяния.
Последним местом его работы стал британский благотворительный фонд, где он занял пост вице — президента. Всем сотрудникам, да и руководству фонда сэр Джон внушал суеверный ужас, который не испытывала лишь его переводчица Элизабет. Сейчас местом его интересов была Россия. Эктона интересовало, какова причина того, что вопреки всякой логике, народ в ней так до сих пор и не деморализован, и не начинает массово вымирать.
Духи сказали ему, что ответ на это вопрос он найдет, когда сумеет морально уничтожить какого‑то старого священника — игумена Аристарха. Эктон думал, что это будет легко. Но все связи, которые он подключал для того, чтобы сделать жизнь игумена нестерпимой, не помогли достичь этой цели — священник наоборот приобретал все новые духовные силы, тем большие, чем более сложные испытания ему приходилось преодолевать.
Сэр Джон решил сам с ним встретиться, думал, что, как и все, игумен Аристарх придет в ужас при виде его. Но получилось наоборот: сам Эктон впервые за сотни лет испытал дикий ужас и чуть не потерял сознание. От духов же он узнал, что есть шанс сломить дух священника при помощи одного странного профессора. Организация этого эксперимента и была настоящей причиной его нахождения в Лузервиле.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Приезд к Скотниковой
Сначала в ворота особняка Скотниковой въехал черный «Мерседес», в котором кроме водителя сидели только Людмила Владимировна и Валерий Петрович. Машины с заместителем министра и англичанами должны были приехать через час — им показывали достопримечательности города, чтобы у хозяйки было немного времени распорядиться о размещении гостей.
На территории «замка Лузервиль» полным ходом шла стройка — строился третий корпус. Деньги, правда, были выделены федеральным бюджетом на седьмой корпус интерната. Но ведь несправедливо, что в социальном центре будет строиться седьмой корпус, когда дом его хозяйки состоит лишь из двух, тем более территория позволяет? С другой стороны — не строить в интернате совсем ничего было опасно: все же контроль государственных структур усилился по сравнению с девяностыми годами двадцатого века. Поэтому стройка шла и там и там, а расходы списывались только на строительство социального объекта.
Организацией стройки занималось лузервильское СМУ. Его директор — большой хитрец, в совершенстве умел показывать всем именно то, что они хотели увидеть, поэтому его услуги стоили очень дорого. Ему удавалось превратить один фактический кирпич в три бумажных так, что найти концы было крайне сложно.
Непосредственно же строительными работами на обоих объектах руководил главный прораб СМУ Иван Владимирович. Это был простецкого вида старичок лет семидесяти, ни с кем не церемонившийся в общении, но дело свое знавший отлично.
Перед тем, как зайти в дом, Людмила Владимировна подошла к нему, а за ней увязался и Валерий Петрович.
— Барыня приехала, надо пойти поклониться барыне: чарочку нальет! — снимая шапку, пошел к ним на встречу Иван Владимирович.
— Полно тебе! — улыбнулась Людмила Владимировна. — Лучше скажи как дела?
— Дела? Как в гареме: никогда не знаешь, когда тебя…
— В смысле?
— Да в прямом: опять налоговая проверку затеяла; думают, что Валерий Иванович, наш директор, глупее их. Но неприятно!
— Со стройкой нужно аккуратнее быть! Каждая бумажка должна быть в полном порядке! — глубокомысленно изрек Валерий Петрович.
— Валерий Петрович, — обернулся к нему главный прораб, — ты вот умный человек… Ты мне скажи: можно ли… бабу на площади Энгельса?
— В смысле?
— В прямом. Нельзя. А знаешь почему?
— Почему?
— Слишком много будет советчиков. Так что и ты отстань со своими советами!
— Ну, зачем ты так! — укоризненно сказала Людмила Владимировна, но чувствовалось, что ей нравится, как держит себя Иван Владимирович.
— Пойдемте, Валерий Петрович, он старенький, не обращайте внимания, — мягко взяла она под руку заместителя начальника управления, а сама, обернувшись, подмигнула прорабу: — Я подъеду на днях к Валерию Ивановичу, мы все обсудим.
Петрович начал было закипать, но стакан ракии вполне его успокоил. А через час с небольшим приехали гости.
И только сейчас все почувствовали тот леденящий ужас, который исходил от присутствия сэра Джона. Завыли в вольере собаки, смело бросавшиеся на человека с ножом или пистолетом. Никого не боявшийся Иван Владимирович, увидевший англичанина с расстояния более пятидесяти метров, испуганно перекрестился: «Что за бесовщина? Надо, наверное, в церковь идти, грехов много, вот и мерещится всякое. Неуж перед смертью?» Охранники Скотниковой — бандиты с двадцатилетним стажем сбились в кучу, как испуганные щенки. Даже англичане, кроме Лиз, напряглись, как струны. Лишь Зоя Георгиевна и Элизабет, да и сама Скотникова, казалось, совсем не боялись лорда.
«Но что характерно, — подумала Лиз, — в интернате никто его не боялся, даже кошка, которую ему ткнул под нос этот забавный пьяница. Может быть, причина в этом Аристархе?»
Сергей Владимирович
Когда Скотникова подъехала к особняку, ее брат Сергей Владимирович уже находился там. Глава администрации Лузервиля по приказу своей сестры должен был занять ту часть гостей, которая не будет участвовать в переговорах. В чем суть этих переговоров мэр Лузервиля не знал, да и не до этого ему было. Слишком все гладко шло у бывшего доцента — неудачника, чтобы забивать себе голову чем‑то лишним.
В ожидании сестры с гостями он сидел в кабинете дворецкого и с интересом смотрел снятый недавно в интернате видеоролик. На нем пятеро дебилов с лопатами и палками бегали за огромной крысой с разбухшим животом. В итоге мерзкому зверьку удалось от них убежать. Эту сцену сняла на мобильный одна из медсестер, а потом показала подругам. Вскоре он стал популярным среди сотрудников социального центра. И только дворецкому Сергею Никаноровичу пришла в голову мысль, что этот ролик помимо всего прочего может иметь и практическое значение. Ведь на нем запечатлена именно та крыса, которая съела все недостающие в бухгалтерии интерната документы! А поскольку она ускользнула от преследователей, содержимое ее желудка исследовать невозможно, а соответственно, нельзя и опровергнуть данное утверждение.
— Да не смейтесь, Сергей Владимирович, я дело говорю! — с жаром доказывал бывший ответственный работник.
— Все не можете простить те страницы вашего отчета про кота педофила? — с усмешкой спросил мэр.
Дворецкий сразу сник, поняв, что его хитроумный замысел изобличен. А Сергей Владимирович вышел во двор, где уже была его сестра с Валерием Петровичем. Через некоторое время, когда все гости подъехали и им были показаны их комнаты, Скотникова с сэром Джоном, Лиз и Зоей Георгиевной ушла в свои апартаменты, оставив остальных гостей на попечении брата.
Поскольку обильная трапеза в интернате была совсем недавно, сейчас гостям предложили только кофе, чай, фрукты, сладости и разнообразную выпивку. Начальник управления соцзащиты выпила рюмку коньяка и заснула. Ее заместитель пробовал еще проявлять активность, но через полчаса и его силы оказались исчерпаны. И Сергею Владимировичу пришлось одному разговаривать с семью англичанами, которые ничего не пили, и все больше молчали, лишь односложно отвечая на обращенные к ним вопросы, так что его речь была почти монологом. Нужно сказать, что кандидат философских наук плохо представлял себе не только, чем Платон отличается от Плотина, но и в чем разница между марксизмом и экзистенциализмом. Но зато он очень хорошо знал достаточно многое о работах Карла Каутского, мог наизусть цитировать целые страницы, сопоставляя его с Лениным, анализируя. Вот и сейчас, вспомнив, что он рассказывал в вечернем институте марксизма — ленинизма про английский империализм, и вновь почувствовав себя доцентом, мэр Лузервиля начал свою лекцию:
— Мне очень приятно видеть вас. Мне много пришлось рассказывать в свое время студентам о Британской империи. С учетом того, что мы сегодня знаем, на первый взгляд может показаться, что на фоне жестких диктатур, существовавших в фашистской Германии и СССР, Британская империя, охватывавшая четвертую часть суши, была местом народного благоденствия. Говоря о положении ее доминионов, Карл Каутский писал, что их население имеет больше прав, чем в европейских демократиях: «Строго говоря, это даже не колонии. Это — самостоятельные государства с современной демократией, т. е. национальные государства, пользующиеся большими свободами, чем какое‑либо европейское государство, за исключением Швейцарии. Они в действительности не представляют подчиненных Англии владений, а находятся с ней в союзных отношениях, образуют вместе с ней союз государств с быстро растущим населением и, следовательно, также растущей силой. Этот союз государств представляет собой государство, которому суждено сыграть крупную роль в будущем. Если в нем видят признаки и цель империализма, то мы едва ли можем что‑нибудь иметь против такого империализма».
Но ведь даже и для Индии Каутский видел пользу от английского империализма. И это несмотря на то, что «когда европейцы в 15–м веке пришли в Индию, индусы во многом превосходили их. Снабженная в изобилии всеми сырыми материалами, в которых нуждалось ее производство, имея к своим услугам искусных и трудолюбивых рабочих, эта колоссальная по размерам страна сама все производила для удовлетворения своих потребностей, и еще оставался большой излишек продуктов, которые охотно покупались культурными народами, индусы сами не нуждались в их изделиях. Результатом было то, что их вывоз долгое время оплачивался почти только благородными металлами. Уже с незапамятных времен не прерывался приток благородных металлов в Индию, скопившихся там в горы сокровищ».
«Англичане вышли победителями над своими европейскими соперниками и туземными государствами. Европейцы не являлись в Индию, как прежние завоеватели с целью обосноваться там. Этому мешало уже одно то, что климат там для них убийственный. Каждый являлся туда ради добычи, с которой потом возвращался в Европу. Новые завоеватели значительно более угнетали рабочие массы, чем прежние деспоты. Страна приходила все в больший упадок, и только за последние десятилетия английское правительство стало заботиться о противодействии этому упадку».
Каутский видел пользу для Индии от нахождения в составе Британской империи в том, что именно это политическое состояние позволило индусам почувствовать себя единой нацией, положило конец внутренним военным конфликтам, дало единый язык — английский.
«Индусские националисты, несомненно, стремятся к тому, чтобы освободиться от английского гнета, но не путем замены его другим. В настоящее время английское господство обеспечивает Индии постоянный мир. В пределах самой Индии не существует на каждом шагу, как в Европе, таможенных границ. Английский язык и преподавание на английском языке стали связующим национальным звеном. Интеллигенция различнейших религий, племен и языков изучает поголовно английский язык, и он является на ее конгрессах общим для нее языком. Стремления индусских националистов направлены сейчас не к разрыву с Англией, а к завоеванию себе, в пределах британского союза государств, более широких свобод, парламентского представительства, как для провинций, так и для государства в целом, чтобы парламент Индии имел право издавать законы и определять размеры и применение налогов. Их конечная цель — конституция наподобие австралийской, и они полагают, что их дальнейшее пребывание в британском союзе, после того, как они достигнут этой цели, даст им одни только выгоды».
И после периода британского владычества Индия предстает уже качественно иным государством, способным на единство и независимость. «Желание овладеть или создать такую мировую империю близко сердцу империалистов всех стран. У нас нет полной уверенности, суждено ли Англии навсегда сохранить за собой эту мировую империю, но нет сомнений, что никакая другая нация не может создать себе подобной империи. Есть только одна Индия. Англия может лишиться ее. Но Индия никогда, как целое государство, не может перейти во владение другой иноземной державы».
Такая проповедь цивилизаторской миссии Англии в Индии весьма сомнительна, в силу того, что озвучена марксистом, что также вызывало резкую критику Карла Каутского Владимиром Ильичем Лениным. Индия вполне могла бы развиваться без Англии. И об этом не только писали впоследствии Махатма Ганди и Джавахарлал Неру, но и сам Карл Каутский начинает рассказ об Индии с того, что «когда европейцы в 15 веке пришли в Индию, индусы во многом превосходили их». И завершение рассказа о том, что англичане «значительно более угнетали рабочие массы, чем прежние деспоты» описанием того, что в конечном итоге это явилось благом для Индии, выглядит непоследовательно…
Сергей Владимирович вдохновенно говорил, как никогда раньше. Англичане, казалось, внимательно его слушали. Но где‑то через час один из них покашлял и на ломаном русском языке сказал, что им очень неловко, но они плохо говорят по — русски и не поняли почти ничего из того, что он им рассказывает, поэтому, может быть он лучше отдохнет, а то, наверное, уже устал говорить.
Тайное общество
Пока Сергей Владимирович так пытался просветить англичан на тему, что думал Карл Каутский о британском империализме, в комнате Людмилы Владимировны происходили вещи намного более серьезные. Начать с того, что в комнате ее была потайная дверь, о которой не знал никто в доме. Эта дверь вела в большое подземное помещение, в котором находились большая статуя Кали и ритуальные принадлежности ее культа.
Зоя Георгиевна уже была здесь однажды. А сэр Джон и Элизабет с одобрением осматривали подземную залу.
— Ну что же, — сказал сэр Джон, обращаясь к директору интерната и заместителю министра. — Вас пока лишь две в России, но у вас есть реальная власть над людьми и возможность реализовывать планы нашего общества. И совсем неплохо, что вы обе женщины: ведь Кали тоже женщина.
Зоя Георгиевна была председателем российского отделения международного тайного общества «Наследники Ост — Индской компании», а Людмила Владимировна руководителем его регионального отделения. Обе прошли через инициацию, связанную с различными отвратительными ритуалами; причем Зою посвящал сам сэр Джон Эктон еще двадцать лет назад, а Людмилу уже Зоя пять лет назад. Она объяснила ей и как устроить ритуальное помещение в ее особняке.
То, что общество было названо лордом Джоном «Наследники Ост — Индской компании» имело два смысла. С одной стороны подразумевалось сходство Ост — Индской компании, являвшейся своего рода государством в государствах с современными транснациональными корпорациями. С другой стороны — подчеркивалась преемственность в служении тем духам, от которых Эктон получил власть.
Элизабет была посвящена им еще сорок лет назад, и в свои шестьдесят лет выглядела на двадцать. Единственной ее слабостью был страх видеть медленное разложение людей при жизни, помимо своей воли, она проецировала это на себя, поэтому ей и стало не по себе в интернате. Но внешне ничто не выдавало внутренних переживаний. А вот на Зое с Людмилой время не остановилось, и они с завистью смотрели на Лиз.
— Нужно было обговаривать все условия при подписании контракта, — насмешливо сказал сэр Джон, поняв их невысказанные мысли. — Но у нас сегодня есть вещи более важные. Где этот Григорий Александрович?
— Я звонила, через час его привезут сюда, — ответила Зоя Георгиевна.
— Тогда думаю, что нам не имеет смысла задерживаться здесь. Я хочу поговорить с ним сразу же, как он приедет. Но это явно должно произойти не в этом месте.
Потом Эктон обернулся к Людмиле:
— Мне понравилось, как ты пытаешься поставить дело у себя в интернате, да и во всем этом городе. Но мне не нравится другое: почему, несмотря на все твои попытки превратить жизнь здесь в ад, отсутствует ощущение безнадежности и отчаяния? В чем сила этого игумена Аристарха?
Затем он обратился к Зое:
— Как ты думаешь, эти полусумасшедшие начальники местной соцзащиты согласятся официально продать этого игумена на опыты зарубежной медицинской компании?
— Разве это возможно? — удивилась Людмила.
— Мы везем юриста, который сумеет сформулировать это так, чтобы не расходилось с местным законодательством, — криво усмехнулась заместитель министра.
— Тридцать тысяч долларов им хватит? — спросил сэр Джон.
— Думаю, что нет, — покачала головой Зоя. — И тридцать тысяч евро также мало.
— Что же, дадим им тридцать миллионов в наименьшей валюте.
— А если они не согласятся? — спросила Людмила.
— Это будет досадно, но нерешаемых вопросов нет. Вы обе не можете подписывать эту сделку, потому что вы уже принадлежите Кали; это должен сделать кто‑то из этих двоих, мне все равно кто. А сейчас нам пора идти встречать этого профессора.
Юрист
Машина немного запаздывала, и поэтому Зоя Георгиевна начала уже нервничать, и даже вышла во двор ее встречать. Вскоре автомобиль въехал во двор. Из него покачиваясь вышел Григорий Александрович и, пристально глядя на заместителя министра, заплетающимся языком произнес:
— Время не пощадило тебя, Зая! Подумать только: ведь из‑за тебя я бросил жену!
Он подошел к Зое Георгиевне, обнял ее и хотел поцеловать в губы, но потом передумал и поцеловал ее в лоб. Слова профессора и его жест страшно оскорбили заместителя министра, и она презрительно прошипела:
— Можно подумать, что сам подарок!
— Какой уж там подарок! — махнул рукой Григорий Александрович. — Я уже списанный отработанный материал.
И тут он обнял Зою и заговорщицки прошептал ей на ухо:
— Ты знаешь, я тут читал Евангелие…
— И? — скривилась последовательница оккультной секты.
— Так вот там рассказывается про гробы, которые снаружи очень красивы, а внутри полны всякими продуктами разложения.
— К чему это ты?
— Да вот у меня была одна подружка гинеколог. Она мне говорила, что внешность женщин очень обманчива, но ее с зеркальцем не обманешь. На кресле она видела у пациенток скрытое от остальных: эрозии и гнойники внутри молодых расфуфыренных красавиц и абсолютно здоровых немолодых женщин. Но есть и душевные гнойники и эрозии, которые не увидит даже гинеколог. А я вот как‑то не разглядел тебя в свое время…
— Скотина! — вскрикнула Зоя Георгиевна и не влепила Григорию Александровичу пощечину только потому, что к ним подошел юрист до этого деликатно стоявший поодаль.
— Петя, пойдем сейчас к сэру Джону, — сказала сразу взявшая себя в руки заместитель министра. — А ты хоть умойся перед тем, как встречаться с таким лицом! — бросила она профессору.
— Если мне за это нальют коньяка! — заявил тот.
Зоя не выдержала, плюнула на землю и смачно выругалась.
— Пусть его покормят и дадут коньяка, только немного, — сказала она подошедшей к ним Людмиле Владимировне. — А сэр Джон пока поговорит с Петром.
Эктон решил принять юриста и врача в домашнем рабочем кабинете Скотниковой. Это была комната площадью около тридцати квадратных метров, поклеенная черными обоями с непонятными узорами. Стены заполняла такая же черная мебель, только другого оттенка. Окна были задрапированы шторами из кроваво — красного бархата. Посередине комнаты стоял большой массивный черный стол, за которым на похожем на трон кресле и сидел сэр Джон. Других стульев в комнате не было: Скотникова предпочитала, чтобы в этом кабинете все стояли перед ней навытяжку. Лорд Эктон уже не обращал внимания на такие мелочи, но одобрительно ухмыльнулся, войдя в это помещение.
Петр Иванович сразу испытал чувство неподдельного животного ужаса, увидев англичанина, а тот сразу это почувствовал. И юрист и Зоя Георгиевна стояли перед столом, а Эктон не спеша начал говорить:
— Петр, я знаю, что ты хороший юрист. Как ты считаешь, по действующему российскому законодательству чиновники имеют право продать гражданина России на опыты иностранной организации? — мягким шипящим голосом спросил сэр Джон, и Петру стало еще страшнее.
— Нет, сэр, — испуганно пробормотал он. — А для чего нужно официально оформлять подобные вещи? Ведь многое можно сделать, если по другому это назвать…
— А такие мысли уже ближе к сути, — усмехнулся Эктон. — Так ты можешь придумать, как это назвать?
— Нужно знать, о чем речь — все еще испуганный, но уже обретающий уверенность сказал юрист.
— О чем речь? Есть один русский старик с паранормальными способностями. Их исследование представляет большой интерес для научного отдела нашей корпорации. Для того, чтобы их исследовать, нам хотелось бы иметь документ, подписанный представителями местной государственной власти, о том, что они продают нам его…
— Ну, такой договор они, конечно, не могут подписать, но ведь может быть создана какая‑то научно — исследовательская международная программа, в рамках которой… могут быть какие‑то издержки… Что вы собираетесь с ним делать?
— Да в принципе ничего. Просто с ним будет беседовать профессор.
— А зачем тогда вообще какие‑то документы?
— Вы это не поймете, пока, — сказал сэр Джон и обернулся к Зое Георгиевне: — Зоя, а ты не приглашала пока Петра войти в наш клуб?
— Нет пока.
— Думаю, что он вполне созрел для этого.
— А что за клуб? — спросил Петр.
— Всему свое время, — загадочно сказал сэр Джон. — Ты можешь идти.
Когда юрист вышел, заместитель министра наконец задала интересовавший ее вопрос:
— А на самом деле: зачем вам нужен какой‑то договор?
— Мне не нужны бумажки, мне нужна душа того, кто продаст священника на опыты, — спокойно сказал сэр Джон. — А душа этого юриста, похоже, и так наша.
Валерий Петрович
— Что же тогда предпринять? — спросила Зоя Георгиевна сэра Джона.
— Поговори с этим забавным пьяницей Валерием Петровичем открыто; для него настал час выбора; он либо станет нашим, либо не сможет жить прежней жизнью.
— Что делать, если он откажется?
— Сделай вот что… — и знаком подозвав Зою к себе, Эктон что‑то прошептал ей на ухо.
… Валерий Петрович еще только немного пришел в себя, когда заместитель министра, лукаво улыбаясь, поманила его в соседнюю комнату с той, где он сидел с англичанами, Сергеем Владимировичем и своей похрапывающей начальницей. Он неуверенно поднялся и медленно подошел к ней.
— Что случилось?
— У меня к тебе деловое предложение, Валера.
— Какое же?
— Я смотрю ты парень геройский, тебе море по колено…
— Этого уж не отнять! — гордо заметил Петрович.
— Не то что твоя Нина Петровна, она не то что решить, даже понять ничего не может.
— А ты это заметила?
— Ну, конечно, заметила, глупенький, — Зоя Георгиевна на минуту чуть было не решила пококетничать, но, вспомнив тот позор, который только что пережила с Григорием, подумала, что не стоит.
— И чего же ты от меня хочешь?
— Английский фонд заинтересовался одним из пациентов Люсиного интерната.
— Это еще каким? — засмеялся Валерий Петрович.
— Да есть там у нее один странный священник.
— Ах да, я его видел как‑то. Он хороший, — вдруг грустно сказал чиновник.
— Хороший? — передразнила его заместитель министра. — Не знаю, чем уж он хороший, но ты на нем можешь неплохо заработать.
— В смысле?
— У него есть какие‑то паранормальные способности, которые интересуют английский фонд, который представляет сэр Джон. Им хотелось бы провести с ним ряд опытов, но чтобы все было официально, то есть нужно, чтобы ты подписал договорчик. С юридической стороны все будет идеально — я тебе гарантирую.
— Каких еще опытов? — глаза Валерия налились кровью.
— Откуда я знаю? Каких‑то. Правда, может старичок этого не пережить. Но тебе‑то какая разница? Ты лично получишь тридцать тысяч евро.
— Ах ты… — Валерий Петрович покраснел. Казалось, что сейчас он ударит Зою.
— Что, мало? Ладно, последняя цена: тридцать миллионов рублей, — сказала та, по — своему истолковав неожиданную вспышку гнева Петровича.
— Не все в этом мире продается, Зоя, — зло сказал тот. — Да ведь это почти святой человек! Я с ним один раз всего две минуты поговорил, а он мне всю жизнь перевернул!
— Не очень‑то перевернул: какой был пьяница и прохвост, такой и остался.
— Так я, может быть, измениться пытаюсь, после той встречи!
— Не может, — сухо произнесла Зоя Георгиевна. — Либо меняешься, либо нет. Для тебя сейчас час «Ч»! Подпишешь документы?
— Нет, и Нине не дам такое подписывать!
— Что и тридцать миллионов рублей хуже, чем какой‑то старикашка из дурдома?
— Не все меряется деньгами, — ясно сказал уже совсем протрезвевший Валерий Петрович. — Но ты ведь, наверное, шутишь, Зоя? Кому надо не пойми на что давать такие деньги? — с надеждой в голосе спросил он.
— Да нет, не шучу, — жестко ответила та. И неожиданно быстрым движением руки нажала на какие‑то точки на теле собеседника, после чего он вдруг обмяк и упал.
— Валерий Петрович! Что с вами? — деланно закричала заместитель министра.
Прибежали Сергей Владимирович и англичане, один из которых был врач. Он диагностировал инсульт и полную парализацию.
Лорд и профессор
Сэр Джон грустно задумался. Он умел видеть через стены, и видел, что произошло с Валерием Петровичем. Тот инфернал, которого он отправил в помощь Зое, не смог по движению ее руки вырвать из Валерия жизнь. И теперь Эктон думал, почему это не получилось. В дело явно вмешивались какие‑то иные силы, о существовании которых он знал, ведь когда‑то он сам был христианским священником.
Он думал о себе. С прекращением деятельности Ост — Индской компании его власть становилась все меньше. Тайное общество, которое он возглавлял, фактически все больше из организации, решавшей судьбы небольших государств, вырождалось в оккультную секту. А теперь он не смог даже отобрать жизнь, у какого‑то падшего человека, который в решающий момент выбрал правильный путь. Эктон жил очень долго, и силы его уходили. И он иногда со страхом начинал думать, что недалек уже тот день, когда сам он окажется во власти тех существ, которыми, как ему когда‑то казалось, он повелевал.
От мыслей его отвлекла Зоя Георгиевна, которая привела Григория Александровича. Увидев лорда, профессор вздрогнул и неожиданно сказал:
— А я тебя видел, когда у меня белая горячка была.
— Совсем охамел, — грустно сказала Зоя. — Может быть, зря мы с ним связались?
— Ну, почему же, — тихо сказал сэр Джон и обратился к Григорию: — А что именно ты видел?
— Точно такого человека как ты, горящего в огне, который хотел вырвать у меня душу.
— А ты отдал ее?
— Нет, но было очень страшно.
— У меня для тебя интересная работа, Григорий, — сказал лорд. — Ты ведь очень много копался в различных хитросплетениях человеческой души. Так вот здесь есть один священник, который, чем в более неблагоприятные внешне условия его ставят, тем большую силу обретает. Нам хотелось бы разобраться в этом феномене.
— Это может быть связано с…
— Тихо, тихо, профессионалы никогда не говорят раньше того, как проработают вопрос. Ты ведь профессионал?
— Наверное.
— Я знаю, что тебе хотелось бы серьезной работы. А это интересный проект: изучить паранормальные способности этого человека, выявить их корни. Тем более, что это будет очень хорошо оплачиваться. Ты опять будешь уважаемым человеком, интересным для роковых женщин, — сэр Джон посмотрел на Зою и с усмешкой произнес: — Она, я вижу, тебя уже не привлекает, но ведь у нас есть еще Лиз…
В этот момент Элизабет вошла в комнату, и что‑то в душе Григория Александровича дрогнуло. Что‑то подобное он испытывал уже раньше, когда познакомился с Зоей, и в результате потерял семью и карьеру. Но сейчас ему, вроде бы, нечего было терять, как ему казалось… А англичанка подошла к нему и сказала:
— Григорий Александрович, мне очень хотелось бы вместе с вами работать над этим проектом.
— Не знаю даже… — растерялся профессор.
— Мне так хотелось бы поводить вас по Лондону, показать те места, которые мне там нравятся. Но сейчас мы должны быть здесь, пока не будет выполнена эта работа. А ведь вы можете помочь нам. Если вы это сделаете, я сумею быть благодарной.
И она так посмотрела на Григория, что у него внутри все перевернулось, и он сказал:
— Ну, попробуем поработать…
— Вот и отлично, — сказал сэр Джон. — Лиз, найди Людмилу, пусть Григория Александровича разместят в лучшей комнате.
Когда профессор и переводчица ушли, Эктон насмешливо посмотрел на Зою:
— А твои чары уже не действуют! Не догадалась во время заключения договора попросить вечную молодость и привлекательность для мужчин, думала, что то, что ты имела тогда это само собой…
Зоя Георгиевна зло посмотрела на сэра Джона. В этот момент ей хотелось убить и его, и себя и уж, конечно, этого мерзавца Гришку.
Нина Петровна
К Валерию Петровичу вызвали «скорую», которая перевезла его в городскую больницу. Диагноз, предварительно подтвердился. Какие шансы у чиновника выздороветь — на этот вопрос сразу протрезвевшей Нины Петровны врач «скорой» ответил, что, скорее всего, никаких.
— Бедняжка! И зачем так было себя не беречь! — сокрушалась начальник управления соцзащиты.
— Зато пожил в свое удовольствие, — сухо заметила подошедшая к ней Зоя Георгиевна.
— Пожил? Разве он умрет?
— Мы не знаем, но он фактически превратился в овощ.
— Как это ужасно! — заламывала руки Нина Петровна.
— Ужасно, но жизнь продолжается. Мы с ним обсуждали один рабочий вопрос перед тем, как у него случился инсульт. Он не терпит отлагательств. Поэтому нужно обсудить его с тобой…
— Какие могут быть еще вопросы в такой момент! — возмутилась Нина. — Все в свое время в официальной обстановке!
Заместитель министра подошла к Скотниковой.
— Попробуй ты хоть поговорить с этой дурой, — она вкратце обрисовала, что нужно сказать, и что можно обещать.
— Ниночка, милая, горе‑то какое! — сокрушенно и со слезами на глазах Людмила Владимировна обняла Нину Петровну.
— Не говори, Люсенька, что я теперь буду делать! Ведь он мне помогал абсолютно во всем!
— Да, и он не позволял эмоциям брать верх над долгом.
— О чем это ты?
— О нашем интернате. К тебе сейчас подходила заместитель министра, а ты отказалась решать серьезные вопросы, от которых зависит его будущее!
— А что за вопрос?
Людмила задумалась, и решила преподнести адаптированную версию того, что им нужно.
— Здесь пройдет один научный эксперимент, на который фонд, который представляет сэр Джон выделяет тридцать миллионов рублей, которые пойдут на развитие нашего интерната.
— А в чем суть эксперимента?
— Ты не поймешь, да тебе это и не нужно. Разве ты не хочешь, чтобы иностранная помощь пришла в организацию, которая подчиняется тебе; чтобы больные люди, за которых ты отвечаешь стали жить лучше?
— Конечно, хочу! — загорелась Нина. — Валера тоже так любил больных! Он как ребенок радовался, когда мог найти для их блага внебюджетные средства. Особенно хорошо, говорил он, когда эта помощь официально не проходит, но почему, он мне так и не смог объяснить, что‑то туманное, я даже устала слушать. Наверное, он так обрадовался сейчас, что твой интернат получит новый импульс к развитию, что давление скакнуло!
— Ну, конечно! — подтвердила Людмила Владимировна, удивленная тем, что ее начальница оказалась еще более оторванной от жизни, чем она думала. Действительно, ведь Нина Петровна никогда не задумывалась, почему она живет в двухкомнатной «хрущевке», а Скотникова фактически в замке. Ей как‑то сказали, что это дом ее брата — видного ученого с мировым именем, и она больше к этому даже не возвращалась.
— Что от меня нужно? — спросила начальница управления.
— Просто подписать одну бумажку. Через пару часов юрист ее сделает.
… Сэр Джон почти не скрывал бешенства, когда через десять минут Зоя с Людмилой вошли к нему.
— Из‑за тебя этот Валерий навсегда ушел из нашей власти, — грозно сказал он заместителю министра, и та съежилась от страха.
— А ты просто кинула меня на тридцать лимонов. Так у вас, кажется, говорят? — уже менее раздраженно обратился Эктон к Скотниковой.
— Почему кинула? — пыталась оправдываться та.
— Потому что цена этого договора, о котором ты договорилась, как туалетной бумаги. Эта ненормальная ведь даже ничего не понимает в том, что подписывает. Так что она не наша. Тем более, что она ничего от него не получит. И как таких только назначают на государственные должности? А деньги получит интернат, то есть больше половины достанется тебе! Смотрите, больше никаких ошибок, а то мне придется пересмотреть условия контракта с вами!
И Зоя с Людмилой почувствовали, что их прошиб холодный пот, сердце забилось как бешеное, и дикий страх овладел всех их существом.
Валя
Валя работала в «замке Лузервиль» горничной. В небольшом городке, где многие люди сидят без работы, это было совсем неплохо. Вообще‑то она была по специальности медсестрой, эта же запись значилась в ее трудовой книжке, так как именно на этой должности она была оформлена в интернате. Но в реальности ей приходилось работать в доме Скотниковой, терпя постоянные придирки дворецкого и приставания племянника хозяйки, который после того, как от него уехала жена, начал оказывать Валентине недвусмысленные знаки внимания, от которых она, впрочем, успешно отбивалась.
Валентина окончила медицинское училище вместе с Ольгой. Они были близкими подругами; их дружба сохранилась и сейчас, хотя многое в жизни друг друга они не понимали. Оля не понимала, как можно терять свою жизнь ни на что, прислуживая тем, кто сам вполне мог бы о себе позаботиться, а Валя думала, что Оля лишает себя жизни, ухаживая за лежачими больными. Но они раз в неделю встречались, и где‑то час или два беседовали друг с другом.
Ольга рассказывала о Церкви, об отце Аристархе. Валентина говорила, что это все хорошо, но очень сложно, потому что требует изменить всю свою жизнь. А Валя любила дискотеки, веселье, мечтала о «принце», который даст ей «красивую жизнь» — большой дом, дорогие машину, украшения, одежду, зарубежные поездки.
— А чем ты будешь лучше Скотниковой? — спрашивала ее подруга.
— Ну, ты сказанула! — возмущалась та. — Я же не собираюсь обманывать бедных больных!
— А за какие такие заслуги тебе вдруг свалится вся эта роскошь?
— Просто кто‑то полюбит меня…
— А если он будет бедным? Если тебе придется жить еще хуже, чем ты живешь сейчас?
— А зачем мне такой муж?
— Получается, что любовь для тебя способ себя продать подороже?
Подруги ссорились, потом мирились. Валентина чувствовала правоту Ольги, что не в деньгах счастье. Но и без них она чувствовала себя неуютно…
Валентина была вхожа во все закоулки «замка Лузервиль». И постепенно она узнавала много такого, что прислуге знать в общем‑то не стоило. Случайно горничная узнала о тайной ритуальной зале в апартаментах Скотниковой, о том, что она приносит там в жертву бродячих собак, которых для нее отлавливают на улицах города ее охранники. А однажды она была свидетелем того, что одного умирающего пациента интерната почему‑то перевезли в дом директора, и почему‑то именно там ему сделали вскрытие после смерти… Никто не догадывался, что девушка обладает подобной информацией, поэтому на нее по прежнему не обращали внимания.
Своими страхами она поделилась с Ольгой, а та пошла к отцу Аристарху. Тот сокрушенно качал головой.
— Силы зла сейчас царствуют над этим городом! Пусть твоя подруга бежит из этого проклятого места!
Но Валя не послушалась священника.
— А где я найду здесь работу? — сказала она Оле. — Или в областной центр ехать? А кому я там нужна?
И она продолжала работать у Скотниковой. И получилось так, что она, убираясь в помещении рядом с кабинетом хозяйки, услышала многое из того, о чем та говорила с сэром Джоном и Зоей Георгиевной. А когда вскоре парализовало Валерия Петровича, Валентиной овладел безграничный ужас.
В этот же вечер она встретилась с Ольгой.
— Над этим священником, отцом Аристархом, хотят ставить какие‑то жуткие опыты! Валерий Петрович попробовал заступиться, и его хотели убить, но он остался жив. Его парализовало! — сбивчиво с жаром рассказывала она.
Оля то же не на шутку напугалась, и прямо ночью пошла в интернат. На нее там никто не обращал внимания, она могла придти в любое время суток.
— Бегите, батюшка! — с жаром сказала она.
— Куда, глупенькая? — спокойно улыбнулся священник. — От них невозможно убежать. Но Бог силен сделать так, что зло обратится во благо, хотя нам это дастся и очень непросто. А как же быть с твоей подружкой? Я думаю, что англичанин все знает о ней… Хорошо, я помолюсь о ней, и о тебе: чего бы здесь дальше не происходило, с вами обеими ничего не случится. Пусть она тогда остается на своей работе и ведет себя так, как будто ничего не произошло.
— А как же опыты, которые они хотят над вами ставить? — всхлипывая, шептала Оля.
— Они и так их ставят все время. Но их время отходит. И этот Джон это чувствует. Он не может понять, почему все у него идет не так. А должен бы понять: ведь когда‑то он был христианским священником…
— Откуда вы все знаете? — изумленно спросила Ольга.
Но отец Аристарх лишь улыбнулся в ответ:
— Я тебе уже сказал много лишнего. Не думай ни о чем, и ничего не бойся. А чтобы ты верила, что Господь может зло обратить во благо, смотри на Валерия Петровича! Он сделал первое доброе дело за всю свою жизнь, ничего не испугался и ни на что не купился. И он вырвался из под власти сил зла!
— Все равно, какое же тут благо? — изумилась Оля. — Его же парализовало, он лежит больной и несчастный!
— Пока да. Более того: ему предстоит еще полгода быть одним из пациентов нашего интерната!
— Как такое может быть?
— Увидишь.
— Но это же совсем ужасно!
— Зато потом его ждет обновление.
— После смерти? — в голосе Ольги впервые прозвучало недоверие.
— Зачем же. Он абсолютно не готов к смерти. Но я пока не могу сказать больше.
Уже рано утром Оля встретилась с Валей и все ей рассказала. Подружки подумали, что отец Аристарх, наверное, стал заговариваться перед смертью, и ему действительно все равно, что с ним будет, потому что его жизнь и так мучение, а больших мучений он не выдержит. Но страх перед англичанином и тремя его последовательницами после благословения игумена полностью исчез у них. И они продолжили жить прежней своей жизнью, никому больше не говоря о том, что им стало известно.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Профессор и священник
Григорий Александрович поселился в особняке Скотниковой. Среди обязательных условий того, что ему необходимо для работы, он оговорил помимо приличной зарплаты еще и бесплатные коньяк и сигары, проживание и питание.
— Может тебе еще и проституток оплачивать? — ехидно поинтересовалась Зоя Георгиевна, которая искала, чем его уязвить.
— Зачем же: я вполне популярен у женщин и без дополнительных финансовых затрат, — спокойно ответил профессор, чем привел ее в бешенство.
Беседы с игуменом Аристархом было решено вести в интернате, в кабинете психиатра. Узнав, что на этой должности работает проктолог, Григорий Александрович долго веселился и сказал, что в определенном смысле в этом есть рациональное зерно, так как у некоторых, что в голове, что в… При этом он ехидно посмотрел на Зою Георгиевну, которая ненавидела его все больше и которую утешало только то, что ей завтра нужно возвращаться в Москву.
Кабинет психиатра в интернате совсем не походил на кабинет Скотниковой в ее особняке. Это была маленькая комната площадью около десяти квадратных метров, с абсолютно белыми стенами и потолком, и небольшим зарешеченным окошком. Из мебели здесь были только стол и два стула. Документация хранилась в другом месте.
Григорий Александрович в белом халате сел за стол, налил себе из бутылки полфужера коньяка, отхлебнул и сказал, что готов принять пациента. На столе он разложил ручку и тетрадь для записей, кубинскую сигару с пепельницей, и оставил коньяк с фужером.
Через несколько минут в комнату привели отца Аристарха. Недавно, по распоряжению Скотниковой, ему сбрили бороду и усы и обрили его наголо. Лицо священника было изможденным от препаратов, которые его заставляли принимать, но во всем облике его чувствовалась огромная внутренняя сила.
— Присаживайтесь, пожалуйста, — вежливо сказал ему Григорий Александрович. — Вы не будете возражать, если я закурю?
— А от этого что‑то изменится? — с улыбкой ответил игумен и профессор еще раз отметил про себя его внутреннюю силу.
— Нет, к сожалению, — признался он и закурил. — На что же вы жалуетесь?
— Ни на что, — спокойно отвечал отец Аристарх. — Я здесь чувствую себя ближе к Богу, чем когда бы то ни было.
— А вы не боитесь того, что вам могут сделать здесь, если вы продолжите злить этих людей? — доверительно спросил Григорий Александрович.
— Я злю их самим фактом моей жизни, — улыбнулся пациент — узник. — Они не успокоятся, пока я жив.
— А вы не думаете, что они могут пойти на какие‑то очень серьезные шаги? Вы слышали о лоботомии? Один из первых врачей, которые ввели ее в практику, Фриман, нацеливал зауженный конец хирургического инструмента, напоминающего по форме нож для колки льда, на кость глазной впадины, с помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструмент в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей головного мозга. Фриман рекомендовал операцию для лечения всего, от психозов, депрессии, неврозов и криминального поведения. Он разработал то, что называется «конвейер лоботомий», переходя с ножом для колки льда от одного пациента к другому, и просил даже его ассистентов отслеживать время, чтобы посмотреть, как можно увеличить скорость выполнения операции. Говорят, там падали в обморок даже закаленные хирурги. Даже его коллега по популяризации данного вида психохирургии Ватт считал, что он зашел слишком далеко. Последствия операции бывают очень разными. Розмари Кеннеди, сестре Президента США Д. Ф. Кеннеди, была проведена лоботомия, когда ее отец пожаловался докторам на перепады настроения 23–летней девушки, позорный интерес к мальчикам. Фриман лично провел процедуру. Тем не менее, вместо улучшения, она впала в детство и стала писаться в кровать. Ее речь превратилась в детский лепет. Всю жизнь она прожила в психиатрической клинике в Висконсине, нуждалась в круглосуточном уходе и умерла 7 января 2005 года в возрасте 86 лет. Фриман самодовольно описывал лоботомию как «милосердное убийство души», добавляя, что «пациенты… должны жертвовать частью своей движущей силы, творческого духа и души». Правда, она запрещена в России еще в 50–е годы двадцатого века. Но на что не пойдут эти безумцы, в желании подчинить и сломать вас? В исполнении операция совсем не сложная.
— На все воля Божия, — твердо ответил игумен Аристарх, содрогнувшийся, однако, от перспективы подобной операции.
— Я постараюсь, чтобы вам ее не сделали, — серьезно сказал Григорий Александрович. — Но я знаю, что этот проктолог, который работает здесь психиатром и который знает о психиатрии из переизданного кем‑то учебника пятидесятых годов, уже собирался практиковать в отношении вас погружение в ледяные ванны, а на очереди стояли электрошоковая терапия и лоботомия, которую он готов был сделать сам.
На самом деле все это Григорий Александрович придумал только что по ходу разговора, сам же он не был готов к применению подобных методов, и отец Аристарх это почувствовал.
Профессор понял, что пациент его раскусил, и недовольно сказал, что на сегодня разговор закончен.
— Напрасно вы подали им столько идей, — сказал ему перед уходом священник. — Ведь им в радость будет попробовать воплотить их в жизнь, а вы по сути своей добрый человек. Вы сказали это для красного словца, а если они это сделают, то будете мучиться.
Но Григорий Александрович все понял и уже мучился.
Новый пациент Скотниковой
… Зима подходила к концу. Людмила Владимировна с избранными представительницами женской части коллектива праздновала 8 марта в том же помещении интерната, где два месяца назад принимала сэра Джона.
— Я хочу поднять этот бокал не за западных растленных женщин, которые пьют, курят и изменяют мужьям. Я хочу поднять его за наших советских женщин, которые, делая все это, еще и работают, — под одобрительные смешки собравшихся провозгласила директор и заключила: — За то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было!
Все интернатские вип — дамы дружно выпили, и началось веселье.
А совсем рядом находился тот, кто какие‑то два месяца назад больше всех веселился в этой комнате, а теперь лежал парализованный. Валерий Петрович был человеком одиноким. Он любил независимо идти по жизни, не обременяя себя никакими обязательствами. Не женился он принципиально, предпочитая случайные связи, а всех родственников давным — давно отшил, дав понять, что ему не нужны прихлебатели. Поэтому, когда его парализовало, и стало понятным, что это, скорее всего, навсегда, то встал вопрос, куда его девать.
Единственной, кто его жалел, была Нина Петровна. Она бы не против была даже взять к себе домой своего заместителя, чтобы ухаживать за ним. Но ведь Нина жила в двухкомнатной хрущевке с мужем и двумя взрослыми дочерями, им самим там было не повернуться. Решение вопроса она, по своей простоте душевной, придумала крайне оригинальное.
— Люсенька, — сказала она Людмиле Владимировне, — давай устроим Валеру к тебе в интернат. — Ему так там всегда нравилось!
— Он был там в другом качестве, — усмехнулась Скотникова.
— Какая разница? Ведь ты же сама говорила мне, что пациентам у тебя живется лучше, чем гостям, разве это неправда?
— Конечно, правда, — подтвердила Людмила. — А что будет с его имуществом?
— В смысле?
— Ну, у него есть квартира, машина, дача. Обычно все имущество тех пациентов, которые переходят к нам пожизненно, становится собственностью интерната. А поскольку он не выздоровеет, то оно ему и не понадобится…
— Давай на годик учредим над ним опеку, вдруг Валерий Петрович выздоровеет, — неожиданно проявила практическую сметку Нина, тем самым сделав первый год пребывания своего заместителя в интернате безопасным для его жизни. Пятикомнатная квартира улучшенной планировки, двухэтажная дача, дорогая машина, попав в руки Скотниковой, уже не ушли бы из них. А лучшей гарантией этого была бы скорейшая смерть их бывшего хозяина вскоре после того, как их переоформили бы на интернат.
Сначала Валерия поместили в вип — палату. Но это было сделано только на несколько дней, пока не уехала Нина Петровна. А потом его перевели в одну из самых жутких общих палат, где больные сгнили бы заживо, если бы не самоотверженные заботы о них медсестры Ольги, которая работала в этой палате в качестве дополнительной нагрузке к своему и так огромному объему работы. А самым тяжелым для Валерия Петровича в этой ситуации было то, что разум его сохранился неповрежденным. Когда Людмила Владимировна заметила это, то ей доставляло большое удовольствие приходить, чтобы специально поиздеваться над ним разговорами о том, как он прогадал, не подписав контракт, и как он здесь заживо сгниет.
По глазам Валерия текли крупные слезы. Но здесь неожиданно для себя, он открыл и другую сторону жизни. Ольга, ухаживавшая за ним наряду с прочими больными, увидев, что пациент находится в сознании, тайно привела к нему отца Аристарха.
— Ты заступился не за меня, а за свою душу, — сказал он больному. — И ты исцелишься, но не сразу: тебе нужно очиститься от всей скверны, которой была наполнена твоя прежняя жизнь. Тебе будет дан шанс второй жизни, но используй его разумно: третьего не будет. Я бы советовал тебе, когда ты сможешь говорить, первым делом исповедаться, а пока кайся в душе перед Богом в своих грехах.
И Валерий Петрович, вместо того, чтобы озлобляться, начал привыкать к тому положению, в котором оказался, успокаивая себя тем, что он заслужил это тем, как относился к находящимся в таком положении людям, будучи на руководящей работе в соцзащите. Впервые он начал вспоминать свои грехи и анализировать свою жизнь. И постепенно мир пришел в его душу, но Скотникова этого не замечала, иначе придумала бы какие‑то специальные издевательства. А Валерий твердо решил, что если ему будет дан шанс второй жизни, то она станет совсем иной.
Искушения отца Аристарха
А игумену Аристарху приходилось преодолевать все новые препятствия. Когда Григорий Александрович после первой встречи с ним пришел к лорду Джону, собиравшемуся уже уезжать из «замка Лузервиль», тот просто рассмеялся ему в лицо:
— Я сейчас смотрел видеозапись вашей беседы. Это такой детский лепет ваш разговор с игуменом! То, что вы рассказывали ему, мог бы вполне сделать и этот психиатр — проктолог, который есть в наличии. Меня же интересует совсем другое: почему, например, мы не можем его запугать, а тогда, когда, кажется, что все уже возможно, не можем это сделать? Почему на него почти не действуют нейролептики? Что позволяет ему держаться все лучше, когда условия жизни становятся все хуже? Почему именно вас мы привлекли к этой работе?
— Почему именно вас мы привлекли к этой работе? — повторил свой вопрос Эктон.
— Ну, последний вопрос явно не ко мне, а к вам с Зоей.
— Ответ хороший, — кивнул лорд. — Надеюсь, остальные будут не хуже.
— В отношении того, что вы не можете причинить ему тот объем вреда, который вам бы хотелось. Мне кажется, что в мире есть силы, которые очень многому злому не дают стать реальностью, иначе этот мир давно бы погиб. Я плохо понимаю в том, как действуют эти силы, но мне почему‑то кажется, что вы должны разбираться в этом лучше…
— Ответ принят, — кивнул сэр Джон.
— Почему его не валит с ног аминазин, и он не начинает от галоперидола стремиться куда‑то в тревоге бежать? Вы знаете, что некоторые переносят даже лоботомию, в зависимости от того, какие именно лобные доли головного мозга у них перерезали. Все здесь очень индивидуально, особенно, когда вмешиваются силы, о которых мы мало, что знаем, а это, по — моему, именно тот случай…
— Хорошо, вы неглупый человек, — кивнул лорд.
— А в отношении того, почему он крепнет от испытаний — возможно, они его закаляют, а в благополучии он наоборот расслабился бы…
— А вот это вообще интересная мысль, — сказал Эктон. — Сами бы мы до этого не додумались. Можно сказать, что вы выполнили свою миссию, Григорий Александрович: вы подсказали направление, в котором нужно работать.
— То есть я могу уехать? — спросил профессор. — Признаться, мне эта работа нравится все меньше…
— Ну, зачем же так? Работа только начинается. Впереди много всего интересного, в том числе связанного и с вами лично. Конкретики пока не вижу, но скучно не будет, это я могу обещать!
… Григорий Александрович вышел во двор. Но тут его внимание привлекла забавная сцена. Один из занятых на строительстве рабочих напился до того, что заснул на высоте трех метров с поднятым в руке молотком, и только чудом не упал.
Главный прораб обычно снисходительно относился к подобным вещам, но сегодня у него было плохое настроение, и поэтому он решил сдать провинившегося в вытрезвитель. Когда машина с милицией приехала забирать строителя, он был еще очень пьян, но добродушен. Ему почему‑то хотелось ехать в вытрезвитель:
— Эй, мужики, без меня не уезжайте, я сейчас только отолью и бегом к вам! — крикнул он милиционерам.
— Не убежит? — спросили они главного прораба.
— Да нет, — усмехнулся тот.
В машине уже сидел какой‑то пьяница, все порывавшийся убежать.
— Ну‑ка подвинься, не тебе одному нужно ехать! — ткнул его строитель.
Все рабочие так и расхохотались, даже милиционерам стало смешно. Но самое интересное было, когда Ивану Владимировичу через час позвонили из вытрезвителя и сказали, что рабочего они выгоняют, потому что у него вши.
— Какие вши! Сами вы все вшивые! — слышался в трубке возмущенный голос.
Через некоторое время рабочий вернулся, и главный прораб с усмешкой сказал ему:
— Иди уж домой, проспись, пьяный вшивик!
Все это очень развлекло Григория Александровича. А тут еще к нему подошла Элизабет и сказала, что они сейчас уезжают, но ей хочется продолжить знакомство. Она дала ему телефон и сказала, что сэр Джон велел через нее передавать всю информацию, связанную с Аристархом. У Григория сразу появился стимул, чтобы этой информации было больше, и он уже не думал, что его общение с игуменом несет что‑то плохое. А через несколько дней, когда положение того поменялось, он совершенно искренне стал считать себя благодетелем священника.
По распоряжению сэра Джона отца Аристарха перевели в отдельную палату со всеми удобствами. Ему разрешили отрастить волосы и бороду. Ему сшили новую рясу и подрясник, купили священнический крест с украшениями. Игумену дали свободу ходить в храм, готовили все, что он только не пожелал бы, принесли церковные книги. Ему разрешили служить и исповедовать. Настоятель храма подошел к нему и доверительно шепнул, что по его ходатайству на эту Пасху архиерей возведет отца Аристарха в сан архимандрита.
В храме появилось десятка два новых людей, которые всем рассказывали, какой святой старец игумен, увидев его, бросались целовать ему руки и край рясы, иногда даже пол, по которому он только что прошел. Он совсем не имел времени побыть один: множество людей подбегало к нему, падало на колени с воплями: «Святой отец! Исцели меня!» Людмила Владимировна сказала, что скоро его переведут жить в отдельный флигель, и у него там будет прислуга. И отец Аристарх с грустью подумал, что недавно он жил совсем еще не плохо…
Неожиданный поворот
Через несколько месяцев многое в Лузервиле изменилось. Тот эксперимент, который сэр Джон решил проделать с предоставлением игумену Аристарху испытанием славой, принес совершенно неожиданные плоды.
Скотникова наивно думала, что раз у священника есть толстая история психической болезни, то никто не поверит, если он начнет говорить какую‑то правду об интернате. И раз игумен не имеет жилья, то он пожизненно привязан к ее учреждению, и полностью находится в ее власти. Тем более, что Григорий Александрович почти полгода ежедневно вел с ним подробные разговоры, документируя их в истории болезни, интерпретируя в рамках существующих российских и зарубежных классификаций психических расстройств.
По мнению сэра Джона, те люди, которых наняли изображать кликуш, должны были в самом отце Аристархе заронить зерно тщеславия, а в глазах окружающих превратить его в посмешище. Но получилось совсем наоборот.
Эти люди привлекли к игумену внимание большого количества людей далеко за пределами Лузервиля. И через некоторое время он сумел им воспользоваться.
Священник сумел отделить то хорошее, что несло ему новое положение, от того, что оно должно было принести по замыслу тех, кто его устроил. Среди приехавших на встречу с ним людей был инкогнито один высокопоставленный чиновник из администрации Президента России, которому старец смог сказать слова, перевернувшие взгляды того на жизнь. И когда этот человек спросил отца Аристарха, что он может сделать для того, чтобы изменить положение в стране, тот предложил ему начать с этого городка. Как зло может расти подобно снежному кому, так и добро: нужно только начать его делать.
Чиновник сомневался, стоит ли связываться с международным тайным обществом, за которым стоят темные силы зла. Но чудо, которое он увидел, переубедило его.
Игумен Аристарх пользовался все большей свободой, он привел его в палату, в которой лежал Валерий Петрович, и на глазах ранее знавшего Валерия и его положение, изумленного сотрудника администрации Президента возложил на него руки, прочитал молитву, после чего тот встал, начал ходить и говорить. А священник, к которому исцеленный бросился со словами благодарности, лишь скромно сказал: «Я здесь не при чем. Это все Господь!», и тихо вышел из палаты, на прощание сказав: «Но нужно жить по новому, чтобы не вернулась старая болезнь!»
Власти Скотниковой в Лузервиле пришел конец. Приехала следственная бригада из генеральной прокуратуры. Людмила Владимировна и многие из работавших на нее бандитов были арестованы. Свидетелями обвинения выступили Валерий Петрович и Валентина. Совместное участие в опасном деле сблизило их. Бывший заместитель начальника областной соцзащиты пересмотрел свое отношение к браку, а Валя подумала, что нашла, наконец, своего принца, пусть и старше ее почти на двадцать лет и с непростым прошлым. Через некоторое время они поженились. Валерию предлагали вернуться на прежнюю работу, но он ответил, что, пожив в том положении, в каком находятся пациенты интерната, он не может более быть спокоен. Нина Петровна назначила его новым директором интерната вместо Скотниковой, и положение его пациентов начало разительно меняться. Самым трудным для Валерия Петровича было привыкать жить на одну зарплату, да еще с молодой женой, но он мужественно пытался находить радость в такой жизни.
Имущество Скотниковой было объявлено нажитым преступным путем и подлежащим передаче в собственность государства. От отчаяния та пыталась было начать говорить о Зое Георгиевне, сэре Джоне и Элизабет, о тайном обществе «Наследники Ост — Индской компании», но, едва произнеся первые слова, умерла в страшных мучениях. Поскольку вскрытие ничего не показало, то это отбило у следователей желание заниматься заместителем министра. А вскоре Зоя уволилась и уехала в Англию. Вместе с ней туда уехали Григорий Александрович и Петр.
Отец Аристарх переехал жить в дом настоятеля храма в Лузервиле. Его действительно возвели в сан архимандрита, и назначили штатным священником этого прихода. С переменой обстановки в интернате, начала меняться к лучшему и жизнь в городе, жизнь которого строилась вокруг него.
— Вы проиграли? — спросил Григорий Александрович сэра Джона.
Они сидели на террасе большого дома в центре Англии. Григорий пил ром и курил гаванские сигары, а Эктон задумчиво на него смотрел.
— Ты так себя и не ассоциируешь с нами, — сказал он профессору.
— Это плохо? — насмешливо поинтересовался тот.
— Интересно, — ответил лорд. — Я видел рождения и падения великих государств и великих организаций, почему меня должна трогать судьба какого‑то городишки?
— Но вы поняли то, что хотели?
— Отчасти. Я это, в сущности, и всегда знал. Как и то, что ничего не бывает просто так. Мы еще посмотрим на всю эту ситуацию в развитии.
ЧАСТЬ II НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Молодая жена
Год прошел с момента, когда Валерий и Валентина стали мужем и женой. Первое время Вале все очень нравилось: Валера не только неплохо зарабатывал, как директор интерната, но и имел недвижимость. Его дачу они продали, и купили на эти деньги в Лузервиле вполне приличный коттедж. Пятикомнатную квартиру в областном центре сдали квартирантам, что приносило существенную добавку к семейному бюджету. Свою иномарку Валерий, которого теперь возили на белой интернатской «Волге», подарил жене. В свадебное путешествие они съездили на Сейшелы и Багамы. В целом, можно было бы сказать, что жизнь удалась. Но Валентина все равно была недовольна.
Первое, что внесло серьезный разлад в отношения между молодоженами — это категорический отказ Валерия Петровича назначить Валентину на должность главной медицинской сестры интерната. А она была девушкой амбициозной: ей хотелось не только жить в достатке, но и иметь власть над другими людьми; и не просто иметь, а проявлять ее. Самым же ужасным в глазах Вали оказалось то, что ее муж назначил на эту должность ее подругу — Ольгу, которая за ним ухаживала, когда он был парализован!
— Ты в нее влюбился! — в истерике рыдала Валя, размазывая по лицу руками растекающиеся тушь и помаду. — А я‑то глупая ничего не замечала! Ты влюбился в нее, когда она подмывала тебе зад, пока ты валялся как овощ! А женился на мне, только из‑за того, что я ее подруга, через меня хотел быть ближе к ней. Раз уж ты не мог получить эту святошу, то решил взять хоть ее подружку!
— Не говори глупости, — раздраженно ответил Валерий. Раньше он сразу расстался бы с истеричкой. Но ведь у него была новая жизнь, в которой он должен был преодолевать себя. — Ольга прекрасно знает все нужды больных, ей хорошо знаком весь средний и младший медицинский персонал. Она сумет расставить его так, чтобы это было полезно для тех, кому плохо.
— Да она извращенка: влюбила в себя овоща, который теперь предпочитает ее собственной жене!
Валерий Петрович, ничего не ответив, ушел из дома, а Валя зарыдала еще громче. Он попробовал прислать Ольгу поговорить с подругой, но Валентина не пустила ее на порог:
— Куда ты прешься, прелюбодейка! Бесстыжие твои глаза! Еще корчит из себя святошу! Наверное, уже успела перепихнуться с моим мужем, ведь не за красивые глаза он тебя, а не меня назначил главной медицинской сестрой!
Ольга ничего не ответила, сжала губы, и ушла. А Валя кричала ей вдогонку:
— Катись отсюда, главная шлюха!
Через месяц такой жизни у Валерия появилось желание развестись. Он пошел посоветоваться к отцу Аристарху, но тот ответил, что если жена ему не изменяет, то он не имеет права с ней развестись, а ее поведение — возможность очиститься от прежних грехов.
— И потом, — сказал архимандрит Аристарх, — нужно уметь видеть хорошее в жизни. Когда ты лежал парализованный круглые сутки, и не мог от этого никуда убежать — разве тебе не было хуже?
— Было, но плохое быстро стирается из памяти, — согласился Валерий Петрович.
— Сейчас у тебя есть работа, на которой ты можешь принести много пользы людям. И есть жена, которая не даст тебе вести такую вольную жизнь, к какой ты привык. Смотри на это так, и ты научишься радоваться жизни.
— А если она мне изменит, я смогу с ней развестись? — с надеждой спросил Валерий.
— Не изменит, — с уверенностью сказал священник.
Валентина и впрямь оказалась очень верной, другие мужчины совсем ее не интересовали. Правда, при этом она оказалась еще очень жадной, сварливой, злой, ленивой, и за год помимо всего прочего поправилась на двадцать килограммов. Из‑за постоянных истерик, сопровождавшихся обильными слезами, лицо ее распухло, и она стала выглядеть ничуть не моложе Валерия. Тот, хотя и был старше ее на восемнадцать лет, но из‑за того, что перестал пить, курить, ограничивал себя в еде и жил в постоянном стрессе стал очень подтянутым и привлекательным мужчиной.
Валерий Петрович еженедельно бывал в областном управлении соцзащиты.
— Как там с молодой женой? — спросила его Нина Петровна.
— Не очень, — сказал директор своей давней подруге и поделился наболевшим. Рассказал и о том, что сказал отец Аристарх.
— Мне вспомнился анекдот, — задумчиво сказала та. — У одного мужчины была жена — страшненькая, с плохим характером, но верная. Он развелся с ней и женился на красавице, которая ему изменяла. Когда ему на это указали, мужчина сказал, что первая жена была навозом, который он должен был есть сам, а вторая халва, которой он должен поделиться с остальными. Не хочется перемен?
— Мне же не двадцать лет. И я хорошо понимаю, что такое использованная халва, во что она превращается после того, как ее съели. Ее ведь немало было в моей жизни. Да Валентина и не навоз. Наверное, если я стану другим, намного лучше, чем сейчас, то и она изменится.
— А ты становишься мудрым, Валерий Петрович! — с уважением сказала начальница.
Валя категорически отказалась работать в интернате под началом Ольги, села дома и важно именовала себя «домохозяйкой». Она смотрела телевизор, заказывала всякую дрянь в интернет — магазинах, болтала по телефону с подружками из других городов. Впрочем, иногда еще готовила, убиралась, стирала, ходила по магазинам, но делала это нерегулярно, а по мере появления желания этим заниматься.
Иногда ей становилось очень тоскливо на душе. Валентина, впечатленная пережитым, некоторое время ходила в церковь. Сейчас перестала, потому что туда ходят «прелюбодеи» — ее муж и бывшая подруга. Через некоторое время пустота на душе стала совсем нестерпимой.
Однажды она, лежа на диване с бутылкой шампанского и вазой клубники, вспоминала то, что увидела в доме Скотниковой. Вспомнился ей и сэр Джон.
— Какой загадочный человек! — подумала Валя. — Может быть, я ошибалась тогда, и он не так уж плох?
Ей вдруг показалось, что тогда она сделала неправильный выбор, и сильно — сильно захотелось, чтобы все вернулось назад…
… Сэр Джон по обыкновению беседовал с Григорием Александровичем на террасе. Внезапно он что‑то почувствовал, и в его лице появилось мрачное торжество.
— Ну, надо же! Кто бы мог подумать! — воскликнул он. — Гриша, найди Лиз, Зою и Петю. Мы едем в Лузервиль.
Три архимандрита
У архимандрита Петра был гость — из Англии в Москву на две недели приехал его давний знакомый архимандрит Василий. Три дня из них он выкроил на встречу со старым другом. В первый день из вежливости отец Петр пригласил поужинать вместе с гостем и отца Аристарха — все‑таки тоже архимандрит, тем более, сейчас своего рода знаменитость.
Архимандрит Аристарх знал, что настоятель без радости пустил его жить в свой дом. Но он знал и то, что отец Петр воспринимает это, как своего рода жертву, которую он приносит ради Христа, поэтому не ушел на квартиру, когда представилась такая возможность, хотя чувствовал бы себя там гораздо свободнее. Впрочем, настоятель никогда ничем его не попрекал.
Гостей архимандрит Петр всегда принимал хорошо. На столе была и осетрина, и семга, и красная и черная икра, и всевозможные фрукты и овощи, и коньяк, и текила, и дорогая водка, и абсент.
Архимандрит Василий в Англии привык к бедности духовенства, поэтому сейчас с любопытством осматривал и дом друга, и накрытый им стол. Впрочем, в Великобритании он оказался всего лишь два года назад. Причина его приезда в эту страну не была напрямую связана с пастырством — он готовил докторскую диссертацию в одном из английских университетов, и уже в будущем году должны были назначить защиту. А до этого он жил в России, имел достаточно широкий круг общения, а соответственно участвовал и не в таких застольях. Но общение с православными священнослужителями Англии, особенно их воспоминания о жившем фактически в бедности митрополитом Антонием, наложило свой отпечаток на мышление отца Василия.
— Как‑то, даже непривычно вновь видеть русские столы, — сказал он.
— Полно тебе, в Англии еще больше пьют и жрут, только тебя в приличные места не звали, а только нищие или крохоборы, — с беззаботной усмешкой сказал хозяин.
После молитвы три архимандрита сели за стол. Прислуживал им келейник отца Петра иеромонах Онисим.
Архимандрит Василий был самым молодым — ему было лишь немногим более тридцати лет. Он очень много читал, на каждый случай у него была запасена цитата из чьих‑то трудов.
Отец Петр предложил наполнить бокалы. Сам он предпочитал коньяк, его английский гость текилу, а отец Аристарх попросил налить ему водки и весь вечер сидел за одной рюмкой, в то время, как его сотрапезники сразу задали неплохой темп, и после пятой или шестой рюмки у них началась задушевная беседа.
— Вот Аристарх, — ткнул пальцем настоятель, снявший рясу и наперсный крест и расстегнувший верхние пуговицы на рубашке, — ты думаешь, он просто так? Нет, он не такой как мы! Да я ведь рассказывал тебе…
— Рассказывал, — подтвердил отец Василий, который тоже захмелел, но держал себя в руках. — Несчастье более талантливых — в более остром ощущении мира вокруг. Они видят и чувствуют все лучше нас — в этом их дар и их проклятье. Мы можем в силу образования и профессиональных качеств где‑то даже понимать их, но нам не дано чувствовать то, что чувствуют они. И в этом наше счастье. Мы не перенесли бы безмерной боли этого острого, ни с чем не сравнимого ощущения жизни в том смысле, в котором мы не готовы пока не понять ее, ни принять. То, что мне рассказывали о вас — достойно уважения, — повернулся он к архимандриту Аристарху.
Тот благодарно кивнул.
— Как писал Жан Поль Сартр в его, так и не поставленном сценарии «Фрейд», «чтобы погружаться во тьму душ, не губя собственную душу, надо быть чистым как ангел», — продолжил отец Василий. — А кто из нас может назвать себя ангелом? Мы исповедуем, да, но разве мы меняем души тех, кто к нам приходит? Иногда мне хотелось бы тоже стать таким старцем…
— Думаю, что не стоит, — мягко заметил отец Аристарх.
— Вы правы, — сразу же согласился гость. — Можно вспомнить слова Гераклита о том, что людям не стало бы лучше, если бы исполнилось все, что они желают.
— Ну, ты и зануда! — сказал хозяин и налил еще по рюмке. — Неужели своими словами нельзя говорить?
— Да я как‑то привык… — засмеялся отец Василий. И опять обернулся к архимандриту Аристарху:
— Я слышал, вам пришлось перенести много испытаний?
— Не очень.
— А вы так спокойны! Впрочем, по меткому замечанию Канта человек, который ненавидит, обеспокоен в большей степени, чем тот, кого ненавидят.
— Им так и положено.
Настоятель опять наполнил рюмки и решил разрядить обстановку:
— Джером К. Джером в свое время дал достаточно остроумный совет: «Восторгайтесь красотой урода, остроумием дурака, воспитанностью грубияна, и вас будут превозносить до небес за светлый ум и тонкий вкус». Я поступаю именно так и ни разу не пожалел.
— Ты известный дипломат, — засмеялся гость. — Только всем об этом не рассказывай. Не нужно выворачивать свою душу наизнанку. Мне всегда вспоминаются слова Сартра «Если вы снисходительны к себе, снисходительные люди будут вас любить; если вы растерзаете соседа — другим соседям будет смешно. Но если вы бичуете свою душу — все души возопят».
— Не нужно душу наизнанку выворачивать, — подтвердил архимандрит Аристарх. — А как в Англии относятся к религии?
Отец Василий начал издалека:
— Английская литература конца 19 — начала 20 века пропитана ожиданием чего‑то загадочного. От своеобразного романтизма Оскара Уайльда мы восходим к мрачной мистике Вирджинии Вульф — поэзии, в которой истина является нам изменчивой, зыбкой, неуловимой. В ее творчестве, как и в трудах ее единомышленников, чувствуется желание объединить музыку и прозу, стихи и живопись. Желание выйти за грани того, что определяет канон, в то же время ограниченность временными и вещественными рамками — все это делает борьбу беспредметной и жизнь бессмысленной… Признаться, мне жаль англичан, да и не только их, когда наиболее талантливые люди, разбрасывались в поисках эфемерной «истины» и не видели настоящую Ее возле себя и, в лучшем случае, просто вписывались в рамки нашего «общепринятого» мещанского мироощущения…
— Я бы сказал, что все это вообще не о том, — возразил архимандрит Петр. — В Англии есть и Льюис, и Честертон, и Толкин и, конечно же, митрополит Антоний. Но мы поговорим об этом завтра днем, если тебе это интересно, отец Аристарх. У Православия в Англии есть уникальный опыт, который митрополитом Антонием был описан. Правда, там есть и сложности, но тебе они ни к чему. Ты не обидишься, если мы посидим еще вдвоем — ты трезвый, а мы уже нет, и у нас есть о чем поговорить друг с другом?
— Конечно же, нет, — сразу встал отец Аристарх. — Но завтра с интересом послушаю о православной Англии.
Каким стал интернат
А интернат разительно изменился. Валерий Петрович за те полгода, которые там лежал, сумел на себе почувствовать каково его пациентам. И сделал все, чтобы переломить ситуацию.
Среди прежнего состава коллектива были те, кому доставляло удовольствие издеваться над больными, например, как бы случайно уронить на них что‑то тяжелое или пролить судно. Поэтому некоторых сотрудников пришлось уволить, но многие относились к пациентам плохо, только потому, что так здесь было принято и достаточно легко приспособились к новым порядкам.
Ольга, став главной медсестрой, занималась этим обновлением среднего и младшего медицинского персонала. Некоторые ее при этом проклинали, угрожали ей. Две санитарки — Роза и Клара — алкоголички неопределенного возраста, наиболее плохо относившиеся к пациентам, грозились даже, что ее убьют. Оля не жаловалась, но Валерий Петрович узнал об этом. Он нашел Розу с Кларой и сумел так их запугать, что они пришли к главной медсестре и на коленях со слезами на глазах просили у нее прощенья.
— Что вы им такое сказали? — удивлялась потом она.
— Ничего особенного. Что у меня есть препарат, который вводится для того, чтобы человека парализовало. Если им интересно, как он действует — пусть вспомнят, что было со мной. Так если они будут так себя ввести, то этот препарат будет им введен, когда они этого меньше всего будут ожидать, возможности у меня для этого есть. И оформим мы их в наш интернат, а ухаживать за ними будет одна из их подружек, такая же, как они.
— У вас правда есть такой препарат? — со страхом спросила Ольга. — Это же очень страшно!
— Да нет, я просто пошутил.
— Но разве можно так издеваться над людьми? Они чуть не умерли от страха!
— А им можно угрожать тебя убить?
Но постепенно все страсти улеглись. И некоторым из медсестер и санитарок стало даже нравиться ухаживать за больными: Ольга на примере директора сумела научить их смотреть на это так, что они могут сами оказаться в любой момент в такой ситуации, и что будет с ними тогда? Так что, делая сейчас что‑то хорошее для больных, они делают это для себя: к ним так будут относиться, когда они окажутся в подобной ситуации, а если будут стараться, то, возможно, им повезет, и они по ту сторону никогда не окажутся. Наиболее внушаемые настолько этим прониклись, что главной медсестре пришлось даже их успокаивать, объясняя, что не парализует их только от того, что они один раз случайно забыли вовремя сменить судна.
Питание больных стало намного лучше. Раньше половина шла директору и ее приживальцам, теперь все шло пациентам. За счет того, что вся обслуга Людмилы Владимировны оказалась ненужной, появилось много свободных ставок. Валерий Петрович сам подбирал людей, а он очень хорошо знал специфику социальной сферы. Перестали уходить в частные руки огромные суммы, выделяемые из бюджета на интернат. Правда, после этого интернат как‑то быстро выпал из всех целевых программ, наверное, потому, что Зоя Георгиевна уже не была заместителем министра…
По инициативе директора и главной медсестры, одно из помещений в интернате было переоборудовано в домовый храм. Служить в нем стал отец Аристарх. Он же ходил по палатам, исповедовал, причащал, соборовал больных, кого‑то крестил — оказалось, что в этом была большая потребность. Архимандрит разговаривал и с персоналом, некоторые после этого стали прихожанами домового храма.
По его совету при интернате была образована небольшая группа сестер милосердия, в которую вошли те медицинские сестры и санитарки, которые изъявили желание более усердно, чем этого требовали их обязанности, ухаживать за самыми тяжелыми больными, говорить с ними о вере и о Боге. Архимандрит Петр всю эту деятельность отца Аристарха одобрял, потому что в епархии от него требовали организацию церковной социальной деятельности, а теперь он мог только оформлять на бумаге то, что реально делалось в интернате.
С переменами в социальном учреждении, менялся и город, который был с ним тесно связан. Обновился состав городского совета. Брат Людмилы Владимировны уволился с поста главы администрации, а его сын с должности главного редактора, и оба они покинули Лузервиль. Валерию Петровичу предложили стать главой города, но он сказал, что от этой порочной традиции нужно отказываться. Город должен жить своей жизнью, не связанной с интернатом, и не затухать, а развиваться. В итоге в городской совет пришли многие из местных предпринимателей, из их числа был выбран и глава города. Главу администрации назначили по принципу не родственных связей, а профессиональной подготовки. Избранный от Лузервиля депутат областной думы, вынужден был активно включаться в новый процесс.
В город пришли инвесторы. Появилось несколько новых вроде бы небольших производств, но в итоге это дало городу свыше пятисот дополнительных рабочих мест.
Дом Скотниковой, ставший собственностью государства, сделали городским домом культуры. В нем разместились театр, библиотека, музей, музыкальная и художественные школы, ранее находившиеся в аварийных зданиях. Что больше всего огорчало отца Аристарха, Валерия и Ольгу, не нарушили находившееся в нем культовое помещение, посвященное Кали, под предлогом, что это очень интересно с культурологической точки зрения. Архимандрит сокрушенно качал головой и говорил, что это даст себя знать.
Сэр Джон, отслеживавший ситуацию в Лузервиле, был с ним полностью согласен.
Митрополит Антоний
Отец Аристарх с нетерпением ждал следующего дня. Ему казалось, что архимандрит Василий расскажет ему что‑то важное. Они встретились с ним и архимандритом Петром за обедом. Настоятель сначала не планировал звать на него старого священника, но увидев его заинтересованность в продолжении разговора с гостем смягчился:
— Отец Василий, не забудь вчерашнюю книгу, о которой ты мне говорил. Тебя за обедом будут экзаменовать!
Архимандрит Василий принес книгу, в которой подчеркнул какие‑то места. Он даже не притронулся к еде и напиткам, и перед тем как начать зачитывать сказал:
— Отец Петр пошутил, но я и правда чувствую себя как на экзамене перед человеком, который отдает Богу всего себя без остатка. Я думал, что сказать об английском Православии. Можно говорить о многих нестроениях в начале третьего тысячелетия, о том, что вызвавший их к жизни епископ Василий (Осборн) сменил юрисдикцию, а затем в семьдесят лет снял сан и женился… Но мне кажется, что это неплодотворный путь для разговора, ведь церковный опыт не в этом. Ведь и о Русской Церкви двадцатого столетия можно говорить сквозь призму восприятия протоиерея Иоанна Кронштадтского или священника Георгия Гапона, архимандрита Иоанна (Крестьянкина) или протоиерея Александра Осипова. Поэтому я скажу немного лишь об уже усопшем митрополите Антонии (Блуме), который аккумулировал в себе весь лучший опыт английского Православия. Вы согласны?
— Конечно, — подтвердил отец Аристарх.
— Вот что писал митрополит Антоний о своих прихожанах: «Наши верующие гораздо живее, чем верующие других исповеданий, потому что быть православным среди моря инославных требует выбора и решимости. Прихожане едут два — три часа в церковь и столько же обратно. Самое простое — пойти в соседний англиканский или католический или протестантский храм, — нет, приходят. И поэтому люди, которые встречаются в церкви, все знают, что у них одна вера, одна духовная традиция, что они пришли в этот храм не потому что он самый близкий или удобный, а по убеждению».
— А что он говорил о священстве? — спросил архимандрит Петр, наливая себе коньяк. — Говорят, он считал, что между духовенством и мирянами нет никаких различий?
— Он писал об этом так: «В ранней Церкви расслоения между духовенством и мирянами не было в том смысле, что было одно живое тело, в котором все члены (апостол Павел об этом подробно говорит) имели различные функции. Но функция — это одно, а сан и возвышенность — это совершенно другое. А если уж говорить о сане и высоте, то надо помнить слова Христа о том, что никто большей любви не имеет, как тот, кто жизнь свою отдаст за ближнего своего. Это у нас пропало в значительной мере, если не совершенно, потому что мы влились в светские структуры». «У нас нет такого чувства величия епископа или какой‑то его отдаленности: живем вместе. И потом, я живу гораздо проще — слава Богу! — чем приходится жить архиерею в России, где у него большая административная работа и вообще сложная жизнь. У нас собор, в соборе сторожка, я в этой сторожке живу, я на себя готовлю, я свою комнату чищу, я на себя секретарствую — и блаженствую, потому что это единственное, что остается у меня от монашества, говоря о внешней стороне».
— То есть священник должен быть и за сторожа, и за повара? — уточнил архимандрит Петр.
— Прямо как я, — улыбнулся иеромонах Онисим, который принес первое. Правда, кроме отца Петра есть пока никто не стал.
— В Англии нормально, чтобы священники работали помимо своего служения, — сказал отец Василий. — Митрополит Антоний пишет: «И вот я предложил — и это было принято одним за другим нашими священниками — что каждый, кто будет посвящаться, будет сам себя содержать работой, а приходской пастырской работе отдавать все — в пределах разума — свое свободное время. Наши священники рассматривают необходимость заработка не как несчастье, а как замечательную возможность расширять свою пастырскую деятельность. Причем не «обращать» в Православие, а давать изнутри Православия все богатство, которые люди могут воспринять, до момента, когда они воспримут само Православие. Или, если не воспримут, они во всяком случае уходят обогащенными тем, чего раньше у них не было». И далее: «Но что совсем не оправдывается, по — моему, это положение священников, у которых не хватает работы, а они все‑таки живут за чужой счет, — это ужасно разрушительно».
— Я живу ужасно разрушительно! — усмехнулся архимандрит Петр.
— У вас совсем другой путь в Церкви, — сказал ему отец Аристарх. — В вас очень много доброго. Митрополит Антоний пишет для таких, как я…
Поняв, что это сказано искренне, настоятель поинтересовался:
— А правда, что священников у него для рукоположения выбирал народ?
— Правда, — подтвердил гость и зачитал: — «Мы здесь завели за правило никогда не рукополагать человека иначе как по народному выбору. Мне кажется очень несчастным явлением, хотя большей частью неизбежным, когда человека готовят в семинарии или академии и потом посылают на приход, о котором он не имеет понятия, к людям, которые его не просили и не выбирали. Я не ставлю никого на приход, где его не хотят, не выбрали и не готовы принять». «У нас в течение столетий получился сдвиг. Епископ и священник заняли высокое положение в иерархии, тогда как на самом деле, как отец Софроний мне раз сказал, Церковь — это пирамида вверх дном. То есть тот, кто является епископом или священником, должен быть на самом низу, на нем как бы строится Церковь. И мы потеряли это сознание народа Божия, то есть мирян не как людей не священного сана, а как тела Христова».
— А что он писал о духовничестве? — поинтересовался архимандрит Аристарх.
— Об этом он вообще замечательно писал. Например: «Меня волнует, что так часто молодые священники (да и священники среднего возраста, которых жизнь, может быть, не ломала внутренне) считают, будто они могут всякого наставить и привести ко спасению. Я думаю, что это очень страшное искушение для священника. Знаете, когда люди берут проводника в горы, они выбирают человека, который там бывал, знает дорогу, уже проходил ею. А молодой священник, который говорит: «Я получил богословское образование, я могу взять человека за руку и привести в Царство Божие», — неправ, потому что он там никогда не бывал». И еще: «Я думаю, и миряне должны играть свою роль. Не надо ставить священника, особенно молодого, на такой пьедестал, чтобы он думал, будто он духовный гений. И надо его поддерживать, чтобы ему не было страшно быть обыкновенным, «полубездарным» священником», если он таков. От священника вы имеете право ожидать, чтобы он благоговейно совершал службы, чтобы он молился за вас и с вами, но рукоположение само по себе не дает священнику ни богословского знания, ни «различения духов», ни понимания того, что другой человек переживает, ни способности проповедовать. Это все иное, это может иметь любой человек. Но священнику дана власть совершать таинства; от него можно их принимать. В остальном, мне кажется, надо больше развивать сотрудничество между мирянами и священниками, чтобы священник не имел тенденции и желания властвовать над уделом Божиим».
— Интересно: предвидел он те нестроения, которые принесла его кончина? — задумчиво спросил архимандрит Петр.
— Он очень просто на это смотрел. У него есть такие слова: «Наше дело — сеять. Как земля воспримет семя, как Бог взрастит его — не наша ответственность. Есть такое слово, которое мне очень дорого, латинская поговорка Fructuat dat pereat: пусть он приносит плоды, с тем, чтобы в свое время самому исчезнуть… Я не знаю, что будет с нашей епархией. Я думаю, что в какой‑то момент она послужит семенем будущего Православия здесь, что тогда все здешние православные сольются в одно, и будет, возможно, не Сурожская епархия, и не греческая Фиатирская епархия, и не Сербская епархия, а нечто новое, может быть — Православная Церковь Великобритании и Ирландии».
— Но не возникла же? — недоверчиво сказал хозяин.
— Мы не знаем будущего. И все‑то доброе рождается из скорбей и искушений, — ответил отец Василий.
Архимандрит Аристарх был очень благодарен за то, что познакомился с опытом архипастыря, создавшего епархию в такой непростой стране, как Англия. Единственное, что его занимало — это то, как один из близких к митрополиту Антонию людей — епископ Василий (Осборн) мог совершить столько необъяснимых поступков.
— Не было ли среди его друзей лорда сэра Джона Эктона? — задал он мучавший его вопрос.
— Не знаю даже, — растерялся отец Василий. — А что?
— Это его кошмар! — серьезно сказал архимандрит Петр. — А, может быть, оба они кошмар друг друга! Но ведь пора и успокоиться: все ведь в прошлом, не так ли?
Но архимандрит Аристарх знал, что встреча с сэром Джоном ему еще предстоит.
Мысли сэра Джона
Сэр Джон в это время сидел на веранде с Григорием Александровичем и вместе с ним пил коньяк, к которому в последнее время пристрастился. Утром они должны были вылетать в Россию. Как ни странно, выпив, он становился добрее, если это слово было еще к нему применимо и, во всяком случае, более разговорчивым.
— Ты знаешь, Гриша, очень много интересного сейчас происходит в мире. Наши силы крепнут. Скоро мы подойдем к созданию единого всемирного государства. Но что‑то нам все время пока мешает…
— Что? — равнодушно спросил Григорий Александрович, залпом опрокинув целый стакан рома.
— Ты забавно пьешь, — заметил сэр Джон. — Помнишь, у Стивенсона: «Пей, и дьявол тебя доведет до конца… и бутылка рома».
— В вас что: опять проснулся проповедник? — недовольно спросил Григорий, которому лорд во время их долгих пьяных разговоров кое‑что рассказал о своей жизни.
— Нет, конечно. Мне просто очень интересно наблюдать в развитии за некоторыми вещами… Скажи: ты уже видишь тех сущностей, которые обступают сейчас тебя?
— Нет, что я шизик что ли?
— А ты мне при первой встрече рассказал, что видел меня во время алкогольного психоза?
— Я не хочу об этом вспоминать, — резко ответил Григорий Александрович.
— Значит, ты уже видел, но это лишь очень маленькая толика, — удовлетворенно заметил Эктон. — Они записывают каждый твой шаг, а потом предъявят счет…
— А вам? — защищаясь, спросил Григорий.
— И мне… Всем… В последнее время я об этом много думаю: срок моей жизни подходит к концу.
— Плохо вы меня вербуете, — заметил Григорий Александрович.
— А я тебя не вербую. Ты единственный человек, с которым я говорю об этом. Но мне кажется, что ты уже не вырвешься, независимо от того — будешь ты участвовать в наших ритуалах или нет. Ты и так весь состоишь из страстей — пьянка и девущка — фэйри Лиз…
— Разве Элизабет не человек?
— Уже не совсем, как и я. Когда нарушаются естественные законы жизни человеческого организма, человек становится ближе к тем силам, которым он служит…
— Так вы хотели бы вернуть все назад?
— Это невозможно. Хотя иногда кажется, что возможно… Скорее всего, придется пройти этот путь до конца…
— Почему вам так не дает покоя этот Аристарх?
— Потому что у него есть то, чего нет у меня. И не только у меня — у многих христиан. Он пытается менять себя, а не других. Другие сами меняются вместе с ним. А, изменившись, они отодвигают наши планы нового мироустройства на неопределенный срок. Поэтому мы и должны еще раз встретиться с ним — нужно устранить его.
— Он имеет такие силы, потому что христианин?
— Христианином мало называться. В современном мире (да и во все время истории последних двух тысячелетий) кто только не называл себя христианами! Вот сейчас — профессор догматики в Оксфорде выпустил книгу «Миф о Воплощении», он просто не верит, что Бог воплотился во Христе. Студентов, которые говорят, что верят в Воскресение Христа, такие профессора преследуют. Скоро в Англии запрещено будет носить нательные кресты огромным социальным группам — в разные годы мы делали это и в Советском Союзе и во Франции, да много где… И такие доктора богословия найдут догматические обоснования того, что так и должно быть. Мешают ли нам такие христиане? Конечно, нет: они создают самую благоприятную почву для прихода единоличного властелина мира. И в нем‑то они не будут сомневаться: ведь там никакой свойственной Христу терпимости и всепрощения не будет…
— Вы жалеете, что идете по этому пути? — спросил Григорий.
— Мне поздно жалеть, — устало сказал лорд. В последнее время он иногда начал чувствовать физическую усталость. Это было еще одним напоминанием о том, что он человек, и время его подходит к концу. — Поспи немного, через три часа мы едем в аэропорт…
В самолете
В последний момент сэр Джон решил не брать в Россию Зою Георгиевну. Ему показалось, что в этот раз она может быть для него обузой в такой поездке. В самолете он сел рядом с Григорием Александровичем, а Элизабет рядом с Петром. Григорий бросал на нее ревнивые взгляды, хотя знал, что Петр Иванович жутко боится Лиз. Юристу казалось, что она чем‑то похожа на сирен из древнегреческих мифов — красивое лицо женщины, а внизу, скрытое от взоров очарованных ее пением путешественников — тело чудовища со страшными когтистыми лапами. Элизабет знала об этом, и это ее ужасно забавляло; она даже специально пела иногда для Петра. Голос у нее был высокий, красивый, но что‑то в нем могло напугать человека с богатым воображением. Григорий ревновал: ему Лиз была бы нужна и с когтистыми лапами, во всяком случае, он сам так считал.
Чтобы отомстить сэру Джону, он решил высказать ему некоторые соображения, которые пришли ему в голову в последние дни.
— Можно откровенный вопрос? — спросил Григорий Александрович.
— Конечно.
— У меня иногда складывается впечатление, что вы находитесь под воздействием ЛСД — вызывающим галлюцинации веществом, производным лизергиновой кислоты, сейчас запрещенным. А в свое время он широко использовался во многих странах, в том числе в психиатрии им пытались лечить некоторые психические заболевания. Это и является причиной того, что вы считаете, что вам четыреста лет, что вы имеете сверхвозможности…
Эктон засмеялся. Профессор его все больше забавлял.
— Значит ЛСД? А чем ты объяснишь возможность видеть на расстоянии, на расстоянии воздействовать на людей так, что Валерия парализовало на полгода, а Людмила умерла?
— Ну, я пока это не знаю…
— Что ты знаешь о теории холотропного сознания, господин позитивист?
— Ах да! — взмахнул рукой профессор. — Он научился входить в транс и без ЛСД. Я об этом, как его… Вспомнил! Станислав Гроф, автор идеи о холотропном сознании, ставил опыты, первоначально используя ЛСД. Он учил о том, что человек может научиться преодолевать свои физические границы, как отмечает Гроф по итогам своих собственных «путешествий» в бессознательное и наблюдений за тысячами «путешествий», предпринятых его пациентами, выйти за этот предел позволяют три состояния: приём ЛСД, предложенная Грофом методика холотропного дыхания и психодуховный кризис, или «духовное обострение». Общим для этих трёх ситуаций, как писал Гроф в предисловии к книге «Зов ягуара», является то, что они вызывают необычные состояния сознания, в том числе тот их подвид, который он называет «холотропными», то есть запредельными, в отличие от обыкновенного опыта, который он называет «гилотропным», то есть земным. В методе холотропного дыхания, разработанного Грофом и его женой Кристиной в 1975 году, для изменения сознания применяется сочетание так называемого связанного дыхания (когда между вдохом и выдохом, выдохом и вдохом не делается паузы) и музыки, вводящей в состояние транса (часто этнической, трайбл: африканские барабаны, тибетские трубы и т. п.); иногда дополнительно применяется работа с телом. В случае «духовных обострений» холотропные состояния возникают самопроизвольно, отмечает Гроф, и их причины обычно неизвестны. Таким образом, третий метод — неконтролируемый, первый — нелегальный: остаётся только холотропное дыхание.
— Тебе это ничего не напоминает? — усмехнулся сэр Джон.
— В смысле?
— Искусственный транс вполне распространенное магическое действие. Сейчас старые колдовские книжки тумба — юмбов переписывают языком современной позитивистской науки, зачастую отказывая в «научности» традиционным религиям. Гроф, Гурджиев, Кастанеда учили о том, что мы сами — изо всех сил — держим запертыми свои «двери восприятия», не давая войти в них истинному здоровью, процветанию и свободе. По их мнению человек тратит на поддержание своих психических барьеров очень значительные силы (намного большие, чем он может себе позволить!). И эти силы можно использовать гораздо более рационально и выгодно. Например, эти силы, которыми человек держит свои «двери восприятия» на замке, могли бы помочь ему в путешествии за эти двери, а значит, позволить ему стать счастливой и духовно развитой личностью. И даже более того — шагнуть дальше, за границы человеческого, которые мы, получается, сами же себе установили. В конечном итоге Гроф «неистово ищет» сверхчеловека — и призывает каждого из нас включиться в этот поиск. Ну, а ты, наверное, понимаешь, кто будет сверхчеловеком? — Эктон испытующе посмотрел на профессора.
— Да, я согласен, что ЛСД не нужно тем, кто и так добровольно отдал себя во власть этих сил тьмы, которые многим могут казаться силами света, — кивнул Григорий Александрович. — Сам я, как человек и как врач считаю, что нет таких усилий, которые не стоило бы затратить ради того, чтобы сохранить барьеры сознания. Это огромное благо — не видеть мир духов, только наивные безумцы могут это не понимать!
— Ты сделал правильные выводы из своей белой горячки, — кивнул сэр Джон. — Почему же ты не пытаешься уйти от нас?
— Мне почему‑то кажется, что я в итоге не окажусь в мире этих темных духов.
— Напрасно ты так самоуверен.
— У меня есть еще вопрос, — сказал Григорий Александрович. — В Библии говорится, что главный демон — отец лжи. Может быть, что он просто внушил вам, что вы живете четыреста лет, а на самом деле намного меньше, а ваша память — это его память?
— Тебя волнует такая ерунда? — усмехнулся сэр Джон. — В Библии же сказано, что у Бога тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет.
… Самолет приземлился. Около аэропорта лорда и его спутников уже ждала машина, которая повезла их в Лузервиль.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Бухарик — интеллектуал
В одном из самых мрачных мест Лузервиля — улице Боевиков, в покосившемся, с вросшими в землю окнами, крытом соломой домишке, в грязной комнатенке за круглым столом сидели Клара и Роза — две местных алкоголички, которых Валерий Петрович недавно выгнал из интерната. Через несколько минут в дверь вошел и хозяин дома — Колян по кличке «Бухарик». В руках он держал сумку с трехлитровой банкой самогона. Поставив ее на стол, Бухарик важно провозгласил:
«Кто работал и трудился — Тот давно уже накрылся. А кто пил, да похмелялся, Хоть опух, но жив остался!»Роза и Клара весело ему захлопали. В своем кругу Колян считался большим интеллектуалом, который хорошо разбирается в политике, философии, литературе, да и вообще в жизни. Как и две его гостьи, он дошел уже до той стадии, когда почти невозможно было определить возраст, когда начинают стираться вторичные половые признаки, а вся жизнь пропитана одним желаниями — найти очередную порцию выпивки. Впрочем, нужно отдать ему должное: когда выпить было что, он мог и угостить других, особенно сегодня, в свой день рождения.
Подружки притащили банку соленых огурцов, банку компота и буханку черного хлеба. Бухарик поставил на стол немытые тарелки и граненые стаканы, вилки и нож. Сегодня у них был пир. Когда они выпили, Роза начала просить хозяина рассказать какую‑нибудь историю: «Ну, хоть про старуху — спекулянтку».
Тот когда‑то прочитал много книг, но потом их содержание в его сознании приняло своеобразные формы, но он охотно пересказывал их всем желающим. Получалось что‑то наподобие Шуры Каретного.
— А, это типа «Преступление и наказание»! — важно сказал он. — Достоевский написал, писатель такой. Там суть в чем: был парень такой Родион, студент. Типа шизик, всякая дрянь его занимала. Все думает постоянно, то ли тварь он дрожащая, то ли право имеет. А он и тварь дрожащая, раз дрожит все время, и право имеет, только вопрос на что. Так вот решил он грохнуть бабку одну. Она такая гнида старая была, деньги взаймы давала, а обратно брала больше, типа как банки сегодня, только она все же менее поганая. И Родион этот думает: надо бы эту старуху замочить. А вот сделал он эту мокруху, и не по себе ему стало, потому как все равно ведь живая душа. И так ему тошно стало, что и жить нет сил. А у него еще подружка была — сама проститутка, а из себя святошу корчила. И вот под ее влиянием сдался он в руки правосудия, так как понял, что не имел он права чужой жизнью распоряжаться…
— Мы тут тоже сгоряча курве одной пригрозили, что убьем, а потом как‑то совестно стало, — сказала Клара.
— Да не совестно, просто этот парализованный директор нас запугал, — отмахнулась Роза. — Расскажи еще чего‑нибудь.
— Про аленький цветочек! — попросила Клара.
— Надо же, какие мы сантиментальные! «Про аленький цветочек!» — передразнил Колян. — Там фишка какая: был один барыга, и у него три дочки. Здоровые уже девки. Две‑то вроде ничего, а третья с придурью. Он поехал за границу, типа фарцануть, деньжат набашлять, туда — сюда… И спрашивает их: «Чего вам привезти?» Две‑то все путем, чего‑то путное попросили, но вот чего и не вспомню. А младшая попросила цветочек аленький…
— Вот дурища, — не выдерживает Роза.
— Ну да, ты бы поллитра попросила, только не нужно было ему за ними было бы ехать, потому что выпивки у него и так было полные погреба, хоть залейся, — замечает Бухарик.
— Везет же людям! — вздыхает Клара.
— Ну вот, попал он на какой‑то остров, а там жило чудище — страшное — престрашное, хуже, чем Васька из соседнего дома!
— Неужели такие чудища бывают? — вздрагивают слушательницы.
— Бывают, — кивает Бухарик и продолжает: — Так этот чудище — был очень классный мужик. Принял барыгу, как родного, поил — кормил, гостиница — люкс и все дела. Даже не показывался ему, чтобы видом своим смрадным его напугать. А тот что? Фарцовщик он фарцовщик и есть. Спер он у него цветочек аленький, а тот чудищу был дороже всего…
— Во козел! — не выдерживает Роза.
— Типа того! — подтверждает Колян и продолжает: — А дочка честная была, решила вернуть цветочек. А потом влюбилась в это чудище. Хоть он и страшный, но почувствовала она в нем человеческую сущность, которую ни за какой страшной образиной не спрячешь, если она есть! Но попросилась она домой: по папаше — прохвосту соскучилась! А чудище ей: «Умру, если через день не вернешься! Сдохну прямо и все!»
— Так и сказал? — всхлипывает Клара.
— Именно так, — Бухарик вытирает слезу. — А эти две козлицы — сеструхи еенные, решили ей подгадить, и часы перевели.
— Видать завидно этим крысотелкам стало! Во гниды! — замечает Роза.
— Наверное, завидно. Потому как чудище хоть, но ведь полюбил их сеструху. А козлиц‑то кто полюбит? — резонно замечает рассказчик и возвращается к рассказу: — Приезжает она на остров, а чудище ее лежит мертвый, типа откинулся уже. И начала она плакать горькими слезами, а он взял и ожил…
— А может он не мертвый, а сильно бухой был? Другой раз и не отличишь, особенно Ваську, — уточняет Роза.
— Да нет, просто любовь ее его оживила. И стал он не чудищем, а вообще красавцем! И поженились они!
Все утирают слезы, жалуются, что в настоящей жизни так не бывает, потом выпивают еще по стакану. Разговор заходит о политике.
Роза говорит, что она за коммунистов.
— И где бы ты была при коммунистах? — смеется над ней Бухарик. — Сидела бы сейчас в ЛТП, и работала забесплатно на государство. А сейчас сидишь здесь, как княжна!
— Вот — вот! — поддерживает его Клара. — У меня тоже одна знакомая, сидит дома, тунеядка. Не работает, а туда же: «Я за коммунистов!» Да ей сразу же бы статью за тунеядство вкатили, и на принудительные работы!
Затем беседа плавно переходит на проблемы российского образования. Бухарик и здесь имеет свое мнение: он против Фурсенко и Болонского процесса, который называет «болванским». Оказывается, в свое время Николай получил диплом специалиста, который очень ценит. Вот советское образование было настоящее, а сейчас что? Выдумали бакалавров и магистров. Роза не может понять, как может быть две ступени высшего образования и обе они высшие и зачем это надо. Колян долго думает, а потом объясняет:
— Ну, просто для одной и той же работы, если она становится более сложной, нужно больше навыков. Вот представьте придурков, которые наряжаются в кенгуру или пчел и рекламируют всякую дрянь…
Подруги представили.
— Так вот, например, кто наряжается в кенгуру — это бакалавр. Ему меньше нужно уметь: надел костюм и ходи, почти все к нему с симпатией относятся кроме отморозков. А вот пчеле уже сложнее — ходит, понимаешь, с выпяченным задом, многим захочется по нему пнуть. Поэтому нужно уметь и отбиваться, и убегать, и звать на помощь, и вызывать милицию. Это называется «компетенции». А компетенции, в свою очередь, бывают общекультурные — как милиция вызывать, и профессиональные — в каком положении ходить, чтобы хвост по земле не волочился.
Роза с Кларой говорят, что это отстой — раньше из института инженер или врач выходил, а сейчас пчела или кенгуру.
— Да я же образно говорю! — раздраженно машет рукой хозяин.
Они пьют еще, и еще о чем‑то говорят. Внезапно всех их охватывает необычайная жуть. Собеседники чувствуют, что сейчас что‑то произойдет. И в это время в дверь к ним кто‑то стучит…
Первая неудача юриста
… В дверь стучал Петр Иванович. Приехав в Лузервиль, сэр Джон сам решил навестить Валентину, и велел сопровождающим его разделиться: Элизабет с Григорием должны были посетить бывший дом Скотниковой, а Петру было дано одно деликатное поручение, от которого юристу стало как‑то не по себе. «Зато потом ты сразу будешь наш!» — заверил его Эктон. И эта перспектива страшила еще больше.
Юриста сопровождал темный дух, которого он пока не видел, зато чувствительные к потустороннему миру алкоголики почувствовали через дверь и, нужно сказать, очень испугались.
— Кто там? — самым смелым голосом, который был для него в этот момент возможен, спросил Бухарик.
— У меня к вам есть деловое предложение, — сказал Петр. — Вы можете очень хорошо заработать.
Заработать собравшейся компании было кстати. Поэтому Колян охотно открыл дверь. Вид юриста его не впечатлил: «Хлюст какой‑то! Но откуда же идет эта жуть?»
Сэр Джон посылал не вслепую: он выбирал именно тех людей, для которых настало время последнего выбора, после которого они либо станут его, либо начнут путь к Богу, как Валерий Петрович. Он знал, что Роза с Кларой угрожали убить Ольгу, и что Николай чуть не свел их со своим соседом Василием, который промышлял заказными убийствами, по каким‑то причинам (сэр Джон хорошо знал по каким) сходившими ему пока с рук.
— Что за работа? — спросила Клара.
— Дело деликатное. Нужно убрать одного человека, мне сказали, что вы можете это организовать, — неуверенно начал Петр, думая про себя: «Да чего они могут организовать! Какой дурдом! Сэр Эктон надо мной посмеялся!»
А пьяницы, которые незадолго до этого растрогались над судьбой Раскольникова и над «Аленьким цветочком», вдруг на него набросились:
— Да как ты смеешь такое нам говорить, дерьмо очкастое! Кто мы такие по твоему?
А ведь юрист не успел им еще сказать, что речь идет об отце Аристархе: если бы успел, то его побили бы.
Петр Иванович перешел к плану «Б»: он представил дело так, что ошибся домом и спросил:
— А кто здесь Василий?
— Ах, он к Ваське! — сразу успокоились пьяницы. То, чем занимался сосед, их не волновало. — Так он вон в том доме живет!
Юрист начал извиняться. Что смутил их таким вопросом и подарил бутылку коньяка, после чего его сразу же простили. Он вышел и отправился в соседний дом, а Николай сразу же раскупорил красивую бутылку и разлил ее в три стакана — себе, Розе и Кларе. Они залпом выпили коньяк, показавшийся им необычайно вкусным, не зная, что Петр решил их отравить.
В этот момент отец Аристарх молился за них. И произошло во что: юрист решил отравить их коньяком, содержащим метиловый спирт. А естественным противоядием метилового спирта является обычный. Друзья запили ядовитый коньяк самогонкой, да еще перед этим хорошо выпили… А когда они начали чувствовать недомогание, к ним подъехала «скорая помощь», в которой кроме бригады медиков был Валерий Петрович, которому позвонил отец Аристарх.
Все обошлось благополучно, но для Николая, Розы и Клары время выбора, как видно, еще не наступило: их ничуть не впечатлило то, что их хотели отравить, зато им было очень жалко, что им промыли желудки, и из‑за этого пропало столько спиртного. Валерию Петровичу пришлось подарить им ящик водки, после чего они пообещали, что будут ходить в храм. Но это так и осталось на словах.
Вторая неудача юриста
Петр Иванович подошел к большому мрачному дому, пользовавшемуся недоброй славой в этих местах. В нем жил Василий, которого Людмила Владимировна использовала для того, чтобы физически устранять неугодных ей людей. Когда сама Скотникова была арестована, то вместе с ней были задержаны и многие из тех, кто участвовал в ее преступлениях. Часть их приговорили к различным срокам лишения свободы. Но Василия, выполнявшего наиболее мрачные поручения, это обошло стороной, потому что ему сопутствовал темный дух, который стал его сопровождать после того, как он принял участие в происходивших в доме Скотниковой мрачных ритуалах, посвященных Кали. До времени этот дух сохранял его от внимания правоохранительных органов, все жертвы, на которые Василий объявлял охоту, были обречены.
Убийца сразу согласился на предложение юриста убить отца Аристарха. Он почувствовал, что с ним говорит не этот человек, который сам боится того, что говорит, а сопровождающий его демон. Тем более, что аванс Петр принес вполне приличный. Да и ненавидел Василий архимандрита Аристарха, потому что пугало его что‑то в нем, а он привык, чтобы наоборот его боялись.
… Он подстерег священника в небольшом переулке возле храма. Бросился на него с ножом. Казалось, еще секунда и лезвие войдет прямо в сердце… Но отец Аристарх бесстрашно перекрестил нападавшего. Он все знал, и все видел. И в этот же момент темный дух вышел из Василия, после чего тот бессильно упал на землю возле того, кого хотел убить.
А, придя в себя, убийца увидел, что его перенесли в храм, и священник, которого он только что пытался убить, читает над ним молитвы… Что‑то перевернулось в душе преступника. Тут же он исповедовался и попросил, чтобы вызвали милицию: он хотел понести наказание за свои преступления. Но официально записать его показания не успели: Василия нашли «повесившимся» в камере: слишком о многих людях, и сейчас занимающих важные места, он мог рассказать в своем безудержном покаянии… А так на него списали все нераскрытые преступления, и сделали акт, что он покончил с собой под внезапно нашедшего на него раскаяния. Отец Аристарх знал, что это неправда, но тут он ничего не мог поделать: ему противостояла свободная воля, устремленная ко злу, очень многих людей. Но это его и не волновало: Василий успел покаяться, и смертью искупил свои грехи. Еще одна душа была вырвана из вечной тьмы.
В музее
Элизабет и Григорий Александрович были отправлены сэром Джоном в бывший особняк Скотниковой. Их целью было посмотреть, в каком состоянии находится ритуальное помещение, посвященное Кали, из которого местные власти решили сделать музей. Вообще‑то, благодаря стараниям отца Аристарха и Валерия Петровича, в это место под разными предлогами не пускали всех желающих, а девушку, отвечавшую за показ экспозиции, архимандрит проинструктировал, что она должна говорить тем посетителям, которых невозможно будет не пустить, с этой целью дал ей почитать труды иеромонаха Серафима (Роуза).
Елена была не очень религиозной, но чтение увлекло ее, кое‑что она законспектировала и выучила наизусть. У нее был вопрос: «Разве можно к такому страшному месту относиться просто, как к элементу культуры?» Ей было не по себе от того, что у нее работа связана с такими вещами; она всерьез подумывала, не сменить ли ей работу; начала ходить в храм. Отец Аристарх за нее молился.
Сэр Джон поручил Лиз проработать два варианта того, как оживить энергию ритуального места, которая стала очень слабой после того, как архимандрит Аристарх провел его освящение с чтением специальных молитв. Элизабет сразу почувствовала, что этой девчонке вреда причинить не удастся. Вторым вариантом по ее плану был Григорий. Но для этого им нужно было остаться в ритуальном месте вдвоем.
Елена сразу пошла показывать закрытую экспозицию иностранке и сопровождавшему ее профессору. При этом она спешила поделиться с ними знаниями, почерпнутыми из книги иеромонаха Серафима (Роуза):
— Богиню Кали, как одно из самых популярных божеств индуизма, изображают среди необузданного кровопролития и резки, с ожерельем из черепов и отрубленных голов, с гротескно высунутым языком, жаждущим еще крови; в индуистских храмах ее ублажают кровавыми жертвами, убивая козлов, а иногда и людей, — рассказывала Елена. — Индуизм — это не столько интеллектуальный поиск, сколько практическая система, и эта практика в прямом смысле слова — черная магия. Гуру предлагает ученику проверить философию на своем собственном опыте, и тот видит, что ритуалы индуизма и вправду действуют (по щедрому покровительству этому учению духов лжи), ученик может получить силы (сиддхи) — это такие способности, как чтение мыслей, силы исцелять или убивать, материализовать предметы, предсказывать будущее и т. д. — полный набор смертельно опасных психических трюков, и он непременно впадает в состояние прелести, в котором принимает наваждение за реальность, переживает «духовные опыты», полные безграничного «блаженства» и покоя, его посещают видения «божества» и «света». При этом ученик очень редко спрашивает гуру: откуда происходят его переживания и кто отпускает ему их в кредит — в виде «сил» и «прекрасных состояний», он не знает главного, что ему придется расплачиваться за все это ценой своей бессмертной души.
Множество «духовных» упражнений индуизма сводится к немногим практическим основам, это — идолопоклонство (поклонение изваянию или изображению «божества» с разными приношениями, курениями и иными ритуалами); «джапа», или повторение санскритской мантры, данной ученику при посвящении (то есть повторение магической формулы — заклинания); «пранаяма» — дыхательные упражнения в сочетании с джапой. Есть и другие практические упражнения, относящиеся к тантре, или — поклонение «богу» как «матери» — женскому началу, силе, энергии, эволюционному и действенному. Они полны неприкрытого зла и достаточно отвратительны. Так, Свами Вивекананда — монах — индуист, появился в Парламенте Религий в Чикаго в 1893 г., ставил целью обращение западного мира в индуизм, конкретнее — в учение веданты (мистического индуизма) говорил: «Я поклоняюсь Ужасной! Ошибочно полагать, что всеми людьми движет только тяга к наслаждению. Столь же многие имеют врожденную тягу к мукам. Будем же поклоняться Ужасу ради него самого. Немногие дерзали поклоняться смерти, или Кали. Будем же поклоняться смерти!» И вот еще слова Свами о богине Кали: «Есть еще кое‑кто, кто смеется над существованием Кали. Но ведь сегодня она здесь — в толпе. Люди вне себя от страха, и солдаты призваны сеять смерть. Кто может утверждать, что Бог не может проявлять себя в виде зла, как и в виде добра? Но только индуист осмеливается поклоняться ему как злу!» Он заклинал свою богиню: «Приди, о Мать, приди! ибо имя твое — Ужас!», и его религиозным идеалом было «слиться воедино с Ужасной навсегда!..» И вот такая целенаправленная деятельность зла практикуется с твердой уверенностью, что это — добро!
— Какова же по вашему цель этой религии? — со сдерживаемой злобой спросила Элизабет.
— Цель индуизма — создание вселенской (универсальной) религии, — цель, весьма желанная диаволу, дающая ему возможность подставить этой лжерелигии лжебога — антихриста и в лице его добиться наконец поклонения себе, как богу, всего мира. Такая вселенская религия не может признавать «индивидуалистических, сектантских» идей, она не желает иметь с христианством ничего общего. Эта «религия грядущего» будет опустошительным пожаром, пожравшим христианство. Если христианин согласится с утверждением индуистских проповедников, что различия у них с нами только кажущиеся, а не реальные, — тогда индуистские идеи получают свободный доступ в его душу, а развращающая сила индуизма непомерна — она приводит к самому порогу поклонения злу.
— Мне кажется, что вы очень однобоко на это смотрите, — как можно мягче сказала Элизабет, внутри которой клокотало желание убить экскурсовода. — Для нас это связано с другими воспоминаниями, здесь есть много того, что связано с нашими представлениями о жизни, которые отличаются от ваших. Вы могли бы разрешить нам побыть полчаса вдвоем в этом месте?
— Ну, конечно, — смутилась Елена. Посетители выглядели так респектабельно, она мысленно упрекнула себя, что взялась им рассказывать о том, что они знают по — другому и возможно обидела их.
Когда девушка вышла Элизабет бросилась на шею Григорию. Она просила его в знак их любви сделать надрез на руке, и пролить на ставший музейным экспонатом жертвенник Кали немного своей крови. Решающим аргументом для Григория оказалось то, что Лиз сказала, что она и есть Кали; что он делает для Кали, он делает для нее. А разве жаль ему для нее каких‑то поллитра крови? И Григорий, несмотря на то, что его впечатлило услышанное от Елены, не смог отказать.
Лицо Элизабет возбужденно заблестело, она стала похожа на вампиршу. Ритуальное место вновь обрело силу, Григорий пока еще не стал совсем их, но то, что он совсем ее и пойдет дальше, куда она прикажет, Лиз не сомневалась. Она позвала Елену и сухо сказала ей, что ее спутник нечаянно порезался, и они очень извиняются.
А Елена застыла в ужасе, чувствуя, что в помещении появилось что‑то, чего до этого не было. Но что это, помимо большого пятна крови на жертвеннике Кали, она сказать не могла…
Сэр Джон и Валентина
К Валентине отправился сам сэр Джон. Он думал, что ему удастся обставить свое появление максимально эффектно, пройдя сквозь стену. Но дом Валерия Петровича был освящен, его хозяин регулярно читал в нем молитвы. Поэтому какая‑то сила (и он даже знал какая) не дала Эктону войти так, как он хотел. Пришлось звонить в дверь.
Валентина очень испугалась, увидев англичанина на своем пороге.
— Вы?.. Как вы здесь оказались? — залепетала она испуганно.
— Ты же сама меня позвала, — улыбнулся лорд. — Помнишь, ты захотела все вернуть назад? У нас сейчас есть шанс это сделать. Ты официально отречешься от христианства — ты ведь уже отреклась от него своей жизнью, пройдешь через несколько древних ритуалов. Скучно тебе точно не будет, это я обещаю!
Валентина так перепугалась, что слова не могла вымолвить.
— Ну же, говори! — потребовал сэр Джон. — Мне не нужно что‑то вымученное под страхом, которое является недействительным. Ты отрекаешься от Христа?
— Нет, — пролепетала Валя.
— А ты по — прежнему ненавидишь мужа и Ольгу?
— Не знаю…
— Если бы была возможность их убить так, чтобы тебе за это ничего не было, ты пошла бы на это? — продолжал свой допрос сэр Джон.
— Нет, он мой муж, а она моя подруга, — неожиданно твердо сказала Валентина.
— Так зачем ты сдернула из Англии занятого человека? За это придется ответить! — резко сказал Эктон.
Он взмахнул рукой, в надежде, что уж ему‑то удастся сделать с Валей то, что не удалось в свое время сделать Зое с ее мужем. Но он лишь напугал женщину, которая от страха залезла под стол и тряслась там так, что вся мебель в комнате ходуном ходила.
— Надеюсь, она сошла с ума, — подумал сэр Джон.
Когда Валерий Петрович пришел домой, он увидел жену побелевшей от страха, дрожащей под столом. Сначала он хотел вызвать «скорую», но, узнав из сбивчивых рассказов Валентины, что приходил сэр Джон, пригласил отца Аристарха. Тот покропил напуганную женщину святой водой, дал ей ее попить, после чего Валя немного успокоилась. Священник долго и мягко объяснял ей, что происшедшее с ней — следствие той жизни, которую она ведет. И если в этот раз служителю сил зла не удалось подчинить ее себе или убить, или свести с ума, то в следующий раз у него может это получится, если Валентина не покается в том, что делала, и не изменит свою жизнь. Та согласно кивала.
И уже следующим утром Валерий Петрович привез жену в храм на службу, где она со слезами на глазах исповедалась архимандриту Аристарху, а потом причастилась. Но с тех пор она стала бояться оставаться дома одна, и попросилась работать в интернате. Муж взял ее старшей медсестрой одного из отделений. Работая рядом с мужем и Ольгой, Валентина увидела, что между ними ничего нет, все ее выдумки беспочвенны. А уход за больными не только занял время, которое она не знала куда деть, но и дал чувство защищенности, что она больше уже не окажется беспомощной перед силами зла. Она изменила отношение к мужу, прекратила истерики, даже внешне изменилась, потому что сильно похудела из‑за пережитого стресса. Валерий вновь увидел перед собой ту девушку, которой совсем недавно делал предложение. И их семейная жизнь наладилась.
Совет нечестивых
Сэр Джон был недоволен результатами проведенных им и Петром встреч. Зато Элизабет он хвалил, а над Григорием посмеивался:
— Надо же, какие у нас страсти! А ты не боишься, что как Цирцея, она потом еще уколет тебя волшебной спицей, и ты превратишься в какое‑нибудь животное? И хорошо, если в старого кобеля или кота, а представляешь, если в старого хряка, да еще вечно пьяного? Впрочем, если верить древнегреческим философам, те, кого она колола своей спицей, превращались в животных не столько от укола, сколько от излишнего употребления вина, которым она их угощала…
Григорий Александрович чувствовал, что это не совсем шутка, а своего рода предупреждение о том, что он уже встал на путь своей гибели. Что‑то ему подсказывало, что можно еще вернуться назад, и все изменить. Другая часть говорила, что слишком много для этого нужно изменить: нужно всю свою душу перевернуть вверх дном, умереть для того, чем он до этого жил. Поэтому легче продолжать свой путь в прежнем направлении, тем более, рядом с Лиз. Внутренняя борьба стала сопутствовать профессору во все часы его жизни, он стал еще больше пить.
— Что же, — сказал лорд, собрав Элизабет, Григория и Петра, — мы должны констатировать, что в этом городе власть взяли те, кто против нас. Поэтому, я думаю, что нужно дать им решительный бой, а силы для этого есть, только они разрозненны. Конечно, мы уже не все сможем сделать, потому что на стороне противника также есть силы иного мира. Именно потому, что они включились, все, что годами выстраивала в этом городе Людмила Скотникова, рассыпалось в одночасье, как карточный домик.
Он дал своим помощникам поручение собрать наиболее закосневших во зле жителей Лузервиля; их список он имел, и знал все об этих людях от приставленных к ним демонов. Здесь был и милиционер, пытавший задержанных, а при необходимости и убивавший их в камерах, и учитель — педофил, и врач, убивавший людей, чтобы продавать их органы за рубеж. Была воспитательница детского сада, мучавшая еще не умевших говорить детей, но так, чтобы на теле их не осталось следов. Был чиновник, за взятки всех их прикрывавший. Таких набралось человек пятнадцать, и все они пока внешне казались вполне приличными горожанами, потому что сопутствующие им духи зла отводили от них все подозрения. И не просто отводили, а переключали их на других. Над всеми этими людьми сэр Джон имел абсолютную власть — своими поступками они без всяких ритуальных посвящений отдали себя силам тьмы.
— Как нам назвать это собрание? — поинтересовался лорд.
— Совет нечестивых, — мрачно пошутил Григорий.
— А почему бы и нет? — засмеялся Эктон. — Но лучше будет назвать обществом борьбы за гражданские права.
И все люди из списка получили приглашение на учредительное собрание Лузервильского отделения международного общества борьбы за гражданские права. Бумага несла в себе мрачную силу подписавшего ее лорда. Никто из приглашенных не посмел отказаться. Через день было назначено собрание. Элизабет, пустившей в ход все свое обаяние, удалось договориться с местными властями, чтобы оно проходило в культовом помещении, посвященном Кали, вновь начавшем возвращать прежних невидимых обычным людям темных обитателей после того, как Григорий пролил в нем свою кровь из‑за своей патологической страсти к Элизабет.
Причем удалось добиться, чтобы из музея была уволена Елена, а новый экскурсовод считала культ Кали интересным духовным опытом.
И путь нечестивых погибнет
Сэр Джон внимательно осмотрел собравшихся в помещении, которое теперь называлось «музейной экспозицией». На всех лицах лежала неизгладимая печать порока. Все они боялись — боялись оттого, что об их темных делах стало известно, оттого, что тот, кому все известно — еще намного страшнее, чем они сами. О демонах, которые им сопутствовали, им было пока неизвестно. Поэтому перед началом собрания всем им был предложен чай с кусочками сахара, в который добавили ЛСД. Вскоре препарат начал действовать.
Безнаказанно творившие преступления в течение многих лет, увидели, наконец, тех, кто помогал им их совершать и уходить от ответственности. Перед ними встали и картины совершенных злодеяний. Они были в ужасе, а сэр Джон в восторге.
— Вы видите теперь, что ничто из сделанного вами не пропало. Вы видите, что каждый ваш шаг под контролем. И, если вы не будете меня слушаться, то вы будете видеть то, что видите сейчас всегда, — обратился он к перепуганной толпе. — Впрочем, поскольку, как я вижу, вы не понимали, кому служите, то перед тем, как вступить на путь осмысленного служения Кали, у вас есть шанс уйти, чтобы ответить за все совершенное немедленно. Есть желающие?
Встал один только врач, который ради того, чтобы вырезать их органы и продать за рубеж, фактически зарезал на операционном столе шесть человек.
— Да, я не осознавал того, что делаю, — сказал он. — Я сдамся властям.
— Не так все просто, — усмехнулся лорд. — Ты сдашься, и сдашь всех, кого здесь видишь… Нет, ты останешься один на один со своим безумием, тебя будут преследовать обвиняющие голоса тех, кого ты зарезал, за копейки в общем‑то… Слышал про синдром Кандинского — Клерамбо? Отныне это твой удел. Твоим домом станет психушка… А теперь иди, то, что ты видел здесь — изглажено из твоей памяти!
И несчастный, преследуемый голосами, выбежал из комнаты.
— Кто‑то еще есть порядочный и принципиальный? — спросил сэр Джон. — Обещаю, что каждому придумаю что‑то новое.
Все напряженно молчали. В знак их посвященности Кали Эктон заставил всех сделать надрез на руке и пролить свою кровь на жертвенник.
— А тебе пока повезло, — сказал он Григорию, стоявшему рядом с ним. — Ты это сделал не из‑за страха, как они, а из‑за того, что вбил себе в голову какую‑то смешную любовь к Лиз… И кровь пролил ради нее. Тебе будет легче вырваться, чем им, но в принципе также почти невозможно.
Лорд видел полчища темных духов, кружащих над помещением. Но он не чувствовал прежнего опьянения от власти, которую они ему сулили.
После обряда он отпустил тех, кого приглашал, предупредив, что через некоторое время они не будут видеть демонов, но будут знать, что им делать, потому что утратили свою волю. Он поручил Элизабет дать любые деньги администрации дворца культуры, чтобы кровь с жертвенника Кали не убирали хотя бы несколько дней.
— В принципе тому, кто предпочел сойти с ума — повезло, — сказал сэр Джон Григорию, когда все разошлись. — Ты помнишь, что дальше говорится в том псалме? Путь нечестивых погибнет. Эти люди только оттянули час расплаты — только и всего… И расплачиваться им придется не только за то, что было сделано на сегодняшний день, но и за все, что они еще сделают. А совершат они немало… Кстати, вот твой шанс покаяться: попробуй предупредить их зло. Ведь это не отвлеченные умствования, а реальные злодеяния, которые они пошли совершать. Вдруг ты их остановишь?
— Почему вы мне это говорите? — удивился Григорий Александрович.
— Мне почему‑то не хочется, чтобы ты тоже погиб, — признался лорд. — Мне кажется, что ты моя зацепка, которая может все перевернуть…
В рюмочной
Григорий Александрович вышел на улицу, как в тумане. То, что о нем проявляет заботу тот, кто безжалостно губит всех вокруг, потрясло его. Он захотел вдруг пойти к отцу Аристарху, но его остановило то, что это его бывший пациент, а как он — не простой врач, а профессор, пойдет к тому, чьей историей болезни исписал сотни страниц… И в то же время Григорий осознавал, что болезнь‑то выдумана им самим, и самому ему, попади он в руки психиатров, поставили бы не один диагноз…
Однако первым делом профессор отправился в местную пивную. Его почему‑то всегда успокаивало общение с другими алкоголиками (то, что он сам алкоголик, врач знал, но не хотел даже себе пока в этом признаться).
В небольшой комнатенке, располагавшейся за дверью над которой висела броская вывеска «Рюмочная» оказалось немноголюдно — всего трое. Двое из них стояли за одним высоким столом без стульев, еще один за вторым. Последний стол был свободен. Внимание Григория Александровича привлек мужчина интеллигентного вида, стоявший отдельно и он, взяв для начала сто граммов водки, кружку пива и селедку с хлебом, направился к его столику.
— Разрешите? — спросил он.
— Да, конечно, — несколько напрягшись, кивнул тот. Было видно, что ему не хочется заводить новые знакомства в таком месте.
Григорий почувствовал это, но уже через десять минут ему удалось собеседника разговорить. Тот проникся к нему симпатией, узнав, что он профессор. Мужчине было сорок лет, его звали Иван Николаевич, он работал доцентом в одном из вузов областного центра, а сюда приехал на несколько дней к тетке в гости, чтобы «вырваться из атмосферы безумия».
— В чем же атмосфера безумия в высшей школе? — поинтересовался профессор, принеся себе и собеседнику еще по кружке пива и бутылку водки, а также двух копченых лещей.
— Как будто вы сами не знаете! — махнул рукой тот.
— Мне хотелось бы проверить мои выводы, ведь я всего лишь человек, и могу ошибаться… — уклончиво сказал Григорий Александрович.
— Ну, возьмите хоть эту тестовую систему: студентов отучают мыслить абстрактно. Та система образования, которую сегодня пытаются создать, губит в человеке творческое начало. Возникает компьютерное мышление: это так, это эдак. А что, если из четырех вариантов ответов ни один неправильный? Впрочем, тесты придумали еще в первой половине двадцатого века. Государству уже давно не нужны мыслящие люди, а нужны винтики, мыслящие так, что это черное, это белое, а полутонов нет…
— Интересная мысль! — кивнул профессор. Сам он отошел от преподавательских проблем, но они не были ему безразличны.
— Хотя, в то же время, распространение компьютеров и интернета приводит к появлению мышления, связанного с обрывками визуальных воспоминаний и ассоциаций. Обилие противоречивой информации приводит к тому, что в сознании людей стирается грань между правдой и ложью, возникает иллюзия, что правильных ответов не существуют, а есть только разные точки мнения, — продолжил воодушевленный его поддержкой собеседник. — Или возьмите преподавателей. Нас заставляют писать горы макулатуры — огромные рабочие программы дисциплин, в том числе тех, которые будут преподаваться только через несколько лет и, возможно, вообще не понадобятся, и целую кучу других бумажек. В результате у преподавателя едва — едва остается время на собственно преподавание. А что говорить про научную работу? Во — первых, просто нет времени из‑за того, что все его съедает эта бумажная кутерьма. А с другой стороны — после этого и никакие творческие идеи в голову не приходят…
— Что же, так уж все преподаватели вузов не могут заполнить бумажки? — недоверчиво спросил Григорий Александрович, который в жизни ни одного подобного документа не подготовил — поручал аспирантам или лаборантам, а сам только подписывал.
— Нет, почему же. Есть те, кто справляются. Но ведь, сколько они могли бы действительно полезного и интересного сделать за это время!
— Жизнь не может состоять из одних удовольствий, нам часто приходится делать именно то, что мы должны, — заметил профессор, который все силы прилагал к тому, чтобы делать только то, что ему нравится.
— Этим только и приходится утешаться, — вздохнул доцент. — Меня в свое время учили, что нельзя бороться против системы, она просто тебя выплюнет…
— Мне больше по душе песня о том, что «не надо прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас», — заметил Григорий Александрович. — А потом ведь можно изменить систему, будучи ее частью. Ведь каждый новый винтик огромного механизма влияет на его деятельность в целом…
— Для этого нужно быть очень сильным человеком, — вздохнул Иван Николаевич. — Я таким не являюсь. Вот поговорил с вами, и стало немного легче. А послезавтра вернусь в институт, и буду исполнять все, что от меня требуют…
… Григорий выпил еще немного после того, как распрощался с собеседником и почувствовал, что теперь душа его открыта, а разум толерантен и свободен от предубеждений для беседы с его бывшим пациентом, а теперь архимандритом Аристархом. И, напевая «не надо прогибаться под изменчивый мир, он все‑таки прогнется под нас», Григорий Александрович отправился в интернат, где, как он заранее на всякий случай выяснил, в это время бывал священник.
Мятущаяся душа
В столь знакомый двор интерната Григорий Александрович вошел с опаской. Здесь все стало иным с последнего его посещения это места; даже пьяный, профессор это почувствовал. Один из пациентов узнал его и радостно сообщил:
— Здравствуйте, Григорий Александрович! А отец Аристарх выздоровел — вы, наверное, его хорошо лечили! Он сейчас здесь батюшка!
— Вот и замечательно, — сказал Григорий. — Где я его могу найти?
Больной подсказал, куда пройти и поинтересовался:
— А вы его опять будете лечить?
— Да нет, он же выздоровел.
Архимандрит Аристарх был один в домовом храме.
— Григорий Александрович, какими судьбами? — он подошел к профессору сразу, как только его заметил.
— Да вот, наверное, сегодня мы поменяем наши обычные роли, теперь я к вам пришел, — попытался пошутить врач.
Священник почувствовал смятение души того, кто к нему пришел, и мягко положил ему руку на плечо.
— Успокойтесь, и давайте обо все поговорим.
— Я запутался, — грустно сказал Григорий. — Моя душа рвется на две части.
— Давайте ей поможем определиться.
И Григорий Александрович, раскрепощенный выпитым, начал рассказывать. Он говорил про себя и Элизабет, как ради нее он принес свою кровь в жертву Кали, потому что думал в тот момент, что делает это ради Лиз, вспомнил и прошлое, как бросил жену ради Зои. Рассказал про сэра Джона. Отца Аристарха особенно удивило то, что душе англичанина знакомы жалость к кому‑то и сомнения в правильности сделанного века назад выбора.
— Ну что же, пока это всего лишь ваш рассказ о грехах, которых хватило бы на десять человек, — тихо сказал архимандрит. — Вопрос в том раскаиваетесь ли вы в этом?
— Не знаю, даже…
— Ведь даже сэр Джон дает вам шанс, неужели вы им не воспользуетесь?
— Это очень сложно. Ведь просто сказать «раскаиваюсь» ничего не значит?
— Что‑то и это значит, но примерно, как одна таблетка аспирина для лечения рака. Нужно изменить себя.
— То есть отказаться от Лиз?
— Это в первую очередь, раз она ассоциируется с Кали.
— И еще с Цирцеей и сиренами…
— Тем более.
— Я, наверное, не смогу, — устало сказал Григорий Александрович. — Стоит мне ее увидеть — и я забуду обо всех обещаниях, и сделаю все, что только она не пожелала бы. А, не видя ее, я страшно тоскую…
— Мы помолимся, и Господь даст силы с этим справиться. А еще придется бросить пить и курить…
— Так я только этим и живу! — возмутился Григорий.
— Нужно найти иные точки опоры. От греха нельзя отказываться постепенно — нужно даже не отрезать его, а просто отрубить, как топором. И не нужно говорить себе: сегодня я откажусь от этого, завтра или через год от другого. Это путь в никуда. Только все и сразу!
— Так это фактически получается как бы умереть: я откажусь от всего, чем жил!
— Умереть для греха, чтобы жить для Бога!
— Тогда мне нечего терять! — махнул Григорий Александрович и рассказал про собрание в музее.
Отец Аристарх стал очень серьезным. Он долго молился шепотом, так что Григорий начал подумывать, не уйти ли ему. Наконец, священник сказал:
— Это не ваша война. Ваша война с самим собой. В какой‑то мере она легче, но в какой‑то сложнее.
— А что делать с этими людьми?
— Господь все устроит. Вы должны думать о себе. Так вы хотите покаяться и начать новую жизнь?
И, пересиливая себя, Григорий встал на колени перед аналоем и сказал:
— Хочу.
Священник накрыл ему голову епитрахилью и прочитал разрешительную молитву.
А в этот момент страшно взвыла Элизабет, почувствовавшая, что из под ее власти вышел тот, кого она уже считала полной своей собственностью.
— Я убью этого священника! — прошипела она.
— Не сможешь, — усмехнулся лорд Эктон. — Похоже, мы опять едем в Англию, но уже без Григория. Да не расстраивайся так: мучай его воспоминаниями о тебе, являйся ему во снах. Тогда он, возможно, сам приползет к тебе на коленях, и тогда он будет еще более зависим от тебя, чем был.
Лиз заметно повеселела.
— Уж я постараюсь, чтобы так и было! — заявила она.
А в этот момент сильно качнуло самого сэра Джона. Он со смешанными чувствами гнева, страха и радости понял, что отец Аристарх начал за него молиться. «Он, наверное, не понимает, что подписал себе этим смертный приговор», — подумал лорд. А еще он подумал, что для него впервые появилась надежда все изменить.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Профессор и Бухарик
После первой в жизни исповеди Григорий Александрович по инерции пошел в пивную. Но что‑то его остановило от того, чтобы купить стакан водки и кружку пива. Он стоял в нерешительности перед прилавком, и тут к нему подошел Бухарик, бывавший в этой пивной, когда у него появлялись деньги, и он мог «шикануть».
— Что, друг, хочется выпить, а не на что? Давай я тебя угощу! — сказал он профессору.
Григорий Александрович засмеялся:
— Нет, угостить я сейчас и сам могу. У меня другая проблема: хочется выпить, но понимаю, что пора бросать. Что делать?
— Это вопрос философский! — заявил Колян. — Если не хочешь пить, то давай перейдем в соседнюю кафешку, я возьму пива, а ты чай и я расскажу тебе мои соображения по этому поводу.
Григорий Александрович все равно не знал пока, что ему делать дальше, поэтому охотно согласился. До кафе нужно было пройти около ста метров. Это было небольшое, но чистое помещение, с аккуратными столиками, покрытыми скатертями и мягкими стульями возле них.
— Пиво здесь в полтора раза дороже, — пояснил Бухарик свою нелюбовь к этому месту.
Профессор сказал, что угощает, и его новый знакомый сразу повеселел:
— Тогда мне двести граммов коньяка и порезанный лимон.
Себе Григорий действительно взял только чай.
— Ну, жду новой информации, — сказал он.
Григорий Александрович неплохо разбирался в наркологии, но вот как перестать пить самому он не знал. Ему пришло в голову, что в ходе общения с алкоголиком не как с пациентом, а как с человеком, имеющим схожие проблемы, он может найти решение своих. Тем более, как выяснилось, Колян был достаточно эрудирован, и обо всем имел свое мнение.
— Ты знаешь, кто такой Бил Уилсон? — спросил он Бухарика.
— Это который анонимных алкоголиков организовал? — уточнил тот.
— Да. А ты с ними сталкивался?
— С кем я только не сталкивался! Там фишка какая: якобы алкашу может помочь бросить пить только другой такой же кот.
— И что ты об этом думаешь?
— Отстой полный! С таким же успехом можно сказать, что хорошо ампутировать руку может только врач, у которого самого нет руки. В кожвен должны идти работать больные сифилисом, в психушки — дураки…
Григорий Александрович засмеялся:
— Анонимные алкоголики тебя бы побили, наверное…
— Да нет, они не экстремисты, — смягчился Бухарик. — Они в основном неплохие люди. Но вот ведь опять: «анонимные». А какая тут может быть анонимность? Если ты бухаешь — на тебе написано, что ты котье, а если не пьешь месяца два, то и по тебе все будет заметно. К чему это?
— Ну, это спорно. Кто‑то нуждается в поддержке других. А что тебе самому мешает бросить? Или не хочешь?
— Хотеть‑то мы все иногда хотим. Но только на словах… Некоторые, говорят, что это типа шибко легко. Вот мне тут притаранили книженцию — «Легкий способ бросить пить» называется…
— Так ты и с Алленом Карром познакомился?
— С ним нет. С книжкой его.
— И что ты про нее думаешь?
— Фуфло!
— Почему?
— Да аргументы у него никуда! — И Бухарик неожиданно процитировал по памяти: — «Чем больше людей сходятся во взглядах и чем выше уровень их компетенции, тем меньше вероятность отыскать того, кто решится им возразить. А если такой человек найдется, то он либо дурак, либо полностью уверен в своих аргументах. Надеюсь, на данном этапе мне удалось доказать вам, что я хотя бы не дурак».
— Ух ты! — удивился профессор. — Я бы такую дрянь ни за что не запомнил!
— Да и я случайно запомнил. У меня как бывает: прочитаешь что‑то раз двадцать, а все равно не запоминаешь. А потом по пьяни всплывает целыми кусками. А здесь меня чего возмутило: самолюбование: вон я какой умный, могу против всех идти, все знаю. А ничего не знает!
— В общем‑то я согласен, — сказал профессор. — Аллен Карр достаточно свободно обращается с медицинскими терминами, имеющими в общественном сознании устоявшийся и вполне конкретный характер. Например, шизофренией он называет то, что «одна часть организма заявляет: «Мне нужно выпить!», а другая предупреждает: «Не пей лишнего!» По поводу алкогольных психозов он пишет так, что сразу видно, что он не имеет о них даже поверхностного представления: «Некоторые верят в иллюзию, что белая горячка вызывается воздержанием от алкоголя. Непьющие люди не страдают белой горячкой!» Но ведь никто не говорит, что ей страдают непьющие люди. Это опасное заболевание, да и не только оно, может возникнуть на фоне отказа от алкоголя, как правило, в первые один — три дня, являющиеся критическими. Вместо того, чтобы предупредить людей об этой проблеме и о том, что возможно будет необходима медицинская помощь, автор представляет все так, что проблемы вовсе нет: «На самом деле физические проявления воздержания практически незаметны, потому что большинство пьющих людей и не имели этой физической зависимости. Но как быть с теми, которые ее имели?
— А ты умный мужик, — с уважением сказал Бухарик. — Я вот все это нутром чувствовал, но так коротко и ясно изложить бы не смог.
— Там много еще всякой ерунды, — продолжил Григорий Александрович. — Необходимость выпить «последний бокал» алкогольного напитка, на которой настаивает автор, практически у любого алкоголика, который уже дошел до стадии запоев, просто спровоцирует очередной запой. И денатурат и чистый спирт, о которых пишет Аллен Карр, как о чем‑то ужасном, ему даже очень понравятся. Для серьезно пьющего человека два правила из семи, которые приводит Карр, являются логическим противоречием: «Не бросайте пить и не сокращайте потребления алкоголя, пока не дочитаете эту книгу до конца» и в то же время «Читайте эту книгу только на трезвую голову».
— А меня чего прикололо: пишет: мой легкий способ полностью избавляет от абстинентного синдрома. А в другом месте: поколбасит, конечно, но не больше недели! Круто, да? Ведь обычно больше двух — трех дней никого и не колбасит, он еще целых четыре дня себе форы дал для верности!
— А какое твое мнение про уколы, подшивки?
— Был у меня знакомый, вкололи ему антабус. Сказали: «Выпьешь — сдохнешь». Он с месяц держался, а потом все равно начал бухать. И ничего с ним не случилось. А вот в чем причина: сложно сказать: либо живучий он шибко, либо не то ему вкололи, либо выдыхаются у препарата силы со временем… Я сам думаю: все тут в голове, — и Николай постучал себя костяшками пальцев по лбу. — Как себе внушишь — так и будет!
— А что ты думаешь про алкогольные психозы?
— Про «белочку»? Кстати, недавно видел водяру, там такая страшенная белка с кривыми зубами нарисована и написано: «Я пришла». Здесь Венечка Ерофеев очень хорошо все описал.
— Ты «Москву — Петушки» имеешь в виду?
— Да.
— А вот мне всегда было интересно, там в конце его убивают, втыкают шило в горло — это правда, или привиделось ему перед тем как потерять сознание?
— Мне кажется, — сказал Бухарик, — что реально он всю эту бесовщину видел. А с шилом — это пророчество Венечке — автору: он ведь от рака горла умер!
— Да ну! — удивился Григорий, не знавший биографии Венедикта Ерофеева.
— Я могу ошибаться… Но вообще‑то очень страшная эта штука «белочка». Вот уж в наркушке до чего мерзко: разденут тебя догола, руки — ноги привяжут к койке, подстелят под тебя клеенку, нацепят тебе презерватив со шлангом, чтобы по маленькому в банку ходил, а по большому — терпи два дня: если вытерпел — значит у тебя чувство стыда есть и контроль над собой, идешь на поправку, а обгадишься — значит быдло ты…
— Да нет, — отмахнулся было профессор, который работал и в наркологии и только сейчас подумал о том, что чувствуют люди «на вязках» и как он ощущал бы себя на их месте…
— Что нет? За людей нас там не считают! А сами — многие — такие же, или такими же будут! Но я к чему: по сравнению с «белочкой» — это курорт!
Они поговорили часа три. Бухарик, выпил коньяк, но больше не просил, профессор взял только себе и ему по стакану чая.
— Ты знаешь, движение «Анонимных Алкоголиков» началось с того, что два пьяницы, поняли, что когда они говорят друг с другом им не хочется пить. Что ты об этом думаешь? — спросил Григорий Александрович.
— Ну, уж не знаю, — смутился Николай. — Но пить правда не тянет…
… Придя в гостиницу, Григорий увидел, что сэр Джон, Элизабет и Петр уже уехали, но почему‑то этому не удивился. Он выпил на ночь немного водки и принял феноборбитал, запив это приличным количеством воды — одно из «старинных» средств не «словить белочку», которому он доверял. Через некоторое время ему удалось заснуть. На следующий день Григорий Александрович уже почти совсем не выпивал, а через три дня ему удалось отказаться от спиртного полностью.
Институт политических исследований
Директор московского научно — исследовательского института политических исследований Николай Ильич Сергеев был веселым доброжелательным человеком. И это несмотря на то, что ему постоянно приходилось общаться и с ненавидящими друг друга политиками и с политологами, про которых он считал, что ими становятся те, кто не смог (или не посмел) сам пойти в политику, и соотносятся с политиками также, как литературные критики с писателями.
Все распри в коллективе, насчитывавшем всего‑то полтора десятка «главных», «ведущих» и «младших» научных сотрудников, директор пытался гасить на корню. А склок было немало. Вот и сейчас перед ним лежала жалоба одного младшего научного сотрудника — крайне обидчивого и амбициозного молодого человека, постоянно сотрясавшегося от внезапных приступов кашля — на своего старшего товарища. Николай Ильич остановил взгляд на следующей тираде: «Я ему объяснил, что Хантингтон считает об этом …(далее шло полстраницы убористого текста). А он мне на это ответил, чтобы я засунул Хантингтона себе в задницу! И что я теперь должен делать?!!» Директор подумал с минуту и затем написал резолюцию: «Успокоиться и сходить на флюорографию».
Он тяжело откинулся на спинку кресла и подумал: «Придется ведь еще час с ними обоими разговаривать». В дверь постучали.
— Войдите, — сказал Николай Ильич.
Вошел главный научный сотрудник Петр Семенович, который очень любил поболтать о международной обстановке. Ему было уже около шестидесяти лет и, судя по всему, катастрофически не хватало общения.
— Ну что, Петр Семенович, вам все Америка не дает покоя? — улыбнулся директор.
— Не дает, — подтвердил он. — Холодную войну мы проиграли, но неизвестно будущее победителей.
— В смысле?
— Мир, похоже, американизируется, но с двумя важными оговорками. Во — первых, американизация вызывает активное противодействие. У нее немало интеллектуальных критиков. Ей сопротивляются и те, кто в результате американизации теряет власть над массами. Оппозиция американизации существует и в самой Америке. Во — вторых, американская культура не осталась неизменной. Она сама впитала в себя и продолжает впитывать вместе с переселенцами множество разных культурных элементов. А, распространяясь по всему свету, американский образ жизни вступает во взаимодействие с местными культурами, в результате чего возникает гораздо более сложная, комбинированная мировая культура, а точнее широкий веер субкультур, которые только совсем уж обобщенно могут быть сведены к единому корню.
— То есть будущее не за американской империей? — директор задавал вопросы безучастно, подписывая параллельно разные документы, но собеседник только еще больше проникался важностью их беседы.
— США не империя и при всем внимании к тематике Древнего Рима или Британии — «владычицы морей» империей в общепринятом смысле этого слова не станет. В условиях американской демократии общественная мобилизация во имя достижения имперских целей маловероятна. Если битва при Ватерлоо была выиграна, по известному изречению, на игровых площадках Итона, где выковывался характер британской имперской элиты, то война во Вьетнаме была проиграна в американских университетских кампусах, где воспитывался американский средний класс.
В этот момент в дверь без стука влетел написавший жалобу младший научный сотрудник, и лишь слегка кивнув в сторону Петра Семеновича, подбежал к Николаю Ильичу схватил его за руку, крепко ее потряс и расцеловал трижды в щеки по русскому обычаю. Во время поцелуев молодого человека забил приступ кашля, который он подавил и при этом издал целую серию звуков одновременно напоминающих одновременно хрюканье, кваканье, клокотанье и чавканье. Директор всерьез испугался, что его сейчас облюют, но обошлось.
— Сергей Николаевич, видел вашу жалобу, но не нужно так бурно на все реагировать! И сходите, в конце концов, на флюорографию!
— Схожу — схожу! А это не пустяк! А если он американским гостям такое скажет?
— Скажет — и будем разбираться!
— Тогда поздно будет!
— Ты, Сергей, извини, у нас важный разговор сейчас, потом подойдешь, — веско сказал Петр Семенович.
Младший научный сотрудник бросил на него испепеляющий взгляд, и нехотя ушел.
Из благодарности за то, что его избавили от необходимости выслушивать длинный и бессмысленный диалог, директор вновь вернулся к интересовавшему его посетителя разговору, как будто он и не прерывался.
— А как же американское военное вмешательство?
— Доминирование Америки в качестве сверхдержавы все еще остается определяющей чертой нынешней международной системы. Более ста государств в мире разделяют американские демократические принципы. Американские вооруженные силы не просто самые мощные — никакая другая армия не способна действовать на отдаленных театрах военных действий. Обладая подавляющим и исторически беспрецедентным военным превосходством, США не способны навязать свою волю нищему Афганистану, навести порядок в Ираке, раздираемом религиозными распрями и даже покончить с организацией под названием «Аль — Каида», которой руководят всего несколько человек, скрывающихся, как считают, в пещерах в отдаленных районах Афганистана и Пакистана.
— То есть вы думаете, что американцы могут отказаться от попыток силой оружия влиять на непокорные им страны?
— Американцы неоднократно имели случай убедиться в том, что военное вмешательство стоит дорого, деморализует общество и в целом бесперспективно. Кроме того, энтээровская экономика обходится без так называемых «эксплуатируемых». Теперь капитал заинтересован не в том, чтобы впрячь людей в колесницу капитала, а в том, чтобы избавиться от них, как от обузы. Передовая страна имеет тенденцию отгораживаться от мира с его проблемами, закрываться в богатом гетто. Многие американцы думают, что выживут без остального человечества.
— И каковы, на ваш взгляд, перспективы США?
— Можно предположить, что, несмотря на огромные расходы на вооружение, экономический и людской потенциалы страны, США в обозримом будущем могут лишиться статуса единственной сверхдержавы мира. Деморализация подавляющей части населения, неприятие стремительно растущими азиатскими государствами американской системы демократических ценностей, неспособность адекватно отвечать на вызовы мирового терроризма, колоссальный внутренний долг, зависимость от зарубежных поставок нефти — все это может привести к тому, что в скором времени Соединенные Штаты разделят статус сверхдержавы с имеющим исключительные перспективы развития Китаем.
В этот момент мобильный телефон директора заиграл мелодию из «Пиратов Карибского моря». Увидев, какой номер высветился, Николай Ильич сразу перестал быть ленивым и вальяжным и, внезапно посуровев, сказал Петру Семеновичу:
— Идите, у меня важный звонок. Про Китай мы поговорим потом.
Новое имя для города
Звонил Николаю Ильичу его старый знакомый — Борис Павлович Большов. Большов был уроженцем Большескотининска, а сейчас работал в администрации Президента России. Свою «малую родину» не любил ужасно, стыдился ее, именно он в свое время помог дону Санчо переименовать его в Лузервиль. Но в последнее время что‑то в душе Бориса Павловича по отношению к городу, в котором он родился, начинало меняться.
Особенно это стало ощущаться после того, как сам того не ожидая, он перевернул в Лузервиле все вверх дном, да так, что круги от этого дошли и до Москвы, послушавшись отца Аристарха. Борису Павловичу даже самому не верилось, что как рассыпавшаяся колода игральных карт полетели тогда и казавшаяся всемогущей Скотникова и непотопляемая Зоя Георгиевна, и многие другие влиятельные люди.
Он, честно сказать, опасался связываться с ними, несмотря на ту должность, которую занимал. Боялся он не столько их самих, сколько те силы, которые за ними стоят, а их опасность он сумел понять. Но почему‑то послушался отца Аристарха, вступил в казавшийся безнадежным бой, и неожиданно необычайно легко вышел из него победителем. При этом было ощущение, что он здесь лишь орудие — «бич Божий» — пришло ему тогда в голову.
Борис Павлович тогда на исповеди рассказывал отцу Аристарху многие свои грехи, а один тот сам напомнил: «Нехорошо вы сделали, что город так назвали». Большову в свое время казалось, что не просто хорошо, а очень даже круто — в отместку за все дурное, что он здесь пережил. А тут почувствовал, что действительно плохо… И вот сейчас сбивчиво рассказывал все это по телефону своему приятелю Николаю Ильичу. Он просил совета: как теперь назвать город? Ведь как его только уже не обзывали до Лузервиля: и Большескотининск, и Бериевск… Ведь переименование нужно как‑то исторически обосновать.
Николаю Ильичу все это было малоинтересно, и он предложил первое пришедшее в голову: «Назовите его Большой».
— Разве бывают такие названия? — удивился Борис Павлович.
— Значит будет. Тем более, считай, что в честь тебя — славного уроженца этого города.
— Да ну уж… — отмахнулся Большов, но предложенный Николаем вариант показался ему самым очевидным, и он удивился, почему самому ему он не пришел в голову.
Китай
Не успел Николай Ильич отключить телефон, как в дверь к нему постучали.
— Войдите, — устало сказал директор.
В кабинет прошмыгнул Петр Семенович.
— Мы что, разве не закончили? — обреченно спросил начальник.
— Нет, мы же про Китай и не начинали говорить. Вы сказали, что потом поговорим, когда вы освободитесь. А вы уже освободились…
Директор обреченно закатил глаза, затем подошел к шкафу и достал бутылку коньяка.
— Будете? — спросил он Петра Семеновича.
— Не откажусь.
Николай Ильич открыл бутылку коньяка, налил в пузатые фужеры примерно по двести граммов, достал вазочку с шоколадными конфетами, поставил все это на стол и сел напротив посетителя.
— Теперь я готов слушать про Китай, — заявил он, одним глотком осушив фужер и долив в него остатки из бутылки.
— Вы устаете, наверное? — участливо спросил главный научный сотрудник.
— Все нормально. Слушаю вас.
— Вы знаете, что результатом «холодной войны» можно назвать убедительную победу США, которые подминают под себя все больше так называемых «стран третьего мира». Советский Союз распался, Россия не имеет решающего влияния даже на Белоруссию. В самой России подавляющая часть молодежи выбирает американский образ жизни и мышления, зачастую в худших его формах. Однако на пути к мировому господству у США возникает новая и не менее серьезная сила в лице Китая. После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина китайское руководство не увидело в лице Никиты Сергеевича Хрущева нового вождя мирового пролетариата и, более того, посчитало его предателем ленинских идей. У КНР начинают возникать свои имперские амбиции, в настоящее время, вероятно, связанные с Дальним Востоком. Являясь совершенно особым образованием, имея неограниченный людской ресурс и жесткую внутреннюю дисциплину, эта страна экономическими и иными методами все более расширяет свое геополитическое влияние. В то же время у США, после появления в Китае ядерного оружия, уже нет над ним реального превосходства.
— Это не совсем так, — покачал головой начавший слегка пьянеть директор. — То количество ядерного оружия, которое на сегодня есть в Китае пока недостаточно, чтобы он представлял реальную угрозу не только для США, но и для России. Другое дело, что возможно не обо всем известно…
— Об этом мы можем лишь гадать, — кивнул Петр Семенович. — Мне более интересно, каким образом эта страна смогла установить такой образцовый порядок? Наверное, они умеют делать выводы из прошлого. Ведь китайская история сложилась так, что свобода в этой стране часто приводила к смуте или еще более жесткому деспотизму. В 1912 году Китай стал первой в Азии республикой, однако антимонархическая революция вызвала распад страны на регионы, контролируемые милитаристскими группировками. Коммунисты, пришедшие к власти в 1949–м под лозунгом «народной демократии», установили жесточайшую диктатуру. Начавшаяся в 1966 году «Великая пролетарская культурная революция», выплеснувшая на улицу «энергию масс», сопровождалась такими зверствами и массовыми беспорядками, что руководству пришлось обуздывать ее энергию с помощью вооруженных сил. Наконец, студенческие демонстрации с требованием установить западную либеральную демократию в 1989–м парализовали на несколько дней жизнь в Пекине и других крупных городах.
— Но ведь силой оружия режим не может долго сохраняться у власти? — спросил Николай Ильич, который открыл уже вторую бутылку коньяка, банку рыбных консервов и теперь стал более заинтересован в поднятых в разговоре проблемах.
— В том‑то и дело, — подтвердил Петр Семенович, лишь пригубивший коньяк. — В настоящее время китайские теоретики все чаще обращаются к предложенному американским ученым Джозефом Наем понятию «мягкой силы», подразумевающему использование «нематериальных властных ресурсов» культуры и политических идеалов в интересах влияния на поведение людей в других странах — в отличие от воздействия с помощью «жесткой силы» оружия или денег. Внутри страны китайские эксперты видят два основных источника «мягкой силы»: богатство национальной культуры и успех китайской модели модернизации. Китайские эксперты нередко вспоминают о том, что еще в глубокой древности их предки размышляли над тем, как использовать инструменты «мягкой силы» для победы в конфликте «жестких сил». В подтверждение они приводят слова основоположника школы военного искусства Сунь — цзы (IV — начало V в. до Р. Х.) о том, что лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь.
Политическую трактовку данных понятий предложил влиятельный ученый Янь Сюэтун, возглавляющий Институт международных проблем университета Цинхуа. По его мнению, комплексная сила страны сочетает в себе «жесткую» и «мягкую силу», но это не сумма, а произведение двух компонентов, а потому при утрате «мягкой» или «жесткой силы» совокупная национальная мощь становится равной нулю. Янь Сюэтун приравнивает «мягкую силу» к политической силе страны. По его мнению, она слабее экономической силы Китая, но сильнее военной силы: Китай торгует со всеми континентами, оказывает политическое влияние на сопредельных территориях, а его военное влияние проявляется лишь в пограничных районах. По мнению ученого, слабость культурной силы вовсе не означает слабости «мягкой силы» государства. Так, во время «культурной революции» 1966–1976 годов культурная сила Китая была, по мнению Янь Сюэтуна, серьезно ослаблена, однако в 1971–м Китай получил широкую политическую поддержку стран Третьего мира, обрел место в ООН и кресло постоянного члена Совбеза, что повысило международный вес и влияние страны.
— То есть, ты считаешь, что Китай сейчас исключительно миролюбивая страна?
— В начале XXI века китайские пропагандисты сосредоточили усилия на создании привлекательного образа сильного миролюбивого Китая, готового «поделиться» своим процветанием с другими странами, с тем, чтобы они были заинтересованы в его дальнейшем возвышении. Новый имидж Китая опирается на пропаганду успехов в области экономических преобразований и миролюбия национальной политики, а также на повышение глобальной привлекательности китайской культуры. В настоящее время в Китае продолжает править авторитарный режим, однако его аппарат смог обеспечить грандиозный экономический рост, может быть, один из самых быстрых в истории. С другой стороны однобокий упор на рост привел ко многим проблемам — серьезным различиям в уровне развития регионов, социальному неравенству, загрязнению окружающей среды, обнищанию крестьян бедных регионов, за счет которых в основном и осуществлялся промышленный подъем. Аппарат власти превращается в тормоз реформ. Основная линия политики нового лидера Ху Цзиньтао — смягчение социальных противоречий и борьба с коррупцией.
— А как на это смотрят твои любимые США?
— Они не мои любимые. Стремительное усиление Китая, население которого по сравнению с 1950 годом выросло более чем в два раза, привлекает внимание иностранных держав. В 2007 году американский эксперт Джошуа Курланцик опубликовал книгу «Обаяние как наступательное оружие: как мягкая сила Китая меняет мир», в которой обрисовал механизмы китайского проникновения в Юго — Восточную Азию, Латинскую Америку и Африку. Курланцик попытался показать, как Китай использует дипломатию, международную помощь, инвестиции, торговые преференции, культуру и научные обмены для влияния на развивающиеся страны. По мнению автора книги, американские политики так увлеклись войной в Ираке и борьбой с международным терроризмом, что позабыли о проекции собственной «мягкой силы», создав пустоту, которую ныне заполняет Китай. Курланцик предположил, что Китай может стать первым государством после распада СССР, которое попытается бросить вызов США. Курланцик предлагает вспомнить опыт холодной войны, когда в каждом посольстве США был сотрудник, который наблюдал за тем, что делает в этой стране СССР. Настало время вернуться к этой практике, с тем, чтобы в каждом посольстве США имелся сотрудник, исследующий отношения этой страны с Китаем, в частности китайскую помощь, инвестиции, публичную дипломатию и визиты китайского руководства.
— А каковы перспективы российско — китайских отношений, на твой взгляд? — спросил совсем захмелевший директор.
Петр Семенович, глядя на него, допил коньяк, налил еще и потянулся за консервами. Жуя, он продолжал говорить, боясь, что ему не дадут рассказать все, что он хочет:
— Отдельно необходимо остановиться на русско — китайских отношениях. На протяжении значительной части своей истории, особенно в XIX и XX столетиях, когда отношения между Китаем и Россией быстро развивались в рамках первой волны глобализации, Россия считала себя более мощной державой. В недолгий период китайско — советского альянса в 1950–х годах Советский Союз называл себя «старшим братом». Сегодня Россия оказалась слабым партнером Китая, и это беспрецедентная ситуация: такого не бывало с начала освоения русскими Сибири в XVII столетии. Впрочем, история российско — китайских отношений знает периоды, когда Китай, по крайней мере в регионе соприкосновения с Россией, был более мощным государством. Так было с XVII до первых десятилетий XIX века. Однако с тех пор почти два столетия (считая и советский период) Россия превосходила Китай в военном, политическом и экономическом отношениях. Нынешний исторический поворот в пользу Китая нарушает сложившиеся представления.
Уже более полутора десятилетий в России, то усиливаясь, то затухая, идут разговоры об угрозе китайской «демографической экспансии». Газеты пишут о переселившихся в Россию то ли сотнях тысяч, то ли миллионах китайских мигрантов; о том, что китайское руководство якобы такое переселение поощряет, вынашивая планы заселения российских территорий и последующего их захвата; что Китай субсидирует выезд своих граждан в Россию; что китайская мафия, также руководимая из Пекина, контролирует Россию; что Китай овладевает нашими стратегическими ресурсами, вооружается современным российским оружием, с тем, чтобы потом на нас же и напасть. Однако представляется, что данные переписи населения 2002 года близки к реальным цифрам: в нашей стране постоянно проживают максимум несколько десятков тысяч — никак не сотни тысяч и тем более не миллионы китайцев. Есть, конечно, и те, кто живет в России нелегально — без регистрации, просрочив визу, в вагончиках на рынках, в китайских общежитиях и на съемных квартирах. Но их постоянно отлавливают и высылают на родину. Никогда, даже в самые сложные годы советско — китайских отношений, на официальном уровне Китай не предъявлял нашей стране никаких территориальных претензий, не существует никаких доказательств поощрения миграции в Россию со стороны китайских властей. Напротив, руководство Китая постоянно рекомендует своим гражданам, находящимся в нашей стране, соблюдать российские законы и способствовать ее экономическому развитию. В то же время неспособность создать в России и на Дальнем Востоке благоприятные условия для жизни и труда людей и таким образом остановить отток населения действительно может грозить потерей этих регионов, потому что, как говорил Петр Аркадьевич Столыпин в связи с той же проблемой, «природа не терпит пустоты».
— Все это очень сложно, — вздохнул Николай Ильич. — Но чем же объяснить феномен Китая: превращение его в течение XX века из полуколонии в одну из великих мировых держав?
— Феномен Китая во второй половине XX века был обусловлен тем, что в отличие от СССР он не отказался от сплачивавшей страну в ее национально — освободительном движении коммунистической идеологии и в проведении экономических реформ опирался на имеющийся партийно — государственный аппарат, используя при этом новейшие достижения современной мировой науки и техники.
— И вы считаете, что он не угрожает России?
— Взаимоотношения же с Россией на данном этапе следует оценивать как добрососедские и имеющие перспективы сотрудничества. Об этом свидетельствует участие обеих стран в Шанхайской Организации Сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), в Совете безопасности ООН, в BRIK (Бразилия, Россия, Индия, Китай), проведение Года Китая в России и Года России в Китае.
Николай Ильич недоверчиво улыбнулся и разлил остатки второй бутылки в фужеры.
— Мы многое умеем прятать в гладкие фразы, — сказал он. — Мы видим, как идет процесс непрерывных попыток создания единого всемирного государства. В начале двадцатого века империализм принял формы конкуренции нескольких мировых империй. И многие из них грезили о всемирном господстве: и Советская Россия, грезившая о едином всемирном государстве диктатуры пролетариата, и фашистская Германия, желавшая подчинить весь мир немецкой нации. И сейчас англо — американский империализм приобретает все большую роль в управлении миром, а Китай, противостоя ему, одновременно все больше вписываются в глобальную экономику и политику. А тем, кто стоит за ними, в принципе, все равно на каких принципах совершится объединение мира — будет это Британская, Французская, Германская империи, Третий рейх или Третий интернационал, Лига Наций или ООН, или Соединенные Штаты всего мира или что‑то еще… Но вот, что я понял: в мировой истории порой действуют совсем не понятные нам законы. Как, например, триста спартанцев в Фермопилах остановили армию Ксеркса? Как маленькая Англия стала на долгое время владычицей четвертой части суши? Как…
— Это я могу объяснить, — сразу же оживился Петр Семенович.
— Ну, уж нет! На сегодня нам разговоров хватит! Это риторические вопросы, на которые мне не нужно отвечать, — жестко заявил директор. — Сейчас звоню водителю, и он развозит нас по домам.
Бухарик в обезьяннике и на сутках
Григорий Александрович не пил уже две недели. Каждый день он подолгу беседовал с отцом Аристархом. Он склонялся к тому, чтобы перебраться из Москвы в этот город, и работать психиатром в интернате вместо проктолога, замены которому так и не нашлось. Однажды на улице его кто‑то окликнул:
— Гриша!
— О, Колян! — обрадовался Григорий, увидевший, что окликнувший его оказался никем иным, как Бухариком. — Что‑то тебя не видно было?
— Не видно! Как мы тогда с тобой посидели, пошел я домой. И идут два мента. Я им: «привет, мусора!». А они меня в обезьянник… — горестно делился Николай.
— Сам виноват: зачем людей обижать?
— Да не хотел я их обижать, нечаянно как‑то получилось. А вот уж как повезли меня в обезьянник, я им еще пару ласковых нашел, а они меня за это наутро к судье — и на пятнадцать суток… — жаловался Бухарик.
— Всякое бывает. Сделал выводы из происшедшего? — дежурно спросил Григорий, желавший обратить разговор в шутку.
— Как ни странно — сделал! — серьезно сказал Николай. — Столько помойки в нашей жизни! Пока пьешь — оно вроде бы ничего. Но вот получилось так, что ни в обезьяннике нечего было выпить, ни на сутках в первые дни. А потом возможность появилась, а уже не захотелось… Посмотрел, как люди сгорают — вроде бы ничего особенного, раньше только посмеялся бы, а теперь что‑то так отвернуло, что захотелось всю жизнь вверх дном перевернуть!
— Да ну! — заинтересовался Григорий Александрович. — Что же ты там такого особенного увидел? Пойдем, попьем чайку, ты мне расскажешь.
В кафешке в это время никого не было. Профессор взял чай с ватрушками и, поколебавшись, спросил:
— Может, водки хочешь?
— Нет, я решил завязать, — твердо сказал Бухарик, которому хотелось выговориться.
В обезьяннике ему и в самом деле пришлось увидеть за одни сутки много интересного для провинциального городка. В Лузервильском отделе внутренних дел около комнаты дежурного было две прокуренных комнатки без окон, отгороженных от коридора железными решетками с дверями. В одной из них помещали задержанных мужчин, в другой задержанных женщин. Набивали помещения так, что можно было только стоять. На единственной скамейке сидели и спали по очереди. Называлось это «обезьянник».
Самым колоритным из того, что увидел Бухарик, был притащенный в отделение щуплый парнишка, по которому стекали экскременты. Притащивший его наряд разговаривал достаточно громко, так что вскоре все обитатели обезьянника узнали, что паренек — извращенец, приехавший из областного центра. Ему нравилось подглядывать в женских туалетах. И вот он додумался до того, что залез под помост летнего туалета во дворе одной еще молодой бойкой местной бабенки, и как‑то раскорячился там, чтобы не провалиться вниз, опершись на деревянные распорки. А та его заметила, схватила за волосы, несколько раз окунула с головой в дерьмо, а потом вызвала милицию…
Отношение и задержанных и милиционеров было двойственным — с одной стороны всех это очень насмешило, особенно забавно парень размазывал слезы коричневыми руками и клялся, что больше так не будет… С другой стороны — он уже перепачкал машину и пол в коридоре, а помещать его в одну клетку с людьми некоторые из которых были виноваты всего лишь в том, что выпили лишнего милиционеры считали негуманным. А уж сами обитатели обезьянника считали это и вовсе недопустимым. Да и сам преступник на их взгляд был достаточно наказан. Поэтому они оформили протокол, на случай если бабенка решит все же дать ход заявлению и отпустили парня домой, наградив его пинком под зад. Ему еще предстояло в три часа ночи добираться до дома, находившегося, судя по документам, в шестидесяти километрах, перепачканному и без денег…
Другим сильным впечатлением для протрезвевшего Бухарика была баба средних лет с вытравленными перекисью водорода жидкими волосами, жутко пьяная, на которой из всей одежды была одна майка. Ее поместили в женскую клетку, но она находилась напротив мужской, так что все мужики с любопытством ее разглядывали. «На улице подобрали», — объяснили патрульные дежурному. Придя в себя, баба начала орать, что менты ее изнасиловали, и она утром пойдет к прокурору. Это очень развеселило задержанных, а дежурный узнал у бабы адрес и телефон, куда‑то позвонил, и через час ее забрала дочь — вполне приличная девушка, которая привезла плащ, сразу укрыла мать. Было видно, что ей стыдно.
Было много и других впечатлений. Бухарику почему‑то внезапно стало тошно; он подумал, что может быть здесь начинается ад…
Наутро его повели к мировому судье вместе с тихим пьяницей Ванькой Пустяковым. Этот безответный мужичонка лет сорока жил с матерью, которая каждый раз, как он напивался, сдавала его на пятнадцать суток под предлогом, что он дебоширит, хотя он был очень спокойным, а она была еще та стерва. В общей сложности он провел на сутках столько времени, сколько другие не сидят и за убийство.
— Слушай, Пустяк, — лениво сказал ему милиционер, который вел их к судье, — грохнул бы ты мамашу, один раз отсидел, да и к стороне. А так будешь всю жизнь мучиться!
И было непонятно: говорит он серьезно или шутит.
— Нельзя, — беззлобно ответил Иван, — я ее люблю.
Судья, толстый лысый мужичонка, прославился тем, что в свое время, в припадке белой горячке позвонил мэру города и сказал: «Вас сегодня застрелят! Я сейчас беру ружье, и еду вас спасать!» Это было еще до дона Санчо. Мэр оказался слабонервным, вызвал милицию, но те не смогли задержать визитера, потому что был он тогда федеральным судьей, и даже ружье не смогли отобрать — разрешение на него было оформлено надлежащим образом. Кстати, это было одной из причин почему мэр тогда решил уступить свое место дону Санчо взамен на обещание личной безопасности… Потом судья из федерального перекочевал в мировые.
Каждое дело им рассматривалось за три — пять минут.
— О, Пустяк! — воскликнул он, увидев Ивана. — Что дома жрать нечего, решил за счет государства пожить! Ах ты, плут! Лишь бы не работать! Ладно, будь по твоему — пятнадцать суток!
С Бухариком он был еще лаконичнее:
— Куда годится, чтобы всякое котье сотрудников органов внутренних дел материло! Пятнадцать суток!
И тут же достал бутылку водки, выпил из горла граммов двести и матом сказал сопровождавшему задержанных, а теперь подвернутых административному аресту, милиционеру, чтобы он уводил своих подопечных.
— Вот других наказывает, а сам! — проворчал тот.
Мировой судья услышал, рассмеялся и заявил:
— Так это дуракам нельзя, а мне‑то все можно! — и глотнув еще водки из бутылки закурил папиросу…
С этим судьей однажды вообще случилась забавная история. Он как‑то заказал себе визитки на русском и английском языках. А получилось так, что того, кто их ему изготавливал, судья как‑то ни за что упрятал на пятнадцать суток. И тот решил это припомнить и перевел «мировой судья», как «Peace Duke». В принципе, при переводе получалось, может быть, даже и лестно для обладателя визитки: все‑таки «Duke» — значит герцог. Но вот в русской транскрипции это смотрелось очень необычно. Когда двое или трое знакомых сказали мировому судье, что на визитке написана скорее не его должность, а его сущность, то он, поняв, в чем дело, попытался привлечь изготовителя к ответственности за оскорбление суда. А тот к тому времени оброс связями, и ничем ему навредить не удалось. Визиток же судья раздал уже более сотни…
А потом он потерял и судейство и неприкосновенность по пьяни заехав в ухо заместителю председателя областного суда. И не просто потерял: местные милиционеры его жутко ненавидели, но пока он был при должности, не трогали. А теперь на бывшего судью открыли охоту. Он никогда не бывал трезвым; напившись же, начинал задираться ко всем. Милиционеры же следили за ним, сразу ловили, и везли в обезьянник. Если бывший судья пытался сопротивляться, то его еще и били хорошенько. А потом новый мировой судья, получивший «добро» в областном суде отправлял его на пятнадцать суток. За первые полгода после увольнения бывший судья провел в обезьяннике и на сутках едва ли не больше, чем Ванька Пустяков. Так и пришлось ему уехать в другой регион, только выводов он из этого не сделал…
Пока машина везла Николая и Ивана в место, где им предстояло отбывать административный арест, Пустяк считал все колдобины, определяя по ним, где они находятся: «Сейчас на Ленинскую повернули», «А сейчас Козлячий переулок проезжаем!»
Бухарику было очень грустно и от того, что у этого неплохого вроде бы мужчины пропадает жизнь, и оттого, чтоу самого его жизнь уже кажется совсем пропала… На сутках он много думал, а когда его выпустили, очень захотел увидеть Григория. И надо же — через какой‑то час они встретились…
— Что‑то так тошно мне стало от всей этой жизни, хочу светлого, хорошего! — с тоской в голосе рассказывал он Григорию Александровичу. И тут же испуганно: — Или поздно уже?
— Не поздно, — успокоил его тот и повел к отцу Аристарху.
Тот исповедовался долго, порой плакал, порой начинал материться, а потом опять плакать… Через два часа он отошел от священника с умиротворенным лицом и прошептал:
— Неужели Бог все мне простил? Неужели я могу начать все сначала?
И потом ткнул профессора в бок и сказал:
— Представляешь, он мне сказал, чтобы я не только бросил пить, но и создал здесь православное братство трезвости!
— А ты как? — осторожно спросил тот.
— Не знаю даже…, — растерянно сказал Николай. — С другой стороны — почему бы не попробовать? Тем более батюшка сказал, что ты поможешь…
Тут пришел черед растеряться Григорию Александровичу, но отказать своему новому знакомому, с которым он непонятным образом быстро сдружился, профессор не смог.
Лузервиль на пороге перемен
В городке Лузервиль между тем атмосфера становилась все более напряженной. Те, кого сэр Джон собрал из безвестности, теперь знали друг друга. И зло, творимое ими, не было теперь интуитивным: они понимали, кому они служат. Но почему‑то все у них начало срываться, все у них не получалось. Тем более, что приходилось таиться: ведь Григорий Александрович знал об их существовании, и поделился этой информацией с какой‑то частью своих знакомых, но в милицию или ФСБ не заявлял. Многие из них хотели убить Григория, но боялись себя проявлять. Его свидетельство о секте перед правоохранительными органами было бы легко опровергнуть, потому что все знали, что профессор резко отказался от употребления алкоголя, а это может сопровождаться галлюцинациями. А, убив его, сектанты бы себя выдали. Эктон наблюдал за ними из Лондона, и думал, что это самое многочисленное, и одновременно самое безуспешное отделение тайного общества «Наследники Ост — Индской компании». Кстати, он ведь даже забыл им сказать об их отношении именно к этому обществу…
С другой стороны в Лузервиле происходило много перемен другого характера. Николай при помощи Григория Александровича сумел объединить с полсотни местных пьяниц в православной общество трезвости. И многие из вступивших в него реально смогли изменить свою жизнь. А их соседи и знакомые, видя, что такие вроде бы «конченые» люди могут не только освободиться от того порока рабами, которого были многие годы, а некоторые и десятилетия, но и делать что‑то доброе, и сами начинали изменяться. Храм в Лузервиле стал переполнен.
В это же самое время активно шла работа по переименованию города в «Большой». Она встречала разного рода препятствия, в первую очередь, благодаря скрытому сопротивлению тех, кто был на собрании, названном Григорием Александровичем «советом нечестивых». Лузервильцев настраивали, что «Большой» — это безвкусно и пошло; что это пустая трата бюджетных денег; по местному телевидению показали небольшой рекламный ролик, в котором Шрэк призывал лузервильцев назвать город «Большой», потому что в городе с таким названием живет его бабушка… Однако, судя по всему, переименование должно было состояться.
… Два человека, которых разделяли тысячи километров — один находился в Лузервиле, а другой в Лондоне — думали одновременно друг о друге. Это были отец Аристарх и сэр Джон Эктон. С того момента, как архимандрит начал молиться за лорда, тому стало очень сложно жить. Он вновь начал чувствовать боль, стал все чаще вспоминать о том, что когда‑то был христианином, в его сознании все чаще проносилась евангельская сцена о разбойнике, распятом на кресте рядом с Христом Спасителем и прощенном Им в последние часы жизни, оказавшимся первым, кто пошел в рай за воплотившимся Богом. И одновременно ненависть переполняла его сердце, ему хотелось уничтожить священника, изматывавшего его душу и тело своими молитвами. Им предстояло встретиться, и оба они это чувствовали.
ЧАСТЬ ІІІ И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Проповедь
… Лузервильский храм в это утро был переполнен. Литургию служили настоятель архимандрит Петр, приехавший к нему опять в гости из Англии архимандрит Василий и иеромонах Онисим. Протоиерей Стефан исповедовал. После чтения Евангелия на проповедь вышел английский гость. Говорил он, как всегда, одними цитатами, но «без бумажки»: они как‑то естественно появлялись, сплетаясь в единое целое:
— Сегодня мы слышали в евангельском чтении такие слова: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17:20–21). Как мы должны это понимать?
Митрополит Антоний Сурожский, говоря об этом, приводил следующие слова Святителя Иоанна Златоуста: «Найди дверь своего сердца, и ты увидишь, что это дверь в Царство Божие». Поэтому обращаться надо внутрь себя, а не наружу — но особым образом. Речь не о том, чтобы прибегнуть к самоанализу; я также не имею в виду, что внутрь надо идти приемами психоанализа или психологии. Это не путешествие в сущность моего собственного «я»; это путь через, сквозь мое «я», чтобы из собственных глубин вынырнуть там, где Бог есть, где Бог, и мы встретимся.
Преподобный Исаак Сирин писал, что «Отечество у чистого душой — Внутри его. Солнце, сияющее там, — свет Святой Троицы. Воздух, которым дышат жители, — Утешитель Всесвятой Дух. Совозлежащие — святые бесплотные существа. Жизнь, радость и веселие их — Христос, Свет от Света Отца. Таковой и видением души своей увеселяется, и удивляется красоте своей, которая во сто крат светлее светлости солнечной. Это — Иерусалим и Царство Божие, сокровенные внутри нас по слову Господа. Эта страна — облако Славы Божией, в которое войдут одни чистые сердцем, чтобы увидеть лицо своего Владыки и озариться лучом света Его в духе своем».
Поэтому, по словам Макария Великого «душа смысленная и благоразумная, обошедши все создания, нигде не находит себе упокоения, как только в Едином Господе. И Господь ни к кому не благоволит, как только к единому человеку».
Как написано в книге «Екклесиаст», «все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается.(Еккл. 6, 7). Все доброе человек может найти, обратившись внутрь себя. Как писал Блаженный Августин, «великая бездна сам человек, волосы его легче счесть, чем его чувства и движения сердца. Не выходи в мир, а возвращайся к самому себе: внутри человека пребывает правда».
Вспоминаются слова архимандрита Кирилла (Павлова): «Истину бессмертия души человеческой должен признать и самый здравый смысл. Посмотрите внимательно на человека: чего ищет его сердце, к чему оно стремится? Отчего душа его в мире сем ничем не насыщается, не удовлетворяется? Иной имеет все возможные на земле наслаждения и, однако, опять чего‑то ищет и не находит. Иной желает утолить жажду души своей мирскими удовольствиями и забавами, но все это оставляет в душе одну только пустоту, томление духа, и человек ищет каких‑то новых наслаждений и опять не обретает в них отрады.
Все это доказывает ту истину, что душа человеческая ничем в мире сем не может удовлетворить своей внутренней жажды блаженства. Бог для того‑то и пробудил в душе человека сию ненасытную жажду, чтобы через то указать ему на другую, лучшую, жизнь, чтобы человек не останавливался на удовольствиях временных, но стремился к почести вышнего звания Божия».
Другие аспекты данной проблемы показывает архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Жажда души — это жажда нашей мысли расширить свои знания. Не ограничивать их лишь познанием видимого. А иметь возможность проникнуть в сферы невидимого мира — мира духовного, и эта жажда внутреннего благодатного мира, внутреннего покоя, счастья, которые бы не нарушались, несмотря на окружающие каждого из нас невзгоды, скорби, бедствия…
Это жажда свободы духа, чтобы никакие греховные путы не препятствовали бы ей проявить себя в любом виде доброделания. Душа жаждет уяснить, в чем смысл нашей жизни и почему жизнь так коротка, а человеку хочется много сделать и совсем не хочется уходить из этой жизни. Душа жаждет уничтожить все колебания, сомнения, недоумения… Чтобы по вере своей мы могли проникнуть в духовный невидимый мир и, познав его, стараться жить здесь свято».
Митрополит Лимассольский Афанасий сказал: «Мы часто спрашиваем, не грех ли то или другое. Например, грех ли курить? Грех ли пить? Грех ли ходить на дискотеки или известно, куда сейчас ходят? Грех ли все это?
Мы не можем отвечать на эти вопросы, потому что это неправильные вопросы. Если отвечать на них прямо, то ответ будет неправильным. Но мы можем сказать, что человек, который имеет связь с Богом, не имеет потребности курить, пить или бродить по улицам, чтобы убить время. Он чувствует в себе полноту, уравновешенность, и это побуждает его беречь себя от всего лишнего, чтобы оставаться уравновешенным и счастливым. Мы много заботимся о том, чтобы заполнить свою жизнь тысячью вещей. Например, есть люди, которые от пустоты в себе поддаются мании покупать. Это, конечно, неплохо поддерживает торговлю, но для самого человека становится духовной проблемой».
Сейчас вспомнился 146 сонет Уильяма Шекспира:
«Моя душа, ядро земли греховной, Мятежным силам отдаваясь в плен, Ты изнываешь от нужды духовной И тратишься на роспись внешних стен. Недолгий гость, зачем такие средства Расходуешь на свой наемный дом? Чтобы слепым червям отдать в наследство Имущество, добытое трудом? Расти, душа, и насыщайся вволю Копи свой клад за счет бегущих дней И, лучшую приобретая долю, Живи богаче, внешне победней. Над смертью властвуй в жизни быстротечной, И смерть умрет, а ты пребудешь вечно».
Хочу процитировать еще одни слова Блаженного Августина: «Но в чем состоит сущность первых двух времен: т. е. прошедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет, и будущего еще нет? А если настоящее остается действительным временем при том только условии, что через него переходит будущее и прошедшее, то как мы можем приписать ему действительную сущность, основывая ее на том, чего нет? Разве в том только отношении, что оно постоянно стремится к небытию, каждое мгновение, переставая существовать…
Теперь ясно становится для меня, что ни будущего, ни прошедшего не существует и что не точно выражаются о трех временах, когда говорят: прошедшее, настоящее и будущее; а было бы точнее, кажется, выражаться так: настоящее прошедшего, настоящее будущего».
Поэтому человек это бездна, и целого мира ему мало. Лишь Господь может заполнить эту бездну.
… Прихожане не привыкли к таким длительным проповедям, но то, что говорил приехавший из Англии священник, им понравилось. Все в целом никто не запомнил, но почти каждый ухватил какой‑то фрагмент, который заставил думать и после того, как служба закончилась. Для настоятеля архимандрита Петра это оказались слова «И целого мира мало». Сначала они дали ему повод для иронии: ведь именно так назывался один из фильмов о Джеймсе Бонде. Но потом в памяти всплыли многие другие фразы из проповеди. И отвлечь внимание от них было все сложнее…
Маньяк
Григорий Александрович взволнованно обсуждал с отцом Аристархом судьбу одного из тех, кто при нем прошел инициацию у сэра Джона в бывшем особняке Скотниковой:
— Представляешь, такой осторожный был, сволочь! Жертв своих выслеживал, как чуял! Меня вызвали, как психиатра побеседовать на предмет вменяемости. Так он рассказал, что чувствовал, от какого ребенка отошла «защита», как он это называл. Семь замученных детей на его совести!
— Страшно все это, — грустно сказал священник. — Но ведь не все так просто с последним мальчиком было…
— Это да, — серьезно сказал Григорий. — Он оказывается за день до того, как ему этому маньяку в руки попасть, поймал бездомного щенка и выколол ему глаза… А мальчишке — всего шесть лет! Что бы с ним дальше было?
— Дальше? Стал бы таким, как тот, кто его поймал! Но ведь спасли его?
— Да, только один глаз маньяк уже успел ему выколоть. И тут как раз милиция подъехала. С поличным взяли… Гадкий мальчишка, конечно, но все равно жалко его!
— А мне кажется, что для него лучше быть с одним глазом таким, каким он стал, чем с двумя таким, как он был, — задумчиво произнес священник. — Ты знаешь, что он был у меня на исповеди?
— Да ну? — удивился Григорий.
— И не просто был. Он сказал, что что‑то темное вышло из него в тот момент, когда тот человек ткнул в его глаз ножом. Мальчик вдруг понял, что чувствовал тот щенок, которому он выколол глаза. А ведь за тем щенком должно было быть много разных беззащитных животных, а потом и людей… А теперь этого не будет — зло покинуло этого ребенка. Он нашел того щенка, теперь он будет жить у него. Родителям сложно все это понять, я долго с ними говорил. Но это тот случай, когда Господь зло оборачивает ко благу.
— Я часто задумывался: откуда в детях бывает столько зла? — спросил Григорий Александрович. — Как психиатру, мне приходилось видеть столько маленьких монстров! Я часто задумывался над тем, что после Хрущева у нас не было смертных казней несовершеннолетних, а может зря? Ведь бывают совсем маленькие дети, которые с особой жестокостью убивали и истязали своих сверстников…
— Сам ребенок ведь не вполне виноват, что он стал сосудом зла, — ответил священник. — Поэтому правильно, что государство не казнит детей. Другое дело, что зло должно быть наказано, и никакой возраст не должен быть причиной увильнуть от расплаты. Потому что земное наказание останавливает дальнейшую цепь преступлений, самому преступнику дает шанс измениться…
— Ну, я только Достоевского вспомню, из тех, кого тюрьма исправила! — скептически сказал Григорий Александрович.
— Не обязательно тюрьма. И не обязательно наказывает государство. Мне запомнился один рассказ из патерика, про одного святого, жившего в пустынном месте. Львы приходили греть его, спали рядом с ним. И один путник очень поразился, как такое может быть? А святой сказал ему, что через некоторое время эти львы разорвут его. Потому что когда‑то он был пастухом; его собаки напали на прохожего и загрызли его, а он видел все, но не отогнал их… Ничто в мире не пропадает: совершая тяжелый грех, человек сам идет к своей смерти. И чем больше человек умножает свои грехи и беззакония, тем тяжелее для него покаяние!
— Ты меня что‑то напугал: у меня ведь столько всего было! — вздрогнул Григорий.
— Ведь не обязательно наказанием будет что‑то плохое, — улыбнулся отец Аристарх. — Вот ты полностью изменил свою жизнь: ведь очень тяжело временами бывает?
— Бывает, и еще как!
— Это ведь тоже форма искупления греха — не повторять то, без чего долгие годы не мыслил свою жизнь.
— Слишком просто!
— Да нет! Ты еще в самом начале этого пути, а сколько еще будет сложностей! И, возвращаясь к детям: Блаженный Августин писал, что дети называются безгрешными не потому, что у них нет грехов, а потому, что они не могут причинить существенного вреда. И если бы ему предложили на выбор — умереть или вернуться в детство и школу, то он с радостью предпочел бы смерть…
— Ты прямо от этого отца Василия заразился манией цитирования! — усмехнулся Григорий. — Он мне, кстати, дал тоже тут книжку Клайва Льюиса. Там есть письма детям. Так вот он в одном из них очень непедагогично написал, что из трех школ, в которых ему довелось учиться, в двух было хуже, чем в окопах Первой мировой войны…
— Сам видишь, что проблема эта существует всегда. На детях печать грехов их родителей, их предков, а на некрещеных — еще Адама и Евы…
— Где же выход?
— Крестить ребенка, причащать его, но обязательно и родителям изменяться. Все очень сложно!
— Я опять о маньяке: что за «защита» и почему отходила от детей?
— На это нельзя однозначно ответить: мы этого не знаем. Не обязательно все дети были плохими, не обязательно даже кто‑то из их родителей или дедушек и бабушек совершил что‑то страшное. Возможно, если бы они выросли, то могли бы стать такими как этот маньяк, а так — пошли к Богу невинными страдальцами. Но это только предположения, мы не можем этого знать. Знаем только, что Господь властен зло обратить ко благу, как это произошло с последним мальчиком. А что маньяк: ты признал его вменяемым?
— Он, конечно, сумасшедший, слышит голоса, видит призраков. Его сложно признать вменяемым, хотя очень не хотелось бы, чтобы он избежал наказания…
— Его невозможно избежать!
— Я имею в виду и земного!
— И его тоже!
В этот момент у Григория Александровича зазвонил мобильный телефон. Он подключился, минуту внимательно слушал, а потом удивленно сказал отцу Аристарху:
— А он уже не избежал. Покончил с собой, причем очень необычным образом: сунул голову в парашу и захлебнулся.
— Ты думаешь он сам?
— Наверное, да. Он очень любил издеваться над другими, и очень боялся издевательств над собой.
— Тогда у него уже нет никаких шансов быть помилованным на Божием Суде, — грустно сказал священник.
Психиатр — проктолог
Григорий Александрович начал работать в Лузервильском интернате психиатром. Однако его коллега, имевший специализацию проктолога, пытался сопротивляться увольнению. Оказывается, при поддержке Скотниковой, он в свое время выпустил несколько монографий «на стыке психиатрии и проктологии», которые вышли на русском и английском языках в трех странах. За них ему присудили несколько общественных ученых степеней и званий, приняли в ряд общественных академий. На Валерия Петровича все это произвело впечатление — на директора интерната сами слова «монография, изданная в трех странах» производили магическое впечатление, а в чем разница между государственной и общественной системами аттестации научных работников он не понимал. Каким образом Пал Палыч, проявлявший на практике одинаково плохие знания и в психиатрии и в проктологии, и умевший хорошо только пить водку и играть на гармошке, мог писать еще какие‑то научные работы с претензией объединить необъединяемое, для Григория Александровича было загадкой. Однако он честно решил изучить труды новатора медицинской науки и его дипломы.
— Почему же вы хотя бы кандидатскую не защитили в официальной государственной системе аттестации? — поинтересовался профессор.
— Меня признали во всем мире, зачем мне школярсие защиты? — важно ответил психиатр — проктолог.
Гордый Пал Палыч принес своему оппоненту три внушительных книги и четыре очень красивых диплома, где готической вязью было что‑то написано на английском языке. Еще у него был значок «Отличнику здравоохранения» и почетная грамота и медаль Министерства социальной защиты — Скотникова через Зою Георгиевну отмечала тех, кто ей чем‑то нравился. А Пал Палыч очень душевно играл на гармошке…
Через три дня смеющийся Григорий Александрович пришел в кабинет директора интерната:
— Как я и предполагал, все кроме министерских наград — полная ерунда. Но это не просто ерунда, а насмешка. Два диплома выданы от имени международной ассоциации развития проктологического направления психиатрии.
— Разве такая есть? — изумился Валерий Петрович.
— Сейчас какой только дряни нет, но, думаю, что ее не существует. Один из дипломов свидетельствует, что его обладатель является доктором медицины, а второй профессором, но в рамках аттестации конкретно этой организации. А два других диплома еще забавнее. Один из них подтверждает, что Пал Палыч — действительный член Академии Неестественных Наук!
— Но это, наверное, уже дурная шутка? — не выдержал Валерий Петрович.
— Сложно сказать. Кстати, четвертый диплом подтверждает, что его обладатель удостоен высшего почетного звания данной академии — Принц пустозвонной науки.
— Откуда такое дурацкое название?
— Ну, откуда — это легко ответить. Примерно так Ленин называл сэра Сэя, полемизируя с ним об империализме: «пустозвонный принц науки». Но вот что в таком звании почетного — ума не приложу. Скорее всего, все эти дипломы — просто были изготовлены в единственном экземпляре, чтобы посмеяться над Палычем, и никаких реальных организаций за ними не стоит.
— А что с книгами?
— Вот это более серьезный вопрос. Написаны они наукообразно. Однако содержание, на мой взгляд, просто издевательство над медицинской наукой. Достаточно прочитать названия: «Проктологический подход в лечении душевных расстройств», «Взаимодействие головного мозга и анального сфинктера в процессе дефекации, как пример высшей нервной деятельности».
Валерий Петрович не сразу понял, что стоит за наукообразными формулировками, а, поняв, удивленно спросил:
— Неужели это и есть наука?
— Это скорее издевательство над наукой. Но самая забавная из книг — третья, научно — популярная, которая и была переведена на английский язык и издана в нескольких странах, но как художественное произведение. В ней развивается теория о том, что в каждом человеке очень много дерьма. Чтобы примерно подсчитать его общее количество нужно взвесить производное дефекаций за день, взвесить его и умножить на количество дней жизни данного индивида. Это и будет примерное количество изучаемой составляющей в человеке.
— Чушь какая‑то! — удивился директор. — А к чему эти выкладки?
— А здесь еще интереснее. От количества данной составляющей зависит, насколько плох или хорош человек.
— Чем больше итоговая цифра — тем хуже?
— А вот и нет: чем больше вышло — тем меньше осталось в человеке, соответственно, тем он лучше!
… Приглашенный Пал Палыч ничуть не смутился обвинениями Григория Александровича, заявил, что он дурак, который ничего не понимает в настоящей медицинской науке, и ему просто оскорбительно с ним разговаривать. Его научной деятельности может давать оценку международная компетентная медицинская комиссия, но никак не престарелый алкоголик. В знак того, насколько он обижен, Пал Палыч ушел из интерната и уехал из Лузервиля. А через месяц оказалось, что он заведует экспериментальной лабораторией в одном из зарубежных институтов, правда, в какой стране, держалось под секретом. Григорий Александрович считал, что это, скорее всего, одно из островных государств Юго — Восточной Азии.
«Полное дирмо как человек»
Такая характеристика в свое время была дана директору Лузервильской средней школы одним из его учеников, и была вынесена в качестве заголовка посвященной ему газетной статьи в единственной газете, выпущенной в этом городе женой племянника Скотниковой, потерявшей из‑за своей журналистской удачи семью.
Школ в Лузервиле вообще‑то было несколько, но одна была большая, больше, чем с тысячью учеников, а в остальных учились по несколько сотен ребят. И директор самой большой из школ — Дмитрий Сергеевич Мерзин — был человеком очень влиятельным. Он даже был депутатом Областной думы.
Внешне он производил неприятное впечатление: у него было длинное вытянутое безволосое лицо, немножко удлиненные уши и не сходившая лицемерная улыбка. Самым сладким голосом Дмитрий Сергеевич говорил самые мерзкие вещи. Но при этом облекал их в такие слова, что обвинить говорившего в чем‑то предосудительном было бы непросто. Один из учеников однажды сказал, что их директор похож на гунгана Даджу Бинса из «Звездных войн». Но другие школьники тут же на него набросились: разве можно так оскорблять доброго и хорошего гунгана? Да и внешне, по мнению многих из них, гунган был намного красивее…
Внешность не помешала в свое время Дмитрию Сергеевичу стать любовником Скотниковой, которая, будучи на пятнадцать лет старше, разглядела в директоре школы необходимые качества для того, кто хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы отравлять ее другим людям. Однако, несмотря на уговоры Людмилы Владимировны, к обществу «Наследники Ост — Индской компании» ее любовник, которого она продвинула в депутаты Областной думы, не примкнул. Не был он и на собрании в музее, организованном сэром Джоном. Объяснял это своим покровителям тем, что «работает под прикрытием». И, нужно сказать, что его прикрытие — лицемерная личина доброго директора, защищающего детей от произвола родителей — помогала ему творить не менее масштабный произвол, чем обнаглевшей до того, что не заботившейся о том, чтобы скрыть свои истинные цели Скотниковой.
Мерзин часто ездил в Европу, изучал международный опыт защиты детей от их родителей. И он успешно внедрял этот опыт в Лузервиле на практике: ему удалось лишить родительских прав мать, которая очень любила своих трех детей, но жила без мужа, погибшего в Чечне офицера, и очень скудно. Три мальчика — шести, семи и восьми лет очень любили маму, никто из них не считал, что им плохо от того, что они ходят в изношенной одежде и у них дешевые игрушки. Но суд послушал не их и не их мать — вдову Героя России, а аппелирующего к европейскому праву депутата — директора. В детском интернате при школе Мерзина детям дали новую одежду, дорогие игрушки, но они целыми днями сначала плакали, а потом озлобились. Мать их ходила по судам, исхудала, на нервной почве у нее проявилось множество болезней. После перемен в Лузервиле, ей удалось, наконец, вернуть себе детей, но они очень изменились, зло вошло в их души, и нужны были многие годы, чтобы мальчики оттаяли.
И это только один из сотни случаев, когда Мерзину удалось отнять у родителей их детей, и упрятать в созданный для этого интернат, на который он получал финансирование не только из России, но и от множества различных международных организаций.
При этом то, что у него в школе и, особенно, в детском интернате, учителями работали не менее шести педофилов, которых Мерзин учил, как себя вести, чтобы не попасть в руки правосудия и всячески поддерживал и продвигал, права детей на его взгляд ничуть не нарушало.
После перемен в Лузервиле его позиции ослабли, но были еще сильны, так как у него оставалось еще много покровителей и в Москве и в Европе и в США. Некоторые из тех, у кого он отнял детей, ненавидели Мерзина так сильно, что хотели его убить. Но послушались отца Аристарха, с которым поделились этими мыслями, чтобы они отдали суд Богу, и не губили свою жизнь.
А конец у депутата — директора оказался следующим: однажды он захотел закрыть одну из Лузервильских школ, находившихся на окраине города, в которой детей любили, но зато в ней не было удобств, в частности вместо канализации была большая выгребная яма, глубиной около трех метров. Чтобы произвести впечатление на членов областной комиссии, Мерзин приказал разобрать небольшой участок дощатого настила над ямой, которую действительно уже несколько лет не откачивали. И, говоря о необходимости закрытия школы, депутат нечаянно поскользнулся, и упал в эту яму, где и захлебнулся.
Нашли его только на другой день, причем для этого пришлось наконец‑то яму откачать. За это время директор так пропитался ее содержимым, что стал от него почти неотличим. Хоронить его пришлось Григорию Александровичу с бывшим Бухариком Николаем и Валерием Петровичем, потому что остальные не могли перебороть себя, чтобы к нему подойти.
А школу не закрыли, зато подключили ее к городской канализации. А в той школе, директором которой был Мерзин, произошли большие перемены — педофилов разогнали, двоих даже удалось посадить, так как они действовали менее осторожно, и были доказательства их преступлений; часть детей из интерната вернули к родителям. После этого детская преступность, которая начала было расцветать в Лузервиле, резко пошла на спад. А новый директор школы и детского интерната оказался полным антиподом Мерзина — грубоватый, резкий, но добрый и открытый, знающий, что для детей по — настоящему полезно — не только учеба, (что, учитывая форму, в которую облек характеристику Мерзина один из его учеников также было нелишним), но и приучение к труду, уважение родителей и старших, отсутствие лицемерия. Извращенцев он на пушечный выстрел к школе не подпускал. И жизнь в Лузервиле местами стала напоминать семейную идиллию — оказалось, что большинство родителей и детей, если им не мешают, и не превращают искусственно во врагов, любят друг друга и готовы вместе решать сложные проблемы, которые ставит перед ними жизнь.
Тоска сэра Джона
… А в сердце сэра Джона тем временем поселилась неизбывная тоска, которую ничто не могло заставить перестать его мучить. Он вспоминал свою молодость, своих друзей, которых убил в Индии в начале той новой жизни, которую избрал. Вспоминал время, когда он был священником и любил Христа.
Что же заставило его так перемениться — из доброго когда‑то человека превратиться в воплощенное зло? Жажда власти над людьми, желание распоряжаться чужими жизнями и судьбами целых государств. За свою долгую жизнь лорд стал причиной духовной и физической гибели очень многих людей. Работая в Ост — Индской компании и уничтожая индусов физически, лишая их самостоятельности в делах государственного управления, он в то же время вез из Индии в Англию, а затем и в Америку семена духовной смерти.
Самые дикие религиозные практики Индии он немного переформатировал для того, чтобы они стали понятнее европейцам, а после этого широко распространял их в среде тех, которых учил называть себя «избранными» от того, что они причастны к этой религии зла и разрушения. Он стоял у истоков создания многих тайных обществ и закрытых клубов, начала революций и войн. Он имел весь мир, но целого мира ему было мало…
Его время, полученной по контракту с темным миром, уходило. Сэр Джон и сам чувствовал, как уменьшаются его сила и власть. Но после того, как за него стал молиться отец Аристарх, время стало утекать буквально на глазах.
Эктон за считанные месяцы внешне постарел на десять лет, вновь узнал, что такое боль и внутренние терзания. Он чувствовал, что смерть, как окончание земного периода жизни, может наступить для него намного раньше, чем это было предусмотрено контрактом. И то, что нерушимые условия его договора с духами Индии начали нарушаться, давало лорду надежду, что для него еще есть возможность все изменить. И все чаще вспоминал он распятого рядом с Христом разбойника.
Элизабет и Зоя видели, что происходит с их хозяином. Они делали несколько попыток организовать убийство отца Аристарха, думая, что с его смертью мучения Эктона прекратятся. Но все эти попытки были неудачны.
А сам сэр Джон то люто ненавидел архимандрита, то испытывал к нему что‑то похожее на благодарность. Он начинал привыкать к своей тоске — она давала ему надежду на новую жизнь, от которой он когда‑то бесповоротно отказался. Это была тоска о Боге.
ГЛАВА ВТОРАЯ
У истоков общества трезвости
Николай очень серьезно отнесся к словам отца Аристарха о том, что он должен создать в Лузервиле православной общество трезвости. Григорию Александровичу приходилось все время гасить его энтузиазм. Дело в том, что, будучи по одной из своих специализаций наркологом, он познакомился с самыми разными формами организации и самоорганизации алкоголиков для борьбы с болезнью. А так как профессор при этом сам был болен алкоголизмом и с предубеждением относился ко всему, что напоминало ему о необходимости и возможности освободиться от зависимости, то он легко находил в этих системах изъяны и беспощадно их высмеивал.
Отец Аристарх, часто беседовавший с ними, считал, что неплохо будет, если члены общества трезвости дадут обет трезвости на какой‑то определенный срок.
— А чем это, в сущности, отличается от кодирования? — спрашивал Григорий Александрович. И тут же сам себе отвечал: — Конечно, источником, к которому обращаются. Но, на мой взгляд, нарушить обет так же легко, как и начать пить при кодировке или с антабусом в крови… А когда человек увидит, что гром и молния на него не обрушились, то он начнет и других уверять, что это недейственно!
— Это неправильное видение, — мягко поправлял его отец Аристарх. — Во — первых, многие, если не большинство боятся и кодирования, и подшивок и внутривенных инъекций соответствующих препаратов, и выжидают сказанный им срок. Но есть те, кому море по колено, и стакан водки дороже жизни. И таким, зачастую, действительно ничего не делается, и они проводят среди собутыльников агитацию о том, что все эти средства медицины «ничего не значат». А те слушают их, а у самих организм слабее. Поэтому многие из них в результате умирают. Ты же сам это рассказывал?
— Рассказывал, — подтвердил профессор. И ехидно добавил: — Что: также происходит и в отношении обета трезвости? Нарушивший его упадет тут же замертво как Анания с Сапфирой?
— Может и упасть, ведь все люди разные, — задумчиво сказал священник. — Ведь Анания и Сапфира, в сущности, с одной стороны на определенном этапе сделали все для того, чтобы полностью отказаться от жизни мира и идти к Богу. Они продали все свое имущество, чтобы пожертвовать его апостолам, а потом решили утаить себе часть. А ведь это и так было их: кто запрещал им принести часть денег, или вообще ничего не приносить? Здесь нужно четко понимать, что грех — это смерть, любой грех убивает человека, но это редко происходит мгновенно. Чем более греховен человек, тем больший он имеет «иммунитет» к греху. А первые христиане имели большую свободу от греха; на земле уже они жили Небом. Поэтому незначительный на наш взгляд грех лжи их убил. Так и здесь: все зависит от внутреннего восприятия человеком, данного им обета трезвости.
— А чем это тогда лучше кодирования? — вмешался Николай. Выпьешь — сдохнешь?
— При таком восприятии, действительно, не лучше, — согласился отец Аристарх. — Но нужно здесь учиться бояться не физической смерти, а греха, отдаляющего от Бога и ведущего к вечной смерти. Ведь есть вещи намного более страшные, чем физическая смерть…
— Есть, — согласились его собеседники.
— И, конечно, если человек нарушит обет трезвости, то ничего с ним внешне может не случиться. Но здесь многое будет зависеть еще и от того, как самим им будет восприниматься его падение. Либо — «ничего не случилось, значит, я могу повторять это до бесконечности и сбивать с толку и окружающих рассказами о том, что это не страшно», либо — осознание своего несовершенства, желание тут же подняться и вновь продолжить соблюдать обет. Второй путь не безвреден для человека, но это не путь в погибель, если только человек не начинает мыслить в категориях «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».
— Это все верно. Но стоит ли давить на людей обетом, не лучше ли им предоставить свободу самостоятельно отказаться от алкоголя?
— Здесь все очень индивидуально, — сказал священник. — Каждому на определенном этапе дается шанс безболезненно отойти от греха, но мало кто этим шансом пользуется. Относительно безболезненно, конечно, потому что зло, совершенное нами невозможно просто забыть, сказать, что «ничего не было». Думаю, что тем, кто однажды нарушил обет трезвости, не нужно принимать новый — они должны быть трезвыми «просто так» — не страшась наказания и не ожидая награды.
— А вот такой подход мне по душе! — сказал Григорий Александрович.
— И мне! — подтвердил Николай. — И для того, чтобы жить так не нужно сперва нарушать какие‑то обеты.
— Не нужно, — улыбнулся священник. — Может быть, вы и правы. Попробуйте объяснить это другим — какое счастье быть свободным и не из страха, а свободно делать то, что правильно.
Решили, что в обществе будет царить атмосфера равноправия, как у «Анонимных Алкоголиков», но при этом будет присутствовать необходимая для образованной при Церкви организации дисциплина. Местом дислокации общества трезвости решили избрать интернат, где Валерий Петрович, сочувственно относившийся к этому начинанию, выделил большую комнату.
Первое заседание общества трезвости
Решили, что первое заседание Лузервильского общества трезвости проведут без священника. Николай мотивировал это тем, что сначала нужно разъяснить людям, как они должны себя вести, что говорить. К появлению отца Аристарха их нужно готовить, чтобы они воспринимали это «как хорошо, что батюшка пришел», а не так, что «во, глянь, прикольный поп приперся!»
— В этом есть рациональное зерно, — согласился Григорий Александрович.
— Что я в тепличных условиях жил? — засмеялся архимандрит. — Да я в интернате такое повидал, что меня ничем не удивишь!
— Так это не тебе, а им нужно, — возразил Николай. — Прикинь: придут человек двадцать чудаков, увидят крест с рясой и начнут прикалываться. А на душе‑то тем временем совсем иное. А стыдно им пока перед другими иное это показать. Их подготовить нужно. А то потом им самим себя будет стыдно, как они себя вели…
— Ну, хорошо, — согласился отец Аристарх.
В итоге на первое собрание он не пошел. Думали, кто будет вести — решили, что Григорий Александрович вместе с Николаем. Пришел и Валерий Петрович — не только как человек, предоставляющий помещение, но и как тот, для кого эта тема сравнительно недавно была очень болезненной. Народ и правда, собрался очень разный: грязный, оборванный, с лицами, которые сами по себе давали характеристику всему человеку. Клара с Розой решившие послушать своего приятеля, переставшего пить, были одни из наиболее респектабельных.
— Откуда весь этот бомонд? — весело поинтересовался профессор.
— Всех своих друзей позвал, — гордо заявил бывший Бухарик. — Не все, правда, пришли… Но и так вон человек тридцать — это больше, чем я ждал.
— Ну что же, — начал Григорий Александрович, когда присутствующие расселись, — сегодня у нас организационное собрание Лузервильского православного общества трезвости. Мы должны на нем определить для чего мы собираемся, что мы ждем от наших встреч, правила поведения на собраниях. В следующий раз мы встретимся уже со священником. Думаю, что наши встречи должны быть разумным сочетанием демократии и дисциплины…
— Это верно, — поддакнул Николай. — А то всякое котье может вполне распоясаться, если не одергивать…
— А ты сам‑то кто? — веско, но беззлобно спросила Роза.
Все засмеялись.
— То же котье, — покорно согласился оратор, — поэтому ко мне можете обращаться запросто: «Колян», а то и «Бухарик», если кто привык. Но вот к Григорию Александровичу нужно обращаться по имени- отчеству и на «вы», потому что он профессор — нарколог…
— Чего же ты сам мне «тыкаешь»? — усмехнулся врач.
— Так я твой друг… — не обращая особо внимание на эту реплику продолжал Бухарик. — И к Валерию Петровичу, потому что он хозяин этого места, и к батюшке. А остальные мы все здесь равны, невзирая на возраст, образование и материальное положение.
— Действительно, мы не пойдем по пути, например, анонимных алкоголиков, — сказал Григорий Александрович. — Иерархичность заложена в человеческой природе, и отрицать ее бессмысленно. Поэтому мы используем что‑то из их опыта, что‑то из опыта групповой психотерапии. Но основой будет церковная жизнь, с ее дисциплиной и установлениями. И не нужно думать, что если кто‑то из нас алкоголик, то ему из‑за этого становится можно то, что нельзя другим. Нельзя всем: приходить в храм и на собрания пьяным, курить и материться даже на территории…
— Гестапо какое‑то, — вздохнула Клара, вызвав новый взрыв смеха.
— Да почему гестапо? — улыбнулся профессор. — Это для вашего же блага. Я сам много пил, но мимо меня как‑то прошли многие из невзгод, которые обычно сопутствуют алкоголизму. Ведь вы чувствуете себя изгоями в обществе? А при этом сохраняете потребность в общении? И это заставляет ограничивать круг общения пьющими людьми?
Многие закивали, подтверждая, что так оно и есть.
— А наша цель — стать полноценными членами не какого‑то общества, созданного по принципу «пью — не пью», а Церкви Христовой. Это очень трудно, но и очень легко для тех, кто почти все потерял. Легко, потому что жизнь в Церкви требует оставить все и идти за Христом…
— В каком смысле оставить? — спросил один из слушателей.
— В смысле отказаться от всего греховного, оставить его в прошлой жизни. Ведь каждому из нас хочется чистоты. Но с другой стороны гложет внутри: вот ведь нужно бы еще и успеть пожить «для себя», чистота «не убежит». И мы падаем все глубже, а можем и умереть, не успев измениться. Почему говорю «легко»: ведь намного легче бросить пить человеку, который пьет, а его тут же рвет, а он опять пьет, чем тому, кто наслаждается вкусом спиртного. Намного легче бросить пить тому, пьянство которого разрушает или разрушило уже его семью, карьеру, здоровье, чем тому, кто сохраняет иллюзии, что алкоголь полезен на семейных торжествах и для здоровья, или чья работа сопряжена с застольями. Но здесь, наверное, нет уже тех, кто живет этими иллюзиями?
— В чем‑то оно так, — встал один из пришедших, крепкий мужик лет сорока, судя по всему мучившийся похмельем. — Но разве понимания того, что это плохо достаточно для того, чтобы отказаться от спиртного? Я сам с высшим образованием, многое потерял уже и продолжаю терять, и радости уже от пьянки нет никакой. Но разве от того, что я вижу, как это плохо, я смогу сам преодолеть себя, когда и силы воли уже никакой не осталось?
— Сам не сможешь, но если попросишь у Бога, то Он тебя исцелит, — серьезно ответил ему Николай.
… Собрание шло часа два. Высказался почти каждый из тех, кто пришел. Кто‑то просто сетовал на свою жизнь, кто‑то изливал душу, рассказывая порой трагичные, а порой забавные случаи из жизни, кто‑то делился своим опытом преодоления болезни, кто‑то спрашивал совета. В итоге многие решили придти и на следующее собрание, на котором будет священник.
Насмешил всех один из приятелей Николая — Степка по прозвищу «Чмырь». Попросив слова в конце собрания, он заявил: «Я вот был тут у одних сектантов. То же типа трезвенники. И вот там один хлюст заявляет: «Я пил, курил, ругался матом и занимался онанизмом. А сейчас на меня снизошла благодать, и я уже четыре дня ничего подобного не делаю!». Я его как услышал, так сразу и ушел. А здесь — все серьезно!»
Причитания Нины Петровны
Начальник областной соцзащиты Нина Петровна часто приезжала в Лузервильский интернат. Она и раньше хорошо относилась к Валерию Петровичу, а после пережитого, просто души в нем не чаяла, приезжала к нему не только по делам, но иногда и просто выговориться, пожаловаться на жизнь. Постепенно она сдружилась и с Григорием Александровичем, который умел успокаивать женщин, которые переживают из‑за чужих сложностей, а своих жизненных проблем просто не замечают.
Например, Нину Петровну не волновало то, что она сама с семьей живет в стесненных жизненных условиях, но волновали пути решения проблем бомжей в масштабах страны. Методы решения данной проблемы она придумывала самые радикальные. Так на заседании областного правительства начальник соцзащиты выступила со следующим «ноу — хау»: «У нас в регионе с одной стороны много бомжей. Но с другой стороны много одиноких женщин. Пусть каждая одинокая женщина возьмет себе домой по бомжу, и мы решим сразу и проблему бомжей, и проблему одиноких женщин!»
Один из заместителей губернатора резонно спросил: «А ты сама возьмешь к себе бомжа?», на что Нина не менее обоснованно ответила, что она замужем, да и не позволяют ее жилищные условия кого‑то к себе брать.
Витающая в эмпириях, Нина Петровна не замечала и того, как устроена жизнь вокруг, все ей казались хорошими и прекрасными. И муж, который пил и не работал, сидя у нее на шее: ведь «он иногда и неделю не пьет, а бывает и работает», и две взрослые дочери, которым она отдавала больше половины своей зарплаты, а они были все равно недовольны: ведь «они молодые, у них больше потребности». В итоге чиновница жила ничуть не богаче, если не беднее своих соседей, ведь она работала за четверых, но сама того не замечала.
Зато ее очень расстраивало резкое расслоение между богатыми и бедными, о котором она читала в газетах. При этом, когда она в жизни общалась с теми богачами, книжные и газетные образы которых ненавидела, то порой даже не замечала их сверхбогатства, как это было в свое время со Скотниковой. Но из‑за созданных ее воображением образов могла сильно переживать, и Григорию Александровичу приходилось тогда ее успокаивать.
— Ну как такое может быть? — театрально всплескивала руками Нина Петровна. — Почему люди так себя ведут?
При этом она с большим трудом соотносила газетные образы с реальными людьми, которые в целом ей вполне нравились. И этот внутренний конфликт ей нужно было преодолеть.
— Просто живут, — отвечал Григорий Александрович. — Ты в детстве читала советские детские книжки про буржуинов?
— Читала, а что?
— Так вот и они читали. Но для них это были не просто книжки, а что‑то типа самоучителей, как себя вести.
— Но ведь это же книжки, а это жизнь!
— Они бывают тесно связаны между собой.
— Так это страшно!
— Много страшного в жизни, но уж ты‑то ничего не боишься!
Нина Петровна успокаивалась, а потом начинала жаловаться на то, что власть оторвана от народа, не обращает внимания на его слова, а то и просто не читает те письма, которые в ее адрес приходят от простых людей. И приводила пример одного своего знакомого профессора, который написал письмо в Правительство России с какими‑то конкретными мыслями. Ему ответили от секретариата, что благодарят его за письмо, но вообще‑то таких писем приходит очень много, поэтому их изучают в специальном отделе, а потом обобщенную оценку предложений по целому ряду писем докладывают руководителям Правительства. Но он хорошо делает, что интересуется жизнью страны.
— Но ведь они могут доложить совсем не то, что написано в письме! — театрально всплеснула руками Нина.
— Ну, это уже совсем не повод для переживаний, — засмеялся Григорий. — У меня есть один знакомый, он в детстве написал письмо в журнал «Мурзилка», как улучшить его содержание. Ждал ответа. А ему пришла стандартная открытка, что‑то типа: «Дорогой дружок! Мы очень благодарны за твое письмо и так далее…» Как он потом узнал, такие открытки рассылались пачками. Так вот надо уметь видеть в этом хорошее. Во — первых, ответили же, проявили внимание! Во — вторых, в твоем случае, могут доложить неправильно, а могут ведь и правильно. Так что поводов для расстройств нет.
Нина Петровна интересовалась и открытым при интернате домовым храмом, но так, что «сама я для этого еще не созрела». Интересовалась и обществом трезвости, но при этом обязательно заставляла Валерия Петровича угостить ее коньячком, и после первой же рюмки становилась дурашливой и развязной… Но в целом на уровне области, она безоговорочно поддерживала все начинания своего бывшего заместителя, личное участие в которых считала невозможным.
Второе заседание общества трезвости
На втором собрании Лузервильского общества трезвости был отец Аристарх. Ему первым дали слово:
— Любая страсть губит душу человека, — начал говорить священник. — Тем более, если она связана с изменением сознания. Те, кто, будучи зависим от алкоголя, продолжают пить, добровольно ввергают себя в руки темных сил…
Некоторые зашумели, выражая свое несогласие. Когда они успокоились, архимандрит продолжил:
— Вам может казаться, что это не так. И хорошо, что вам так кажется, потому что иначе получалось бы, что служение злу является вашим осознанным выбором. Но вот простой пример: разве не совершал почти каждый из вас, будучи пьяным, поступки, от которых ему трезвому становилось не по себе, а память о них заглушал потом новой порцией спиртного? Разве теряя работу, семью, друзей не продолжал пить? Разве, даже чувствуя отвращение к спиртному, не продолжал его пить? Это свидетельства того, что пьянство является злом, губит человека, и чем дальше человек заходит на пути этого порока, тем более он попадает в рабство, освободиться из которого очень сложно.
— А может быть и нельзя уже? — спросил один из слушателей.
— Пока человек жив, для него нет ничего невозможного. Но сам он не может освободиться от порока, потому что своя воля его уже очень слаба. И сегодня есть немало различных организаций, призывающих человека, отказаться от своей воли, говоря, что тогда он освободиться от алкогольной зависимости. И человек иногда действительно освобождается от этой зависимости, но попадает в еще более страшную зависимость от оккультной секты, в которую он пришел. Это тот случай, когда лучше бы ему было продолжать пить, когда более страшные грехи замещают собой более легкие.
— Так значит можно все же пить? — с надеждой спросила Клара.
— Апостол Павел четко написал, что пьяницы Царства Божия не наследуют, — ответил священник. — Если есть зависимость, то необходимо с ней бороться. Но в этой борьбе хороши далеко не все средства.
— А само по себе вино — зло? — спросил его Степка.
— Конечно, нет, — сказал отец Аристарх. — Но оно становится злом для того, кто болен, также как сахар может стать злом для больного диабетом. Есть редкие болезни, при которых даже есть хлеб опасно для жизни больного.
— А как определить: болен я или нет? — поинтересовался бомжеватого вида мужичок с синим лицом, опухшим настолько, что даже глаза почти не было видно.
Все засмеялись. Но архимандрит даже не улыбнулся и невозмутимо ответил:
— Наша наркология диагностирует разные степени алкогольной болезни. На Западе некоторые считают, что человек сам для себя определяет — болен он или нет. Я склонился бы ко второму варианту, но с одной поправкой: человек определяет для себя сам только до того, как у него появляется букет симптомов, позволяющих поставить официальный диагноз. На мой взгляд, если хотя бы раз человек делал под влиянием спиртного то, от чего ему потом было стыдно, то это уже достаточно серьезный повод, чтобы больше не выпивать.
— Так это значит, что никому из нас нельзя пить? — грустно спросила Роза.
— Можно, но только воду, — ответил ей Николай.
— Да ну тебя, я серьезно!
— И я серьезно!
— Он в определенной мере прав, — сказал архимандрит. — Из тех, кто собрался здесь, от спиртного стоит отказаться всем.
Они говорили в этот раз очень долго. Священника засыпали самыми разными вопросами. Однажды с ним не согласился даже Григорий Александрович. Это было, когда отец Аристарх сказал, что нельзя давать спиртное больным алкоголизмом ни при каких ситуациях.
— А вот здесь я поспорю, — заявил профессор. — Я знал одного человека, который умер от того, что не опохмелился. У меня у самого однажды начинался инсульт после запоя: казалось, что мозг в голове сейчас взорвется. Я выпил около ста пятидесяти граммов водки, и все обошлось. И я знал многих людей, которые потом перестали пить, но они с благодарностью вспоминают тех, кто давал им спиртное, когда им было плохо!
— Так они вспоминают с благодарностью доброе отношение к себе, а не само спиртное!
— И то, и другое!
Под конец Степка спросил еще священника, есть ли жизнь на Марсе, что вызвало новый взрыв хохота.
— Спроси у зеленых человечков, когда у тебя будет очередная «белочка», — посоветовала ему Роза.
Но отец Аристарх сохранил серьезность.
— Здесь нужно иметь рассудительность. Мы знаем, что есть созданные Богом существа помимо людей, которые являются добрыми, и есть, которые являются злыми. Зла Бог не создавал, оно явилось следствием свободного выбора сначала этих существ, а потом и человека. Подробно мы о них ничего не знаем, в том числе, где кто из них живет, да это нам и не нужно. Потому что страшно для человека в дни его земной жизни видеть этот мир и знать о нем.
Чувствовалось, что архимандрит хорошо понимает, о чем говорит. Тем более, что большинство собравшихся пережили алкогольные психозы, и шутить на эту тему были не настроены.
… Когда собрание закончилось, Николай возбужденно подбежал к священнику:
— Мне, кажется, что многое в жизни всех этих людей изменится!
— Поживем — увидим, — улыбнулся тот.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Город Большой
Лузервиль, наконец, переименовали в город Большой. На торжества в связи с переименованием приехал Борис Павлович Большов из администрации Президента России. Были губернатор, многие московские и местные чиновники. Губернатор перед началом торжественной части ткнул Бориса Павловича в бок и беззлобно усмехнулся: «Что, в честь себя переименовал? Иди, расскажи об этом горожанам!»
Но жители были довольны. И когда чиновник сказал им, что название «Большой» символизирует большое будущее, которое есть у их города, они ему поверили.
Город действительно менялся на глазах. Почему‑то один за другим гибли или покидали его те, кто был когда‑то собран сэром Джоном. А каждый из них самой своей жизнью отравлял все вокруг себя, соприкасаясь при этом со многими людьми. Поэтому чем меньше их оставалось, тем легче становилось жить в городе.
Все больше становилось прихожан в местных храмах. Общество трезвости начало приносить реальные плоды: хотя пьяниц осталось еще немало, но в городе фактически совсем исчезла «пьяная» преступность. «Это тоже неплохой результат нашей работы!» — оптимистично заявлял бывший Бухарик, и все с ним соглашались.
Отец Аристарх на праздничных торжествах подвел к архимандриту Петру Григория Александровича и, к удивлению обоих, попросил, чтобы, когда он умрет, тот убедил архиерея рукоположить профессора в священники для служения в интернате.
— Да я не против Григория Александровича, но ты‑то чего умирать собрался? — удивился настоятель.
— На самом деле, живи подольше, да и какой я священник? — поддержал его профессор.
Но архимандрит Аристарх настойчиво требовал обещания, когда же оба уклончиво сказали «посмотрим», сокрушенно покачал головой и устало прошептал: «Своевольники!»
Священник чувствовал, что впереди его ждет еще одна встреча с сэром Джоном, после которой он уже не останется в живых, и ему хотелось передать свою паству тому, кому доверял. А почему‑то доверял отец Аристарх больше всех Григорию Александровичу…
А лорд Эктон также готовился к этой встрече со священником, на которой должна была решиться их судьба…
Последняя поездка в Россию
Сэр Джон поехал в Россию в этот раз один. Он чувствовал, что больше уже не увидит никого из тех, кто оставался рядом с ним в этот последний год. Вскоре после его отъезда, Элизабет сильно повздорила с Зоей Георгиевной и проткнула ей сердце ритуальным индийским кинжалом. Петр увидел Лиз в момент, когда она умывалась кровью поверженной соперницы.
— Это очень молодит, — как ни в чем не бывало, улыбнулась ему Элизабет.
Юрист вдруг увидел ее хищной гарпией или сиреной, какой она являлась до того лишь в его воображении, и в ужасе побежал прятаться. А та сразу поняла, в чем дело, и как это можно использовать. Вскоре лондонская полиция задержала Петра, как сумасшедшего, из‑за возникших у него видений убившего свою соотечественницу, в прошлом заместителя министра. Его поместили в специализированную психиатрическую клинику, режим в которой ничем не отличался от тюремного, за исключением того, что над ее обитателями могли издеваться еще более безнаказанно.
А Элизабет и правда, как будто бы стала моложе. Она выправила новые документы, по которым ей было двадцать лет, и вышла замуж за русского олигарха, надеясь с помощью его денег дать вторую жизнь тайному обществу «Наследники Ост — Индской компании». Сэра Джона она считала уже списанным со счетов.
А лорд тем временем приехал в город, который теперь назывался не Лузервиль, а Большой. Англичанин выглядел очень старым; его не узнал бы никто из тех, кто видел его здесь ранее. Сэр Эктон чувствовал, что решается самое важное и для него, и для отца Аристарха. Ему хотелось увидеть Григория, но он отказался от этой мысли. Огромная волна энергии, которая сейчас витала вокруг него, уничтожала все, к чему прикасалось. А лорду хотелось, чтобы тот, кто стал ему почти другом, еще пожил. И по приезде он сразу направился к отцу Аристарху.
Сэр Джон и отец Аристарх
… Отец Аристарх стоял один в домовом храме. Многое изменилось в этом городе, где ему пришлось пережить столько плохого и столько радостного, увидеть духовное перерождение многих людей. Священник чувствовал, что его земная жизнь подходит к концу. Но оставался еще один человек на земле, которому он был необходим для того, чтобы тот смог сделать последний выбор, на который сам не имел сил. Архимандрит встал на колени перед алтарем и стал молиться за сэра Джона. В этот момент лорд вошел в храм…
Увидев его, священник тяжело поднялся:
— Я ждал тебя, — сказал он.
— Мы не могли избежать этой встречи, — подтвердил Эктон. — Но уверен ли ты, что тебе по силам та борьба, в которую ты ввязался?
— Мне? Конечно, нет, — просто ответил отец Аристарх. — Но Господу нашему Иисусу Христу по силам все!
И он властно перекрестил сэра Джона. В этот момент темный дух отошел от лорда; тот сразу еще постарел. Казалось, что уже ничто не держит его больше на земле. Но теперь его удерживала иная сила, противоположная той, которой он до этого служил. Эта сила терзала Эктона; он остро вспомнил все те годы, когда был христианином и священником. Не в силах выдержать внутренних мучений, англичанин выбежал из храма, для того, чтобы через несколько часов вновь придти к отцу Аристарху, уже лежащему в одной из больничных палат интерната.
А священник в момент, когда темный дух покинул лорда Эктона, почувствовал страшную боль в голове, как будто в ней что‑то взорвалось. Пришедший через полчаса зачем‑то в домовый храм Валерий Петрович увидел архимандрита лежащим на полу без сознания. Вызванный им врач диагностировал инсульт. Отца Аристарха хотели отвезти в больницу, но он распорядился, чтобы его оставили в одной из палат интерната.
— На свете есть более важные вещи, чем жизнь или смерть физического тела, — сказал он Валерию Петровичу. — У меня осталось последнее дело на земле, я должен успеть его выполнить, не мешай мне.
Директор интерната беспрекословно ему подчинился. Его положили в отдельную палату, хотели поставить капельницу. Но священник потребовал, чтобы ограничились уколами, после чего все должны немедленно уйти. Ему предстояла последняя встреча с сэром Джоном, и он не хотел, чтобы кто‑то из случайных свидетелей этой встречи погиб или сошел с ума.
Конец и начало
… Сэр Джон стоял возле постели разбитого инсультом, но еще сохранившего способности говорить и двигаться отца Аристарха. Теперь лорд выглядел уже лет на восемьдесят. Страшная борьба шла в его душе.
— Так ты думаешь, что и для меня есть возможность покаяния? — спросил он священника.
— Ты сам знаешь, что есть, — с трудом ответил тот.
— Как для того разбойника на кресте?
— Он был лучше, — с трудом улыбнулся архимандрит. — Но в целом — да.
— И ты не боишься принять мое покаяние?
— Мне уже поздно бояться, — сказал священник. — Мне осталось жить совсем недолго.
— Я должен каяться? — спросил лорд.
— Это ты должен решить.
И гордый англичанин вдруг преклонил колени, и начал рассказывать отцу Аристарху все то, что совершил злого в своей жизни. Казалось, что недели не хватит на то, чтобы все рассказать, но ему хватило часа.
— Что теперь? — спросил он.
— Не знаю, могу ли я прочитать разрешительную молитву. Существует чин присоединения протестантов к православию, — задумчиво сказал он. — Но ведь ты не совсем тот человек, который крестился в Англии сотни лет назад. Я думаю, что крещу тебя со словами «если не крещен».
Они с трудом дошли до больничного храма. Священник сам приготовил все необходимое для крещения. Каждое движение было для него мучительно, казалось, что все сейчас взорвется в его голове и в груди, страшная боль пронзала спину под левой лопаткой, в глазах темнело, но он перебарывал себя. А лорд тем временем сам наполнил водой купель. Джон вдруг понял, почему был прощен разбойник, на кресте исповедавший Христа Господом, и почему он первый пошел за Ним в рай. За свои злодеяния тот преступник уже нес наказание — мучительную, долгую и позорную смерть. Но пока он был еще жив для него, как и для второго, распятого с ними разбойника, оставалась возможность последнего выбора. И один использовал остатки своих жизненных сил на богохульства, а другой, чтобы покаяться и обратиться к Христу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство». И еще Джон понял, почему в Библии говорится о том, что у Бога один день, как тысяча лет и тысяча лет, как один день. Все внутри его разрывалось в это время. За какие‑то минуты он пережил такие бесконечные мучения, что Джону казалось, что в эти часы он испытывает всю ту боль, все те страдания, которые он причинил другим за века своего существования; порой он думал, что прошли века с того момента, как он вошел в храм, и вновь им прожито много жизней, но уже совсем иных… Его боль была тысячекратно большей, чем та, которую испытывал священник, но Джон все терпел.
Отец Аристарх крестил его с именем Иоанн, затем миропомазал. Когда таинство закончилось, архимандрит вдруг упал замертво. Обширный инфаркт и новый инсульт закончили его земную жизнь. А рядом с ним упал тот, кто долгое время был сэром Джоном, а сейчас стал просто Иоанном.
В этот момент над городом загремел гром; молния ударила в бывший дом Скотниковой. Занялся пожар, в котором дотла сгорел храм, посвященный Кали.
Когда через час в храм вошли Григорий Александрович с Валерием Петровичем, они увидели мертвого священника, с сияющим неземным светом лицом. Рядом с ним лежала мумия, которой, как определил навскидку всезнающий Григорий, было около трехсот лет. Черты лица мумии напомнили ему лорда Эктона, но у мумии было то, что не было у того, кого знал профессор — умиротворение на лице.
… Архимандрит Аристарх и Иоанн стояли около своих тел и смотрели, как осматривают их Григорий с Валерием.
— Неужели это я? — с удивлением указал на мумию Иоанн.
— Нет, это даже не то, каким ты был. Ты был намного хуже, — мягко сказал священник. — Но все это уже в прошлом. Господь простил тебя. Пойдем!
— Куда? — спросил Иоанн, и все существо его души наполнилось благоговейным трепетом, потому что ответ он знал.
— Ко Христу. Он ждет нас.
1
Город вымышленный (прим. авт.)
(обратно)





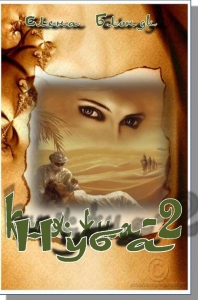
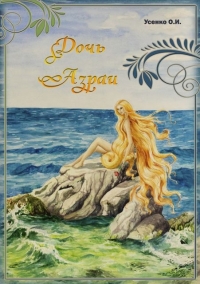
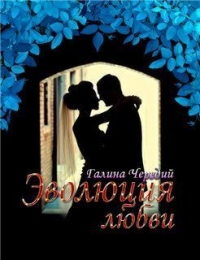

Комментарии к книге «Наследники Ост-Индской компании», Алексей Александрович Федотов
Всего 0 комментариев