Четыре
Иоанн
Вы имеете право хранить молчание.
Народная мудрость.Собственно, это всё.
Это всё, я имею в виду, что я хотел сказать.
Я имею в виду, это всё, что я хотел бы сказать, если бы хотел сказать что–нибудь. Что–нибудь сказать необходимо, я имею в виду, необходимо, чтобы поняли, что ты хотел что–то сказать. Кто понял? Ну, те, кто хотели, просили меня что–то объяснить, рассказать, как было дело, или, может быть, напротив, не просили, не хотели, но я же не знал об этом, они же не сказали прямо, а я почувствовал, что надо что–то сказать, хотя бы для того, чтобы не молчать, для того, хотя бы, чтобы узнать, что я ещё существую, а следовательно, мыслю и могу что–нибудь сказать, даже если меня и не просили, не хотели, чтобы я вообще открывал рот. Вот как? Они же хотели, чтобы я рассказал, или, может быть, сказал раз, или ещё что–то в этом духе, я не помню, это было уже довольно давно. Они же сами говорили, правда, довольно давно и не часто это бывало, но я точно помню, что должен был или хотел что–то рассказать, объяснить… зачем же им это было? Я имею в виду, зачем им это было нужно, они и так прекрасно всё знали, а если не знали, то зачем им было нужно это узнать?
Собственно, я могу рассказать, я хочу рассказать, я только не знаю точно, то ли, о чём меня просили, или хотели, если понимали, что я имею в виду (я не понимаю). Я могу рассказать, или объяснить, даже не зная точно, о чём меня просили, и просили ли вообще, и даже не зная точно, о чём. Пересиливая себя, я даже могу начать прямо сейчас, но я не уверен, время ли теперь для этого, потому что говорить, или объяснять, или рассказывать легче ночью, когда все спят, но когда все спят, никто же ничего не слышит и не хочет рассказов и объяснений даже о самом интересном, самом важном, может быть, о том, о чём просили днём, о чём угодно можно было днём, а ночью — только о себе самом, я понимаю, мне жаль открывать рот и трубить им в уши даже о том, о чём они хотели слышать, и тем более о том, о чём не хотели, понимая, что я имею в виду.
Я имею в виду, собственно, что ночью рассказывать неловко, несподручно, даже если попросили, потому что ночью происходит тишина, а она так редко происходит (каждую ночь), я не хочу отнимать у неё время, которого и без того мало, я сам хочу быть тихим, тишайшим, шёпотом даже не отнимать время (она так занята), чтобы когда–нибудь, очень–очень нескоро занять свое место в тихом ночном саду вместе с ними и вместо того, чтобы рассказывать, слушать, слушать, слушать–слушать, да и тихо засыпать, чтобы наутро просыпаться в саду, в котором ещё тихо, но уже немножко шумно, потому что начали рассказывать садовые деревья и кустарники, кто как спал и как провёл ночь, потому что начинается новый день и можно, наконец, тоже начать что–нибудь рассказывать.
Да, так вот, день. Но днем рассказывать что–нибудь совсем невозможно, потому что для этого–то он и предназначен, чтобы рассказывать, и все рассказывают, и никто никого не слушает. Но разве нужно, чтобы кто–то слушал? Я не подумал об этом, я не подумал об этом с самого начала, а теперь, боюсь, как бы не было уже поздно, что кто–то уже приготовился слушать, внимать мне (или вынимать?), а я ещё не подумал даже, хочу ли я этого, я уже это вижу, а больше, может, никто ещё не видит, и я не могу в такой обстановке, ничего не могу, ничего. Я, впрочем, выше уже обращал внимание, что днём всё это совсем невозможно, это меня утешает — невозможно, значит не нужно, возможно, именно это нам — мне и им — и нужно, именно это нас и утешает, и боль утишает, и красноту снимает, как рукой, и позволяет дожить до ночи, когда происходит тишина.
Впрочем, я уже обращал внимание и ниже, но там совсем ничего нет, совсем. Я обращал внимание и совсем–совсем низко, низенько–низенько, низёхонько, впрочем, об этом я тоже расскажу когда–нибудь потом, хотя и там тоже нет совсем ничего. Зачем же я всё обещаю, обещаю и ничего не рассказываю? Ну, я же объяснил — я могу рассказать, я хочу рассказать, я только не знаю точно, я не уверен, что действительно хочу. Хочу и действительно хочу — это же совсем разные вещи, совершенно разные, как член и действительный член, вы же чувствуете разницу, вы же понимаете, что я имею в виду.
Да и разве вам действительно интересно, расскажу я что–то или нет, ведь всё давно уже рассказано, объяснено, мы уже давно друг другу ничего не рассказываем, мы лишь напоминаем друг другу, где было рассказано о том, а где — об этом: «Помнишь?» — «А ты помнишь?». Ведь это продолжается уже довольно давно, может быть, всегда. Может быть, так и было всегда, с тех пор, как Отец последний раз рассказал нам что–то, я не помню точно, что, но что–то очень важное, чего–то нельзя было делать, а может быть, можно, но мы неправильно сделали это, совершенно неправильно. Ведь он выгнал нас не за то, не потому, что пожалел чего–то для нас, нет, ему не было жалко ничего — совсем ничего, я имею в виду, — а потому, что мы (я и они) захотели узнать, и он пожалел нас, и дал нам узнать, он не стал нам больше ничего рассказывать, он выгнал нас, чтобы мы всё узнали сами, так пожалел. Может быть, он не хотел, чтобы мы знали? Что знали? Ну, так, вообще ничего, не хотел, чтобы мы даже стремились к этому. Да, наверное. Наверное, так и было, может быть, он рассчитывал на нас в каком–то другом деле, или духе, а мы его обманули, не нарочно, конечно, нечаянно, могло же так быть. Возможно, ему нужно было нам раньше рассказать, в каком именно деле или духе он на нас рассчитывал, а он не успел, задержался с чем–то, ведь дел у него — о–го–го — сколько дел у него тогда было, да и сейчас, наверно, не меньше? Сейчас, наверно, больше, он же наш Отец, хоть и выгнал нас.
Но ведь он же нас простил, их и меня, потом, позже? мне кажется, именно так и надо понимать то, как всё потом сложилось, но только всё это сложилось гораздо позже, гораздо позже. А до того, как это сложилось, он многих из нас (их и меня) убил, такие дела, очень многих, всех. Нет, нет, не всех, совсем не всех, а только, действительно, очень многих, но не всех, он пожалел нас. Нас — это меня и тех, кто просил о чём–то рассказать? Да. Ведь именно это он и рассказал, я же обращал внимание выше. Но может быть, он пожалел тех, кто уже не так сильно хотел узнать, не так сильно стремился это сделать? А те, многие из нас, кого он убил, стремились это сделать слишком сильно? Нет, в таком случае: откуда бы взялись те, кто хотел, чтобы я что–то там такое рассказал, или объяснил, для этого ведь нужно хотеть, стремиться знать о чём–то и, наверно, довольно сильно стремиться — ведь нужно проснуться, напрячь память, вспомнить, зачем, собственно, всё это было нужно, прочистить уши, чтобы я мог трубить им в них беспрепятственно, это же всё очень обременительно, правда, ведь подобное не делают просто так.
Мне кажется, — я повторяю, — кажется, что я понимаю и могу рассказать, объяснить, как было дело. Был теплый день, нет, утро, весеннее, это же должно было быть весеннее утро, все такие дела делаются весенним утром, по крайней мере, затеваются. Кажется, что тепло, и в самом деле тепло, пока не подует ветерок, не прилетит из стран неведомых, неназываемых, не заберётся холодным скальпелем не пройдется по хребту, не напомнит, что нельзя расслабляться в тёплое весеннее утро, в котором затеваются такие дела. Отец был очень занят, он вспоминал, он решил именно этим утром вспомнить точно, в чём же он на нас рассчитывал и что собирался поручить нам — мне и им, тем, кто потом, гораздо позже, просил меня рассказать об этом, или, может быть, я как–нибудь перепутал, или не понял их, и они просили, умоляли меня не рассказывать, даже не раскрывать рот. И он уже совсем вспомнил и уже совсем решил положиться на нас, и в этот момент мы взяли и нашалили, я никак не могу точно вспомнить в это тёплое весеннее утро, мы что–то там стащили, нам захотелось посмотреть, что это такое, нам вдруг захотелось узнать. И мы нашкодили, нам мало показалось узнать, хотя и этого–то, наверно, не надо было делать, и мы совсем всё испортили, совсем. И Отец понял, что если уж и в этом на нас положиться нельзя, в такой малости, то нечего и думать что–то нам поручать такое, что–то важное, мы точно так же возьмём и обкакаемся, и всё испортим в самый решающий момент, может быть, даже и в какое–нибудь другое теплое весеннее утро. Он, наверно, почувствовал себя очень одиноким тогда, наш Отец: — «Всё сам, ну, всё сам», — вот так он сказал тогда, наверно.
А я знаю, вернее, мне кажется, что знаю, откуда тогда, в то утро, дул этот мерзкий, сволочной ветерок, от которого ни спрятаться, и ни укрыться, и солнце не спасает, ибо исходит он со стороны, противоположной солнцу, и не достигает оно тех мест, которых достигает он. У него же, я имею в виду, у Отца, был же один опыт, до нас, задолго до нас. Кто–то ведь уже был, это было задолго до нас, я не помню точно, мне рассказывали, но я почти забыл, короче, кто–то уже был, на кого он рассчитывал, даже, может быть, больше чем на нас, наверное, больше. И он как раз тоже собирался что–то ему поручить, что–то важное, что–то, может быть, такое, от чего зависело всё — и тоже что–то там произошло, что–то плохое, мне даже больно думать, что. Бедный, бедный наш Отец, он ведь нас пожалел, хотя и убил многих из нас, почти всех, кроме, может быть, тех, кто уже не так сильно хотел что–либо знать и тем более рассказывать об этом. Я повторяю, мне кажется, кажется, что я понимаю и могу объяснить это — на какое–то время он вообще изверился в тех, кто хочет что–либо знать, кто стремится к этому слишком сильно. Мне страшно даже подумать об этом, но я всё равно скажу — мне кажется, он совсем немного, на одну минутку испугался, что и мы попытаемся сделать что–то плохое, то, что уже было когда–то, задолго до нас, а ведь он же наш Отец и он хотел остаться им, хотя это, конечно, мои домыслы. Да я знаю, но я, кажется, когда–то, очень давно уже говорил им, объяснял, что это попытка познать непознаваемое, что она может быть и безнадёжна, но при этом всё равно ценна эстетически. Но они не слушали меня, они даже не поняли, о чём я, и, кажется, продолжают спрашивать до сих пор о том же самом, если я правильно понимаю, что они имеют в виду.
Ну, вот. Но потом он всё–таки пожалел нас, меня и вообще тех, кто выжил, и даже подарил… там… кое–что, неважно, что, — всё равно, никто из нас так его и не поблагодарил за это, несмотря на то, что он всё–таки нас пожалел, никто, даже те, кто выжил. Когда он нас выгнал, не дав никаких поручений, а просто так — он был очень огорчён, он никак не мог забыть тот, прошлый раз — ну, я когда–то говорил об этом, очень давно, только что — он надеялся, что уже забыл, что никогда не вспомнит об этом, и вот — на тебе — мы взяли и нашкодили, и он был очень зол на нас и вообще на всё на свете. Но нам — и мне, и им, и тем, кто просил рассказать, или не просил, не важно, — понадобилась одна вещь, потому что, как мы остались без поручения, так без неё нам уж было никак нельзя, её нам было нечем заменить. И он нас тогда в первый раз немножко пожалел, сразу же, может быть, потому, что ничего другого и не оставалось, и разрешил нам, и дал свободу самим придумывать себе поручения, или не придумывать, как кому больше нравилось. Да? вы понимаете: что–то уж одно — или свобода, или смысл (это он так называл — «смысл», если я правильно понимаю, что он имел тогда в виду). Ну, хоть что–то же должно было быть, не может же быть, чтобы не было ничего.
Ну, вот. Это очень грустная история. Грустная оттого, что, в сущности, мы можем теперь заниматься тем, чем нам хочется, говорить все эти слова, строить свои дома, безобразничать всячески, замерзать зимой и согреваться в тёплое весеннее утро, придумывать себе и друг другу разные поручения, иногда, чтобы был смысл, а иногда, чтобы его не было, совершать подвиги, рассказывать о них друг другу и гордиться ими, пока Отец наш никак не решит, что же с нами делать. А мы, я знаю, в глубине души никак не можем избавиться от тайной обиды на него, хотя старательно представляем дело так, что мы раскаялись и вообще очень его любим и будем слушаться. Мне кажется, мы всё время немного лжём, выдаём желаемое за действительное; мы прячем обиду глубоко внутри и не можем от неё избавиться, потому что не можем ни понять его, ни пожалеть, просто не смеем. Есть что–то неверное в этом положении; наверно, это происходит оттого, что Отец наш никак не решит, что с нами делать, и захочет ли он предпринять ещё одну попытку?
…А потом уже всё начало складываться так, как начало складываться потом. Уже гораздо позже, когда всё уже сложилось, как складываются наши непрочные дома от страха перед сонным ворчанием того, кто был прежде нас и кто попытался сделать то, плохое, и, наверно, пытается сделать это до сих пор, ведь он, наверно, даже не знает, что у него ничего не получилось, он же, наверно, так ничего об этом не знает. И мы придумали сами себе и друг другу, как у кого сложилось, поручения, и начали всячески безобразничать, и строить дома, которые потом все сложились, а мы уже выехали из них, все–все, кроме тех, кто не успел, и построили новые, ещё лучше, хотя, мне кажется, что если бы мы на минутку перестали при этом безобразничать, то, может быть, у нас всё получалось бы как–то по–другому, и они перестали бы складываться, как картонные. А они и были картонные, разве это непонятно? Теперь понятно, теперь мне даже кажется, что в этом, может быть, и было главное безобразие, которое нам удалось сделать. Но зато нам уже не нужно было так далеко ходить и просить горы, чтобы они пали на нас и скрыли нас от взора бедного Отца нашего, это теперь с успехом могли делать наши картонные дома, понимаете, так что (он так и говорил) все к лучшему, всё складывается неплохо, это мы потом и сами поняли.
И вот о чем я подумал: тогда, помните, когда тот, кто был до нас, кто теперь ворочается во сне и пугает наши картонные дома, так что они складываются и скрывают нас от взора нашего бедного Отца, даже если он и не думал обращать его к нам — у него ведь и без нас так много дел, он ведь наш Отец, хоть и выгнал нас, даже если мы и не хотели, и не думали в данную минуту об этом, а просто понемножку продолжали безобразничать, ну, просто, чтобы не забыть, как это делается, — когда он, кто был до нас, ворочается во сне, в своих неведомых, неназываемых странах, и даже, может быть, не знает, что ничего у него не получилось, не сложилось так, как он хотел, ради чего он и сделал, или, может быть, только попытался сделать то, плохое, о чем мне даже больно и думать — так что же это было, такое плохое? Я имею в виду, что же это было такое плохое, чего даже мы, безобразничая так долго и даже достигнув мастерства в строительстве самоскладывающихся картонных домов для укрытия от взора Отца нашего, наверное, так ещё и не смогли сделать, а если всё и дальше будет складываться к лучшему, как он тогда говорил, рассказывал нам, то и не сможем ещё, по крайней мере, какое–то время, а если совсем повезёт — то и никогда не сможем.
Я думаю, знаете? — то, плохое, что он, может быть, хотел сделать, может быть, это что–то такое, чтобы самому стать нашим Отцом? И конечно, я понимаю нашего Отца, того, настоящего, или мне кажется, что понимаю, конечно, это не могло ему понравиться, кому бы из нас могло понравиться такое (хотя я не сравниваю), он же любил нас, хоть и выгнал, а впоследствии убил почти всех, он же наш Отец, настоящий. А так ведь ему же пришлось бы стать нашим Дедушкой, или ещё чем–нибудь в этом роде или духе, о чем даже подумать страшно. Да, но ведь тогда получается так, что тот, кто спит теперь в неведомых, неназываемых странах, и чьё дыхание долетает к нам пронизывающим нас снизу, и сбоку, и вообще со всех сторон весенним ветром, от которого нельзя спрятаться и укрыться, и солнце не спасает, ибо не достигает тех мест, ведь складывается так, что он тоже, что ли, нас любил? иначе зачем же ему нужно было делать такие плохие вещи и сердить Отца, он же знал, что тот рассердится, ведь знал? Не знаю… или мне кажется, что не знаю, наверное, любил, но странною любовью, какой–то не такой, наверно, иначе зачем же делать плохие вещи? Какой–то у него, наверно, был расчёт, как и у Отца нашего, я имею в виду, настоящего, помните? Наверно, он просто тоже хотел нам что–то поручить, а наш бедный Отец мешал ему поручить нам это, вот и всё… Я не знаю, или мне кажется, что не знаю.
Во всяком случае, мне кажется, что этого всё же не случилось, но так, или иначе, Отец нас выгнал, когда мы нашалили, он просто не мог уже терпеть этого дальше, бесконечного повторения одного и того же. Но мы же не собирались делать больше ничего плохого, ведь нет? мы же, например, не могли стать отцами сами себе, все вместе, ведь это же глупость? Не знаю, может быть, он уже не знал, чего от нас ждать, может быть, он просто не захотел рисковать. А потом уже у него и не было времени, ему же пришлось нас убивать, каждого по отдельности и всех вместе, почти всех, мы же сильно безобразничали, в перерывах между строительством картонных домов, — это же была большая работа, требовавшая много сил и времени, там уже нельзя было отвлекаться. А как он нас убил? Ну, кого — как, я же говорю, рассказываю — это была большая работа. Но всё–таки? Ну… многих сжёг, многих разорвал дикими зверьми, такие у него были дикие, многих уморил голодом, многих болезнями, многих… словом, кого — как, по–разному, а потом, в конце концов, большую часть утопил, в воде, это оказалось проще всего. Откуда же взялось столько воды? Не знаю, но он же часто плакал, наш бедный Отец, он же был сильно огорчён. И кроме того, это же была очень трудная работа, и он сильно уставал.
А потом он придумал научить делать эту работу нас самих, это была блестящая мысль, сэкономила ему массу сил и времени. Ну, не то, чтобы совсем научить, я думаю, мы и сами это умели, только не знали об этом. У нас это хорошо получалось, очень хорошо. Может быть, это и было то самое, что он хотел нам поручить, наш бедный Отец, но забыл об этом? Я не знаю… или мне кажется, что не знаю…
…Нет… мне кажется, все–таки… а может… нет. Нет. Иначе зачем было оставлять даже и тех, кто не слишком стремился знать, ведь в этом случае, при таком раскладе, это было уже всё равно. Нет, это он, тот, кто был прежде нас, это его была идея, это он хотел нам всё рассказать, чтобы мы узнали, что именно мы умеем так хорошо делать, нет, он не любил нас, совсем, он хотел стать нашим Отцом и сделать нашего Отца Дедушкой, и дать нам поручение, чтобы мы всё сделали хорошо и убили друг друга сами, он хотел быть единственным, понимаете? И пусть теперь он спит в странах неназываемых, неведомых, мы (я и они) не хотим ему мстить, но пусть он спит там, где он спит, куда положил его спать Отец, пусть он там спит, ведь это он так напугал нашего (и своего) Отца, бедный Отец, он так напугал его, что тот решил выгнать нас всех, а ведь он любил нас, он единственный, кто любил нас по–настоящему. А теперь мы разлучены и мы скучаем по нему — те, кто выжил, — пусть мы не поблагодарили его ни за что, но мы скучаем, и ему, Отцу, может быть, ему тоже скучно без нас, он ведь никак не может решить, что с нами делать, мы не будем мстить, но тот, тот пусть спит, ладно?
Но ведь, в конце концов, так и сложилось? Как сложилось? Так, как тот хотел, прежде чем пойти спать. Ну, не совсем, так нельзя сказать, это неправда. Почему неправда? Все разлучены, и мы продолжаем убивать друг друга, мы это умеем делать очень хорошо, а Отец за это продолжает убивать нас, он тоже хорошо умеет это делать, несмотря на препятствия в виде наших картонных домов, такие дела. Ну, хорошо, может быть что–то, совсем немного из этого правда, но тот всё равно пусть спит, пожалуйста, пусть спит, пожалуйста.
Кроме того, ведь тех, кого убил наш бедный Отец, и кого убили мы сами, потому что умеем это делать хорошо, ведь он взял их обратно к себе, так что вроде бы ничего и не произошло, так, эпизод. Ну, боюсь, что всё же не всех. Почему, а кого же тогда, и кто решал, кого именно? Он же и решал, разве непонятно, там было много нас всех, и кому–то было просто некуда больше деться, совсем, и ничего другого не осталось, и он их пожалел, и взял обратно, к себе. Так зачем же всё это было нужно? Как зачем? за этим, за самым и было нужно, как же бы ещё они могли вернуться, а так все сложилось к лучшему, как он и говорил. Ну, хорошо, а куда, в таком случае, делись те, кому было куда деваться? И где они теперь? Я не знаю точно, я знал, но забыл, совсем, это было уже довольно давно, когда мне рассказывали об этом, я имею в виду. Я помню только что–то смутное, разводы какие–то и всё, и больше ничего не помню. Значит, получается, тем, которым было некуда деться, теперь, в конце концов, лучше, чем тем, кому деться было куда? Ну да, получается, вот же они и делись. Только я не уверен, что именно в конце концов, меня пугают эти слова, они смутно напоминают, что мне рассказывали тогда, довольно давно, да я позабыл и не хочу, чтобы что–то мне напоминало об этом. Ну хорошо, хорошо, забудем, не будем вспоминать, это ведь было так давно, теперь это уже не имеет значения, ведь он нас, меня и их, простил, ведь верно, ведь правильно?
Да, да, так всё и было, я плохо помню, это было уже довольно давно, он даже специально приходил к нам, только ему для этого сначала пришлось родиться, ему столько пришлось пережить, бедный, бедный Отец. Мне потом рассказывали об этом, чтобы я не забыл, и я не забыл, не забыл, только вот что–то плохо помню, я вообще многое делаю плохо. Ему пришлось родиться и долго жить, и никто же не знал, что он наш Отец, вернее, конечно, кто–то знал, кое–кто, но почему–то никому ничего не сказал об этом, а может быть, сказал, но мы ему почему–то не поверили. А я знаю, почему не поверили, это, наверное, тоже было теплым весенним утром, теплым весенним утром трудно взять и поверить в такие дела почему–то. Да, возможно, я не знаю, может быть. Но он, наверно, этого не понял сразу, ведь он нас так давно не видел близко, он, наверно, даже забыл, какие мы, по крайней мере, пока живые. И он много с нами разговаривал, он что–то нам хотел объяснить, или мы не поняли, и это он от нас хотел каких–то объяснений. Возможно, он просто хотел поздороваться, не знаю.
А мы тут опять совершили ужасную ошибку, ужасную, как–то так сложилось, что мы и его убили за что–то, сейчас я уже не помню за что, я спрашивал, но они тоже не помнят, ни один, даже из тех, кто выжил. Мы так привыкли хорошо делать то, что мы умели делать хорошо, правда, мы ещё умели хорошо безобразничать и хорошо строить картонные дома, но в тот момент это никому как–то не пришло в голову, мы же не знали, что он наш Отец. Но он на нас не обиделся, нет, он сначала только немного обиделся, а потом нет, ничего. Он даже побыл с нами какое–то время, когда мы уже всё поняли, кроме, может быть, того, в чем состояла наша ужасная ошибка, мы никак не могли этого понять, и, наверно, никогда не поймем. Он даже обещал вернуться и вообще — заходить. Я точно не помню, но ещё раз он обещал точно, только я не помню — это если мы будем себя хорошо вести, или наоборот. Он, наверно, сказал нам, но, возможно, мы не очень внимательно слушали, ведь мы были так рады, нам было всё равно тогда.
Так что никак нельзя говорить, я имею в виду, говорить так, что будто бы мы совсем разлучены, он же приходил к нам и обещал зайти потом, позже когда–нибудь. Ведь мы ждём его, мы только не знаем, должны ли мы хорошо себя вести, чтобы он пришёл скорее, или наоборот. И он, наш Отец, он же не просто так обещал прийти когда–нибудь позже, наверно ему тоже скучно без нас, как я обращал внимание выше, хоть немного, хоть чуточку, просто у него и без нас очень много дел. Я не совсем себе представляю, что он будет делать, когда придёт, я знаю, он говорил, но я плохо слушал, мы все его плохо слушали, мы были так рады тогда, и поэтому было немного шумно, как всегда бывает, когда мы чему–то рады; я надеюсь только, что он не начнёт опять нас убивать, он же всё–таки простил нас.
Хотя конечно, поскольку мы всё равно продолжаем всячески безобразничать, нельзя быть в этом уверенным, я имею в виду — уверенным действительно. Если бы мы тогда слушали лучше, наверное, можно было бы, а теперь никак нельзя, это теперь непознаваемо и интересно лишь эстетически. Ведь в случае чего, мы же, наверно, не сможем ничего сделать, кроме как просить сложиться наши картонные дома, ибо теперь даже горы слишком далеки от нас?
А может быть, я не утверждаю этого, но предполагаю, может быть, нам лучше перестать безобразничать, зачем нам это, собственно? Да, конечно, разумеется, само собой — всё равно у нас ничего из этого не получается, ведь это совсем не то, что нам хотели поручить, поэтому мы и не умеем этого делать, нас просто не научили, мы это сами придумали и, мне кажется, неудачно. Ну? Ну, так мы придумали это делать, но мы же не придумали, как это прекратить, нам просто не пришло это в голову тогда. А теперь? А теперь для того, чтобы придумать, нам же нужно перестать это делать, правильно? это же отнимает у нас уйму времени и сил, уйму сил и времени.
И кроме того, мы привыкли это делать, когда налетает весенний ветер, он трубит нам в уши, и мы слушаем его, не можем не слушать, он единственный может заставить нас слушать себя и днем и ночью, даже если мы не хотим его слушать и не слышим. Нет, он не велит нам безобразничать, этого же никто не предполагал поручать нам, даже тот, кто посылает ветер. Это мы уже делаем сами, между делом, не очень успешно, кстати — я ещё ни разу не слышал, чтобы кто–то достиг в этом успеха. Но мы привыкли это делать, это стало частью нашей жизни, мне кажется, мы никак не хотим придумать, как это прекратить, потому что боимся, что нам больше нечем будет заняться. Это неправда. Конечно неправда, но мы так думаем и мы этого боимся, разве не так?
И потом этот ветер, он не даёт нам покоя, он трубит в нас, как в трубы, он не любит нас, совсем, ему нравится забавляться и мучить нас. Но это продолжается так долго, что стало частью нашей жизни, ведь он, он был прежде нас и, наверно, будет после, хотя кем он будет забавляться тогда? Но это, в конце концов, его собственная забота, я совершенно не собираюсь за него переживать, мне совершенно на него наплевать, собственно, как и ему на меня и на всех нас, ему только нужны наши уши, чтобы трубить в них беспрепятственно. А зачем, зачем ему это нужно, для него–то какая в этом польза или выгода, в конце концов? Я думаю, или мне кажется, что я думаю, что это — его музыка, что это он так тянется к прекрасному, к гармонии, мы для него только инструменты, и может быть, он даже не знает, что мучит нас этим, для него это просто музыка. Он трубит нам в уши и нажимает пальцами, или что там у него для этого, чем он там нажимает нам на виски, чтобы мы издавали звуки, разные, сообразно тому, как он трубит и нажимает, из этих звуков для него складывается музыка, и он даже не знает, что из этого складывается для нас. А если бы знал? А если бы и знал — что ему за дело, его дело — музыка весеннего ветра, это очень непростое дело, но это его поручение, это ему поручили, и учили, и готовили к этому, много лет, всегда. И ему вообще нет до нас никакого дела, что мы мучимся под его пальцами и держимся за наши распухшие уши — ведь мы не слышим всей этой его музыки, ведь каждый из нас слышит только свой собственный мучительный крик.
Но я отвлёкся, я начал говорить об одном, а меня увлекло другое, похожее, но другое, и, влекомый этим другим, как ветром, который был прежде меня и прежде всех нас, я легко оставил то, прежнее, со мной это часто бывает, я уже обращал внимание. Мне показалось, что есть что–то более важное, более срочное, что надо немедленно обдумать, рассмотреть со всех сторон и точно определить для себя, чтобы потом ничего не забыть, хотя, по правде сказать, я же не знаю, понадобится ли мне это когда–нибудь, и вернее всего, что не понадобится никогда. То, что никогда не понадобится, всегда вернее, надёжнее, оно вас никогда не подведёт, оно не обманет, не понадобится. Мне кажется, что поэтому мы его так ценим, мы сделали это своим поручением, я имею в виду, что мы поручили это сами себе, или самих себя поручили этому, я сейчас уже не помню, это было довольно давно. Мы счастливы, когда нам удаётся сделать или найти что–то ещё, что не понадобится никогда, это требует способностей, таланта (я запомнил это слово, но не знаю, что оно означает), многие из нас достигли в этом настоящего мастерства и гордятся этим, наверно, справедливо. Мы счастливы поделиться этим друг с другом и несчастливы, когда нам это не удаётся почему–либо, не позволяют, не верят, что оно, точно, никогда и никому не понадобится; о, как мы тогда бываем несчастливы, несмотря на то, что делающее нас несчастливыми и вправду не понадобится никогда и не подведёт нас. Мне кажется, может быть, нам просто так не хватает надёжности и верности в этом неверном и ненадёжном мире, который произошёл после того, как наш Отец простил нас и обещал вернуться.
Да, да, так мы сильно радовались тогда и сильно шумели от радости, танцевали и всё такое. А потом мы устали, и успокоились, и заметили, что Его уже нет, и мы стали ждать, когда сбудется то, что Он обещал нам. И, чтобы скоротать время, расселились везде, и наследили землю, и всё, что в водах под землёй, и всё, что в небесах над землёю, все наследили. Но когда больше уже негде было следить и незачем, нам стало скучно, и мы стали следить друг за другом, и увидели, какие мы, и многим это не понравилось, совсем не понравилось. Мы заметили, что многое делаем плохо, неправильно, потому что нас этому не учили, не предполагали, что нам придётся это делать, рассчитывали на нас в каком–то совершенно другом деле. И ещё мы заметили — то, что мы делаем хорошо, всегда оборачивается так, чтобы вот хорошо друг друга убивать, и мы очень расстроились от этого, очень. И тогда многие стали просить нас следить друг за другом, чтобы никто никого не убил, а потом и просто стали нас заставлять это делать и заставляли строиться, и ходить друг за другом, потому что так было удобнее, гораздо удобнее, говорили они. Удобнее — что? Я думаю — или это мне только кажется? — я думаю, что, во–первых, наверное, так было удобнее следить за нами всеми, чтобы мы не разбредались, кто куда, и не чувствовали себя от этого одиноко, а во–вторых, наверно, так же удобнее убивать — тех, за кем следили, и кто чувствовал себя одиноко, потому что разбредался, кто куда, а потом и тех, кто следил, чтобы никому не было обидно, чтобы никто не мог потом пожаловаться, что к нему были невнимательны, и, действительно, никто не жаловался.
Нет, здесь что–то не так, не сходятся концы с концами, одно противоречит другому, зачем же нужно было следить за всеми, чтобы никто никого не убил, если потом убивать тех, за кем следили, а потом, вот, и тех, кто следил, в этом нет логики. Но никто и не говорил, что в этом есть логика, она, наверно, и не предусматривалась, просто не была нужна, а нужен был порядок, и всё. И потом ведь, кажется, я сказал, — там убивали (я что–то даже устал говорить это слово, а каково было всё это делать, это была большая, трудная работа, они очень уставали от неё, но всё равно продолжали её выполнять, потому что очень ответственно к ней относились), убивали не тех, кто убивал, а тех, кто разбредался, кто куда, чтобы они не чувствовали себя одиноко, и они не чувствовали, действительно, уже ничего. Вообще, это очень трудная работа и очень сложное дело, я не очень хорошо в этом разбираюсь — может быть, даже совсем ничего не понимаю, но судя по тому, как всё потом сложилось, дело было примерно так, а концы с концами, наверно, сойдутся в конце концов.
Ну вот, когда мы уже привыкли строиться, чтобы ходить друг за другом, когда мы уже перестали от этого расстраиваться, у нас появилось много времени и возможностей разговаривать и общаться друг с другом и даже с теми, кто за нами следил, хотя там были свои сложности, какие–то свои правила, я точно не помню, какие, вернее, я не успел точно узнать, они всё время менялись, мне кажется. И мы много общались друг с другом, и вместе, и поврозь, и попеременно, и старались поделиться друг с другом последним, что у нас оставалось, что не понадобится никогда, у нас его оставалось очень много, скорее всего, потому, что многие из нас достигли большого мастерства, так что у нас не было недостатка в этом, совершенно не было. Судя по тому, как всё сложилось потом, когда всё потом сложилось, был даже избыток, потому что всё было сделано на совесть, мастерски, и совершенно не надобилось, никому, даже тем, кто это сделал. Непонятно, да? Мне самому это всегда было непонятно, но я терпел, и терплю теперь, и буду терпеть впредь, пока это не станет понятно не только всем, но и мне самому, потому что тогда меня непременно попросят объяснить это.
Как попросили меня тогда, в одно теплое весеннее утро, в перерыве между попеременным общением друг с другом, дележом последнего, что осталось, совершенно не надобного никому, устроением всяческих безобразий, между возведением картонных домов, которые можно складывать и под которые можно складываться, чтобы скрыться от взора бедного Отца нашего, в зависимости от сложившихся обстоятельств, между распределением поручений и выполнением большой, трудной работы, от имени которой я так устал, в перерыве между всем этим, попросили объяснить, рассказать им, как было дело, я имею в виду, про то, что было, когда Отец ещё не прогнал нас от себя, и какие у него были планы относительно нас, и о том, кто был прежде нас, какая стояла в тот день погода, сколько было в тени и на солнце, вернее, в тех местах, куда оно достигало, и было ли это утро или вечер. Я ответствовал, что был вечер, и было утро, теплое весеннее утро, как и тогда, когда они спрашивали меня об этом. И ещё они спрашивали меня, за что Отец нас всех выгнал и как именно, каким способом он это сделал, и почему потом пожалел нас, и что там такое подарил, или даровал нам, за что мы так и не поблагодарили его. И что было потом, и как он простил нас, и как он обещал заходить, и когда, и что (предположительно) он собирался при этом делать, и что он вообще обещал нам, и обещал ли хоть что–нибудь. И они спрашивали и спрашивали меня, как будто я был единственный, кто знал об этом, кто присутствовал тогда при всём этом, кто лучше всех помнил обо всём и мог объяснить, — как будто они не знали всего этого сами и даже не догадывались; они спрашивали меня, а весенний ветер неведомых стран шевелил наши, их и мои, волосы.
Собственно, это всё, чего они хотели от меня — чтобы я рассказал им, как всё было, и объяснил, зачем было всё это, и они хотели, чтобы это всё было так, как они хотели, поэтому они и спрашивали меня. А я не помнил, чтобы на самом деле хоть что–нибудь было так, как хотели они или я сам, или я просто забыл? И я стал ждать ночи, потому что ночью удобнее, сподручнее, что ли, начинать рассказывать о том, чего они хотели, и чего не было на самом деле, потому что ночью происходит не только тишина, но и темнота (видите, я и об этом забыл), и не видно лица того, кто рассказывает, а заодно и лиц тех, кто слушает, это очень удобно, очень. И я ждал ночи, я долго ждал её, всю жизнь, как мне тогда казалось, я старался не забыть, о чём мне надо было рассказать и что было на самом деле, чтобы не забыть и не перепутать ничего. И мне показалось, что я занял место в тихом ночном саду и стал слушать, чтобы не пропустить, когда нужно начинать говорить; так я слушал слушал да потихоньку уснул, мне до сих пор стыдно вспоминать об этом. И я уснул, мне так было стыдно потом, и видел сон, о том, как наш Отец, как он пожалел нас и не бросил нас, как он дал нам свободу и право выбирать себе поручения, какое кому захочется, и другие права важные, такие важные, чтобы мы могли как–то жить дальше, это было уже после того, как он прогнал нас от себя, и незадолго до того, как он и мы сами начали убивать друг друга, хотя, — вдруг подумал я тогда, во сне, — такого права он ведь нам не давал.
И я не заметил, как наступил день, вернее, тёплое весеннее утро, и начали просыпаться садовые деревья, и рассказывать, как им спалось, и птицы, птицы, они начали сильно шуметь, они хотели есть, они не ели целую ночь и шумно требовали еды, и зашумела, зашептала трава, и кустарники, и все остальные, заговорили, как один, ведь он для того и предназначен — день.
И налетел ветер, и начал трубить нам в уши, беспрепятственно, и я заметил, что меня уже плохо слышно, некоторые ещё прислушиваются, напрягаясь, с трудом разбирая слова, а некоторые уже перестали и ушли, говорить свои собственные слова, рассказывая о чём–то своём, может быть, о том же.
Да, я знаю, я плохо рассказываю, я даже плохо помню, о чём, собственно, я должен был рассказать, я многое делаю плохо, я стараюсь вспомнить и рассказать, но у меня не получается, может быть, потому, что никто из них меня не слушает, ведь у них тоже многое не получается, например, слушать, когда им рассказывают. И кроме того, здесь немного шумно, и они, наверно, уже совсем не слышат меня, наверно, они даже не знают, что я пытаюсь что–то рассказать, объяснить им. Я только сейчас, гораздо позже, понял, зачем оно, это право, подаренное нам тогда, оно казалось нам совсем не нужным, даже опасным, и мы так и не поблагодарили за него, как, впрочем, ни за что не поблагодарили, мы были уже заняты тем, чтобы просто спасти свои жизни. Но теперь, хотя я многое делаю плохо и забываю, о чем меня просили рассказать, или, может быть, сказать раз, или ещё что–то в этом духе, или когда меня не слышат и не знают, что я пытаюсь рассказать что–то, я помню, что у меня есть это право — хранить молчание, у меня есть это последнее право, и никто, никто не смеет отнять его у меня.
Блюз
Если не опускать глаза, то ничего. Можно жить, ничего. Можно некоторое время населять эту часть земли, которую мы населяем, на ней все равно ничего нет, кроме нас. Кроме нас на ней ещё много лесов, полей, рек, всякого, покрывающего их, мусора, много всяких вещей, а больше, кроме нас, ничего. Говорят, это потому, что она наша родина, что она широка и обильна нами и что вся она наша родина, я сам не проверял, но так говорят. Насчёт лесов и полей я тоже не проверял, их не видно из–под мусора; говорят только, что их много, — и ведь в этом нет ничего невозможного, ничего, в самом деле, противоречащего законам природы и здравому смыслу, они, правда, сами часто противоречат один другому, только не любят, когда это делает кто–то другой, у них нет времени на дискуссии, споры, они очень заняты, очень, поглощены своими собственными противоречиями, оставим их, не нужно их трогать, и говорить про них нечего, и даже упоминать про них не нужно, и тогда ничего. Наверно, их все же довольно много: полей и лесов, — и воздвигшиеся между ними грады и веси проступают, покрытые мусором, из утреннего тумана и дыма заводов и фабрик, этот мусор производящих, и мы видим внутренним взором эту величественную картину, и видим себя, спешащих к ним, на работув них, к фабрикам и заводам, и к поездам, нам велят не прислоняться, и мы, — нет, мы не прислоняемся, совсем нет, мы ощущаем благоговение. Мы видим себя, как мы, стремительно и благоговейно, бредем на работу сквозь утренний туман, рассекая его; где–то в кильватере кружатся и опускаются на землю потревоженные нашими нетвердыми, но настойчивыми шагами сухие листья, клочки газет, и пыль, поднятая нашим движением, смешивается с утренним туманом и заставляет его рассеяться, чтобы ничто не мешало нам видеть внутренним и внешним взором созерцать величественную картину этой земли, неотвратимо покрываемой нашими шагами. Хотя, правду сказать, мы не всегда ощущаем, что земля, которую мы населяем, именно наша, не чья–нибудь, а сама она ничего нам про это не говорит — может быть, ей просто нечего нам сказать про это, да и нечем. Имеющие, чем говорить, да говорят, а неимеющие — да остаются немы, и слушают; и мы слушаем, пытаясь понять, почему так случилось, почему мы этого не ощущаем, — не ощущаем, что наша земля, такая обильная полями, лесами и нами, немыми, и всем прочим, чем она обильна, что вся она наша родина, хоть нам и говорят так.
Так говорят те, кто населяет ее где–то там, я не проверял, но, наверно, там, где нет нас: они летят над ней в летательных аппаратах, и опускают глаза, и смотрят вниз на неё и, наверно, на нас, и говорят, что это наша родина. Они могут опускать глаза и им ничего не будет, наверно, потому, что они в своих аппаратах, что они высоко летят, а когда летишь высоко, видишь, что всего много, и всё кажется таким красивым и привлекательным, даже мы. Они, наверно, очень любят, наверно, нашу и, наверно, свою родину и они, наверно, считают нас её частью, частью её фауны, а может быть, и флоры. Я не знаю, что они считают, я никогда с ними не разговаривал, у нас просто не было возможности, просто все мое время занято, мне нужно всегда быть очень внимательным, быть всегда начеку и не опускать глаза, и тогда ничего.
Ничего не видно. Видны чертоги небесные, птицы и летательные аппараты, и я начинаю понимать, что там они её и населяют, нашу родину, вместе с птицами, там, где нас, действительно, нет. Мы, действительно, её совместно населяем, просто на разных этажах. Последнее время я часто думаю о том, спускаются ли они к нам когда–нибудь; как птицы, спускаются же, чтобы построить гнёзда, вывести птенцов, таких же, как они, ну и вообще… вы понимаете; я не проверял, но мне так говорили. Или, может быть, мне говорили неправду, и они вообще всё делают прямо там, вместе с птицами… вы понимаете, я же не проверял. Или, может быть, они не могут спуститься? почему–либо? быть может, просто не знают — как, или просто забыли? И мне становится их очень жалко, как они не могут к нам спуститься; мне становится их очень жалко, прямо до слёз, благо, если не опускать глаза, слёзы не переливаются через край и не текут по щекам и подбородку, а тихо стекают внутрь, в носовые каналы, и дальше, в горло, орошая его и не давая пересыхать, и этого никто не видит, и это главное.
Они, возможно, думают, как хорошо было бы к нам спуститься и говорить с нами. Они, наверно, думают: вот мы, здесь, в наших летательных аппаратах — посмотримте вниз и вокруг, и возрадуемся, как там всё обильно и широко, и какая там флора и фауна, и, — воон там, — кто это там на нас смотрит, не опуская глаз? Ну, что он смотрит на нас? Понимает ли он, как нам тут в наших аппаратах, тут ведь нет никаких таких удобств, ну, вы понимаете, хотя и не можете проверить, как тут нам выводить своих птенцов, это всё страшно неудобно, у нас совершенно нарушен режим дня, и мы едим совершенно нездоровую пищу, и пьём напитки совершенно нездоровые, и скоро, наверно, начнем вырождаться от всего этого и даже, наверно, уже все выродились, мы не проверяли; и уже не можем ничего изменить, потому что давно так летим и привыкли к этому, и это нам нравится своей широтой и долготой и обильной флорой и фауной, которые смотрят на нас снизу, неотрывно. Наверно, мы им нравимся, по крайней мере, такими, какими они нас видят оттуда, снизу. Вот — мы же видим их широко раскрытые глаза и не видим же слёз, а раз мы их не видим, значит их и нет, а есть тихая радость за нас, как мы тут у себя вырождаемся, летя над ними. Или, даже, не за нас, это ничего, даже просто за себя, как им там хорошо, есть все удобства, чтобы населять нашу общую родину, и условия, чтобы плодиться и размножаться, и право не опускать глаза и хранить молчание. Мы не проверяли, но нам так говорили, объясняли нам, правда, это было уже довольно давно. И — посмотрите — они вовсю пользуются этими своими правами, вот мы проверим, минутку… да, действительно, теперь мы определённо можем утверждать, что нам всё правильно говорили, у них, действительно есть все условия, а они, вероятно, не понимают этого, по крайней мере, некоторые, не радуются этому, не опускают глаза, чтобы посмотреть, какие замечательные условия им созданы, и говорят друг другу: — ведь теперь тебе ничего? не страшно? да?..
Послушайте, ведь я раньше не думал, что если не опускать глаза, то ничего не видно из того, что внизу: плевки, мусор, что они бросают сверху и вообще… И я все это раньше видел, постоянно, я сначала думал, что это правильно, что так и надо, потому что это наша родина, хотя я и тогда и теперь не проверял это. Я тогда был совсем маленький, и земля, которую я населял, была совсем близко, и я смотрел на неё и видел валяющиеся на ней камни, птичий помет, мусор, и бумажки, и какие–то былинки, растущие на этом мусоре и прикрывающие его своим телом, и старые, ненужные или испорченные вещи какие–то, винтики и гаечки, которые я собирал, потому что мне они были всё–таки зачем–то нужны, у меня же ничего не было тогда, ничего, и никого, кроме моей мамы, которая, как и я, собирала что–то, брошенное, может быть, сверху, птицами, может быть (хотя я и не проверял), только это называлось работой, мама ушла на работу, и я, собрав свои никому более ненужные вещи и смастерив из них что–нибудь нужное нам с мамой, сидел на порожке нашего, повисшего над пропастью дома, тоже, наверно, брошенного нам сверху птицами, как старое и никому не нужное гнездо, и ждал её, когда она вернётся с работы и тоже принесет что–нибудь ненужное никому, но так необходимое нам с нею, и тоже что–нибудь смастерит. Мы тогда все так жили, почти все, нам что–нибудь бросали сверху, а мы подбирали, и это называлось работой, когда говорили: — у него хорошая работа, — это, наверно, значило, что он стоит или, может быть, сидит в таком месте, где сверху много падает всего и иногда такие вещи, которые все–таки не совсем никому не нужны, а всё–таки нужны кому–нибудь немножко; там была такая, сложная система, я её не очень понимал тогда. Наверно, она существует и теперь, но если не опускать глаза, её не видно, а я не могу понять того, чего мне не видно. Поэтому я не понимаю плевков, с соплями и кровью, грязных и вонючих газет, бутылок и молочных пакетов, старых вещей, обуви и одежды, которые не могут уже никого одеть и обуть, прикрыть своим телом, так они устали. Я тоже устал уже и не понимаю этого испорченного воздуха, шума бесконечных разговоров о том, как еще больше собрать того, что падает сверху и создать на руинах, среди которых мы живем, еще больше грязи, мусора, плевков, пивных банок, автомобилей, кабаков и вот их этой музыки непрерывной, которая, наверно, производится ими затем, чтобы заглушить не нужные никому разговоры и заполнить место в их душах, которое еще не занято мусором и грязью и не сдано еще внаем тем, кто летает в своих аппаратах, чтобы швырять туда грязь, мусор, старые вещи, неважно, годные на что–то или нет, все эти груды того, что мы еще не успели собрать и смастерить что–нибудь, и того, что мы собрали, и смастерили, и выбросили за ненадобностью; груды всех этих усталых вещей.
Я особенно не понимаю их осенью, когда былинки, тоже устав прикрывать их своим телом и обессилев, ложатся рядом с ними, и становятся одними из них, и смотрят на меня, не опуская глаз. А что, что я могу сделать? Что я могу сделать для них, я не могу отменить осень, я не могу помочь им ничем, только разве лечь рядом с ними и прикрыть их своим телом, но я не хочу этого, нет, не хочу, я же не зря выдумал, чтобы не опускать глаза.
Я выдумал это сам! Никто не помогал мне, а все только мешали. Все мне так мешали, так старались, чтобы я это не выдумал, что сами же мне и помогли. Однажды, когда мне ещё не помогли, я шёл, нагнув голову и согнув спину, и смотрел вниз и перед собой, и видел пыль под ногами, скамьи, поручни, я встречался своим исподлобным взглядом со всеми, и все встречались взглядами со мной, и сквозь чуть колышущуюся воду этих взглядов я видел их душу до самого дна (мне казалось, что душа у них одна на всех, но очень большая, хотя я это и не проверял) и видел лежащий там всё тот же хлам, и мусор, и грязь, и поручни, и скамьи, и пыль, или это лишь отражалось в их прозрачных глазах? Так или иначе, я всё это видел, и видел надписи, сделанные на стенах, они были похожи на них и на их музыку, такие же жирные, потные и бессмысленные. Я не понимал эти надписи, но они пугали меня, очень сильно пугали, я не знал, что с ними делать, и я старался полюбить их и тех, кто их сделал, чтобы было не так страшно. Это было давно, мне повезло, это было тогда, когда еще всего было не так уж много, и казалось, что, ничего, можно как–нибудь с этим жить. И мы жили, и я жил, я тоже ходил на работу, такую же, как у всех, хотя я тогда и не очень понимал, какую, а теперь и совсем позабыл. И полюбил их, и учился говорить на их языке, и говорил, я очень способный, говорил все эти страшные темные слова, которыми наши предки заклинали злых духов, и я тоже заклинал, очень часто, и так, наверно, всех их заклял, что мы все теперь не можем их сыскать нигде, даже… в общем, нигде, может быть, они стали нами? Я вот думаю, что это, наверно, было единственное место, где они могли от нас спрятаться, — наша родина. Я, наверно, и теперь говорю страшные слова, но меня научили так говорить, раз сами научили, сами теперь и слушайте, я совершенно не виноват, совершенно.
Я шёл и смотрел вниз и перед собой, я должен был всегда смотреть перед собой и вниз; когда я родился, это было давно, в суровую зимнюю пору, в час, когда силы зла властвуют над миром, и в этот час я обещал своей маме, что буду всегда так смотреть, хотя, возможно, она меня и не просила об этом, впрочем, не знаю, может быть, я снова что–то путаю. Тем не менее, я шел, глядел вниз и перед собой и видел… ну, это всё — шаркающие ноги в ортопедической обуви (была зима), сумки, поручни, ступени — входа нет — скамьи — к поездам — не прислоняться — пальто — гардероб не работает — вновь ступени — места с первого по пятнадцатое — вновь ступени — тен адохыв — к поездам — я шел и думал, представлял себе, что мне еще долго так идти, всегда, и всегда видеть всё это, и понимать, и отвечать, и действовать сообразно, и я тогда ясно, ясно, очень ясно понял, что не смогу, нет, скоро никак не смогу, что рано или поздно я никак не смогу идти дальше, и лягу, устав, и прикрою своим телом землю, которую я населяю, и больше ничего не смогу, совсем, ничего. И я испугался, и стал метаться внутри себя, продолжая идти своей дорогой, глядя перед собою и вниз; я колотил в запертые люки черепной коробки и тряс решетки грудной клетки, я заклинал злых духов темными и страшными словами, доставшимися мне в наследство от моих предков; но я сорвал голос и разбил себе кулаки, и кровь капала у меня с рук как у палача, хотя никто этого и не видел, проходя мимо и глядя перед собой.
И я устал, наверно, потерял много крови, нелегкая у палачей жизнь и работа тяжелая, я сел прямо на пол, в рубке, у приборной панели и, кажется, плакал, и слезы переливались через край, минуя сорванное криком и пересохшее горло, смешиваясь с кровью и соплями, текли вниз, по локтям, и еще ниже, собирались вокруг меня лужицей на железном полу. Передо мной было много разных приборов, очень сложных и совсем простых, но ни один из них не подходил мне и не мог мне помочь. И вот тогда–то я выдумал (сам!), я поднял глаза свои и — сквозь низкий потолок, с длинным рядом ламп, помню, одна из них мигала, наверно, техник тогда уже плохо следил, сквозь толщу населяемой мною земли, прошитой здесь и там, но особенно здесь, — трубопроводами, кабелями, подземными ходами, заброшенными подземельями, в которых мои предки заклинали злых духов страшными словами, и мучили друг друга, и пускали друг другу кровь, через много слоев оставшейся от этого грязи и мусора, прозываемых культурными, слой асфальта, паутину проводов над ним, слой гари и низкой облачности — я увидел то, что над ними и нами, и помогло мне то, что не было слышно тогда их бессмысленной музыки, её заглушало адское гудение двигателей и грохот колес.
Увидел я небо и чертоги небесные; был вечер, и солнце светило снизу, последним золотым фонарём с погасшей рампы нашей родины, задернутой низкой облачностью и гарью. Я видел этот, ведущий к ним золотой портал, уходящий потом куда–то вперёд и вверх, а что уж было там, куда он вёл, я не смог разглядеть, думаю, что, наверное, ничего плохого, конечно, ничего. Он был близко! совсем рядом, если, конечно, не опускать глаза. И я не опускал их, только немножечко скашивал в сторону и видел там себя, себя и также многих из нас, всех в белом, стоящих поодаль цепью и ждущих… не знаю чего, наверно, когда придет их время, и их позовут и пропустят в золотой от закатного солнца портал поочереди. Ожидающие этого, рожденные в года глухие, зимней суровой порою, в сумрачный час ледяных безжалостных вихрей, когда злу разрешается властвовать над миром, потому что в остальное время оно не спрашивает разрешения, — все мы там, коротая время в ожидании, прикрывали от них, уж кто сколько мог, своим телом и будто кровавыми в этом освещении руками: да, наверное, так оно и было, кровь капала с наших рук, только вот я не знаю, наверное, — чья, возможно, что наша собственная, а возможно, и нет, возможно, что у всех по–разному. Или, — мне сейчас пришла в голову такая мысль — это было только наше отражение, нас, стоящих внизу и глядящих вверх неотрывно, оптический обман?
Меж тем солнце село, погасло, и стало темно и ничего не видно, что там дальше происходило, видно было только, как теплятся лампадки других светил, не успевших еще куда–нибудь сесть и погаснуть, может быть, это всё же не был обман, может быть, мы не так уж плохо их прикрывали.
Так я стоял, не опуская глаз и глядя неотрывно на золотые чертоги, не беда, что их уже не было видно, и облегченно думал, что мне теперь не нужно, незачем видеть, отвечать и поступать сообразно, что я могу отдохнуть от всего этого. Я думал, что мне незачем теперь ложиться среди руин, и смешиваться с грязью и мусором, и прикрывать их своим телом, что это теперь не обязательно, хотя (понимал я), идти мне теперь будет трудно; легко, не опуская глаз, стоять, или сидеть, или, скажем, лежать, но идти — трудно, ничего же не видно из того, что видишь, когда глядишь вперед и вниз, согнув спину и нагнув голову: ямы, какашки, противопехотные мины и другие препятствия, которыми столь обильна наша земля; и что теперь придется выбирать.
Должно было так случиться, что в тот раз мне не попались на глаза те, кто летает там наверху вместе с птицами, это отвлекло бы меня, я так ничего не выдумал бы, а когда выдумал, мне было уже всё равно. Правду сказать, я и теперь думаю, что — да, конечно, если не опускать глаза, то ничего не видно… мусор, грязь и вообще, — что там они сверху бросают, но только что уж они там бросают сверху, разве это все нам сверху бросили, разве вот всё это просто бросили сверху? Ну, сколько они там могут набросать, они, — что у них там, заводы? фабрики? И где они там что берут? негде там брать, всё берут у нас же, внизу. Отсюда всё — снизу, что мы им даём, то и получаем потом, правда, в, как бы сказать… переработанном виде, я опять говорю, наверно, неприятные вещи, но я так думаю, хотя и не проверял. А что здесь проверять? это всем известно, абсолютно, но никто никому об этом ничего не говорит и даже не думает. Поначалу это было очень трудно, и всё время хотелось, но потом придумали эту музыку непрерывную, и теперь ничего. Никто вообще не думает ни о чем, и ничего.
Совершенно никто ни о чём не думает там, внизу. Они же, сволочи, там внизу не понимают своего счастья, не ценят того, что — внизу: в случае чего, ничего с ними не станется, никуда они не денутся в случае чего, а только лягут прикрыть своими телами землю, с которой им никуда не деться, и (в случае чего) они всё же могут сделать хотя бы это, и это главное. А мы, мы же — совсем другое дело, мы высоко, мы так высоко, если что, — что с нами будет? что от нас останется, если что? Мы же понимаем, мы даже не сможем, нечем нам будет прикрыть эту землю, которую мы сами называли нашей общей родиной, постоянно, сами им говорили, тем, кто там, внизу смотрит на нас неотрывно. Ну, что вы смотрите на нас, ну, что они так смотрят, честное слово, мы бы хотели, мечтали спуститься и быть с ними, и помогать им в поле, и кормить их детенышей молоком, и учить их в школе чистописанию и арифметике, правда, но ведь как бывает — мы можем спуститься очень быстро и от нас ничего не останется после этого, ничего, чтобы даже прикрыть то место, на которое мы спустимся, ничего не останется, честное слово, — если мечта сбывается слишком быстро, это тоже плохо. Всё плохо, почему же всё так плохо? мы всё время думаем, почему же так плохо всё, когда всё так хорошо? Казалось бы? Да? Нам здесь наверху, казалось бы? А может, нам это всё действительно казалось, может быть, всё это нам только казалось так? Ну–ка, проверим, у нас–то есть такая возможность, ну–ка… нет, вовсе нет, все, наоборот, хорошо, даже преотлично, но всем нам, почему–то, все равно кажется, что плохо. Мы бы, правда, честное слово, хотели бы делать всё это, спуститься и говорить с ними, и все такое, но почему–то никак не делаем, не можем, не смеем, ведь тогда у нас не было бы мечты. И мы всегда хотим куда–то, где не так плохо, где пока нет нас, и, может быть, поэтому нам и кажется, что там хорошо, а (может быть) попади мы туда, нам снова покажется, что плохо, в то время, когда всё, наоборот, хорошо, и… о, всё это очень сложно, даже думать об этом трудно, чувствуешь, как кровь течёт в мозговых сосудах, из последних сил пытаясь напоить маленькие серые клеточки, чем им там нужно, сахарами всякими и ещё чем–то, а им всё не хватает, они задыхаются и кричат, мол, давай, давай ещё, ещё давай, не хватает для решения поставленной перед нами задачи, и кровь бежит, бежит по сосудам, как по коридорам, вниз, в подвал, там много всего, чего нужно, но путь не близкий, туда, сюда, туда, сюда, а задача всё не решена, да и имеет ли она решение?
Сволочи, все они сволочи, вот что, быдло бессмысленное, только и могут тупо глядеть на нас, разглядывать нас снизу, неотрывно. Пропади они там все внизу пропадом, мало их всех пороли, предки наши, те, кто были до нас, мало, всех надо было пороть, всех, и много. Подлые людишки, подлые, мерзавцы и проходимцы все, продадут вас за рюмку водки с огурцом и не поморщатся, вот как-с. Не поморщатся и греха не побоятся, греха–то, — как мы есть их отцы, а они наши дети, и так уж и Богом устроено, и не нам о том судить. Все христопродавцы, с-сволочи, ничего святого, — работать не хотят, только водку трескать, да глядеть на нас снизу неотрывно, такие подлецы. Мы им: здорово, дескать, ребята — глядят, молчат, ничего не говорят, только глядят так, тяжело, согнув спину и нагнув голову, из–под бровей, тяжело так, — у-у, мол, барин, и все, и больше ничего. Ни здравия желаем, ваше превосходительство, ни да здравствует лично дорогой товарищ, ни–ни. Мало, мало пороли, те, кто до нас, а мы уже — и не можем, уж и разучились, и рука не раззудится, а раззудится, так и не рука совсем, совсем другое, чем и пороть неудобно. Да и высоко мы, вот как-с, не дотянешься до них–то родимых, нипочем не дотянешься, даже если и вытянешься.
А они, они знают об этом, подлецы, глядят так тяжело, мол, у-у, товарищ барин, вот только вытянись, вот только подойди поближе, ужотко мы покажем тебе морду–то свою, ужотко напомним, как кровушки–то нашей попил, мироед–захребетник, ужотко барчуков твоих на березках–то распялим за это самое дело. Суки драные, подонки вашесиятельные, жужжат там над головой, застят нам небушко, в которое глядим мы, не опуская глаз, вдруг увидим что. Что увидим–то? да, что, что нам надо, немного — небо чистое, да облака, да чертоги небесные, а этих мух жужжащих мы видеть не желаем, желаем чисто глядеть. Говнюки, ублюдки, — сами протухли давно, аж смердит, а все кружатся, все кружатся, все думают, что нужны зачем–то нам, а нам ничего уже не нужно, все у нас отняли, те, кто был до них и до нас и отнял все, даже то, что не нужно. Даже нам теперь и не к чему все это, только бы стоять так, подставляя глаза чистому лучению неба, только глядеть и не думать ни о чем, и о чем нам теперь думать?
Совершенно не о чем, я уже всё выдумал, я уже рассказывал об этом. Все стоял, с непривычки боялся сделать шаг, боялся вляпаться в то, чем обильна населяемая нами земля. Я долго так стоял, всю жизнь, потом потихоньку тронулся, вперед. Иду и чувствую, что все, вроде бы, ничего, только глаза вот не опускать, ноги — топ–топ, топ–топ, руки — как рычаги, туда–сюда, туда–сюда, кровь в жилах буль–буль, буль–буль. Мозговые клетки кричат: я клетка такая–то, седьмая извилина, правая полушарие, вызываю клетку такую–то, восемнадцатая извилина, левое полушарие, как войдешь, наискосок. Докладываю: за отчетный период мною проделана следующая работа: принято нервных импульсов — 1024, пропущено — 8, отклонено — 18, отложено до получения дальнейших инструкций — 992; шесть, наиболее нервных, заперты, пока не успокоятся. При этом установлено новых контактов — 658, все контактёры — надежны, преданы делу нового мышления. Затрачено: серотонина — 3 мг., ацетилхолина — 5 мг., спирта этилового на установление новых контактов — достаточное количество. Через глазной нерв пришло сообщение: вижу неопознанный летающий объект зпт высота десять зпт курс норд–ост зпт температура за бортом минус тридцать тчк.
Так я впервые их увидел, тех, кто летит наверху, вернее, сначала не увидел, потому что их скрывали аппараты, приспособленные ими для летания. Я сначала подумал, что это и правда, неопознанные летающие объекты, ведь они, безусловно, летали, а опознать их не было никакой возможности. Но потом–то мне рассказали, нашлись люди, объяснили мне, что прям, счас, неопознанные, очень даже опознанные, знаем мы их так–то и так–то. А уж после, присмотревшись внимательно, внутренним взором, я увидел их самих, тех, кто там в них летит и смотрит на нас неотрывно. Я увидел, как они шевелят губами, и я услышал внутренним слухом, потому что высота, на которой они летели, была, действительно, большая, — да, так я услышал, как они говорят, про нас, и про самих себя, и про эту землю, которую мы совместно населяем, только на разных этажах, и как им самим не нравится, когда ее называют «эта земля», а у них для нее есть такое специальное название, только я не расслышал, какое, наверное, для этого внутреннего слуха недостаточно, а нужно быть рядом с ними, там, наверху, а ещё лучше — одним из них. Но я не мог быть там с ними наверху, тем более, одним из них, как бы я тогда мог не опускать глаза?
Да. Но они мешали мне, чем–то они мне очень мешали, я не сразу это понял, я долго стоял и смотрел и не мог избавиться от недоумения, почему дрожит и расплывается золотой портал и ведущая за него дорога, как будто слезы подступают и не хотят оросить мое навсегда сорванное криком горло, а сразу переливаются через край и текут по щекам и подбородку. Правду сказать, я и сейчас ничего толком не понимаю, только то, что все это мне очень мешало. Я тер свои глаза руками, мне казалось, что я смогу стереть эти мешающие мне черные точки, этот мешающий мне мусор. Что же это, подумал я, я так здорово всё выдумал, я так радовался, что мне теперь не обязательно видеть всё это, что внизу, и что же? мало того, что нет правды на земле, так правды нет и выше? что это для всех так ясно, а я, простофиля, купился на этот обман, и нет мне спасения во веки веков, и до скончания дней моих не знать мне, куда девать глаза свои?
О, как я страдал тогда, страдал, как человек, уже проснувшийся от душащего его кошмара, вздохнувший облегченно и успокоивший рвущееся из груди сердце, открывший глаза и увидевший пред собою душителя своего наяву, и ни слезами ни пивом не может он более оросить свое тщедушное горло, пересохшее от духоты. Я не мог этого вытерпеть, я решил, что нужно делать что–то, я решил подняться к ним сам.
Не так это было просто. Я взмахивал руками, подпрыгивал на месте и немножко поднимался, но все равно, не достаточно. Я продолжал эти попытки довольно долго, наверно, на них очень смешно было смотреть со стороны, а тем более, сверху, куда я пытался добраться безуспешно. И я устал, и споткнулся, наверно, и полетел со всего маху навзничь, и увидел, наконец, их далеко под собою, а это уже было совсем другое дело, это гораздо проще, вы понимаете, чем подниматься, я наконец просто поплыл к ним, не спеша.
Мне стало жалко их сразу же, едва я завидел за бронированными стеклами их лица; они тогда еще меня не заметили. Я как–то сразу увидел то, чего не было видно внутренним взором, сразу понял, что деться им некуда, что они заперты, хотя я и не знал тогда, что это нарочно так устроено, чтобы не выпускать их наружу, чтобы они жили там, наверху, возможно, чтобы не натворили, выйдя, чего–нибудь еще; я тогда этого не знал, не знаю и сейчас. Я подплыл к ним совсем близко, сквозь стекло я видел их изумленные глаза, светлые, как утренний лед, они глядели на меня и качали хорошо постриженными, хотя немного плешивыми, головами, они поворачивали их на своих упитанных и натренированных шеях, губы их шевелились — они переговаривались друг с другом обо мне, они обсуждали этот феномен, теряясь в догадках относительно его природы: возможно, это атмосферное явление, а возможно оптический обман, или просто следует впредь ограничить потребление нездоровых напитков?
Нет, меня не впустили. Я стучал в им в стекла, сначала осторожно, потом со всей силы, они отшатывались, удивленно таращили на меня свои светлые глаза и топорщили усы, прикрывая собою своих, таких же удивленных детей, глядящих на меня такими же чудными светлыми глазами, наверное, они думали, что я хочу, или способен нанести им какой–то вред. Я пытался объяснить, что ничего плохого не хочу, что мне ничего от них не нужно, ничего, только, чтобы они убрались к чертовой матери, не застилали мне глаза, и не отравляли мозг своей непрерывной бессмысленной музыкой, и больше ничего. Я писал на кусках картона и показывал им, я думал, что так им будет понятнее. Но нет, они не понимали меня, как будто я писал на каком–то древнем языке, которого они не знают. Позже я начал догадываться, я забыл тогда опустить глаза, разговаривая с ними, наверно они именно этого не понимали, наверно, видели в этом скрытую угрозу, это такой древний инстинкт, доставшийся нам от наших общих предков, мы совершенно не виноваты в этом, совершенно.
Я потом стал плохо себя вести. Я кричал, топал ногами (что–то подвернулось под ноги) и страшно ругался, страшно. Я им кричал, что они идиоты, что они сдохнут там, в конце концов, не только сами сдохнут, но еще и нас придавят, свалившись оттуда, дохлые. Потом плакал, кажется, размазывал по щекам слезы, упорно не желавшие оставаться невидимыми миру, словом, вел себя глупо и позорно. Я понял, как–то сразу и ясно, что ничего мне от них не добиться, что я зря к ним пришел, они не нужны мне, совершенно, нечего мне с ними делать, не могут они ничем мне помочь, и тоже не знают, что со мной делать, им я тоже не нужен, хотя и могу им помочь, научить кое–чему, рассказать им, что там я выдумал, но и я тоже не хочу ничего, мы чужие, совершенно, хотя и населяем совместно одну и ту же родину, пусть и на разных этажах.
В общем, ничего не вышло. Я очнулся внизу, на земле, специального названия которой я так и не узнал, его просто не было слышно снаружи, хотя я знаю точно, что они говорили о ней, называли ее этим именем, я видел их шевелящиеся губы и видел выражение их глаз при этом, но так и не смог ничего разобрать, я не умею читать по губам.
Снова была ночь, я это сразу понял, потому что снова было темно и ничего не видно. Но это ничего, сказал я сам себе, ничего–ничего, я сделал все, что мог, пусть теперь кто–нибудь другой придет и сделает лучше или больше, я точно не помню, зато все, что мог, я сделал, сказал я себе сам, и это главное. Я еще много чего говорил себе сам: как я был маленький и земля была близко, а я ее населял, населял, пока не засну, а когда проснусь, опять начинал ее населять и мастерить что–то, никому не нужное; как потом я стал большой, как в сумрачный час, когда зло властвует над миром, я из дому вышел, был сильный мороз; я его не замечал, потому что я был юн, но он был силен, а я был юн, и кровь у меня была горячая, и я его не замечал, и покрывал землю своими шагами, продолжаю покрывать и по сию пору и много уже покрыл, а сколько еще не покрыто, и сколько еще предстоит покрыть, работы непокрытый край. Как я шел с непокрытой головой, топ–топ, буль–буль, заходил в домы и храмы, и отовсюду меня, в общем–то, гнали, если не сразу, то в конце концов, и в конце концов я, устав от всего этого, выдумал не опускать глаза, только сначала сильно сокрушался, наверное, потому, что еще не успел по–настоящему устать. А теперь я уже не сокрушаюсь, нет, я ощущаю благоговение, потому что если не опускать глаза, его очень легко ощущать, ничто не мешает.
Я встал поудобнее, расставил ноги пошире, схватился руками за что там подвернулось, ничто мне не мешало, я стоял и ни о чем не думал, совершенно. Не то чтобы совершенно ни о чем, я много о чем думал, но уже не о том, как поступать сообразно, мне стало незачем об этом думать, мне больше незачем было поступать. Помню, налетели было вихри, и помчалось кувырком все, что на земле валялось, таилось до поры, поднялось в воздух, газеты, пивные банки, старые вещи, — я стоял, ни на что не обращал внимания, мне было все равно, мне было незачем поступать сообразно; загремела музыка, то есть застучали барабаны турецкие, будто призывая осужденного на казнь, будто волосастыми потными ручищами забивая сваи бетонные в наши привычные ко всему головы, запиликали скрипицы бесовские, завыли в кабаках блядскими голосами козлищи амбивалентные, и полетела бочкотара, автомобили — сирены их отзывались истерически и вторили грохоту барабанов; взвились черными гадюками дороги, закружились дома, города — я все стоял, что мне могло сделаться: мы, рожденные в года глухие, пути не обязаны помнить своего, и можем стоять и не замечать всего этого, мелочи какие; после, конечно, все утихло понемногу, все снова улеглось, как будто и не было ничего, хотя это, конечно, было иллюзией, оптическим обманом: конечно, все стало по–новому, но мне все это было безразлично — я как раз заметил, что стою–то на четвереньках.
Что это?! — возопил я вновь, обращаясь не то к разверстой бездне вселенной, не то к пустоте старой бензиновой канистры, в которую упирался лицом, нагнув голову, согнув спину: — это… это… ответила мне бездонная пустота; больше спрашивать я не стал, задумался. Я‑то думал, — думал я, — что мне незачем теперь ложиться и смешиваться с мусором и грязью — и что же? вот я стою на карачках в куче покрывающего меня мусора, глядя вниз и перед собой, уткнувшись мордой в старую канистру, и ничего. Почему это? и по какой причине? и какой отсюда следует вывод? Является ли это следствием общего хода истории, или просто моей неловкости? Следует ли мне смириться со сложившимся положением, как выходящим за рамки моего понимания, или воспротивиться ему вопреки наставлениям наших пастырей и компетентных органов? Не нанесет ли это ущерба дальнейшим видам нашей родины, а если не нанесет, то почему, и что нужно сделать, чтобы его нанести? Я долго так думал, напрягая все силы, чтобы не отвлекаться, не совершить неосторожного движения, всматриваясь и проницая взором пустоту канистры перед собой. И ничего не произошло, ни глас небесный не раздался, ни духа я не преисполнился и вопросы мои остались безответными. Я, в конце концов, просто надумал, да встал, отряхнулся, устроился поудобнее; если новые вихри повалят меня, бросят на землю, решил я, втопчут в грязь и мусор, я снова подумаю подумаю, да и встану безмолвно, мне надоело всё это, я не обязан прикрывать всю эту дрянь своим телом, у меня и без них есть чем заняться, и это главное, не беда, что темно.
Это было уже довольно давно, правду сказать, я уже и не помню, когда это было. Было время, когда нам казалось, что темные силы властвуют над миром, не спрашивая разрешения, и вихри враждебные веют над нами и злобно гнетут нас, наверное, гадко усмехаясь в прокуренные усы, подмигивая нам то одним, недреманным, оком, то другим, дреманным, — так, по крайней мере, мне всегда это представлялось, виделось внутренним взором. И мы, сцепив зубы и напрягая все свои силы, боролись с ними, день и ночь, стараясь докричатся, разбудить всех и друг друга, что близка беда, день и ночь били в набат, срывая кожу на своих, не привыкших к этому делу, ладонях, ломая ногти на пальцах, привыкших к совсем другому, главным образом, к писанию чего–нибудь, днем и ночью, все равно, чего, это все равно было никому не нужно ни ночью, ни, тем более, днем. Так мы боролись, днем боролись и ночью, пока не заснем, и тогда нам снилось, что светлые силы властвуют над миром, и весенние ветры, прилетевшие из стран неведомых, неназываемых, нежно ласкают нас, подмигивая нам другим недреманным оком, усмехаясь и топорща прокуренные усы. Короче, теперь–то я думаю, что они все были заодно, все они усмехались в одни и те же усы, предварительно прокуривая их из одной и той же трубки. И мы боролись с ними, бродя на работу, собирая брошенный сверху мусор, звоня в колокол и будя всех, пока не заснем. И нам казалось, что нет скончания этому и вечен этот порядок, как вечны эти зубчáтые стены, к которым мы прислонялись в изнеможении, обессилев от отчаянных попыток сокрушить их. Но пал этот порядок, — как–то так, сам собой, мы и не заметили, буднично, как происходят все великие события, — пропало все, как лукавый морок беса полуденного, пали эти стены, и руки наши, встретив пустоту, предали нас, и мы рухнули прямо на развалины, прикрыв их своим телом, и многие, многие так и остались лежать, не в силах подняться, наверно, это были те, кто больше всех боролся, больше всех потратил сил, вечная им слава, забудем о них.
И пришли новые времена, и были, и прошли, и не стало их, и самая память о них стерлась, так что никто уж теперь и не вспомнит, каковы они были. И совершились необыкновенные и ужасные деяния, воздвиглись города и государства и стали велики и обильны флорой, и фауной, и всяким населением, и были в них многоразличные чудеса и безобразия, и прешли, и не стало их. И появились удивительные и бесполезные приборы и механизмы, и научные открытия и произведения искусства и литературы были съедены на полках вездесущими мышами и тараканами и рассыпались в прах. И многие герои, государи и проходимцы пришли к нам, и были с нами (правда, нас не спросили), и все подевались куда–то (и нас опять не спросили), и так же стерлась память о них.
И остались мы, только мы, одни–одинёшеньки — стоять, подняв глаза к опрокинутому на нас небу, не опуская их, следя внимательно, всегда начеку. Воздвигнутся новые города и на их руинах напишут страшные темные письмена на забытых языках наших предков — «выхода нет» и «к поездам», и пойдут к ним новые герои, и не найдут их, и сгинут, и даже памяти о них не останется. В безумии своем построятся новые заводы и фабрики и произведут много нового разнообразного мусора, и покроет он их, и исчезнут они под ним, и могущественные цари, и секретари, и сильные, и тысяченачальники, и председатели правлений прейдут и исчезнут — мы всё будем безмолвно стоять, прикрывая землю, которую мы населяем, как бронею, своими, устремленными ввысь, широко распахнутыми глазами, образуя для пытливого наблюдателя невиданную мозаичную картину, в которой есть серые, и карие, и зеленые, и голубые, и черные краски, и преломляющиеся лучи уходящего за край земли солнечного диска; картину, сверкающую, как морская гладь, от подступающих к берегам ее слез, где–то затянутую пеленой облаков и гари, но, несмотря на это, прекрасную, и живую, и вечно вопрошающую и утешающую Смотрящего, и во веки веков не будет её утешительнее и крепче её не будет брони, и нам, немым, только всего и нужно, что быть спокойными и внимательными, и больше ничего, ничего, ничего.
Знак воздуха
Некоторые из описанных положений
имели место в действительности.
Некоторые полностью выдуманы.
Автор затрудняется отделить первые от вторых.
Ну, вот, теперь говорите. Что говорить? Ну, то, что вы хотели, обещали. Я ничего не обещал. Ну, как… вы помните, мы с вами договаривались, помните? что вы придете и всё расскажете, ну, помните, ну?.. Это вы ко мне пришли. (Пауза) Да, правда… но всё равно, мы же договорились, помните? Нет, не помню, вы меня извините, действительно не помню, вы кто? расскажите о себе. Я должна рассказать? Нет, конечно, вы ничего не должны, я просто подумал, что вдруг это поможет мне вспомнить. Что вспомнить? Ну, хоть что–нибудь, например, кто вы и что здесь делаете. Что здесь делаю я? Да, вы, вы же что–то делаете здесь, зачем–то же вы пришли ко мне. (Пауза) Да, это правда… Ну, начинайте. То есть… странно как. Странно? Ну, разумеется, вам так не кажется? Нет. И вообще, у меня мало времени, вы извините. Но мне трудно так, сразу, я совершенно не готовилась. Ну, хотите, я вам помогу? вот, например, откуда вы? Вы имеете в виду… в каком смысле? Ну, я имею в виду, где вы работаете? Я… я работаю ну… в этом, в агенстве… Вот, видите, уже пошло, уже начало что–то проясняться. А что вы там делаете, в этом, как вы сказали — этом агентстве? на своей работе? Я там работаю, спрашиваю, мне отвечают, я записываю… Вот, видите, уже совсем хорошо, теперь всё ясно, только пока я не понимаю, откуда вы меня знаете? Ну… вас все знают. Кто — все? Вообще все, так, спросишь кого–нибудь — знает, и другой знает, и третий. А четвертый? Про четвертого я не знаю, не уверена. Вот, видите, видите, а вы говорите, все знают — на самом деле, даже вы не знаете, вы сами признались, только что. Ну, как вы не понимаете, мы поэтому с вами и встретились, чтобы вы рассказали о себе; побольше, чтобы вот мы и узнали, это интересно, всем это интересно и одному, и другому, и третьему. А четвертому? И четвертому, четвертому тоже будет интересно, поверьте.
Ну, хорошо… Вы уже начали? Нет, еще нет: я никак не могу начать, мне все время что–то мешает — мне все время кажется, что все это не нужно, никому не нужно и не интересно, что все это важно только для меня, и мне так и скажут, дескать, что ты нам морочишь голову своими пустыми и неинтересными разговорами, у нас есть настоящая жизнь и настоящие дела, и до тебя и твоих глупых и наивных рассуждений, никак не связанных с нашей настоящей жизнью, нам нет никакого дела. Нет–нет, не останавливайте меня, я знаю, мне говорили это много раз, так много, что я замолчал навсегда и больше никогда никому ничего не говорю, совсем ничего, я боюсь помешать им, отвлечь от их бессмысленных дел, которые повелевают ими всецело и превращают их в высохшие чехольчики, покинутые личинками стрекоз, судорожно вцепившиеся прозрачными лапками в такую же сухую и ломкую осоку, клонящуюся над холодной сентябрьской водой, чистой как спирт и такой же безжизненной. Как долго жили они на дне, наводя ужас на всякую мелкую живность, набрасываясь и пожирая ее, беспощадно разрывая и перемалывая страшными трехсуставными жвалами, превращая принадлежавшие ей ткани в свое чудовищное, безобразное тело, годное лишь убивать и пожирать, не щадя никого и ничего не стыдясь, чтобы в один прекрасный день, повинуясь неясному тревожному и неодолимому стремлению, выползти наверх по стеблю какой–нибудь водяной травы и замереть, будто истощив все силы и расставшись, наконец, со своей бессмысленной и жестокой жизнью, а спустя короткое время разорвать хрустящую и более ненужную оболочку и обрести крылья, поначалу слабые и смятые, как папиросная бумага, и улететь, улететь навсегда, прочь, прочь от этой прошлой настоящей жизни, в которой сделано так много ужасных вещей, забыть, навсегда забыть о ней, растворившись в послеполуденном прозрачном небе и…
Вы, наверное, увлекались энтомологией? расскажите, пожалуйста, об этом. Да, я увлекался, как вы говорите, энтомологией, я прочел много книг из жизни насекомых, я знал их повадки и наблюдал за ними; они этого не знали, но я очень внимательно за ними наблюдал, делал записи и ловил их сачком, с которым никогда не расставался, даже ложась спать. Я ловил их и сажал в банки, чтобы они умерли там от голода и одиночества, чтобы я потом мог наколоть их высохшие, скорченные тельца на булавки, и поместить в коробки, и продолжить свои наблюдения над ними без помех, вот как я делал. Но ведь то, что я имел в виду, это образ, образ, понимаете, это важно, мы все, мне кажется, так живем, даже те, кто не знает об этом, только не всем потом хватает сил, или, возможно, ума выползти наверх, чтобы раствориться в прозрачном послеполуденном или каком–нибудь другом…
Но ведь это очень избитый, затасканный уже образ, все это знают уже, много раз он использован в литературе, боюсь, что это не будет интересно, давайте пропустим это, начнем сразу с вашей творческой деятельности. Вот, видите, видите, вы сами говорите, что будет неинтересно, я ведь предупреждал, а это интересно, очень интересно, это неинтересно только сначала, а до конца, когда становится интересно, никто не хочет выслушать. Посмотрите, что творится. А что? Нет, вы посмотрите, посмотрите. Что, на что посмотреть? Посмотрите на нас, на себя, на наших друзей, или знакомых, или знакомых друзей. Помните, какими мы были раньше? Когда — раньше? Ну — раньше, тогда еще. Какими? откровенно говоря, тогда еще меня не было на свете. А где же вы были? Вот, может быть, об этом и поговорим? Ну, если вас не было на свете, значит, вы были во тьме; ну, так получается. Но ведь тогда получается, что все мы когда–то были там? Да, вы совершенно правы; здесь–то и начинается самое интересное, самое занимательное: ведь весь фокус в том, что, покинув эту свою темную инфернальную оболочку вместе с прошлой жизнью и обретя изумительные прозрачные крылья, чудо конструктивизма, и грациозное тело, и огромные фасетчатые глаза, переливающиеся нежнейшими оттенками цвета, видящие сразу со всех направлений, снизу, сверху, даже сзади, стрекоза использует их лишь для продолжения убийства и пожирания всякой живности уже в воздухе, день за днем, ради чего? Вот вы убиваете и пожираете всякую живность? Ну, если так ставить вопрос, в таком разрезе, боюсь, что да. Так где же вы теперь: в прозрачном или задернутом желтыми вечерними облаками небе, или на дне стоячего и дурно пахнущего пруда, во тьме ила и тины, среди ржавых обломков старых кроватей и велосипедов, как определить? Похоже, что никак. Вот я тоже так думаю.
Ну, вы, наверно, уже знаете, что каждый из нас живет в том мире, который сам себе и создает, теперь это все знают, а тогда — тогда еще, я тоже как бы знал, но все не мог это самому себе доказать. То, что мы видим вокруг себя (хотя в отличие от стрекоз и не можем видеть, что сзади), вещи, лица, улицы, растения — в сущности лишь игра электромагнитных полей на сетчатках наших глаз, мало того, даже их мы воспринимаем, как бы это сказать повежливее… переработанными, что ли, в виде набора примитивов, это как кино, где сменяющие друг друга картинки воспринимаются, как движение подлинной жизни, и заставляют нас переживать и даже иногда плакать, а иногда смеяться. (Пауза) Мы строим изумительные гипотезы и разрабатываем изощренные научные приборы для проникновения в тайны природы, измеряем напряженности полей и энергии частиц и думаем, что совершаем открытия, то есть открываем крышку или завесу, как оно там на самом деле, но при этом забываем, что приборы–то мы строим для самих себя, делаем так, чтобы их показания были нам доступны, вызывая игру полей на сетчатках наших глаз — и круг замыкается, все, что мы можем, это изучать с их помощью свое собственное представление о мире (что, конечно, представляет самостоятельную ценность), но не сам же мир. Это, как если бы персонажи компьютерной игры стали изучать устройство окружающего их компьютера и причины, побуждающие совершать те, или иные действия, поняли бы они, что все это просто игра?.. Вот и получается: то, что мы видим, слышим, вообще вся эта действительность, данная нам в ощущениях, и есть самая настоящая иллюзия, мираж. Да, я помню, мы проходили, это уже говорил кто–то, давно, и я не помню, кто; там все сидели в пещерах почему–то. Где же подлинная жизнь? я не знаю, или мне кажется, что не знаю. Нас учили, внушали нам, что жизнь слонжа, и что мы как один умрем в борьбе за это. Вот интересно, ведь, по идее, это и должно быть вожделенной целью всего нашего земного бытия, ведь мы все время говорим друг другу, что это переход в иную, притом, высшую форму существования, почему же все мы так или иначе стремимся оттянуть этот момент? Ну, наверное, мы боимся неизвестности? Но ведь есть уже много свидетельств, это не такая уж и неизвестность, ведь кое–кто, помните, уже был там, и вернулся, и многое нам рассказал, и вообще всех там попрал, кто мог бы и хотел как–то нам навредить; если мы будем просто прилично себя вести, то ничего страшного произойти, вроде бы, не должно, так нам говорят, ну, потерпеть придется, а так ничего, если, конечно, вести себя прилично.
Наверно, придется подождать некоторое время, посидеть на стульчике или, возможно, на груде кирпичей, у края дороги, на холодном сентябрьском ветру: вот мы сидим, вечернее солнце освещает облака как бы снизу, отчего они кажутся как бы золотыми и как бы плотными, вроде каменной кладки — как бы театральная декорация, картонные щиты, освещенные тусклым светом рампы, но зрителям, устроившимся в зале у края дороги, они кажутся стенами далекого града, возвышающегося на холме. Дни уже коротки и вечера холодны, но мы сидим в ожидании, делать нам все равно больше нечего, мы уже все сделали, что могли, лучше уж теперь просто посидеть и подождать, пока все наши дела забудутся и простятся, и мы можем долго еще так сидеть, тихо переговариваясь между собою, и ждать, когда нас позовут. В общем, мне кажется, что уж там говорить о неизвестности. Но почему же мы так стремимся задержаться еще хоть немного и даже считаем это заслугой, что вот, дескать, какой молодец, сколько лет, а молодым не уступит, и все у него здорово, и легкие, и сердце, и мочевой пузырь? Наверно, потому, что перейдя, наконец, в эту самую высшую фазу бытия, мы лишимся своей иллюзии физического существования, иллюзии, называемой жизнью. Наверно, это все же большая ценность — быть, чувствовать игру электромагнитных полей на сетчатке глаз, и перепады атмосферного давления на барабанных перепонках, которое кажется нам шепотом дорогого голоса, или начальными тактами симфонии, пусть все это лишь иллюзия. Зачем мы, наши физические тела, как повествуют легенды, притягивают тех, кто уже ушел, зачем мы тем, кто уже освободился от постылых земных оков, растворился в прозрачном небе? Зачем–то же мы нужны в этом, прозываемом нами физическом мире, возможно, чтобы просто передвигать в нем предметы с места на место и…
Чего это он там, насчет бабочек чего–то? Насчет стрекоз, это была аллегория. Во–во, я и говорю, объегоривают нашего брата все, кому не лень. Ты, это… хорош нам тут вешать. Это мы, что ли, там где–то набрасываемся? Не нравится тебе, я так скажу, — сиди и не вякай, мы в своем праве, мы дома у себя, подумаешь, чистоплюй выискался. Ищи себе других тогда… А чего ему, это, надо? Да вот, брезгает, а сам–то, небось, ежели что, глотку порвет за свое–то; козявки ему не нравятся какие–то, это мы у него козявки, ты понял. Это мы–то — мы наррод, мы утром встали — к станку, вечером пришли, выпили, закусили — хорошо! мы — трудовой народ, а он — паразит. Нам вот что нужно: станок и выпить–закусить. И никаких объегориваний. Давай, валяй дальше. Но без объегориваний.
Нет, нет, ничего. Я все понимаю, неприятно, конечно, немного, но ничего. Это неудивительно, хотя и неприятно — конечно, иначе и не могло быть, слишком долго все это продолжалось, а последнее время… Что — это? Ну, вся эта бессмысленная настоящая жизнь. Мы все так жили тогда, или, по крайней мере, примерно так. Как жили? Так и жили, были молоды, нас били — мы крепчали. У нас было много разных иллюзий; но главная из них, что мы существуем, и наше существование имеет смысл, какую–то ценность и что–то означает. Нас учили, внушали нам, что жизнь слонжа, и мы верили, верили в их пронумерованные рассказки, и жизнь наша была и впрямь такова, но мы верили, что когда–нибудь, в давно теперь прошедшем будущем она станет не так слонжа, и мы, действительно, умирали в борьбе за это, такие дела.
Это было, как… я называю это синдромом фронтовиков, они возвращаются, те, кто уцелел, оказался сильнее или… ну, живучее, или просто повезло, да, так они возвращаются к мирной жизни, храня в глубине своей истерзанной души гордую уверенность, что уж теперь–то они, по крайней мере, знают, какова она — настоящая–то жизнь, не то, что эти на гражданке, они и не нюхали, как говорится, пороху и всего остального, ну, вы понимаете. И многие, многие из них, мне кажется, большинство, а возможно, и все вместе не понимают, что познали войну, а жизни, которую они ушли защищать, не знают, да, может быть, и раньше не знали, во всяком случае теперь она уже изменилась и никогда не станет такой, как прежде; это теперь не та жизнь, которую они защищали. Они не понимают этого, не могут и не хотят, а возможно, боятся понять, именно поэтому они плохо уживаются в этой жизни, обижаются часто и часто сидят в кухне у стола, поврозь и попеременно, пьют горькую водку и… Скажите, вы считаете общественное признание столь важным для себя? Вы считаете, что вас не ценили? … Я этого не говорил. Ну, как же? Ну… я сказал, что питал иллюзию, что наше существование имеет какую–то ценность. Позвольте, разве это не так? Конечно, нет. Ну, правду сказать, мы сами это не сразу поняли, но нам объяснили, нашлись люди, все растолковали нам. Раньше, еще до нас, существование тех, кто был до нас, конечно, тоже не имело никакого значения, но об этом совсем никто ничего не знал, кроме, может быть, самых умных, они даже собрались в такой специальный клуб, или комитет, я уже сейчас не помню, как он назывался, вернее, как назывался–то, помню, а не помню, как называется сейчас, его много раз переименовывали. Но суть в том, что там просто все собрались самые умные, гораздо умнее нас, раз догадались собраться вместе, и поэтому, конечно же, лучше нас всё знали — что имеет значение, а что — нет, и все такое. Правда, они не сразу стали такими умными, они поначалу кое–что делали все же неправильно, поначалу убивали нас слишком мало, а потом слишком много, еще не приноровились тогда, я так думаю. Но это было, повторяю, задолго до нас, задолго до того, как мы начали свое существование, не говоря уже о построении иллюзий по этому поводу. Эти ребята уже многому научились к тому времени на опыте тех, кто был прежде них и нас; они вообще не стали нас убивать и делать всякие такие вещи, они просто сделали вид, что нас нет, и нас, действительно, не стало. Вот меня, например, — не было. Как это? Да так. Нам, или мне, по крайней мере, казалось, что жажда народная безгранична; кстати, так оно и оказалось впоследствии, только не нам суждено было утолить ее. Мы полагали, что в той жизни, где все было сковано и ограничено цементными стенами их власти, стоит только постараться и как–нибудь открыть кран, а уж под ним — истрескавшееся в духовной засухе океанское ложе, готовое благодарно принять в себя все, что накопилось за годы вынужденного затворничества целых поколений. А когда преграды были сломлены и краны открыты, оказалось, что под ними — всего лишь пивная кружка, пол–литра, и всё. Пол–литра попало–таки в нее, разумеется, но остальное растеклось довольно безобразной лужей, в которой мы все и оказались; нам самим было стыдно оказаться в таком положении и было неловко за наше простодушие и мы сами, заметьте — сами — стали говорить, что, дескать, мы здесь ни при чем, нас здесь и не было, так просто, мимо проходили… Те, кто были умнее нас, приветливо нам улыбались, провожая восвояси, и удовлетворенно писали отчеты о хорошо проделанной работе, а после шли пить пиво, возможно, из той самой кружки.
Да и, в конце концов, какая разница, был я или нет? Ведь это означает, был я или нет иллюзией, игрой электромагнитных полей на сетчатках чьих–то глаз, оставил я след в нейронных переплетениях чьего–то мозга, или на особых пластинах из растительного волокна, скрепленных вместе и хранящихся среди пыли и тишины специальных хранилищ. Меня это не делает ни счастливее, ни несчастнее чем я есть; вас, по большому счету, тоже. Важно, в сущности, другое — вот этот разговор, например, то, что происходит прямо здесь и сейчас, неважно, узнает об этом кто–либо, кроме нас или нет. Всё это также страшно банальные вещи, но именно мера банальности истины, вероятно, является и мерой ее абсолютности. В сущности, нужно просто знать, что все будет хорошо и не знать, как может быть плохо — и всё, и было бы славно, если бы все так поступали. В сущности, этому нас и учили и внушали нам это, те и еще другие, они очень враждовали из–за того, кому нас учить и внушать нам, и иногда побеждали одни, а иногда другие, только мы всегда проигрывали. Сейчас все мы представляем себе жизнь по разному и живем поэтому в разных мирах, а так жили бы все в одном, не знаю уж, хорошо это, или плохо. И только немногие готовы пожертвовать своим спокойным существованием и спокойным существованием тех, кто им дорог, во имя того, чтобы это узнать, чтобы узнать, как оно на самом деле. А есть такое? Не исключено, что именно это они и хотят узнать в первую очередь. Они чувствуют кожей потоки какого то иного мироздания, скрытого за тонкой пленкой повседневной реальности, и это чувство не дает покоя, заставляя постоянно отвлекаться, пытаясь взглянуть, то ли сквозь, то ли за нее. Что там? Какие приводные механизмы работают там, заставляя двигаться все эти фигурки на видимой сцене, персонажи этой большой игры, называемой нашей жизнью? Вот интересно, — я подумал сейчас, — покажутся ли на ней когда–нибудь настоящие актеры, и декораторы, и костюмеры, и осветители, наконец, сам режиссер? впрочем, так бывает уже в конце представления… У меня нет ответа на эти вопросы, только неясные ощущения, что все они существуют, эти циклопические машины, их огромные шестерни вращаются совсем близко от нас, мы их не замечаем, а если замечаем, то бывает уже поздно, и мы просто не успеваем уже никому ничего рассказать о них. Мне все это представляется так, будто мы находимся внутри огромного воздушного, а может, мыльного, пузыря с тонкими, но непрозрачными для нашего взора и оттого кажущимися нам твердью, стенками, как кажется непрозрачной и плотной тьма вне пределов, освещенных пламенем ночного костра. За ними–то, за этими зыбкими пределами, и происходит вся работа немыслимых и непостижимых для нас приводных механизмов, обеспечивающих существование нашего беззащитного и счастливого в своем неведении мирка, отзываясь в нем лишь неясным гулом да видениями у особенно чувствительных его обитателей, души которых отмечены знаком разреженного воздуха верхних безжизненных слоев атмосферы. Иногда же мне кажется, что за этими тонкими стенками повседневности идет бесконечная битва со стремящимся все поглотить небытием, и те из нас, кто волею судьбы, или по рождению оказался вблизи, видят их содрогание и смутно сознают, какие чудовищные силы сталкиваются, чтобы отстоять их непроницаемость для внешнего хаоса. Должны ли мы рассказать об этом? или не стоит нарушать наше спокойное неведение рассказами о том, на что мы все равно не в силах повлиять? да и могут ли быть правдивы эти рассказы? этого я не знаю…
Сколько я себя помню, я все время был должен. В смысле, кому? Ну, просто — должен, всем подряд. В детстве мне говорили — ты должен уступить, ты младше, потом стали говорить — ты же старше, ты должен уступить. С момента рождения я был всем должен и должен был всем уступать, я не знаю, почему так получалось. Я был должен слушаться маму, вежливо отвечать, делать уроки, вовремя приходить, платить членские вз–носы, горячо любить свою родину, терпеть, держать себя в руках, проявлять великодушие, уступать старшим, уступать младшим, уступать ради сохранения отношений, уступать, поскольку отношения все равно не сохранить, должен уступать знакомым и уступать незнакомым, уступать тем, кто умнее, потому что они умнее, и тем, кто глупее, потому что они глупее, должен выполнять свой долг, отдавать все свои силы ради общего… Но разве это неправильно? Ведь на этом основаны все отношения между людьми; нельзя жить в обществе и быть свободным от него? Наверное, вы правы, так меня и учили, объясняли мне, и я сам так считал, мне так казалось. Больше всего, ясное дело, я был должен своей родине и народу, я должен был служить им и защищать их, и трудиться на их благо, и отдавать в процессе этого все свои силы ради общего… Да, я помню, вы это уже говорили. Ну да, и я добросовестно все это выполнял, а мне за это мой народ и моя родина тоже чего–то были должны, только я забыл, что… Впрочем, мне кажется, они тоже. Вообще–то, вполне возможно, что она, моя родина, впоследствии исполнила бы этот свой долг по отношению ко мне, когда–нибудь, однажды; что–нибудь такое случилось бы, и тут–то… Но, к сожалению, ей это не удалось сделать, она прекратила свое существование раньше, чем я, и чем все мы, и даже раньше, чем успела сообразить, что происходит; все случилось очень для нее и для всех нас неожиданно — кто бы мог подумать, все было так весело — и никто ведь ни о чем не догадывался, совершенно; ну, и она просто не успела.
Ну, ничего, — продолжал думать я, — остался еще наррод, люди, человеки, такие же, как и я, ведь я его часть, пусть даже очень маленькая и, наверно, не самая нужная ему, но все же часть. Я добросовестно исполнял все, что должен, я исполнял это год за годом и считал себя положительным и ответственным человеком, я поддерживал свое физическое тело в относительном порядке, одевал и причесывал его, чтобы оно походило на окружающих и было, таким образом, для них незаметно и не причиняло неудобств, я старался уступать, когда это было необходимо, а это было необходимо почти всегда. Однако со временем я стал замечать, что должен практически всем вокруг, а мне самому никто себя должным как–то так не считает. Сначала–то, когда я был еще маленький, я думал, что это, наверное, только у взрослых так, а я еще не дорос, и довольно долго так думал. Потом я неожиданно обнаружил, что сам уже давно взрослый, а положение не меняется; это стало меня удивлять и постепенно мое удивление стало приобретать болезненные формы: я стал чувствовать какую–то неполноценность — как же так, стал думать я, наверно, я чего–то не понимаю, а может, обо мне просто забыли? Но когда я стал спрашивать об этом, несмело поначалу, на меня смотрели так, как будто я сделал что–то неприличное, пукнул громко, или что–то в этом роде или духе, я не знаю. То есть, я хочу сказать, получалось, что совсем про меня не забыли, наоборот, просто стараются не замечать моего неприличного поведения, моих нелепых вопросов и претензий, проявляют ко мне великодушие и снисходительность, и может быть, даже именно за это я им всем и должен. Мне стало казаться, что своими пустыми претензиями только морочу им головы, у них есть эта их настоящая жизнь и настоящие дела, и поэтому я должен им помогать, не жалея своих сил, ведь своих дел у меня нет, или они не так важны. Стоп, как не важны? вдруг подумал я. Хорошо, я понимаю, что, наверное, не слишком был нужен им всем, я не сделал для них ничего выдающегося, но, с другой стороны, на выполнение своего долга у меня уходило почти все время и силы, так что получался замкнутый круг. Короче говоря, я, наверно, совсем заболел. Я стал совершенно невыносим, раздражителен, нехорошо вел себя, невежливо, все время подозревал всех в чем–то… в общем, нехорошо. Я очень мучился от этого сам, я понимал, что веду себя нехорошо, но ничего не мог с собой поделать, вернее, — нет, просто, что бы я с собой не поделывал, получалось еще хуже, я совсем отчаялся тогда; и главное, что от этого всего я становился должен всем вокруг все больше и больше, час за часом и день за днем, и каждый мой поступок все увеличивал этот мой долг. Ну, и чем кончилось? Ну, ничем особенным и не кончилось; кончилось просто, как все в жизни кончается: просто все устали, и я первый, — я все еще испытываю всякие неприятности, связанные с этим, но уже меньше. Главное, мне теперь все время говорят, что если я хочу избавиться от этого и не страдать, то я должен, — чувствуете? — изменить свое отношение… ну, и так далее.
Давайте, вернемся к началу вашей творческой деятельности? Ну, так что, ну, я рисовал; я, сколько себя помню, рисовал, только не помню зачем, это было какое–то рефлекторное поведение, вероятно, я не представлял, что можно жить как–то иначе, короче, не помню. Нет, нет, помню, помню, я в детстве рисовал просто все, что видел, а видел я что–то, главным образом, в книгах (или читал), телевизора тогда не было, или почти не было, хотя многое я, конечно, почерпнул и оттуда. Я всякие журналы ученые любил, научно–популярные издания, как их тогда называли, там было научное знание, и сильная техника, и молодежная жизнь, много чего, народной любви — ящиков двадцать… ох, это, пожалуй, не оттуда, это совсем из другой жизни, совсем из другой… Да, так на меня, видимо, большое впечатление все это производило, я поглощал все подряд, — техника, палеонтология, физика, лингвистика, — конечно, я не всегда точно знал, как это называется по–умному, хотя кое–что все равно знал и вообще, наверное, больше, чем нужно, чем это допустимо в нежном возрасте, чтобы вырасти нормальным, социально приспособленным, ладить с людьми, ходить в походы и на танцы, вести бессмысленные разговоры о смысле жизни с заведующей овощной базой, судорожно вцепившейся в незамечаемую уже, погасшую сигарету, клонящуюся над рюмкой разбавленного кипяченой водой и потому теплого спирта… Не знаю, возможно, поэтому у меня теперь все это не получается, все то, что я должен, — я ведь все время что–то должен, я вам говорил? — только никак не могу сообразить, что. Да, да, нет, не прерывайте меня — и поскольку всего этого было довольно много, это составляло весь мир вокруг меня, так, по крайней мере, мне тогда казалось, да, наверно, так это и было. Так я его и рисовал, непрерывно, горы бумаги ложились на подоконник (он был у меня вместо стола, стола не было) падали с него, и тогда меня заставляли «разбирать на подоконнике», это было наказание, я понимал, что делать это нужно, но это отнимало массу драгоценного времени, когда можно было еще что–то нарисовать, или нашалить, а чаще то и другое вместе. Я рисовал каких–то ужасных животных и циклопические машины, перемежая все это их подробными чертежами в трех проекциях; я потом разглядывал свои рисунки, те, что сохранились, те, что не были убраны моими собственными руками с того подоконника и не выброшены в помойку под мой горький рев: мне тогда казалось это несправедливым, я не знал тогда, что так, вообще–то, будет всегда. Она, она, родная — конечное прибежище всех наших трудов, праведных и не очень, как отчая земля, принимающая нас, стремящихся к ней, как к последнему упокоению и пределу, ласковая и родная, хотя и дурно пахнущая, разумеется.
Зачем, зачем вы мне это говорите? Зачем… время появилось, вот и говорю, просто использую возможность это сказать, я ведь не знаю, что будет завтра или послезавтра, будет ли меня хоть кто–то слушать, например, хотя, впрочем, думаю, ничего особенного не будет, ничего такого, чего не было бы вчера, или месяц назад, или даже в прошлом веке, это когда–то уже писал, там… один, давно, и с тех пор вот мы повторяем, полностью подтверждая его правоту… Но я, знаете ли, отвлекся. Так, о животных — да, ужасно, ужасные животные и жуткие монстры, как я теперь понимаю, чудовища, а тогда они меня совсем не пугали, это было просто следствием увлечения палеонтологией, наверно, слишком сильного, потому что даже там нет таких чудищ. И скелеты, скелеты, с раскроенными топором черепами, которые я видел в одной книжке, а может быть, журнале, скорее всего, это был юмор какой–нибудь, знаете, юмор разных широт, или длиннот, я сейчас не помню, но мне очень понравилось, я оценил этот юмор, я уже чувствовал, что есть в нем что–то такое, от жизни, что–то неуловимо растворяющее тонкую пелену предо мною и дающее проступить сквозь нее слабым, еле видным картинам, быть может, пугающей, но все же реальной жизни, если, конечно, таковая существует, в чем я лично сомневаюсь. Помню, я увидел в каком–то журнале рисунок — тюлени на льдине, и на них падает дождь из долларов, это была иллюстрация к заметке о каком–то смерче, вероятно, который раздраконил инкассаторскую машину, или что–то в этом роде, а потом вышвырнул все это добро где–то за полярным кругом, мне почему–то казалось, что южным, хотя это, наверное, было не так. Я почему–то стал рисовать этот сюжет, чем–то он привлек меня, раз, другой и нарисовал их, наверное, десятков до полутора. Мой отец, в одно из редких своих посещений критически посмотрел и осудил — что, дождь из долларов? нахмурил он брови — это откуда же у вас, молодой человек, такие фантазии, это буржуазная пропаганда просочилась, чуждое влияние?.. Я был совсем маленький, но сообразил, что объяснять про популярный журнал и удивительное природное явление бессмысленно, только еще больше все запутает. Он был очень идейным человеком, мой отец, за что впоследствии и пострадал — те, кому он служил верой и правдой много лет, вышвырнули его, как ветошь, и обида за это чувствовалась в нем до конца жизни. С тех пор у меня выработалось неосознанное отрицательное отношение к знаку доллара; когда я много позже обнаружил его у себя на клавиатуре и узнал, что без него не обойтись, потому что он используется где ни попадя, и чаще всего не по своему прямому назначению, я был несколько обескуражен.
Жуткое зрелище — мои рисунки того времени, хотя и последние, конечно, тоже не подарок. Известная рассказка по череп на гусиной шее немедленно нашла отражение в моем творчестве в компании всевозможных привидений и призраков. Это был зов тайны, эхо какого–то другого мира, неясное воспоминание о чем–то, что напрочь забыто, наглухо заколочено и отражается в неровном зеркале нашей реальности, порождая фантастические видения, забавные и не более.
Однако позже я, наконец, изобразил–таки то, что вызвало уже настоящий шок у меня самого. Я был один — все ушли куда–то по своим делам, я сидел в комнате, у буфета (стола, не было, я, кажется, уже говорил) и рисовал; было очень тихо, тихо–тихо, в нашем доме редко бывало так тихо, все, вероятно, тоже ушли по своим делам, возможно, чтобы дать случиться тому, что должно было случиться. Лицо, взглянувшее из–под моего карандаша, заставило меня оцепенеть, я отчетливо услышал звон в ушах; все свернулось в спираль вокруг лежавшего передо мной листа бумаги, сковав меня параличом. Прошло много лет с тех пор, но сейчас, рассказывая об этом, я вновь вижу все как наяву — я не смог бы выдавить из себя ни звука, древнее чувство затопило меня, нет, не ужас животного, нет, что–то такое, что, возможно, переживал первый комок протоплазмы, в мучительной судороге обретавший жизнь, а вместе с ней и чувство ее чудовищного безрассудства, безумия хаоса, жадными слепыми отростками тянущегося со всех сторон… Нет, нет, вы не поняли — никаких монстров, никаких рогов и копыт и прочей ерунды: то была бездна такого нечеловеческого страдания и вместе с тем ужаса абсолютного, космического безумия, что, распахнувшись, она ударила меня, как бичом. Судя по всему, я был на волосок от гибели, или сумасшествия, сердце заколотилось, как эпилептик в припадке, звон в ушах сменился нарастающим невнятным стоном, как будто все бесприютные души, со дня творения блуждавшие в пустоте мироздания, обрели отчаянную надежду быть услышанными, и бессвязно жаловались, и молили о пощаде, все возвышая свой глас; я почувствовал, что спираль безумия охватывает меня все плотнее, не дает освободиться и втягивает в себя как мясорубка; меня стало трясти, как под током, и это, как часто бывает, спасло. Все заняло, вероятно, несколько секунд — я сбросил оцепенение и вновь почувствовал, что стою в нашей скучной комнате и смотрю на освещенный лампой рисунок; я схватил его, судорожно сунул в ящик… Я пришел в себя, но легче мне не стало, я не смел вновь взглянуть в освещенный круг на крышке буфета, уже пустой; лицо и глаза полные муки, утратившие искру разума, как глаза человека, сошедшего с ума в темной бездне безмолвия и одиночества, отпечатались у меня на сетчатке; я видел их, куда бы ни обратил взгляд. Я не помню, сколько сидел так, прижавшись к стене, не слыша ничего, даже стука собственного сердца. Вернула меня к жизни бабушка, появившаяся через некоторое время — увидев меня, скованного столбняком, глядящего дикими глазами и что–то бессвязно мычащего, она открыла ящик, несколько секунд глядела на рисунок, хмыкнула и, пробормотав что–то вроде «о, господи», порвала и выбросила в помойку… Я уже, кажется, упоминал, что там находило приют большинство моих произведений, так и это присоединилось к ним, прах к праху… Несколько лет после этого продолжался, в сущности, кошмар. Я боялся темноты, боялся оставаться один, ну вы понимаете, полный набор, боялся себя. Кому принадлежал тот, полный страдания и отчаянья исступленный взгляд, воплотившийся на миг под руками мальчика, почти ребенка…
Кто? Дед Пехто! Что вы тут порете — уши вянут. Образованные, бля, лишь бы болтать, да не работать, жизни вы не знаете, вот что. Слыхали мы все это тыщу раз, вот один был, давно, правда, тоже носатый, так тоже плел что–то вроде того — поновее чего–нибудь сочини. Опять, небось, за свои объегоривания взялся…
Не обращайте внимания, выключите звук. Да, я стараюсь, стараюсь не обращать внимания, хотя это и очень трудно, даже без звука, почти совсем невозможно, мое внимание постоянно обращается назад, разворачивается как флажок на капоте под напором встречного потока жизни. Впрочем, и это уже в прошлом, далеком, как городская окраина, бывшем тогда еще, раньше, прошедшем в нескончаемых полуночных спорах о судьбе, и вере, и творчестве, и месте людей во всем этом дерьме, задолго даже до моего, не говоря уже о вашем, рождения. Вы говорили… Да, я даже смог вновь рисовать, спустя некоторое время, но жизнь моя, особенно ночью, все еще была слонжа, я боялся всякой ерунды, но больше всего себя. Впрочем, я продолжал рисовать всякую всячину, машины, фигуры, мне очень нравилось рисовать шар и тор, мне чудилась в них какая–то метафизичность, скрытая загадка; рисовал голых девочек, за что был отчасти порицаем родными, а отчасти и нет, кстати, потом это мне очень помогло, я ведь не думал, что стану художником, и не стал им, и когда я им не стал, мне это очень помогло, очень.
Сочини… нет, нет, я не могу успокоиться и не хочу этого, это меня задело, вызвало желание им ответить, что–то объяснить. Им кажется, что ничего в этом нет особенного, взял и сочинил, «из головы», что захотел, захотел — так, захотел — этак, захотел, все переделал, исправил, когда захотел; глупые! мне говорили — ты же чувствуешь свою власть? ты же создаешь мир, который полностью подвластен тебе, ты можешь сделать его, каким захочешь, ты можешь вершить в нем все, что взбредет тебе на ум, можешь уничтожить его, наконец. Все верно, но эти невежды не догадываются, что художник — раб первого мазка, а не владыка; он властен только над чистым нетронутым холстом, заключающим в своей глубине все возможные и невозможные исходы этого неотвратимого поединка с ним, но когда первый выпад и первый укол тобою сделан, ты более не властен ни над чем, ты совершаешь свой труд, повинуясь мольбе рождаемой тобою жизни, освобождаемой от оков нетронутого безмолвия холста; иначе ее не будет, а будет всепоглощающее умоисступление хаоса и распада; рождающаяся жизнь лишает своего создателя свободы, он должен поделиться ею, вдохнуть ее в свой труд, чтобы тот имел хоть какую–то ценность и мог существовать. Почему в мире, в котором мы живем, столько зла, столько, с нашей точки зрения, несправедливости, когда создателю его достаточно шевельнуть пальцем, чтобы исправить все это? Быть может, внутренняя логика этого мира, мы называем ее гармонией, — отражение изначального творческого замысла и воли — потребует, исправив одну деталь в непостижимо сложной композиции, исправить затем и все остальные, связанные с ней незаметными, но неразрывными нитями, и результатом будет уже какая–то совсем иная картина, на которой, возможно, уж и не будет места для нас с вами… Если же из своей любви к нам он так и оставит эту логику нарушенной, все незаметно поглотит давно ждущий такого случая абсолютный жадный хаос, и не будет уже ничего, ничего, ничего…
Спустя годы я любил подолгу сидеть и смотреть на чистый, подготовленный и загрунтованный холст (это знакомо многим художникам), заботливо выровненный и отшлифованный, бережно, чтобы не повредить текстуру; просто смотреть; он гипнотизировал меня, он казался лучше, совершеннее и значительнее всего, что создал я сам и даже всего, что я когда–либо видел, он обещал раскрыть совершенно неведомые и немыслимые тайны и невероятные глубины смысла и ничего не раскрывал, разумеется. Я вздыхал, поднимался, брал в руки свой «меч» и, чуть помедлив, чтобы собраться, вонзал его в неподвижный и величественный, как небосвод, покой, и он содрогался, набухал цветом, разделялись тверди, навсегда разлучая «над» и «под», и начинался акт творения — каторжного, подневольного труда, исключающего всякие глупости, вроде радостей творчества, или свободы самовыражения; сам я отходил на второй и третий план, становился инструментом, орудием неумолимой первозданной воли новой действительности, рождающейся с моей помощью и придающей моему собственному существованию смысл, как придает рука хирурга смысл существованию скальпеля. Я познал, что должен завершить все свои восторги вдохновенья до того, как надеваю эту лямку — после для них уже нет места, а есть лишь неумолимое развертывание и овеществление построившейся в моем дрожащем от напряжения воображении картины; я познал, что, в сущности, она к этому времени уже закончена, я сделал свое дело, и получил свое, и больше не нужен ей — мне остается лишь влачить свою рабскую лямку и наградой мне будет лишь чувство долгожданного освобождения, финального «the end», приносящего опустошение и тишину. Я часто скрывался от этой муки в суете будничной жизни, забывался в потоке повседневных забот о близких, о хлебе насущном, я месяцами существовал в виде мыслительной машины, лишенной даже желаний, настолько далекой от всего этого, что внезапно пришедшее воспоминание казалось воспоминанием о прошлом воплощении; я малодушно отворачивался от этой своей лямки, призрачно видневшейся в углу, пока банальная потребность вновь придать смысл собственному существованию, вновь не заставляла меня сунуть в нее свою голову… Нет, это невыносимо, даже без звука, минуту… (Пауза)
Долгое время мною двигало желание разбудить всех вокруг: ощущение, что мы спим в постепенно осыпающемся доме, было невыносимо. Я работал по четырнадцать часов, днем — чтобы обеспечить существование своего физического тела и сделать его незаметным для окружающих, вечером — чтобы сделать для них заметным окружающий мир, вернее, чтобы они заметили то, что вижу я, глупо наверно, тогда мне казалось, что это очень просто, нужно писать, что видишь, и всё. Но оказалось, что это не просто, нет. Постепенно я понял, что вижу что–то не то, или не так, на меня смотрели странными глазами, мне говорили — искусство должно нести гармонию, а у тебя все построено на фис… нет, дисгармонии, я соглашался, хотя и не вполне ясно понимал — почему. Говорили — ведь жизнь гораздо шиире того, что ты изображаешь; я вновь не мог понять, я не изображал всю жизнь, а только то, что видел… Коротко говоря, через некоторое время я понял, что не понимаю вообще ничего. Ну, представьте, вы приносите в это свое… агентство? расшифровку нашего разговора, а вам говорят — нет, ну, что вы, на роман в стихах это никак не похоже, нет. Ваше ощущение? да? Во первых, вы как бы и не претендовали, скромные заметки… во–вторых — это не стихи. Вот и у меня было подобное чувство — потом прошло, правда, мне стало все равно. Со мной произошла странная вещь, я попался в ловушку собственной добросовестности: ценя данное мне, я полагал, что должен быть этого достоен, должен совершенствоваться, расти над собой; я добросовестно занимался этим, но в какой–то момент понял, что, и точно, перерос себя самого, что смотрю на себя и то, что я делаю, уже несколько сверху и более не могу сделать это для себя настолько важным, как раньше, при том, что продолжаю ощущать единственным источником смысла своего существования.
К тому времени все уже проснулись, безо всякой моей помощи, разумеется, забегали, засуетились, спасти уже ничего было нельзя; худшего тогда, впрочем, избежали, а уж что началось потом, об этом разговор особый. Тогда мне и стало ясно, что меня просто не было, я уже вам рассказывал, в этом и была вся проблема, я в гордыне своей считал, что существую и виден невооруженным глазом, ан нет — видно, я что–то перемудрил со своей незаметностью, а может быть, — я вот сейчас подумал, — может быть, так и было задумано умными людьми. Меня просто не было, все это была иллюзия, данная нам в ощущениях. Лишь гораздо позже я узнал, что, вроде, так и дóлжно поступать, идти, не оставляя следов, не нарушая великого равновесия и гармонии данного нам в ощущениях мира, который мы и без того довольно заследили и изгадили, сделали невыносимой свою жизнь в нем и посвятили себя высокохудожественным жалобам на это. Я понял, что все это не нужно, что я делал, просто никому не нужно, не нужен этот вот уголок их жизни, внимательно рассмотренный, сохраненный и показанный мною, не нужен задумавшийся о чем–то человек посреди голого осеннего поля, не нужны пациенты обшарпанной больницы на самой окраине города, тайком от сестры закуривающие на заднем дворе, не нужны они сами, разглядывающие самих себя через разделившее их навек стекло забвения, и уж подавно не нужно то, искаженное вечным страданием лицо заключенного в стеклянную банку безумия и одиночества, не нужно уже ничего, ничего, ничего… Все это оказалось совершенно никому не нужно, — кроме меня самого, мне бы просто негде и нечем было существовать — да, я подолгу расстаюсь с ними, я, быть может, виноват, устаю иногда и перестаю желать чего–либо, меня временами поражает механическое бесчувствие, когда я превращаюсь в мыслительную машину, но я скажу вам, только вам, что начинаю жить, лишь вернувшись к ним, как беглый раб на поле своего господина, и лишь продолжив возделывать его, обретаю смысл и полноту жизни, хотя, конечно, и страшно ругаюсь при этом.
Как это все же печально. Что именно? Ну, то, что вы рассказали, мне это так знакомо и понятно, ничего не изменилось, понимаете, совершенно ничего, прошло столько лет, можно было бы чему–то научиться, сделать выводы, но ничего не изменилось, все лучшее, что нам удается создать, плоды упоенной работы, бескорыстной, как бывает бескорыстен только истинно свободный труд, все, все перестает существовать, стоит лишь дать ему жизнь и выпустить из рук; снова те же самые люди отнимают у нас последнее, что осталось после того, как наши родители и мы сами своими руками изгадили и разрушили свою жизнь и сами продались им в рабство. Все стало вокруг чужим, не знакомым, лица, улицы, и я чувствую себя, как ребенок, ненароком забредший на чужой двор — незнакомые тетки, дядьки, мальчишки поглядывают не то, чтобы враждебно, но вот попробуй нарушить какой–нибудь их неписаный закон… И они, все те же самые, понимаете? захватили всё, везде, пришли и владеют нами… Ну — будет, будет вам… поверьте, это не так, им и вам это только кажется, эти люди так же несчастны, как и мы с вами, только не знают об этом, и так же, как и мы, счастливы, только этого не ценят, да и не в них дело. Все мы вместе кружимся в нашем крохотном воздушном пузырьке, затерявшемся в толще мироздания, счастливые в своем неведении и дарованной нам способности его постижения. Нас тоже создали и выпустили из рук, и мы исчезли, ушли не оставив следа, или, по крайней мере, сделаем это рано или поздно. Ничего в этом нет печального, поверьте, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, нет ничего нового под солнцем, и это, пожалуй, то немногое, что внушает надежду; не огорчайтесь так, вот, — вытрите. Ну? ничего, ничего, что вы — мы еще увидим порох в пороховницах, еще поскрипим ветвями, все будет хорошо, вот, чаю сейчас выпьем…
(Пауза)
А вот ещё был случай. Как сейчас помню, было теплое весеннее утро, и я возвращался от друзей под сохранившимся со вчерашнего вечера лёгким шофе, дул вежливый ветерок, и ноги несли меня потихоньку по засыпанной щебнем дороге. Через пыль, смешанную со щебнем, пробивались скромные травки, такие же, как мы, грешные, упорные, нас топчут, а мы год за годом пробиваемся сквозь пыль всё на той же засыпанной щебнем дороге. Когда–то на этой дороге не было щебня, а лежала в её начале груда кирпичей. Сначала из кирпичей хотели строить, может быть, забор, высокий и прочный, чтобы перегородить дорогу, не дать ходить по ней взад и вперед свободно кому попало, только потом что–то, видимо, изменилось в планах строителей, что–то не сложилось, может быть, они умерли от старости, не собрав количества кирпичей, потребного, чтобы забор был достаточно высоким и прочным и соответствовал их планам, и с тех пор на куче кирпичей всё время кто–то сидел, то один, то другой. А потом прошло время, и от этого — и от задов тех, кто сидел — кирпичи рассыпались в щебень, и щебень рассыпался по всей дороге и смешался с пылью дорожной, через которую упорно пробивалась скромная, как мы, травка, затруднив это дело хотя бы ей — уж если не удалось перегородить всю дорогу. Но травка не жаловалась, как и мы, мы тоже не жалуемся, когда нам затрудняют жизнь, если уж не удалось совсем сжить со свету. И вот, мы (я и травка) пробивались через древнюю пыль дороги, ибо может ли быть что–то древнее пыли?
Правда мне пробиваться было чуть веселее, я же шел от друзей, у них накануне была свадьба, женили дочь, или выдавали сына замуж, я сейчас уже не помню, помню только, что свадьба была бедная, но весёлая, как бывают веселы бедные свадьбы, и, кажется, даже не хватило вина, но потом кто–то из гостей подсуетился и достал вино, даже лучше прежнего. Так я шел и взирал с уважением на всякий камень, попадавшийся мне по дороге, и вдруг понимал, что камень тот древнее самой древней древности и нет ничего древнее него, ибо родился он от самого сотворения мира. Побывал ли он на дне морском, (которое, к слову сказать, всё равно его моложе), или выплавился из огненных чресл вулкана какого–нибудь, который созрел некогда и, извергнув своё, что ему было положено извергнуть, исчез с лица земли, так что и памяти о нём не осталось, да и у кого она могла бы остаться? А окаменевшее порождение его валяется, как ни в чём ни бывало, под ногами и будет лежать, когда памяти не останется и о нас (да и кто мог бы её сохранить?), если только раньше не будет растерт сначала в щебень задами сидящих на груде, а потом уж в пыль под ногами возвращающихся в лёгком подпитии с бедной свадьбы, пыль, затрудняющую жизнь и им, и скромной травке у обочины, но пожалуются ли они на это?
Путь был неблизкий, и, размышляя обо всех этих поучительный вещах, я не заметил, как солнце стало клониться, и воздух — синеть и наливаться тенью. Вдалеке стали отчетливо видны верхушки городских стен, еще освещенных солнцем, давно зашедшим над дорогой, по которой я тащился.
Я присел у обочины, где трава пробивалась сквозь островки щебня. Неподалеку расположился еще кто–то, почти невидимый в ранних сумерках, слышался тихий неразборчивый разговор. Почти рядом со мною, скромно примостившись меж заносами сухой прошлогодней травы, всякого мусора, оставленного весенним паводком, тихо дремал мелкий ручей, весь в песчаных отмелях, белеющих в сумерках, как незагорелые плечи. Стало прохладно, сырость стала проникать под одежду и дотрагиваться холодными пальцами до кожи, стыдливо отдергивая их, чтобы спустя несколько секунд продолжить эту чувственную игру с нарастающим воодушевлением. Я собрал прошлогодние ветки, посуше, развел костерок. Разговор затих, потом возобновился, уже чуть громче.
Нет, я не путешественник, в необоримой одержимости жаждой познания непреклонно идущей по своему пути, совершающий великие подвиги ради раскрытия тайн мироздания — к своей славе и гибели. Я — тот, кто сидит у края его дороги и поддерживает огонь в костре, я, быть может, недостоин развязать ремень обуви у идущего, я лишь храню маленький колеблющийся круг тепла и света для того, кто, как и я, не может, или уже не хочет идти, для того, кто просто устал. Нам не суждено было до захода солнца достичь высокого града, высящегося вдалеке; прежде рассвета нечего и думать об этом. Мы будем сидеть у дороги, греясь в зыбком тепле костра, поддерживая его жизнь мертвой плотью деревьев, поддерживая неровную, как его пламя, гаснущую и разгорающуюся вместе с ним беседу живой плотью своих воспоминаний и мыслей собравшихся на обочине возле огня. Мне нечем накормить или утешить их, но во фляжке есть еще на дне спирт, холодный и безжизненный, как вода в крохотном, окруженном выцветшей прошлогодней травой бочажке спящего поблизости ручья. И там, в наползающей тьме, когда свет огня слепит и скрывает все, что находится за пределами освещенного им круга, я все же успел разглядеть маленькую, скорченную и почти человеческую фигурку.
Она качалась на легком, неощутимом ветерке, высохший покинутый чехольчик, судорожно вцепившийся мертвыми прозрачными лапками в такую же сухую и ломкую осоку, клонящуюся над холодной и безжизненной водой. Некогда, повинуясь тревожному и неодолимому стремлению, выползла она вверх по стеблю и замерла, истощив все силы и расставшись, наконец, со своей бессмысленной и жестокой жизнью. Разорвать свою хрустящую, более ненужную оболочку, и улететь, улететь навсегда, прочь, прочь от этой жизни, в которой сделано так много ужасных вещей, забыть, навсегда забыть о ней, растворившись в послеполуденном прозрачном небе…
(Пауза)
Конец сентября
Доктор, я часто вижу подозрительных лиц в вагоне метро. Каждый раз, когда я захожу в вагон метро, я их вижу. Я редко езжу в метро из–за этого, но всякий раз, когда езжу, я часто их вижу. Я вхожу и сначала стараюсь не смотреть по сторонам и вообще ни на что и ни на кого не смотреть, но когда все же посмотрю, их лица кажутся мне очень, очень подозрительными. Не то чтобы они выглядели как–то иначе, чем раньше, или делали что–то необычное, но они всегда вызывают у меня какое–то смутное беспокойство и тревогу. Их глаза, глаза, обычно закрытые толстыми складками век, или уставленные в книги и газеты, которые они держат в своих руках, сразу поднимаются ко мне, когда я вхожу, все до единого, и выглядят очень, очень подозрительно. Все как бы хотят сказать мне что–то, наверно, чтобы я не вмешивался в их подозрительные дела, молчал, не поднимал на них взгляд свой и не встречался с ними глазами своими, числом два, один правый, другой левый, — они так никогда и не могут договориться между собой, — правый видит все светло, празднично, живописно, цвета яркие, но немного так все расплывчато, неясно, разводы какие–то, прямо скажем, ничего толком не видит; левый — все видит ясно, хотя и не очень, четко, хотя и не совсем, графично — тона чуть приглушены, контуры выделены, темновато все, скажем прямо, но разобрать можно, не то что правым. Беда только, если обоими смотреть, все двоится тогда, расплывается, наезжает одно на другое, светлые, яркие, но неясные впечатления наплывают на четкие, но темные умозаключения, и картину все это в результате дает очень подозрительную, очень.
Доктор, я также вижу много подозрительных людей в пачкающей меня одежде, курящих и занимающихся попрошайничеством. Я говорю об этом, упоминаю, просто для полноты картины, потому что я часто их вижу, и не только в вагоне метро, но и в вестибюле, и вообще не в метро, а где–нибудь еще, иногда даже у меня дома, они курят, и занимаются у меня попрошайничеством, пачкают меня своею одеждой, выпрошенной, вероятно, у меня же, только я не помню точно, когда именно и почему это я дал ее им; и, главное, они курят, все время курят, хотя я не разрешал им этого, курят и пускают дым мне в глаза, отчего те слезятся, и все в них еще больше двоится; они не спрашивают меня, они курят и пачкают меня, вероятно, моей же, когда–то бывшей моею собственной одеждой, и попрошайничают у меня и друг у друга, и все это тоже кажется мне подозрительным, хотя и в меньшей степени.
Так вот, — возвращаясь к метро, — когда я вхожу в вагон, все это возникает не сразу. Потому что я стараюсь войти незаметно, чтобы никто не обратил на меня внимания: я специально так одеваюсь и стараюсь выглядеть так, чтобы сделать себя ничем не примечательным — я для этого отпустил черную бороду до пояса, глубоко на лоб, почти на глаза, я натягиваю черную вязаную шапочку, — почти всегда, иначе мерзнет выбритая до синевы голова; иногда, чтобы сделать себя совсем неприметным для окружающих, я натягиваю ее на лицо полностью и только смотрю через узкие щели для глаз, которые специально прорезал ножницами, чтобы через них смотреть. Но увы, это не очень помогает и даже, мне кажется, скорее мешает, и на меня тогда, мне кажется, смотрят еще даже подозрительнее, а однажды даже все просто вышли из вагона, и я остался один, хотя и не надолго. Долго меня потом допрашивали специальные люди, которые следят там за порядком, но потому, что я честно все им рассказал, вот почти как вам сейчас, они меня довольно скоро перестали допрашивать и отпустили.
И когда на улице холодно, — зимы все же у нас долгие, студеные, мы так и говорим обычно: однажды, в студеную зимнюю пору, я из дому вышел, и т. д. — ну вот, я тогда выхожу из дому в черном свитере с высоким воротником, раньше говорили «водолазка», и черном же, почти до полу, пальто. Брюки я тоже надеваю, но их обычно не видно из–под пальто, так что я не обращаю на них особенного внимания, и один раз из дому вышел совсем без них, но скоро замерз и вернулся. Ботинки. Ну, ботинки; обычные, только не очень новые и, по правде сказать, не всегда чистые. И я всегда ношу с собой свой старый черный рюкзачок, в котором удобно таскать всякую всячину, например, мои любимые книги или пачки газет — просто так, чтобы он не висел вялым вытянувшимся мешком, показывая, что его хозяину нечем даже наполнить его. Или же, когда не очень холодно, одеваю полувоенную камуфляжную форму, которую выменял у какого–то приятеля, кажется, охранника, не помню уже на что, а может, просто купил ее, и у меня ее не успели еще тогда выпросить и испачкать. По правде сказать, я один только раз ее надевал, в тот раз, когда все покинули, бросили меня одного в вагоне, оставили специальным людям, следящим там за порядком, они думали, что у меня там что–то есть в моем рюкзачке, что–то кроме томика Белого, пачки сигарет, зажигалки, иногда булочки, кое–чего из сменного белья на всякий случай, и на всякий случай блокнотика, чтобы записывать разные мысли — он у меня уже третий год, поистрепавшийся, но совершенно чистый, наверно, потому, что шариковую ручку я всегда забываю положить, — а также ключей от моего дома, где я также вижу подозрительных лиц, — то есть, в общем, честно говоря, дребедени всякой. Вероятно, они думали, что я там ношу какую–нибудь сардинницу ужасного содержания, но я им все показал, что у меня там, они, впрочем, поначалу как–то странно к этому отнеслись, во всяком случае, очень быстро вышли из комнаты, где меня допрашивали, но я тогда все им объяснил, что никакой сардинницы у меня там нет, я прекрасно понимаю, что нельзя носить такие вещи с собой в рюкзачке в общественном месте, каковым, несомненно, является метро, и они меня довольно скоро отпустили, хотя все–таки прежде и побили немножко — впрочем, это, наверноe, не имеет к делу прямого отношения.
* * *
Итак, я вхожу. Я встаю в углу, или где там находится для меня место, и закрываю глаза. Но вскоре, доктор, я начинаю ощущать какое–то волнение, какое–то беспокойство начинает происходить вокруг меня. Я открываю глаза и вижу, что все взоры обращены на меня, все без исключения подозрительно глядят на меня своими глазами, все, даже те, кто закрыл их и спит, или уткнулся в книгу, или закрылся газетой, или же те, кто вообще стоит ко мне спиной. Заметив, что я наблюдаю за ними, они поспешно и неуклюже пытаются показать, что им нет до меня никакого дела, что я безразличен им, что это они просто так, на минутку взглянули на меня, в рассеянности, и даже не на меня, а на что–то за моей спиной; они начинают переглядываться между собой и делаются от этого еще подозрительнее, они что–то готовят, доктор, что–то готовят, но пока еще не совсем приготовили, что–то готовят, что–то такое, я не знаю, что именно, не знаю, что именно, но мне кажется, они готовятся что–то у меня попросить.
И я не выдерживаю напряжения, которое стягивается вокруг, и выхожу на ближайшей станции, и они провожают меня своими взорами, стараясь казаться безразличными, стараясь не показать виду, но я‑то знаю! я‑то знаю! — они продолжают что–то готовить и просто с сожалением откладывают это до следующего раза…
Поезд смывает меня прочь с их глаз, и они успокаиваются, и опускают взоры свои, или, наоборот, уставляют их, бессмысленные, в стены вагонов, оклеенные безобразной рекламой, они складывают руки на коленях, одетых в брюки или юбки, или поверх них — когда на улице холодно, в студеную зимнюю пору, — куртки, набитые пухом, вырванным у птиц, или волокнами, выращенными путем сложных и запутанных химических процессов, или пальто, как у меня — черные — но, возможно, наоборот, не черные, а каких–нибудь приятных других расцветок, синих, зеленых или коричневых, шубы, выращенные путем тоже каких–нибудь сложных процессов, или просто содранные вместе с кожей с разных животных; все это, если двигаться как бы изнутри наружу, а если как бы наоборот, то, в студеную зимнюю, или какую–либо другую пору, мы могли бы обнаружить под брюками и юбками: теплое белье, кальсоны, или специальную одежду с неприятным названием «колготы», — это название всегда было мне неприятно, потому что ассоциировалось с какой–то ненужной и даже неприличной суетой, беготней, мельканием ног, и чем–то еще таким же, тоже неприятным.
Но я отвлекся.
Чулки. Чулки, доктор, сейчас почти никто не носит, если только они не являются частью профессиональной или, иначе говоря, форменной, а возможно, и фирменной, одежды. Собственно говоря, зачем бы они и нужны в наше время, я специально спрашивал их об этом, некоторые ничего мне не отвечали, не понимая, вероятно, что становятся от этого еще подозрительнее, некоторые ругались, вот, но некоторые отвечали, как–то странно поглядывая на меня, что да, в смысле нет, не нужны, неудобны, мороки с ними много, ведь есть теперь эта самая специальная одежда с названием, которое мне так неприятно, что я даже и не хочу его произносить еще раз, и не будем поэтому больше говорить о ней, больше не спрашивайте меня об этом, я об этом ничего не отвечу вам, ни за что.
…Теперь, если двигаться вниз, то там будет обувь. Ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, тапочки, сапоги, сапожки, полусапожки и полусапоги, с пуговицами, пуговичками, застежками «молния», ремешками, ремешочками, пряжками и пряжечками, цепочками, маленькими шпорами, булавками, шнурками, шнурочками, кожаные, матерчатые, на толстой и, наоборот, тонкой подошве, всевозможных и разнообразных расцветок, — в общем, я что–то даже устал это перечислять и это кажется мне весьма подозрительным, — зачем такое разнообразие? не для того ли, чтобы отвлечь мое внимание, отвести мне глаза, заставить опустить их вниз и сосредоточенно следить за этим разнообразием, в то самое время, когда там у них, выше, могут совершаться какие–то тайные и, быть может, предосудительные дела?
Труднее всего летом, когда тепло, когда выбегают на улицу после зимней стужи, ошалев от долгой скуки в тесных и пыльных ящиках и коробках, туфельки, босоножки, заключающие в себе и нежно охватывающие своими ремешками розовые пальчики девушек, изнеженные городскими причудами, кремами, бальзамами, заласканные изощренно–умелыми инструментами для снятия заусенцев и уплотнений кожи, с жемчужными ноготками, покрытыми особыми лаками всевозможных расцветок и особо изысканными бесцветными; их нежные ступни, просвечивающие, если приглядеться, на ярком свету зарождающегося из зимней пены лета как морские раковины, нежные, почти детские, еще не знающие суровостей жизни, словно вырезанные из теплого и мягкого средиземноморского камня пятки, снующие туда–сюда, взад и вперед, приковывающие взгляд и сводящие с ума своею неуловимостью, или напротив, небрежностью, с которой они останавливаются ненадолго, попирая и кокетливо чуть покачивая и подворачивая каблучки, — порождения изощренного воображения и трудов лучших дизайнеров со всего света; задержавшиеся якобы случайно, якобы перекинуться парой–другой новостей со своими подружками; однако я‑то знаю: главная, настоящая их цель — дать, наконец, налюбоваться на себя, насладиться этим деланно небрежным покачиванием и привязать к себе, не отпускать взгляд, сковать его розовыми душистыми кандалами и держать, не пускать, не пускать его никуда, сколько будет возможности. А не то — налитые могучей древней силой, гордо сознающие ее холеные ноги зрелых женщин, большую часть своей жизни проведшие в разлуке друг с другом, хранящие в себе огонь бесчисленных мужских атак, яростных и безнадежных в своем вечном стремлении и вечной невозможности взять окончательный верх, торжествующе и сочно печатающие свои уверенные и коварные шаги на мраморных плитах пола, также с расчетливой небрежностью чуть покачиваясь на каблуках, и я не могу, не могу оторвать от них взгляда, и даже когда ценою огромных усилий мне это удается, и удается поднять его еще чуть выше, он все равно прирастает, и уже безвозвратно, к стройным узким лодыжкам, к угадывающимся внутри дивно развитым сухожилиям и мускулатуре, поднимающейся выше, через волшебную обтекаемость икр и скульптурную стройность голеней, покрытых нежными, чуть золотящимися волосками, туда, туда, к прячущимся в мышечных массивах коленям, неожиданно появляющимся оттуда как из засады и нахально подмигивающим мне при ходьбе, или застенчиво глядящим прямо на меня в положении сидя… И нет уже никаких сил, да и смелости взглянуть еще чуть выше, туда, где уже под одеждой обещающе перекатываются бедра, — нет, никак не получается, всего меня охватывает дрожь, в глазах темнеет, и все вокруг удовлетворенно усмехаются про себя, что победили меня, отвели мне глаза, не позволили мне заметить, что подозрительного затевается там у них наверху.
Да, бывает, конечно, и иначе — грубые, изуродованные дрянной обувью и вывернутые под самыми причудливыми углами пальцы, неухоженные, с грязными ногтями; грубые и также грязные пятки, покрытые наростами мозолей, натертых долгою ходьбой в дрянной неудобной обуви; ноги, как приспособления для стояния и ходьбы, искалеченные непосильной, не женской работой, плохой наследственностью, неправильной невежественной жизнью… Я, в общем, мало что могу сказать про них, я не могу на них глядеть, я пытаюсь подавить чувство поднимающейся дурноты и все отчетливее нарастающих в ушах, мучающих меня звуков какого–то древнего, наверно, религиозного гимна, из которого я помню лишь слова «…и как один умрем в борьбе за это…»; я стараюсь тогда сам отвести глаза куда–нибудь в сторону, ни в коем случае не поднимать их выше, это кажется в такую минуту совсем уж непереносимым, так что и тут они достигают своей цели, только иным способом.
Выше у них находятся сумки и книги. Ну, что бы про это сказать… Когда они складывают руки на коленях, в них часто находятся сумки. Я плохо их вижу обычно, потому что мое внимание все время отвлекают — главным образом, обувью, особенно летом, когда тепло, но все же иногда мне удавалось заметить, что сумки у них также бывают самыми разнообразными. Иногда в них что–нибудь лежит и вызывает страшное подозрение, поскольку, что именно лежит, не всегда хорошо видно. Может быть, там лежат какие–нибудь ужасные вещи, которые нельзя носить с собою в общественных местах, какие–нибудь сардинницы, или баллоны с ядовитыми и опасными газами, или жидкостями, опасные предметы, ножницы с острыми концами, или бритвы, огнестрельное и холодное оружие, опасные животные — пауки, змеи или крысы. А может быть и нет там ничего такого, ведь может же так быть, одна видимость, лежат всякие расчески–заколки, ключи, бумаги какие–нибудь ненужные, мало ли что, но наверное всегда определить трудно, и это, говорю я вам, очень подозрительно.
* * *
Что же до упомянутых книг их, то они суть таковы.
А) произведения, трактующие вопросы взаимоотношения полов, которые, имея объективные и зачастую, казалось бы, совершенно непреодолимые препятствия к своему совокуплению, принимают невероятные меры и усилия к его совершению, при этом никак не заявляя об этом ясным и всем понятным языком судебно–медицинского протокола, а только посредством довольно замысловатых и изысканных эвфемизмов, которые и составляют по большей части текстуальное наполнение указанных произведений. Подозрительным при этом является то, что финал произведения наступает до, а не после искомого совокупления, и обычно остается неясным, привело ли указанное действие к результатам положительным или отрицательным, удовлетворило ли оно героев произведения, которые так долго и изобретательно о нем говорили и изыскивали пути к его совершению, или же, напротив, наполнило их бесконечной тоской и сожалением о напрасно затраченных усилиях, и т. д., и т. п. Все это также вызывает, доктор, тревогу за то, что потребители таких произведений, оставшись в непонятках, вынуждены приобретать все новые и новые образчики этого жанра в поисках удовлетворительных ответов на мучающие их вопросы (например, в самом деле, оказалась ли, черт ее подери, девственницей юная Хуанита, когда Хуан, перестреляв всех внешних врагов и препятствовавших родственников, впер ей, все же, как положено; какие он при этом испытывал чувства в случае, если — да, оказалась, или, наоборот, — обломись, Хуан, — нет; какие чувства испытывала в обоих случаях сама Хуанита, особенно в последнем, несмотря на все ухищрения с долькой лимона и кактусом опунция, насоветованными ей старой теткой Охуэллой; сколько у них было после всего этого детей, и сколько из них — от Хуана; что готовила Хуану Хуанита на ужин, и чем пиздила его, когда привозил его к ужину верный мустанг Хуанилло и осторожно сгружал у крыльца их фазенды, стараясь не разбудить, а главное не навлечь на себя поток брани и побоев некстати очнувшегося хозяина, и т. д., и т. п.) и вновь таковых ответов не получать.
Б) произведения, повествующие об ужасном и непонятном преступлении в загородном доме богатого и известного человека, оказывающегося впоследствии главным негодяем, — утром на полу роскошной гостиной находят труп горничной, впоследствии оказывающейся внебрачной дочерью хозяина дома и гостящей у него известной оперной, или, иногда, эстрадной певицы; в общем, с одной стороны оррёр, с другой — гламур. Расследует это дело совершенно случайно оказавшаяся там же в гостях другая знакомая хозяина, не состоящая с ним, однако, в таких близких отношениях, хотя кто их там на самом деле знает; с самого начала все выглядит точно как в жизни — весьма подозрительно; все стараются сказать неправду о своих отношениях с хозяином и безвременно усопшей, даже тогда, когда это, казалось бы, не имеет никакого смысла для повествования; обычно к концу все становится не столь подозрительно, а чаще всего просто скучно, ибо теряет всякое правдоподобие, а заодно и смысл. Тем не менее, оказавшегося, как уже было сказано, негодяем, хозяина выводят на чистую воду, в связи с чем у читателя, которому, конечно же, хорошо знакомы и близки быт и проблемы известных и богатых владельцев загородных домов, также остается много вопросов, — например, кто наследует после него этот самый дом, где и происходило все действие романа, или же его, возможно, конфискует государство, какова дальнейшая сценическая судьба той самой эстрадной, а иногда оперной, певицы, и зачем ее вообще приплетали к делу, поскольку родить внебрачную дочь от негодяя–хозяина могла и какая–нибудь более подходящая к делу другая баба, например, та же Хуанита, и т. д., и т. п.
В) повествования о том, чего никогда не было, да и не могло бы быть никогда, причем, в отличие от другой литературы, уже упоминавшейся, и в которой события, ровно в той же, весьма малой, степени правдоподобные и вероятные, тем не менее выдаются за чистую правду, в этих фантазиях честно провозглашается, что всякому, приступающему к чтению, следует оставить какую бы то ни было, даже самую малую, надежду и принять как данность, что ни известной ему истории, ни даже знакомого ему с детства мира не существует и не существовало никогда, а вместо них было и есть якобы что–то иное, воображению автора почудившееся. Это, вероятно, я так думаю, очень удобно, ибо избавляет его, автора, от действительно скучной необходимости описывать — а для этого предварительно изучать — действительный мир и его законы, как равно и подлинную его историю; дело это, и правда, весьма трудное, требующее много времени и усилий с самого детства, и при этом, по–видимому, совершенно бесполезное, так как никто в точности никогда не знал и по сей час не знает наверное, каковы они (я имею в виду, мир и его история) были, есть и будут на самом деле, если на самом деле они вообще будут, есть и были; существуют по этому поводу некоторые догадки, более или менее правдоподобные, по большей части именно они являются содержанием всей мировой литературы, как художественной, так и научной; однако при внимательном изучении все это в основе своей мало чем отличается от рассматриваемых литературных опусов, что и возвращает нас к исходной точке.
Г) например, повествование о некоем молодом человеке, в котором любой читатель смело узнает многие черты себя самого; молодом человеке, волею автора переносящемся в им же самим вымышленный мир, и неплохо, по сравнению со своей прошлой жизнью, там устраивающемся, переживающем множество занимательнейших и уморительных приключений, которых существо по большей части состоит в том, что невероятно классные ребята, поминутно перебрасывающиеся милыми шутками, вынуждены бороться с ребятами просто хорошими, но в чем–то по мнению первых временно заблуждающимися. Все это продолжается до тех пор, пока не выясняется, что упомянутый молодой человек сам по себе является плодом воображения одного из персонажей выдуманного им мира, что зацикливает замысел сам на себя, придавая ему приятную свежесть и потенциальную возможность бесконечной циркуляции, особенно, если вспомнить о создаваемом с самого начала повествования ощущении тождественности героя и читателя.
Я читал, много думал; очень понравилось. Большое количество восклицательных знаков, уснащающих все это поистине эпическое произведение (я насчитал в среднем полторы дюжины на страницу), призванных, вероятно, создавать у читающего приятное и приподнятое настроение, столь ценимое ныне, вызывали у меня ощущение некоего диссонанса с описываемыми, не так чтобы очень веселыми, и даже порою драматическими, событиями. Когда я смотрю на все эти "!», они напоминают мне гвозди, вбитые в стены комнаты и обнажившиеся перед ремонтом или переездом; предметы, висевшие на них, сняты и упакованы заботливою рукою хозяев, мебель вытащена прочь, только о них забыли, только они торчат, никому более не нужные, и самый смысл их расположения утерян — вот на этом висела фотография давно ушедшего из жизни родственника, может быть, даже дедушки — почетного гражданина города N, на этом — полочка с дорогими сердцу хозяев безделушками, лесными орешками, которые они собирали, будучи еще женихом и невестой, этот — первый, вбитый их тогда еще маленьким сыном, чтобы повесить на него свою игрушечную кобуру… Никакого значения не имеет все это более ни для кого, и никому теперь не интересно. Пусто все, бесприютно, скоро придут чужие люди, повытаскивают их все на хрен гвоздодером, бросят в угол, в сор, перевернется еще одна страница чьей–то жизни…
Д) повесть о простом финикийском плотнике, жившем и строившем торговые и военные корабли, достигшем высоких, по тем временам, праведности и развития духа, ибо чреда земных воплощений его подошла к своему концу, и в следующем и последнем, земное тело его должно было послужить для Господа нашего, нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившагося, и вочеловечешася. Но волею судьбы влюбился плотник до безумия, случайно оказавшись в далеком граде Вавилоне, в луноликую храмовую блудницу: зачаровала его дева очами распутными, черными, как бездна Аида, да звенящими во время любовного танца монистами бронзовыми, да ножными браслетами; рухнул плотник как подрезанная серпом трава, связала его развратница прихотливыми ласками аки вервием, высушила поцелуями жаркими, в далеком–далеком будущем «французскими» названными, и когда пришел им час расстаться, вспыхнуло что–то у плотника внутри, как изобретенный в еще более далеком Китае порох, пошел полосовать он острым своим ножом направо–налево — прочих клиентов, что за ним в очереди дожидались, и просто тех, кто под бешеную руку попались, и саму блудницу… Застыла на юных губах ее, еще жарких от ласк, боль, торжество и печаль… Так и лишил себя плотник высокого своего предназначения и весь круг его земных воплощений от полудикого кочевника пошел насмарку. Махнул подоспевший стражник коротким обоюдоострым мечом и пустил с той минуты душу его вечно скитаться, вселяясь в разбойников да бунтовщиков, жизнь на плахе заканчивающих. И блудница, торжествующая и печальная, скитается, преследуя его во всех временах и странах, — уж он ее и мечом рубил, и огнем палил, и за борт ее бросал, в набежавшую волну, — люди о том песни складывали, пели… сами не знали, о чем пели.
Е) о том, как однажды, в час небывало жаркого заката, в столицу явился сатана, и что из этого вышло. Как по вине негодной бабы отрезали голову ни в чем не повинному человеку, как по всему городу гонялся за черной сатанинской свитой обезумевший поэт, как нашли друг друга, а потом потеряли, а потом снова нашли мастер и его возлюбленная, нашли, чтобы вместе покинуть нас уже навсегда, навсегда уйти туда, откуда нет возврата, только ветвь цветущей вишни, а может, и сливы, покачиваясь, смотрит в раскрытое поутру окно; где в белом плаще с кровавым подбоем… Ну, это все теперь знают.
Ж) о том, как некие умельцы изобрели необыкновенный препарат из специально обработанных и приготовленных путем сложных и запутанных химических процессов: силиконовой смазки, применяющейся в производстве презервативов, и этилового спирта — под зарегистрированной торговой маркой «АлкогельT», — не дающий наутро известных последствий: его для достижения нужного эффекта следовало втирать под мышками и за ушами; и как это простое изобретение, будучи запущено в массовое производство, преобразило всю косметическую промышленность, а вскоре и земную цивилизацию в целом, в том числе значительную часть ее словаря — например, слова «вмазать по маленькой» приобрели совершенно буквальный смысл.
З) много еще читают разного рода руководств. Ну, что–нибудь там для чайников, вроде того…
…Словом, я, наверно, опять увлекся, даже что–то устал рассказывать, много, конечно, каких книг читают. Кстати, молитвенников много возят — когда я вхожу в вагон, или еще куда–либо, непременно поблизости кто–то с молитвенником, читает, губами шевелит, глаза стеклянные, опущены на страницы или, наоборот, вдаль смотрят куда–то, очень подозрительно…
* * *
Да; итак, я вхожу. Все взоры устремлены на меня, и в них во всех — страшное подозрение. Меня в чем–то подозревают, чего–то ждут от меня, я только не знаю, плохого или хорошего. Я — под подозрением, я — крайне подозрительное лицо в вагоне метро, несмотря на отсутствие пачкающей одежды и склонности к попрошайничеству. Мало ли чего можно ждать от меня, я могу быть мыслителем, могу быть убийцей невинных вдов и сирот, могу быть покорителем горных вершин и вместе с тем их разрушителем путем реакции термоядерного синтеза. Единственное, кем я не могу быть, единственное, что исключено для меня, запрещено мне, я не могу быть самим собой. Нет, я пробовал, но — нет, никак не могу. Стоит мне чуть отвлечься, и я становлюсь тем, кого вижу, или видел когда–либо, я начинаю глядеть его глазами, слышать его ушами, думать его мыслями, я помню его воспоминания, я помню, например, что был вчера отвратительный день, когда ничего не удавалось, когда сосед не дал взаймы, а Зойка, сука, — я даже знаю, кто эта Зойка и почему она сука, — она, в сущности, несчастная девка, безусловно невежественная, но не подозревающая об этом, как и все мы, у нее вчера прекратились месячные, и она не знает, от кого, а узнать надо, потому что она приезжая, иначе здесь в столице ей ничего не светит, она ничего не понимает здесь, ей страшно здесь одной, хотя она и не понимает этого, и теперь еще никак не понимает, Андрей это или Володя, нет, все–таки, скорее, Андрей, красивый — в своем представлении и представлении его друзей, а особенно подруг: он был в детстве не слишком здоровым, хотя тоже этого не понимал, отец пил, мать вертелась как могла, в школе сначала дразнили, но когда он от отчаяния стал давать всем за это, куда попадет, начали и просто бить и били бы до самого выпуска, но тут отец умер, не от водки (хотя и от этого тоже) а от туберкулеза, стали проверять всю семью, нашли что–то — не очень страшное — и у него, стали лечить, год пробыл в санатории, поправился, похорошел, тамошние хрупкие, как стекло, девочки из женского отделения стали поглядывать, поглядывали–поглядывали, а он потихоньку да и начал тискать их — во дворе их корпуса, за углом неприметный был закуток, лавочка, в стороне еще железки какие–то валялись, трубы, из старого медоборудования что–то, словом, свалка, про которую и вспоминать никому не хотелось, так что туда и не показывался никто неделями, — вот на этой–то лавочке и тискались они, бывало, даже две–три приходили с этой, хотя, возможно, и какой–либо другой целью, а что, ему не жалко, даже еще интереснее; там, разумеется, и, как бы это сказать, мужчиной стал, правда не ожидал, что получится в результате такое разочарование, вот; но мать почти совсем забыл, как выглядит, часто она приезжать не могла, жили все–таки бедновато, все тогда жили бедновато, но беднее всех жила у них во дворе баба Настя, старенькая–старенькая, хотя и крепкая еще старушечка, с непонятно яркими серо–голубыми глазами, не старческими, не водянистыми, а вот такими, — я прям вижу их в зеркале — вернее сказать в том, что осталось от него — мутном, с проеденной сыростью и временем, будто червем, амальгамой, посредине пятно какое–то бесформенное, не поймешь что, только эти глаза хорошо в нем отражались, чуть навыкате, будто сами собой светились; опустив взор, вижу руки — чешуйчатые и узловатые, перевязанные венами, как жгутами электрических кабелей, казалось, полосни кто по ним острым кухонным ножом, не брызнет стариковская жидкая, как спитой чай, кровь, а зашипит, зазмеится дуга, запахнет озоном, повышибает к черту во всем доме пробки, заругается по такой–разэтакой матери местный электрик, как же его звали, пес его знает, не помню, старая стала, а вот помню, я еще молодушкой была… Да, доктор, месячные у Зойки прекратились, это действительно, это вы мне верьте, это вам, вероятно, следует знать, а впрочем, не мое это, наверно, дело, что–то я снова увлекся.
* * *
Итак, я вхожу. Все взоры устремлены на меня. На мне полувоенный френч, по моде 30‑х, грудь перепоясана пулеметными лентами (они не видны, они там, под френчем, но каждый угадывает их чутким сердцем), волосы аккуратно уложены лучшим парикмахером, усы нафабрены, без этого нельзя показаться в приличном обществе, т. к. иначе они безобразно торчат, наводя на неприятные ассоциации. Карман оттопырен. Но все чутким сердцем понимают, что оттопырение кармана вызвано не чем–нибудь, не хреном каким–нибудь собачьим, а старым добрым вальтером ПП, много раз спасавшим от врагов, не говоря уже о друзьях. Да. Галифе. Сапоги, мягкие, чтобы звук шагов не отвлекал людей от мыслей о вечном. Все, как я уже имел честь доложить, взоры устремлены на меня, и в них — во всех! — я вижу подозрительность! Все в чем–то меня подозревают! Я опускаю глаза, я закрываю глаза толстыми складками своих век, но даже сквозь них чувствую эту подозрительность, направленную на меня — кто я, откуда, зачем вошел в дотоле свободный от моего присутствия вагон, зачем занял в нем место, возможно, было бы лучше, если бы место это занял кто–то другой, какой–нибудь непроворный инвалид, или инженер, или домохозяйка, студент, проститутка, консультант, психотерапевт, или «мадонна» с накачанным водкой и мирно спящим младенцем — он видит сон, — мама, — мама берет его на руки, — улыбается, — он во сне улыбается ей в ответ — они идут в магазин, — покупают макароны и сто граммов (прописью) конфет, — они живут в городке, где все черное от угля — улицы, стены, окна, лица, глаза, воздух, солнце — солнце чернее всех, оно самое черное и доброе, потому что теплое и ласковое, как бывает теплой и ласковой мама, или печка, которую топят углем; папы — нет, он взорван газом, засыпан углем, — ему тоже тепло, — ему тоже светит черное угольное солнце, как его представляют столичные жители, добрые, как все жители столицы, дают ему водки, чтобы он спал, видел маму, теплое угольное солнце, сто (прописью) граммов конфет, вечер, спать, утро, спать, спать, есть, спать, есть, есть…
И белый голубь! серебряный голубь! Снующий и воркующий среди плевков, мусора и шаркающих ног пассажиров, которым нет никакого дела ни до него, ни до «мадонны» с «младенцем», сидящих в переходе, ни до подозрительного вида молодых мордатых парней в черной полувоенной форме, сорящих семечками и что–то негромко обсуждающих на своем непонятном языке… Но лишь ему, ему, серебряному, ему одному нет никакого дела до меня, до находящегося на страшном подозрении у всех — у всех, но не у него! нет, не у него, призрачного посланника другого, давно прошедшего, отзвеневшего хрустальными колоколами и отгоревшего кровавыми закатами века — он мил и радостен мне, потому что нет ему до меня никакого дела, ничего не хочет он попросить у меня, и даже — я уверен в этом — не станет курить ни в вагоне, ни у меня дома, он не одет в пачкающую и вообще ни в какую одежду, я люблю его за это, его — единственного из всех, люблю — за то, что ничего он не знает об этом и не узнает никогда.
* * *
Доктор, я услыхал однажды, что есть где–то в тихой обители в глухом и еще не заплеванном окончательно краю — три часа на электропоезде, дальше несколько километров по шоссе пешком, или, может, подбросит кто, а дальше грунтовой дорогой и лесом, лесом, уж сколько Бог даст — так есть там в маленьком заброшенном скиту мудрый старец, он был раньше секретарем партийной организации в своей конторе, но что–то там неправильно разъяснил, относительно линии этой самой партии, что–то такое — не нарочно! — а совершенно случайно, просто оговорился как–то, неудачно выразился, но — вот ведь как — было тогда какое–то ответственное мероприятие, его заподозрили в намеренном искажении и даже пропаганде, то есть, разумеется, не по–настоящему заподозрили, а просто по всем инструкциям обязаны были, иначе это бы выглядело еще подозрительнее, стало бы похоже на заговор с целью подрыва устоев или основ, я точно не знаю, я был очень молод тогда, я, фактически, был дитя. В общем, его, конечно, выгнали из партии, даже завели какое–то дело, долго мытарили в комитете, потому что как–то это выглядело все же немного подозрительно, мытарили–мытарили, грозились даже посадить, но однако же потом почему–то не посадили, а так — сослали куда–то на север: он не любил, говорили, об этом вспоминать; там он, будучи, разумеется, человеком глубоко верующим, и крестился, принял послушание, сколько–то лет так проходил, потом, так уж господь сподобил, принял сан, был приходским священнослужителем в маленькой церквушке, где–то там же, на севере, опять разъяснял прихожанам некую линию, какую положено, но затем, по прошествии продолжительного времени, был вдруг опять отозван, переведен куда–то, никто даже не знал наверное — куда, и пару лет не было о нем ни слуху, ни духу. Ну вот, а потом объявился он в этом самом скиту, не так уж, собственно, и далеко, ежели сравнить с прежними–то его северами–то; народишко к нему прибился кое–какой, стали и из других городов ездить, потому что старик он был и правда добрый, повидал на своем веку, как вы понимаете, много чего, ума понабрался и, надо отдать ему должное, не только ничего особенно не растерял, но и обмыслил с Божьей помощью, сделал выводы в соответствии со священным Писанием, да, надо думать, и согласовал в своих вышестоящих инстанциях (партийная–то дисциплина не вдруг забывается), короче стал себе отшельничать, народишку помогать, да советы давать — как жить. Учил, в общем, понемножку, иногда лекарство мог присоветовать от болезни какой — даже и из новых, лицензионных (откуда знал?). Даже иногда возложением рук мог кое–что излечить, главным образом, невралгию и спазмы гладкой мускулатуры — не всегда, впрочем, получалось. Словом, полезный был старичок — сейчас не знаю, жив ли.
Узнал я про него случайно. Сначала в вагоне метро разговор услышал, но показался он мне, как вы понимаете, подозрительным. Потом соседка, — выходил на лестницу, пока комнату проветривал, накурено сильно было, — взглянула, руками всплеснула, чуть что не расплакалась: непременно вам к этому, такому–то, надо съездить, а то посмотрите на себя — вид у вас больно страшный, отощали, глаза ввалились, взгляд дикий, блуждает — так, говорит, вам и помереть недолго, съездите, голубчик. Интеллигентная соседка была, старушка. Пошел, взглянул на себя — все в дыму, видно неважно, но в целом, точно — права соседка, решительно я к тому времени одичал. Борода спуталась, завелись в ней какие–то соринки, вокруг глаз — синяки, сплю плохо, дымно и все время кто–то галдит над ухом, попрошайничает вроде, похудел страшно — в общем, нехорошо.
Собрался, поехал. В электропоезде три часа трудно было, почти как в метро — все сидят, подозрительно глаза прячут, будто знают что–то, про меня, но показать не хотят, стесняются. Вышли на дальней станции, почти все вместе, правда уже полвагона осталось к тому времени, но тут почти все вышли. Двинулись по платформе, все молчат, глаза прячут, деньги нащупывают, мнут, считают. Идем к шоссе.
Тут не совсем хорошо мне сделалось, потому что все как один к шоссе идем. Никто в магазинишко при станции не заходит, пивка купить (лето было, ехали, конечно, утром пораньше, но жарко довольно). Никто встречающих глазами не ищет, не ждет, да и нет никого, встречающих. Никто не галдит особенно, радостным блеянием воздуха не оглашает — тихо так переговариваются, благопристойно.
Детей нет, совершенно.
То есть — ни одного; когда я это заметил, стало мне что–то и совсем нехорошо, то есть не то чтобы, доктор, нехорошо, а как–то вконец мне это подозрительно тогда показалось, и меня на минуту даже озноб прошиб (и не зря, доктор, не зря!).
Ну, на шоссе кто как — кто остался попутки ждать, кто как, а я подумал–подумал, черт знает, когда ее дождешься, да народу–то еще сколько, ни на первой, ни на второй не уедешь, да и денег было, не то чтобы в обрез, но и разбрасываться очень не приходилось, поскольку много их все–таки уходило на приобретение одежды. Одним словом, двинулся я по шоссе пешком; еще с десяток следом увязалось, вероятно, с теми же мыслями, впрочем, неважно.
Шли они, шли…
Жарко стало, солнце к полудню, ветра почти нет, так что жарко, конечно. Но ничего, иду, погода хорошая, красота кругом — родные просторы, шоссе линейкой вдаль бежит, воздух, конечно, все дела, только жарко, вспотел весь. И тишина.
Попутка по шоссе прошелестит, полная уже, разумеется, ловить нечего, скроется, и снова — тихо, — то есть, абсолютно тихо. Слышу только шаги свои по мелкому гравию–приживалу на обочине, да слабый шепот ветра в ушах, — и то, когда голову поверну, а так — абсолютно ничего. Ну, доктор, вы знаете, ну, как там бывает летом в погожий день в поле — птичка пролетит, бывает, жаворонок в небе зазвенит, мухи–пчелы жужжат, листочки полощутся на ветерке, чуть лопочут что–то, неслышно почти… а тут вообще ничего. Тишина.
А глянул в стороны — и нет позади никого, один иду. Куда они подевались, кто вместе со мной вышел, в толк не возьму. Не на попутках же полных от самой станции все подобрались? Или, может, правда, пока я на облачка любовался, да к тишине прислушивался, пристроились они все, кто как, да и улетели вперед по ровному, как школьная линейка, шоссе? И то, если вдуматься, возможное дело…
В общем, один, без оружия, жарко, тихо до противоестественности, устал уже, разумеется. Словом — задумался я. Чего взыщу? Или, проще говоря, какого такого хрена понесло меня в чудный летний день к черту на кулички, неизвестно куда, к кому, зачем, когда я даже толком и не знаю, о чем спросить хочу или попросить об чем? Может сесть мне у дороги на ближайшую груду кирпичей, да поразмыслить об этом обо всем, отдохнуть, уснуть… Или, ну его к черту, повернуть пока не поздно назад, дождаться поезда на тающей от жары платформе, глотнуть теплого пива, купленного в том же пристанционном магазинчике, старом, засиженном мухами, но, что ни говори, родном, знакомом, понятном…
И, однако же, размышляя так, шел я в прежнем направлении — в смысле, вперед, — и прошел уже–таки порядочно.
Да, тут нужно рассказать и еще об одной странности этого моего пути — пока шел, ни одного указателя не встретил я за час с лишком. Ну, то есть, ни единого — ни тебе «обгон запрещен», ни «опасный поворот», ни «конец главной дороги», ни согнутого в дугу местным первым на деревне парнем в порыве молодецкого ухарства «40», ни проржавевшего от старости до дыр «МТС», — ничего. А хотя, тоже, если вдуматься, какие уж там указатели — шоссе, как я уже имел честь докладывать, прямое, как я не знаю что, никаких ответвлений, грунтовых дорог, какие уж там опасные повороты, ничего такого, рули–не–хочу.
И вот вдруг вижу я вдалеке что–то такое знакомое, такое, как бы вам, доктор, сказать, до боли родное — знак! Не видно пока, какой. Вроде, судя по форме, информационный. Метров триста еще, может, чуть меньше. Дойду, думаю, жарко, конечно, ну, хоть взгляну, ну, просто даже интересно, если уж на то пошло…
На синем, как положено, фоне, крупными белыми буквами там значилось: «До поворота к скиту такому–то 2 км», — вот так. И стрелка.
«Ну!», — сказал я себе. «2 км!», — сказал я себе. Это же, сказал я себе, сущая ерунда, я уже протопал по моим подсчетам километров шесть. А может, семь. Дойду.
И пошел.
Но минут через сорок забеспокоился. Но сразу же и успокоился, ибо увидел еще один знак — о, я уже знал, что это за знак, я уже подозревал, что он означает для меня! (Да, я уже упоминал, что попутки с моими попутчиками перестали проноситься мимо по шоссе и отвлекать, и беспокоить меня? Тогда вот — упоминаю. Перестали.) И вот — знак, новый знак, к которому я приблизился спустя еще четверть часа: «До поворота к скиту такому–то 2 км», — гласила белая, местами немного запачканная пылью, надпись. Я снял рубашку и вытер ею пыль, чтобы надпись смотрелась лучше, и она на мгновение засветилась благодарно, заиграла безумным хирургическим светом подземных переходов метро, на какое–то мгновение затмила она и свет постепенно подумывающего об отдыхе солнца, и кварцевый блеск осколков мелкого гравия по обочинам.
Там, у обочины, чуть дальше, виднелась какая–то хижина, которую я в ослеплении своем принял было за некие врата у начала пути, ведущего к обители мудрого старца. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это всего лишь ларек, где торгуют разного рода церковной утварью, принадлежностями для отправления культа, как–то: свечами, картонными иконками, серебряными (и другими) крестиками, подобающей литературой и проч. Здесь можно было приобрести почти все, что было связано с тем, к кому я стремился: «житие преподобного такого–то», его «наставления для малых сих», его изображения (неканонические, разумеется), некоторые снадобья, которыми он, случалось, пользовал страждущих (среди прочих я к некоторому своему удивлению обнаружил женьшеневую настойку китайского и бальзам «золотая звезда» вьетнамского производства). Я приобрел у продавца, бритого мордатого парня в черной майке без рукавов, «наставления» за скромную сумму и двинулся дальше.
Солнце уже стало ощутимо клониться к закату, и наконец смутное, но все усиливающееся беспокойство снова стало терзать меня — сколько ни шел, не видел я никакого обещанного поворота, — и даже указатели на него, знаки, к которым я уже немного привык, перестали мне встречаться, и даже асфальтовая лента шоссе как–то незаметно для меня сошла на нет, и брел я уже в невысокой, но густой и совершенно сухой, ломающейся, как зеленая пластмасса, траве. Я двинулся дальше, свет дня становился все тусклее, тень моя, единственная к этому времени моя спутница, черная в начале пути, как моя борода, вышагивала рядом со мною на своих, все удлиняющихся ходулях, делаясь более и более призрачной; наконец и она покинула меня. Я впал в уныние, потом в тоску. Солнце село. Мне давно не было жарко, но рубашка отсырела за день от пота, и теперь острый озноб мертвыми иглами начал сперва робко, а потом все наглее покалывать поясницу, поднимаясь все выше и выше к лопаткам… И тут случилось то, ужаснее чего со мною не бывало ни до того дня, ни после. Я наконец с нестерпимой ясностью понял, что вознамерившись непременно достичь своей цели, заблудился в пространстве и времени и незаметно для себя покинул их пределы! Ни того ни другого более будто не существовало; это объяснило то, что так изумляло и тревожило меня с самого начала моего пути — невероятную для природы, неестественную тишину: звук просто не мог распространяться в отсутствие времени и пространства. Я начал понимать и другое: все мои попутчики совершали свой последний путь и были попросту мертвы, а я двигался в окружении душ, уходящих из нашего мира в мир иной и, влекомый ими, сам теперь, вероятно, нахожусь на его границе. Те — те, кто всегда вызывал вечное мое подозрение, для разрешения и избавления от мук которого я и предпринял это свое отчаянное путешествие, — все они, сговорившись, отвели–таки мне глаза, чтобы я более никогда уже не вернулся к ним и не нарушил их планы! Возможно, и даже вероятно, что именно они, специально, чтобы я услышал, говорили об этом тогда, в вагоне, и это они — наверное они! — подучили мою бедную, ни о чем не подозревающую, соседку… Началась паника, я стал что–то кричать, сначала, кажется, «а-уу», потом «помогите», потом совсем не помню что. Но никто, разумеется, не услышал меня, и никто не ответил мне тогда. Озноб бил не переставая, так, что ноги не слушались, я поминутно падал на подгибающиеся колени и сильно поранился о скрытые в траве камни. Наконец я почувствовал, что больше не могу двинуться от боли, страха и подозрения, что нахожусь на неверном пути. Я лежал в пыли, почти обезумев, постепенно осознавая, что лежу один, неизмеримо далеко от дома и вообще неизвестно где; никто не знает, где я, да и нет никому до этого дела; и я не знаю, что мне делать и куда идти; и наконец, что я (при условии, что вообще еще жив) возможно, не переживу этой ночи здесь, в чистом поле в начале лета, в полной уже тишине, — я, городской изнеженный человек, я не привык ночевать невесть где, под открытым небом, израненный, окровавленный, на голой земле, еще не вполне согревшейся после нашей долгой зимы, она высосет из меня все тепло, всю кровь, а вслед за ними уйдет и жизнь.
Я стал пытаться бороться за жизнь (как мне казалось тогда), бороться со временем и пространством, я стал бороться за тепло, чтобы прогнать проклятый озноб, начавший становиться почти нестерпимым, я стал хлопать себя руками по щекам, по плечам, по ногам, сведенным усталостью от долгой ходьбы, по бокам… И вдруг нащупал в кармане маленький, незнакомый мне сверток, который я поначалу даже не заметил; все же вскоре он привлек мое внимание, я вытащил и развернул его. Это были «наставления для малых сих», написанные в часы углубленных раздумий им, мудрым старцем, к которому я так стремился, покамест тщетно, и который волею провидения протянул мне руку помощи (я уже не сомневался в этом) в час моего страдания и, может быть, гибели. Я открыл «наставления» наугад и жадно приник к помятым страницам; слепой шрифт на бумаге, не отличавшейся, по правде сказать, высоким качеством, было почти невозможно разобрать. Однако на мое счастье свет вечерней зари еще не успел померкнуть совершенно. Последний его луч помог мне различить следующие слова: «ежели войдя в лес или иную (нрзб) ты обнаружил, что предприятие сие (нрзб) и невозможно, стань таким манером, чтобы спина твоя смотрела в направлении, в котором дотоле смотрело лице твое, а последнее чтобы было обращено в сторону, в которую спина твоя дотоле обращена была, и тогда, совершив крестное знамение и помоляся Господу нашему, иди, и с помощью Его выйдешь туда, откуда пришел. (далее нрзб)»
Великая мудрость, заключенная в прочитанных мною словах, придала мне много силы. Я встал на еще неокрепшие ноги свои и сделал так, как мне было указано. И я пошел, сначала медленно и неуверенно, затем тверже, и к тому времени, когда угас окончательно вечерний свет, в последнем своем усилии давший мне возможность спасти себя, приникнув к источнику живительной мудрости святого старца, и когда наступила относительная в начале лета темнота, я уже твердо шагал вспять, и еще прежде, чем я достиг второго встреченного мною в тот день знака, я уже знал в чем моя ошибка, и в чем заблуждение! Каждый из знаков сообщал, что искомый поворот к святой обители, вожделенной мною, расположен в двух километрах пути, но сам поворот был расположен между ними! И я просто не заметил его в безумии своем, или, скажем, по рассеянности, озабоченный тревожными подозрениями и таинственными природными явлениями, к которым несомненно должна быть причислена необычная тишина, преследовавшая меня на протяжении всего моего пути (меня еще продолжало немного тревожить, что она не только не исчезла, но как бы стала глуше), и даже не придал значение тому факту, что первый знак был установлен с одной стороны дороги, а второй — с другой. (Впоследствии я узнал, что это не так — по странному капризу дорожных властей оба указателя были установлены с одной стороны дороги, хотя и смотрели, разумеется, в разные стороны, на что я не обратил внимания; указатель же, установленный непосредственно у поворота, как раз–то и был вырван с корнем и брошен в сторону тем самым местным деревенским ухарем — просто так, забавы ради, — вот почему я его сразу не заметил.)
* * *
И точно, прошагав положенные два км, я скорее почувствовал, чем увидел съезд на грунтовую дорогу, уходящую дальше в лес. Я свернул с шоссе, спустился в негустой прохладный туман и двинулся, ориентируясь скорее на ощущения ног, чем глаз. Озноб, имевший, вероятно, более нервическую природу, отступил, пока я возвращался вспять по нагревшемуся за день шоссе, прихрамывая, так как болели пораненные ноги, но все же бодро. Тем не менее, в сыроватом тумане я вновь почувствовал себя неуютно. Войдя в лес, я и совсем сник; темнота стала непроглядной, а дорога — неровной. Впрочем, даже тогда меня несколько поразило, что к скромному скиту ведет именно дорога, пусть даже и не очень ровная, а не, скажем, неприметная тропинка, как мне представлялось из литературы. Более того, через четверть часа, дорога стала расширяться, и мне показалось, она чем–то вымощена. Пройдя несколько поворотов я, судя по ощущениям, двигался теперь вдоль берега ручья или небольшой лесной речки. Это подтвердилось, когда мне пришлось пересечь ее по неширокому, но солидному деревянному мостику с перилами с одной стороны. С этого места мало–помалу начало становиться как–то светлее, и, пройдя еще шагов сто и в очередной раз повернув, я с удивлением обнаружил освещенный указатель, на котором была надпись «Добро пожаловать!» и стрелка. Рядом с ним прямо на слое мха и прелого лапника сидел какой–то человек в черной рубашке и без особого интереса, но и не враждебно, смотрел в мою сторону. Человек я не слишком разговорчивый, но, не перекинувшись ни с кем и словом за целый день, а в последние несколько часов вообще потеряв надежду увидеть живого человека, я обрадовался ему, как родному. Я попытался заговорить с ним, но он только махнул рукой в том направлении, в котором я шел, мол, «ступай дальше», и закрыл глаза. Поначалу я был несколько обескуражен таким поворотом дел, но потом подумал, что он, в конце концов, предложил мне не задерживаться и продолжить путь к моей цели — путь, на который я и так потратил столько времени и сил.
Пройдя еще немного, я стал различать стоящих впереди людей, как мне почудилось, в довольно большом количестве. Наконец я приблизился к ним вплотную и понял, что нахожусь у цели, ибо это была, точно, довольно большая группа паломников, выстроившихся в не слишком организованную очередь к видневшимся невдалеке воротам, показавшимся мне немного более массивными, чем я ожидал бы увидеть в скромном обиталище отшельника. Ворота были заперты, и около них стояли два крепких охранника в черной форме. Было все еще довольно темно, но среди ближайших ко мне фигур я стал узнавать своих сегодняшних — или уже вчерашних? — я до некоторой степени потерял чувство времени — попутчиков, в том числе тех, кто отправился со мной пешком. Судя по всему, все были здесь уже довольно давно. Кто–то стоял и негромко переговаривался, кто–то сидел и даже лежал и спал прямо на земле. Меня заметили.
— Ты поди, номер получи, а то, считай, зря протаскался, — устало пробормотал какой–то дядька с усами, глядя не столько на, сколько поверх меня.
— Какой номер? Где?
— Ну, номер… В очереди… Под которым пойдешь… Что ты, в очереди никогда не стоял? Вон, вишь, там будка с окошечком, туда тебе. За место не бойся, ты пока последний, до утра больше никого не будет… — странно ответил дядька, по–видимому с трудом преодолевая сонливость.
Я посмотрел туда, куда он ткнул пальцем — действительно, будка, вроде ларька, на ней тоже что–то вроде «добро пожаловать», в ней — окошечко, как в кассе. Я подошел.
В окошечке виднелось также сонное лицо парня, странно похожее на то, что я видел днем на шоссе, когда покупал спасительные «наставления». Ни о чем не спрашивая, он сунул мне какой–то жетон, и так же, не говоря ни единого слова, махнул рукой — дескать, «проваливай». Жест показался мне очень похожим на тот, которым меня уже поприветствовал человек под указателем на дороге, и не очень соответствующим приглашениям «Добро пожаловать», вывешенным и в том и в другом случае. Я решил не ломать над этим голову, тем более, что усталость, точно, брала свое, хотя ноги и болели, спать хотелось страшно, глаза слипались — короче, половина четвертого утра.
Тем не менее, я решил рассмотреть жетон, который мне выдали. Он оказался пластмассовым, как номерок в гардеробе, с выдавленными на нем цифрами. Правда, ни в одном гардеробе такого номера я никогда не видел — в неверном свете фонарей и уже светлеющего неба с него смотрело страшное число «669969». Впрочем, спустя некоторое время, когда прошла первая оторопь, я сообразил, что несмотря на подозрительную массивность ворот, скрывающих обитель, вряд ли за ними может располагаться площадь, способная вместить значительно более полумиллиона человек; перед воротами собралась толпа человек в полтораста, так что я понял, что получил лишь серийный номер и шанс встретиться с чудесным старцем при жизни у меня есть. Я только подивился общей производительности всего предприятия, хотя и тут, бегло подсчитав, сообразил, что если принимать в день человек по шестьдесят, то лет за тридцать управиться можно (так впоследствии и оказалось).
* * *
…Наутро выяснилось, что за воротами построено и готово к аудиенции еще человек полтораста. Я прожил у скита и в нем пять дней. Крепкие мордатые ребята, похожие друг на друга, как патроны, молча подкармливали нас чем–то похожим на тюремную баланду; у многих паломников оказалась с собою кое–какая провизия — делились без вопросов. Время от времени нас отряжали на всякие работы — картошку окучить на огороде, или почистить на кухне, воды принести, ну и проч. При этом очередь соблюдалась строжайше и без каких–либо церемоний — сам видел, как какого–то проныру отметелили те же ребята–чернорубашечники до полной неузнаваемости и после этого не выгнали, скажем, а поставили обратно, куда положено. О чем и, главное, как уж он потом беседовал со старцем — Бог весть.
Последние полдня я был как сам не свой; иногда мне казалось, что я сплю и вижу все во сне, иногда оказывалось, что я действительно уснул, не заметив того, и тогда мне виделись какие–то пещеры, через которые мы с чернорубашечниками, неразличимыми во тьме, идем, идем и никак не можем выбраться наверх, потому что мешает метро, полное подозрительных лиц, а иногда за нами самими охотятся, как за весьма подозрительными лицами, но никак не могут поймать… Очнулся я, когда проходил 669966‑й. Мы толпились в небольшом душном коридорчике, где пахло почему–то не сотнями тысяч побывавших там немытых и, в общем, несчастных людей, а какими–то травками, ну, ладаном, конечное дело, немного старой кожей, пылью и еще чем–то, никак уж не определимым. Очередной номер сколько–то времени томился перед махонькой дверью, потом она раскрывалась, выходил предыдущий, приглашал: все как у врача в поликлинике или еще где.
Сердце мое билось так, что я стал страшиться обморока. И се, аз есмь очередной, стою перед дверью, за коей — чудный старец, жизнию и праведностию своею снискавший доверие и любовь Бога и 669969 человеков, включая меня грешного. Я много узнал о нем, пока прожил здесь эти несколько дней, совсем рядом с ним. Сколько легенд о нем рассказывалось! даже если только половина из них правда, то и тогда дела его достойны изумления. Скольким он помог найти свой потерянный путь и душу, — блуждающим в темных расселинах земли, поминутно оступающимся и страшащимся сорваться и потерять последнее, что мы еще сохранили, — лучик горнего света, пробивающийся сквозь толщи нависающих над нашими головами грозовых туч, застилающих…
— Следующий!
Не помня себя, я вошел — и пал на колени. Предо мною сидел старенький–старенький, но, видимо, крепкий еще человечек, с редкой бородкой, седой как снег, в чем–то, смутно напомнившем мне длинную черную рубашку, подпоясанную простым солдатским ремнем. Помню, поразили меня его глаза тогда, не старческие водянистые, а яркие, серо–голубые, чуть навыкате, в которых буквально полыхали какие–то не виданные мною ранее любовь, бесконечная доброта, улыбка и печаль.
— Ну, что же, сынок, — начал он, и теплая волна поистине сыновней любви к этому человеку затопила меня всего, — что ж молчишь, расскажи с чем пришел, поглядим, чем помочь. Что приключилось–то с тобою?
— Батюшка, — ответствовал я, — я часто вижу подозрительных лиц в вагоне метро. Каждый раз, когда я захожу туда, я их вижу. Я теперь редко езжу в метро из–за этого, но всякий раз, когда езжу, я часто их вижу. Поэтому я теперь совсем там не езжу, но все равно вижу их там, как они подозрительно смотрят на меня, снизу, проникая взглядами сквозь толщу земли, как они следят за мною, что я делаю, думаю, или говорю, как я принимаю душ, хожу в туалет, сплю, или готовлю себе пищу. Батюшка, они проникают ко мне в дом, в пачкающей меня одежде, курят и занимаются попрошайничеством, и все это тоже кажется мне подозрительным (хотя и в меньшей степени); я прячусь от них в ванной комнате и туалете, но они проникают и туда, своими взорами, и следят за мной, и пускают дым мне в глаза, и занимаются у меня попрошайничеством, все время что–то выпрашивают: я даю им, я даю им одежду, мне не жалко, только у меня уходит много денег на ее приобретение, но они сразу же пачкают ее и меня, и снова начинают выпрашивать; я даю им денег, чтобы они ушли хоть ненадолго, что–нибудь купить себе, да заодно и мне; они уходят, но скоро возвращаются — без денег и одежды — и снова начинают заглядывать мне в глаза, и все это очень мучает меня, очень. Батюшка, что мне делать? Что я должен сделать, чтобы все это прекратилось и перестало быть таким подозрительным? потому что это весьма тяжело.
Мудрый старец пожалел меня и не оставил меня без ответа:
— Сынок, — говорит — молись ежедневно два раза, утром и вечером, соблюдай посты, а вина не употребляй совершенно; вот… Глянь–ка, кто там следующий?
* * *
Возвращался я без особых приключений. Полдороги подвез меня кто–то из близлежащего хозяйства, в кузове старенького грузовичка, больше похожего на трактор, вместе еще с полудюжиной таких же как и я паломников; недорого взял, кстати, что–то по пятерке с носа, вроде того, зря я боялся. Там же, в кузове оказался и усатый дядька, что заговорил со мной в первую ночь, спал на брошенном в углу брезенте: устали все очень.
Позже, от нечего делать я пролистал купленные мною «наставления для малых сих», но больше не нашел там ничего для себя интересного, а потом оставил их по забывчивости где–то, вероятно, на сиденье электропоезда, когда ехал обратно.
* * *
Совету же, данному мне старцем, я с тех пор следую неукоснительно, и иногда мне это помогает, но иногда — нет.
Я не бывал в других странах, меня никто не пустил бы туда, но мне кажется, здесь у себя на родине я чувствую себя так же, как чувствовал бы и на чужбине; все мне подозрительно здесь, и сам я подозрителен для всех и для себя; я чужой здесь для всех и поэтому, как ни стараюсь, нет мне покоя ни днем, ни ночью, взаимная подозрительность терзает меня и всех нас, мы ворочаемся на ложах своих и даже во сне продолжаем в чем–то подозревать друг друга, не переставая при этом курить и заниматься друг у друга попрошайничеством.
Лишь однажды я утерял это ощущение чужеродности и полной от всех оторванности, но один только раз! и ненадолго.
…Они вошли на одной из вокзальных станций, наверно, ехали транзитом, наверно, из какого–нибудь затерянного шахтерского городка в гости к родственникам, или друзьям, или еще куда–то, женщина и еще одна женщина, ребенок, мальчик, довольно маленький, почти младенец, мать и свекровь, и мужчина, отец, озабоченный, как все отцы, везущие свою семью куда–то вдаль из маленького захолустного городка, хлопотливый и немножко веселый, потому что все сложилось хорошо и хватило на билеты, и они, наверно, доедут туда, куда они там едут, и выпьют с тестем, а его еще не засыпало углем и не взорвало пока газом, это еще успеется, а может, и вообще обойдется. Мать, степенная и чуть напряженная, как все провинциальные матери в столице, как бы чего не вышло, как бы не потерялся в толчее ее сыночек — вон сколько народищу, отец ведь не доглядит, про свекровь и говорить нечего, не пропал бы в толчее ее мальчик, кровиночка, уж и не надеялась, что разродится, работа тяжелая, не женская, уж и не надеялась. А все же хорошо, что едут, не все же на месте сидеть, тоска, а тут и посмотреть есть на что, и по магазинам можно, а приедут на место, дык только бы не дать отцу–то нализаться с родственниками–то сильно: что–то, говорят, с сердцем у него такое, и бывало уже нехорошо, не молоденький уже, тоже сказать; но немножко выпить–то, и правда, не помешает, и она сама выпьет, как же без этого. Свекровь ничего уже не понимает, где это они, куда едут, но сын здесь, вон — улыбается, значит он все знает, значит все хорошо, все устроится, приедут они куда они там едут, разместятся, со сватьями повидаются, бог весть, когда еще придется, да и придется ли еще… Зря, конечно, сын тогда женился на этой, да ничего не попишешь теперь, родителей теперь никто не слушает, а так, вроде, и ничего, все, вроде, слава богу, дык и ладно, вот едут куда–то, дык, вроде, и слава богу. Мальчик смотрит чудными глупыми глазами, ему все равно, он ничего еще не знает, да и не знает еще, что нужно; просто едут куда–то, — мама, теплая, ласковая, бабушка, папа…
Они скользнули по мне взглядом, безразлично, в сущности, но и не без интереса, — и ничего не случилось! Я не был подозрителен для них — так, еще один столичный житель, ну, странноватый, как все жители столицы, дык может у них, у столичных, так–то и положено. Я ничем не угрожал их существованию в захолустном городишке, с полуразрушенным домом культуры, который сдается теперь черт знает под какие нужды, с по–прежнему пустыми магазинами; городишке, где теперь почти нет работы, даже на шахте, где молодым некуда податься и они дуют поэтому самогон, как воду и даже не представляют, что это, скажем, вредно, или противоестественно, потому что вся жизнь их с самого рождения под черным угольным солнцем в этом умирающем городишке противоестественна и вредна.
Они, они тоже, ничем, совершенно ничем мне не угрожали, они вошли и выйдут на следующей остановке, я никогда их больше не увижу, они едут в гости к своим родственникам или друзьям, которых я тоже никогда не увижу, и которые никогда не увидят меня, и не станут курить мне в лицо, и попрошайничать, и пачкать меня своей одеждой. Мы, бог даст, никогда, никогда не встретимся, не скажем друг другу ни единого слова и даже не узнаем о существовании друг друга, и именно это объединяет нас и делает нас народом и дает нам чувство свободы, равенства и братства друг с другом. Я испытал тогда это новое для себя чувство, оно поднялось где–то в районе поясницы, растеклось теплой волной по позвоночнику и плечам, как будто я прижался спиною к теплой, согретой угольно–черным солнцем надежной стене и мог теперь быть уверен, что с той стороны я, наконец, защищен, что никто не нападет и не ударит меня, и не попросит у меня что–нибудь сзади внезапно, и я понял, что это и есть то самое чувство родины, о котором я столько раз читал в разных литературных произведениях, как художественных, так и научных. Что это неведомое мне доселе чувство той самой родины, которую мы все хотим и никак не можем обустроить, все время спрашиваем «как нам ее обустроить?», но никак что–то не обустроим.
Доктор, я тоже хочу спросить, как нам обустроить нашу родину? Как сделать так, чтобы чувствовать ее не только спиной и изредка, но также другими частями тела и всегда? Что для этого должны сделать все мы и, например, лично я? Как навсегда избавиться от этой пронизывающей всю нашу жизнь подозрительности, — в частности, подозрения, что меня можно в любой момент и в любом месте, не обязательно в метро, унизить, оскорбить, ударить и сделать это совершенно безнаказанно, даже просто так, от скуки или между делом? Что меня можно заподозрить в чем угодно, и на этом основании, считающимся при этом законным, опять унижать, оскорблять, лишать меня свободы, ломать мне жизнь? Или делать все то же самое безо всяких подозрений, а просто потому, что кому–то непременно захотелось занять не любое соседнее, а именно мое насиженное под нашим черным ласковым солнцем место? Когда порядок в обществе сможет поддерживаться не «твердой рукой», не страхом и той же самой подозрительностью, а уважением друг к другу? Или нам для достижения всего этого необходимо не видеть, не слышать и даже, по возможности, не знать о существовании друг друга?..
Как я уже, кажется, упоминал, я неукоснительно следую совету, данному мне мудрым старцем во время моей с ним встречи, и ежедневно молюсь о ниспослании покоя мне и моей родине, поскольку очень мне на ней неспокойно.
— Голубь серебряный!, — молюсь я, — древний вестник Господень, прилети, овей крылами своими страдающие в горячечном бреду головы наши, освети ночи наши и прогони тени, пугающие нас из углов жилищ наших. На тебя последняя надежда, ибо нет тебе никакого дела до нас и безобразия нашего. Благовести нам спасение в веке нынешнем и принеси с собою звуки и краски века прошедшего, серебряного — серебра его довольно нам, не просим мы золота, ибо не дерзаем.
…Но скованы были из серебра того ножи жертвенные и принесены посредством них страшные кровавые жертвы истуканам безмозглым, на оскверненных алтарях предков наших поставленных нами себе на погибель свою. И ковали те ножи — мы, и омыто было их серебро в реках крови нашей. И были отлиты нами из серебра того барабаны, и обтянуты туго кожею нашею, и каждый удар в те барабаны рукоятями серебряных ножей возвещал приближение кончины нашей во славу и хвалу истуканам безмозглым, нами же самими поставленным. Таковы были дела наши, и нет у нас ни понятия о них, ни сожаления, ни раскаяния. Так канул век наш серебряный в вечность как драгоценный перстень в дыру сортира, и пришел ему на смену век железный, алюминиевый и пластмассовый, что означает пластичность масс наших. Лепи теперь из нас, что хочешь, а не хочешь, — ничего не лепи, и без того мы нелепы. Слипаются от гноя глаза наши, липки от крови и пота руки наши, и где взять того мыла, чтобы отмыть нас? И где они, те доктора, что смогут и, главное, захотят помочь нам, дать нам совет или наставление, научат — как жить, чтобы нам избыть все это, чтобы вернуть себе бывшую у нас когда–то, когда–то давно, может быть, в раннем детстве, или когда–нибудь в еще более глубоком прошлом, жизнь, и силу ее, и любовь Господа нашего, растоптанную нами, и отнятую от нас за эти дела наши? Одинокими тенями грезимся мы кому–то неведомому на просторах равнодушной родины нашей, и самый смысл нашего существования и расположения на них утерян. Медленно влачимся мы по ним, косо глядя друг на друга, без мыслей, без цели, как бессильные призраки опавших листьев, гонимые с места на место вечерним сентябрьским ветром, и засоряем понемногу также и другие доступные нам пространства, занося туда нашу скуку, наше непонятное ожесточение, беспамятство и тоску.
…Доктор, я часто вижу подозрительных лиц в вагоне метро, часто вижу лиц в вагоне метро, подозрительных лиц, лиц в вагоне метро, вагоне, вагоне, метро, доктор, доктор, доктор…



![Биарриц-сюита [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/613935/primary-medium.jpg)





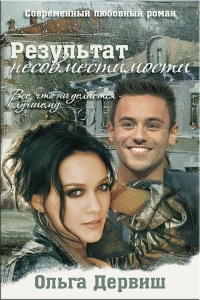
Комментарии к книге «Четыре», Алексей Игоревич Ильин
Всего 0 комментариев