Злая земля. Историко-приключенческий роман М. Зуева-Ордынца. (продолжение).
ЧАСТЬ I НЕЗНАЕМАЯ СТРАНА (продолжение).
VIII. Золото тэнанкучинов.
Весенние ливни подмыли берег и выгрызли в недрах горы пещеру. Вход, заросший кустарником, был узок и низок, но когда проползли с десяток аршин, стены начали расширяться и вывели в небольшой грот с чашеобразным потолком. Громовая Стрела зажег пучок сосновых веток, обмазанных смолой. Выступили из тьмы стены и потолок пещеры, увешанные заплесневелыми сосульками сталактитов. Около одной из стен в небольшой ямке русский заметил развалины печки. Видимо здесь некогда жил человек. Но тотчас же внимание траппера отвлек Хрипун. Волкодав напружинил мускулы, шерсть вдоль спины поднялась дыбом. Но он молчал и неотрывно глядел куда-то в глубь пещеры.
Громовая Стрела наклонил горящий факел. Русский опустил глаза и на песчаном полу пещеры увидел… скелет человека, прикрытый обрывками мехов. Второй скелет! Первый был там, в трапперском зимовье.
Рядом со скелетом лежал нож из обсидиана[1]. Такое архаическое оружие могли употреблять только индейцы. И русский понял: этим ножом был зарезан белый. Золото обманчивым миражом завлекло его в пещеру. Черные Ноги наклонился и поднял нож.
— Это нож моего отца, — сказал Красное Облако. — Им он убил человека твоего племени.
Черные Ноги ничего не ответил, даже не обернулся. Странная тяжесть сдавила его грудь.
— А вот оружие белого, — продолжал вождь, склонившись над скелетом и шаря под обрывками мехов. Поднявшись, он протянул русскому старинный пистолет. Черные Ноги с любопытством осмотрел длинноствольный кремневый, с граненым стволом пистолет.
Тяжело вздохнув, траппер бросил пистолет обратно на сгнившие меха. Послышался странный звук, словно металл лязгнул о металл. Черные Ноги опустился на колени перед скелетом и откинул мех. Глаза уколол яркий блеск золота.
Рядом с голым черепом лежал небольшой мешок из оленьей кожи, в каких трапперы обычно хранят кремни, кресала[2], трут. Мешок лопнул, и через дыры лезли золотке самородки. Это-то золото и нашел здесь русский. Черные Ноги встал и молча направился к выходу.
— Погоди! — властно остановил его Красное Облако. — Ты еще не все видел. Иди за мной!
Рядом с гротом, в котором лежал скелет, оказался другой, узкий и длинный, похожий на каменный гроб. Вождь вырвал из рук брата факел и поднял его высоко над головой.
— Смотри, белый! Вот золото тэнанкучинов!
Русский увидел каменные полки, высеченные в стенах, а на полках ряды туго набитых мешков из лосиной кожи.
Красное Облако рывком сдернул с полки один из мешков и развязал его. Опять блеснули золотые самородки. Вождь опустил руку в другой мешок, и золотой песок жирной струей перелился из одной его ладони в другую.
Русский был ошеломлен. Горячий солнечный блеск золота ослепил его. Черные Ноги бросился к полкам. Развязывая мешки, он царапал руки об острые края самородков, погружал пальцы в туго податливый, тяжелый золотой песок.
Прикосновение руки, легко легшей на его плечо, отвлекло на миг внимание траппера. Он оглянулся. Айвика пытливо и пристально глядела в его лицо, словно пытаясь разгадать, не отравило ли уже золото своим ядом сердце русского? Черные Ноги ответил ей растерянной виноватой улыбкой. Но к нему уже возвращалось самообладание. Золотой бред исчез так же неожиданно, как и ворвался в его рассудок и сердце. Ему было стыдно перед девушкой. Пожав благодарно руку Айвики, русский окинул взглядом пещеру.
Вождь сидел на камне, неподвижный и бесстрастный. Черные Ноги быстро подошел к вождю и, удивляясь своему внезапно изменившемуся голосу, сказал:
— Здесь очень много золота! На него можно скупить все меха от Туманного Озёра до Великих гор[3]. Нет, куда там! Его здесь в три… в пять раз больше!
Красное Облако молчал, безразлично глядя куда-то в угол пещеры, где выжидающе залегла густая подземная темь.
— И об этом золоте никто не знает? — спросил русский.
— Никто, — ответил тихо вождь. — Кроме меня, Айвики и Громовой Стрелы. Таково было желание моего отца. А из белых это золото ты увидел хотя и не первым, но, поверь, последним.
— А кто же первым?
— Ты видел их кости. Их было двое. Они хотели украсть золото нашего племени. Мой отец с тремя воинами застал их здесь, когда они прятали намытое в реке золото. Один из белых выстрелил в моего отца вот из этой короткой огненной трубки, но не попал. Отец убил его каменным ножом. Другого связали воины. Белого привязали к дереву, а руки растянули на шесте. Потом воины начали жечь на его ладонях кору, пальцы его от огня скрючились, и он не смог бы всю жизнь ничего взять в руки. И на всю жизнь осталось у него это клеймо вора. Таков наш закон. На ночь воины оставили белого привязанным к дерезу. Но утром не нашли его. Собака русского перегрызла ремни, и он ушел. Отец бросился за ним в погоню. Целую луну провел он в горах Злой Земли, но так и не нашел вора, — русский словно провалился сквозь землю. Свою огненную трубку он оставил здесь. Ее взял себе отец. А вот оружие второго белого вора. — Красное Облако поднял свое ружье.
Черные Ноги впервые внимательно осмотрел ружье вождя. Это был старинный солдатский «фузей», — гладкоствольное пехотное ружье, с какими русские ходили и на Фридриха Великого, и на Бонапарта.
— Всю жизнь мой отец боялся беглого русского, — продолжал вождь. — Он ждал каждую весну, что в Злую Землю нахлынут белые. Десять ледоходов воины племени стерегли границу Злой Земли. Когда отец умирал, он приказал мне: «Если увидишь русского с обгорелыми пальцами, убей его на месте». Но я не видал такого… Помнишь, когда мы с тобой встретились, ты рассказал мне, что в охотничьем зимовье лежат кости белого, который умер пятьдесят ледоходов назад. Я сразу понял, что это и есть тот самый белый вор. Русского верно убили атна-таны, когда он проходил через их землю. А может быть он умер и с голода.
Черные Ноги вспомнил дату смерти, вырезанную над скелетом в трапперском зимовье, и решил, что последнее предположение вероятнее. Золотоискатель умер жуткой медленной смертью, кусая в голодной муке искалеченные пальцы, неспособные даже бросить камень в птицу или белку…
Красное Облако молчал. Лицо его было грустно и озабоченно. Тихо поблескивал последний из принесенных в пещеру факелов. Тьма уже кралась из углов, готовая прыгнуть и затопить пещеру, как только потухнет последняя ветка.
Русский увидел каменные полки, высеченные в стенах, а на полках ряды туго набитых мешков из лосиной кожи…
Вождь вдруг поднялся и молча пошел к выходу. Остальные последовали за ним.
IX. Изменник.
— Мир с каждым днем становится все хуже, — говорил часом позже Красное Облако, — люди в нашем племени убывают, а пороки растут. Пища тоже убывает, потому что и звери подобно человеку уходят в подземный мир. Родная земля не хочет уже кормить своих сынов. Племя мое тает как снег от лучей весеннего солнца. Как спасти его?..
— Ты видел золото тэнанкучинов, русский, — продолжал Красное Облако, — но ты видел его еще не все. Ущелье полно золотом, ты найдешь его всюду, куда ни повернешься.
— Золото родилось на склонах гор, — сказал русский, — откуда оно в течение тысячелетий водными потоками смывалось и сносилось в ущелье. Поэтому и на дне Читтинии и на отмелях оно лежит толстым слоем.
— Да, там очень много золота, — грустно покачал головой вождь. — И если узнают об этом белые, горы застонут от шагов многих и многих Огненных людей. Ты думаешь, нам жаль золота? А на что оно нам? Но мы боимся голода, который придет в наши земли вместе с белыми. Белые распугают дичь, загонят ее к горам Ендикот, а может быть и дальше. Племя наше начнет голодать. Пищу мы должны будем покупать на это проклятое золото, но оно тогда будет в руках белых.
Тоскливая жалоба, звучавшая в словах вождя, взволновала русского. Но как он мог успокоить краснокожего? На стороне индейцев все законные права. Золото Злой Земли принадлежит им по праву первого захвата. Но разве в силах бороться юконские индейцы с чиновниками Новоархангельска или сибирскими купцами-золотопромышленниками? Севернее пятидесятого градуса широты не существует законов, а тем более в отношении непокорных «язычников». При помощи «достоверных лжесвидетелей» Огненные люди докажут, что золото Злой Земли принадлежит им, а не тэнанкучинам. Если же не поможет и это, то захват сокровищ будет произведен по праву военной добычи. Что стоит вызвать тэнанкучинов на открытый бунт против русских?
И знакомое уже чувство злобного бессилия при виде творящихся несправедливостей тупыми клещами сжало сердце траппера.
Закрыв глаза, русский представил себе ту живую лавину, которая хлынет сюда, на холодные равнины Аляски, как только разнесется весть о золоте. Придут купцы, продающие все, от солонины до собственной совести, бездельники, ищущие быстрого обогащения, авантюристы, у которых стволы револьверов стерты от частых выстрелов, а рукоятки покрыты зазубринами — отметками о числе убитых людей. Эта людская накипь принесет с собой свою пресловутую цивилизацию, которая развратит индейцев, вытравит, как едкая кислота, из их сердец все честное, великодушное и целомудренное… Нет, коли так, то уж лучше пусть попрежнему дремлет в черных пещерах Злой Земли этот страшный металл! Нога белого не должна ступить на землю тэнанкучинов!
— А что нам делать? Разве мы можем закрыть белым людям пути в наши земли? — спросил Красное Облако.
Русский удивленно вскинул голову. Не обладал ли вождь способностью читать чужие мысли? Ведь он своим вопросом логически закончил мысль траппера.
— Вы должны это сделать! — воскликнул русский. — Если не хочешь быть сожранным, сам рви зубами!
— У нас нет зубов, — глухо сказал вождь. — У нас нет огненных трубок.
— Надо их достать.
— Русские не продают краснокожим ни огненных трубок, ни пороха. Достать их для нас мог бы только белый. Но разве найдется белый, который пошел бы против своих?
— Найдется!
— Где же он?
— Здесь! Я достану для вас ружья!
Вождь вздрогнул всем телом, блеснул глазами. Он, видимо, хотел что-то сказать, но лишь отмахнулся рукой и отвернулся.
Молчал и русский. Порыв его прошел. Экзальтация, жажда подвига, желание защитить этих угнетенных сменились колебанием и неуверенностью в своей правоте. Он думал об измене родине.
Родина. Россия. Соотечественники… Какие это древние, ветхие слова! И все же какая могучая сила в них! Что дала ему Россия кроме тоски изгнания и мук одиночества? Но ведь в этом виновата не Россия, а всего лишь один человек. Он видел этого человека только раз, и на всю жизнь запомнились властное лицо, шелковистые бакенбарды и холодное металлическое выражение глаз. Это было в вестибюле Александринского театра. «Император… Его величество…» — змеился благоговейный шопот вслед человеку с холодными глазами. А он прошел, равнодушный, в сознании своей мощи, небрежно вскинув к каске женственно-белую руку. Эта холеная, барственная рука оттуда, из Зимнего дворца, из туманного Петербурга дотянувшаяся до черных юконских волн, мертвой петлей, намыленной удавкой сдавила горло несчастных тэнанкучинов. И разве не долг каждого честного человека больно ударить по этой руке?.. Измена? Ну, так что же! Слово это страшно только филистерам[4].
Траппер порывисто встал: «Итак, изменник? Пусть!..»
X. Ключ к Доброй Жиле.
Вождь по-своему понял резкое движение русского. Он шагнул к трапперу, вытянув умоляюще руки:
— Не говори «нет», о, великий и справедливый белый охотник! Я знаю, тяжело итти против своих. Но отгони от себя эту черную мысль. Ты не пойдешь против своих. Не открывай широко твои глаза цвета неба. Не будет предательства!.. Знай же, что русские владеют страной Ала-еш-ха последнюю луну. Они продали нашу страну и нас тоже, как мы продаем своих собак белым людям из Нувуки.
Траппер пошатнулся словно получил удар в грудь. Затем тяжело перевел дыхание и уставился бессмысленным взглядом на чайник, поплевывавший в костер.
Его не удивило, что страну в полтора миллиона квадратных километров, то-есть равную но размерам Пруссии, Франции, Англии, Бельгии, Голландии и Швейцарии вместе взятым, продадут как какие-нибудь Коровьи Броды. Он знал, что человек из Зимнего дворца смотрит на Россию как на свою романовскую вотчину. А слухи о продаже Большой Земли американцам или англичанам давно уже тревожили русских, живших в Аляске.
Траппер был подавлен сознанием, что эта страна, которую он успел полюбить, теряет всякую связь с его родиной. Итак, теперь Аляска будет одним из штатов Дяди Сама. Значит, снова чужая земля под ногами…
— Кто сказал тебе об этом, вождь? — хмуро спросил русский.
— Об этом говорят на всех русских фортах и постах. Начальники со светлыми пуговицами и золотыми дощечками на плечах готовятся уже уводить казаков с русских фортов. А на постах купцы укладывают товары и уезжают в Ситху. Люди из Нувуки очень сильны. У них великие поселки, и они ездят в движущихся домах. У них много огненных трубок. Говорят, что они еще более жадны и жестоки чем русские. О, Черные Ноги, спаси нас от людей из Нувуки, привези нам много огненных трубок! Ты храбр и благороден, ты спас моего маленького сына, спаси же теперь и все племя тэнанкучинов! Ты можешь это сделать, если захочешь.
Голос вождя срывался от волнения. Индеец дрожал словно в ознобе. Он забыл, что показать свое волнение — величайший позор для краснокожего.
А в сердце русского поднималась злобная веселость и то нервное возбуждение, какое охватывает человека, идущего на явную опасность. Примешалось сюда и мальчишеское озорство, желание подложить свинью американцам, по праву купли отнимающим у него Аляску — его вторую родину. То-то удивятся эти купцы, когда «дикари» встретят их градом пуль!
— Хорошо, вождь! — воскликнул траппер, пряча в бороду лукавую улыбку. — Я достану для твоего племени ружья, даже в том случае, если чорт и бог заключат против меня союз. С американцами шутить нельзя, дело это опасное, а потому оно мне по вкусу. На что же мы будем менять ружья?
Красное Облако молча нагнулся над своими нартами, и к ногам траппера с глухим металлическим звуком упал кожаный, туго набитый мешок. За ним второй, третий, четвертый, пятый. Траппер был удивлен. Он не заметил, когда индеец успел взять золото из пещеры Злой Земли.
— Ого, не меньше двух фунтов! — воскликнул он, вскидывая на ладони один из мешков. — Следовательно здесь на двадцать тысяч рублей. Этого хватит, чтобы вооружить порядочную армию. Останется еще и на взятки чиновникам и на фрахт судна до какой-нибудь глухой бухточки, где мы выгрузим твои огненные трубки, вождь.
— Ты больше не возьмешь золота, Черные Ноги? — удивился вождь.
— Хватит и этого.
— Я хотел бы, — робко сказал Красное Облако, — чтобы ты купил для нас и одну большую огненную трубу, которую возят на нартах.
— Пушку? — расширил удивленно глаза русский и вдруг расхохотался. — А почему бы и нет? Вооружаться так уж вооружаться! У браконьеров-китоловов можно будет сторговать и пушку. Коли так, давай еще мешок, и баста!
— Вы должны это сделать! — воскликнул русский…
Поймав на лету брошенный вождем шестой мешок, траппер сгреб их все в охапку и свалил на нарты.
— Если тебе не хватит золота, — сказал вождь, — ты возьмешь его сам сколько будет нужно в пещере Злой Земли.
— Фью! — свистнул траппер. — Легко сказать, возьмешь! А как туда дорогу найти? У меня после нашего путешествия ничего не осталось в голове. Какие-то ущелья, тупики, вершины, тропки…
— Поэтому ты должен взять с собой вот это. — Индеец протянул ему какую-то трубку.
Развернув ее, русский увидел довольно большой кусок березовой коры. На коре китайской тушью был тщательно нарисован план Злой Земли. В правом верхнем углу изображена была большая гора с белой трехгранной вершиной — гора св. Ильи. От нее шла пунктирная линия (путь к сокровищу), извивавшаяся между ущельями, пересекавшая ручьи, хребет вершины и упиравшаяся в речку с такими прихотливыми вавилонами, что это могла быть только Медная. Пунктир опускался вниз по течению Медной, оставляя в стороне гору с дымящейся вершиной («Гора Духов», — догадался траппер) и упирался в холм, на котором была нарисована монета с двуглавым орлом. Это и была гора, в недрах которой хранилось золото тэнанкучинов. Рисовал план, видимо, моряк, так как страны света были обозначены изображенной в центре компасной катушкой с румбами и даже градусами. Местные названия не были нанесены, и конечно с умыслом, чтобы не облегчать расшифровку плана. Лишь внизу красовался заголовок и дата, написанные затейливой славянской вязью:
КЛЮЧЪ КЪ ОТЫСКАНИЮ
ДОБРОЙ ЖИЛЫ.
Рисовано въ году отъ Рождества Христова 1816, Маiя 19, въ день сошествiя Святаго Духа.
— «Добрая Жила», — пробормотал траппер. — Так вот как назвали ущелье несчастные золотоискатели. Откуда у тебя, вождь, эта вещь?
— Ее нашел мой отец в сумке убитого в пещере русского, — ответил тот. — Искусно и правдиво изобразил на этой коре человек твоего племени путь к сердцу Злой Земли. Словно на крыльях птицы поднялся белый к облакам и оттуда нарисовал Злую Землю. Поистине велика мудрость русских! Возьми себе эту кору. Не имея языка, она все же расскажет тебе, как найти золото тэнанкучинов. Бери его сколько хочешь и для нашего дела и для себя!
— Коли так, спасибо, — растроганно сказал траппер. — Но не боишься ли ты, вождь, что я передам этот кусок коры людям моего племени?
— Никогда и даже на время одной молнии не подумал я, — торжественно сказал вождь, — что Черные Ноги может быть предателем! Нет, я верю тебе, как самому себе. Ты не захочешь причинить беду тэнанкучинам. Сердце говорит мне об этом…
Русский молча отвернулся, видимо взволнованный, и преувеличенно осторожно начал закатывать в мех план Доброй Жилы.
И вдруг вскочил, выдернул из ближайших нарт длинный шест. Вождь удивленно глядел на траппера. Вытащив нож, русский начал делать на шесте зарубки. Кончил, пересчитал. Зарубок было ровно шестьдесят.
— Возьми, вождь, — протянул он индейцу шест. — На нем столько зарубок, сколько дней в двух лунах. Срезай каждый день по одной зарубке и, когда дойдешь до последней, то снова увидишь меня, увидишь и огненные трубки, которые я привезу для воинов твоего племени. Или же… получишь весть о моей смерти, если мне это не удастся.
Индеец бережно положил шест на свои нарты.
— Я еду сегодня вечером, — уже спокойно и деловито обратился к нему русский.
— Тебе нужен кто-нибудь в помощь?
— Пожалуй, дай мне одного человека.
— Возьми с собой моего брата.
— Громовую Стрелу? Он мне нравится. Я согласен.
— Громовая Стрела покажет тебе древнюю кочевую тропу индейцев. Она выведет вас к Большой Соленой Воде[5], и через пять ночлегов увидите вы волны Якутата[6].
XI. Летящая Красношейка.
— Пусть будет путь твой благополучен! — сказал Красное Облако ровным и спокойным голосом. Это была обычная индейская формула прощания. После нее следовало поднимать собак.
А траппер медлил. Через плечо вождя оглядывал он индейцев, толпившихся около нагруженных нарт. Но Айвики среди них не было. Русскому же так хотелось увидеть перед долгой разлукой лицо девушки, о тайной любви которой он уже знал; хотя бы взглядом проститься с ней.
Он грустно вздохнул и подошел к нартам.
Громовая Стрела — крепкий, низкорослый, с большой головой, с глазами темнокарими, пытливыми и смелыми, поднял уже собак и выжидающе глядел на белого.
— Трогай! — сказал русский.
— Э-гай! — крикнул повелительно Громовая Стрела.
Хрипун влег в набитый мхом хомут и уверенно повел за собой потяг.
На первом же подъеме русский оглянулся. Группа индейцев четко выделялась на белой пелене снега. В стороне, на сугробе сидел Красное Облако, опираясь на шест, данный ему белым. Сегодня после захода солнца вождь срежет первую зарубку.
Русский почувствовал вдруг, как горечь разлуки обожгла его сердце. Вместе с тем какое-то темное предчувствие надвигающегося несчастья овладевало им. Но это чувство тотчас же сменилось бодрым возбуждением, жаждой борьбы, движения и труда.
Ища выхода своему настроению, траппер свистнул. Потяг ответил взволнованным визгом и ускорил бег.
Громовая Стрела бежал впереди, высматривая следы зверей и прокладывая лыжами путину для собак. Русский шел рядом с нартами, рулевым шестом (каюром) регулируя и направляя их ход.
Два дня прошли без особенных приключений… Лишь на третий день наткнулись на походную палатку русского миссионера. От него траппер услышал подтверждение слуха о продаже Аляски американцам. По словам миссионера, официальная передача страны новым владельцам состоится на-днях в столице Аляски — Новоархангельске. Миссионер узнал об этом на побережье от моряков и, обеспокоенный переменой политической обстановки, мчался сломя голову за инструкциями в икогмутскую миссию.
На четвертый день произошла маленькая авария: на крутом спуске траппер, погруженный в свои мысли, не заметил засыпанного снегом камня, на который и налетели нарты, поломав при ударе копылья.
Авария произошла часа в три дня. На небо уже выкатился громадный искрящийся шар луны. Дни в ноябре под этими широтами коротки: светает в девять, а в три уже глубокая ночь.
Возясь при свете костра с треснувшими копыльями, траппер услышал вдруг неясное бормотание Громовой Стрелы, похожее на кудахтанье, которым краснокожие выражают удивление. Траппер посмотрел на индейца.
Громовая Стрела, отвернувшись от костра, пристально смотрел куда-то вдаль и вдруг вскрикнул раздраженно и удивленно.
— Что ты увидел, Громовая Стрела? — спросил русский.
— Айвика! — ответил уже равнодушно индеец и снова повернулся к костру, как будто разговор шел о лисице, а не о его сестре.
Траппер приложил к глазам козырьком ладонь. По снежной равнине, залитой молочным светом луны, скользила черная тень, приближавшаяся к их стоянке с быстротой летящей птицы.
— Не даром же имя ее Летящая Красношейка! — улыбнулся траппер. — Эх, ухарь-девушка!
Натянув рукавицы, русский без лыж пошел к ней навстречу.
Айвика остановилась в нескольких шагах от костра. Жесткие, густые, блестящие черные волосы выбились в беспорядке из-под медового капора. На лицо девушки серой паутиной легла усталость, нос заострился, щеки впали, от чего еще заметнее выдавались скулы. Видимо нелегко далась ей, полуребенку, эта четырехдневная погоня за взрослыми мужчинами.
— Я пришла… — робко сказала Айвика.
— Вижу — ласково улыбнулся траппер. — А зачем?
— Я пойду с вами в Ситху.
Глаза траппера из ласковых стали сурово повелительными.
— Айвика, — строго сказал он, — ты ослушалась приказа твоего брата, великого вождя племени. Знаешь ли ты это?
— Знаю, — сорвался едва слышным шелестом ответ с губ девушки.
— А если так, то ты знаешь и то, что нужно тебе сейчас сделать.
— Что я должна сделать? — сгорбившись, словно под занесенным ударом, спросила Айвика.
— Иди обратно. Догоняй племя!
Девушка ничего не ответила, но в глазах ее траппер увидел сдерживаемый крик боли. Ему вдруг стало не по себе. Выплескивая дрогнувшим голосом и нежность и жалость, он повторил нетвердо:
— Иди обратно, Айвика. Слышишь?
— Я вышла из стойбища на полдня раньше вас, — не отвечая на вопрос, заговорила девушка, — и ждала, спрятавшись в снегу около трех сосен. Потом я пошла по вашему следу. Итти было тяжело — вы мчались как ветер…
Затем Айвика рассказала, как после первого же ночлега за ней пошли девять больших волков. Звери растягивались древком лука, на бегу смыкая концы. Но Айвика прибавляла ходу, и волки, услышав скрип снега под нартами траппера, отставали. На ночлегах она не зажигала огня, так как боялась, что брат или русский заметят ее и вернут обратно.
И вот, лишь только тьма опускалась на землю, появлялись все те же девять волков. Построившись снова в виде лука или луны на ущербе, они крадучись начинали соединять концы своего неполного круга. Тогда Айвика вставала и шла ближе к костру траппера. Волки шарахались в стороны, но не надолго. Как только она ложилась в новую снежную ямку, игра возобновлялась. Одну ночь из-за волков Айвика провела так близко от их костра, что слышала, как разговаривает с Хрипуном траппер и храпит во сне Громовая Стрела.
Сама же Айвика не спала ни одну из этих ночей. Если бы она заснула, то не проснулась бы. Но сегодня она почувствовала, что у нее нет больше сил бороться со сном. Лишь только она опустилась на снег, сон победил ее.
— А когда я проснулась, — испуганным шопотом сказала Айвика, — то увидела, что волки уже сомкнули круг и ползут ко мне по снегу не далее чем в полполета стрелы… Я испугалась так, что закричала, призывая… призывая тебя, Черные Ноги!..
— Я не слышал твоего крика, Айвика, — взволнованно сказал траппер.
— Я слышал, — бесстрастно откликнулся у костра Громовая Стрела — Но, я подумал, что это кричит заяц в зубах лисицы.
— Но волки не испугались моего крика, — продолжала девушка, — они еще быстрее начали приближаться ко мне. Тогда я надела лыжи, вытащила нож и бросилась прямо на одного из них. Гуп! Уаг!.. Это был еще молодой неопытный зверь. Он завизжал и прыгнул в сторону, а я вырвалась из их кольца. И вот я здесь. А волки очень разозлились. Слышишь?
Девушка ничего не ответила, но в глазах ее траппер увидел сдерживаемый крик боли…
С равнины прилетел злобный тоскливый вой волчьей стаи. А в недалеком низкорослом ельнике бегло зеленой искрой сверкали глаза «серых». — Я не пойду обратно, — сказала решительно Айвика. — Если ты прикажешь мне вернуться, я перережу себе горло!
«Это похоже на тебя», — подумал траппер, с опаской поглядывая на меховые ножны ее охотничьего ножа. — «Не человек — порох!»
И вдруг он к удивлению своему увидел, что стоит рядом с девушкой, а рука его нежно гладит её плечо. Крякнув конфузливо, отдернул руку и сказал уже совсем нерешительно:
— Конечно, одной тебе нельзя возвращаться к племени. Придется и нам вернуться, чтобы проводить тебя.
— Я не пойду обратно! — перебила его Айвика. — Я хочу итти в Ситху, в большое стойбище русских. Я хочу посмотреть, так ли красивы белые женщины, как о них рассказывают.
— Белые женщины! — опешил траппер. И вдруг понял все. И несмотря на затруднительность положения, ему захотелось радостно и счастливо засмеяться.
«Что это? — удивился он. — Неужели я счастлив от сознания, что этот ребенок ревнует меня? Неужели и я…»
Но мысль его оборвало кудахтание, донесшееся от костра.
— Не ослышался ли я? — спросил краснокожий. — Не говорил ли ты, что мы вернемся к племени?
— Говорил. Придется вернуться. Не можем же мы бросить Айвику на съедение волкам.
— Мы не можем возвратиться, — твердо сказал индеец. — Как только мы уехали, вождь повел воинов, что провожали нас к границам Злой Земли, обратно на Юкон. Они идут быстрее нас, они налегке, а потому Красное Облако уже довел отряд до Юкона. Отсюда до Юкона десять и еще два ночлега. У нас не найдется пищи для собак на весь обратный путь.
— Но как же быть в таком случае? — растерянно спросил траппер.
Индеец пожал плечами и отвернулся к костру. Лицо его было равнодушно и чуть насмешливо,
— Иного выхода нет. Придется тебе, Айвика, ехать… с нами, — смущенно сказал Черные Ноги.
Услышав радостный вскрик девушки, деланно строго сдвинул брови.
* * *
К концу следующего дня они услышали отдаленный гул. Он наплывал медленно, но непрерывно и все крепчал, заглушая уже визг снега под полозьями нарт.
— Большая Соленая Вода сердится, — робко прошептал Громовая Стрела.
В следующую минуту с вершины холма открылся белый от пены простор Великого океана.
Перед шестым ночлегом, как и предсказал Красное Облако, путники вышли к Якутату в том самом месте, где со св. Ильи сползал в бухту колоссальный глетчер Маласпина.
XII. Заставный капитан.
В поселке Якутат на мысу св. Ильи Черные Ноги зафрахтовал небольшую гафель-шхуну с трехугольным парусом и двумя парами весел. Неуклюжее, но крепкое судно это напомнило ему плоскодонные «кунгасы» амурских рыбаков.
Владелец, он же шкипер шхуны, приторно вежливый китаец обещал высадить пассажиров в поселке Дьи, к северу от Кросс залива. Дальнейшее путешествие между островами архипелага Александра до острова Баранова, на котором расположен Новоархангельск, траппер предполагал проделать на каком-нибудь местном гребном судне.
Очутившись на судне, индейцы забились в темную, без окон, каюту и не выходили из нее до конца плавания. Они суеверно боялись моря.
На восходе солнца шкипер отдал концы, и шхуна пошла в открытое море. Трапперу казалось, что они стоят на месте, а назад плывет, удаляясь, вершина св. Ильи, переливавшаяся на солнце фиолетовыми, оранжевыми и голубыми огнями. Тревожные мысли роились в его голове.
Удастся ли ему из-под носа у янки вывезти оружие для индейцев? А если он будет пойман с поличным, что ждет его? Быть может выдача русским властям?.. Нет, что угодно, только не равелины Петропавловской крепости и не сибирские рудники!..
* * *
В шестидесятых годах прошлого столетия в этих водах собиралось до пятисот китоловных судов. То-и-дело встречались коренастые китобойные бриги и их разведочные лодки. Нередко горизонт обрызгивали фонтаны китов. На траверзе вершины Хорошей Погоды шхуну обогнал русский крейсер «Самоед», охранявший китобойные и зверобойные промыслы Российско-Американской компании.
В конце четвертых суток шхуна бросила якорь в крохотной бухточке поселка Дьи, у подошвы знаменитого глетчера Мюира, далеко выдающегося мысом в море.
Поселок Дьи, становище Русско-Американской компании, в эту пору бывал мертв и безлюден. Население его уходило на зверобойный промысел. На берегу — старинная часовня, около нее четыре покосившихся креста — могила давно умерших ее строителей, дальше десяток бревенчатых изб — зимовка индейцев племени дьи. На опушке леса большой, обитый тесом дом — компанейская фактория. А за лесом угрюмой грядой встал Чилькутский хребет — береговая горная цепь, отделяющая русскую Аляску от Британской Колумбии.
Высадившись на берег, траппер в сопровождении Айвики, Громовой Стрелы и Хрипуна направился к фактории. Фактор — бывший кавказский офицер, затем, последовательно: заставный капитан[7], рядовой сибирского понтонного батальона, дезертир, аляскинский зверобой, каюрщик (погонщик собак) и наконец служащий компании, — был старым другом и учителем траппера. С его помощью Черные Ноги надеялся нанять лодку до Новоархангельска.
Заставный капитан, к счастью, оказался дома. Встреча была радостной и бурной. Сухонький старичок, коротко — по-солдатски — остриженный, кривой на левый глаз, от восторга кипел как щелок.
— Филипп Федорыч, милейший мой! — ревел он «фрунтовым» басом. — И каким только ветром занесло тебя, оглобля с суком? Вот радости-то старику!
— По делу, Македон Иваныч, по важному делу, — отвечал траппер. — Помогите и научите.
— Да ты разоблачайся. А вы куда, чумазые, прете? — загрохотал вдруг заставный капитан на Айвику и Громовую Стрелу, робко перешагнувших через порог.
Индейцы молча повернулись и пошли к дверям.
— Стойте, Македон Иваныч, — твердо сказал траппер. — Эти краснокожие мои самые лучшие друзья.
— Хо-хо-хо! — закатился заставный капитан смехом, похожим на пушечные залпы. — Вот насмешил-то, оглобля с суком! Да ведь из-за тебя их и гнал-то. Думал, побрезгуешь. А у меня этих «индюков» каждую неделю невпроворот гостит. Ну, ты, божья коровка, — хлопнул он по спине оробевшею Айвику, — снимай хламиду-то свою!
Индейцы cняли кукланки[8] и уселись в углу на корточках.
— Так дело у тебя, говоришь! — обратился к трапперу заставный капитан. — Ну, дело после, а сейчас угощаться будем. Соня! — крикнул он своей шестнадцатилетней дочке. — Волоки на стол все, что в избе есть. Кашу давай, щи, из сеней оленью лопатку принеси. Самовар я сам поставлю.
Старик, крепкий и чистенький как ошелушенное зернышко ореха, подвижной как ртуть, смерчем крутился по комнате: гремел самоварной трубой, пилил мерзлую оленину.
А траппер, любуясь старым учителем, руководившим первыми его шагами в этой суровой стране, твердо решил рассказать ему о своем плане и попросить совета этого аляскинского старожила.
Заставный капитан впервые вступил на вечно мерзлую почву русской колонии в Новом Свете двадцать пять лет назад.
Македон Иваныч Сукачев в далеком уже теперь прошлом был офицером русской армии. Добровольно отправившись на кавказскую линию, он вошел во вкус «малой» партизанской войны. выказывая чудеса храбрости. С ротой лихих пластунов брал он в день по пятку и более черкесских завалов[9]. В одной из таких стычек Македону Иванычу, тогда уже штабс-капитану, чеченцы выкололи кинжалом левый глаз. Сукачева это ничуть не опечалило. «Спасибо бритолобым, — говорил он, — теперь по крайней мере прищуриваться не надо. Прямо вскидывай винтовку да пали!» — и в подтверждение своих слов всаживал пулю со ста шагов в копейку.
— Филипп Федорыч, милейший мой! — ревел капитан «фрунтовым» басом…
Но иначе отнеслось к этому случаю начальство. Сукачев был до мозга костей партизаном. Он сначала говорил, а потом уже думал, сначала стрелял, а потом разговаривал. Солдаты Македона Иваныча, как говорится, на руках носили, а начальство считало его вредным и беспокойным элементом. То прицепится к полковнику — куда де девались экономические полковые суммы, то облает какого-нибудь интендантского майора, зачем тухлую свинину в котел пластунам положил. А раз, когда после неудачной и бессмысленной атаки укрепленного аула легла почти вся рота Македона Иваныча, он командующему отрядом генералу прислал такой рапорт:
«Доношу, что от моей шестой победоносной роты остались в живых я да барабанщик. Аул Гухты не взят и никогда не будет взят, если войсками будут командовать мокрые курицы вроде вашего превосходительства. Штабс-капитан Македон Сукачев».
Генерал рапорту огласки не дал, боясь насмешек, но злобу на лихого партизана затаил. И вот, придравшись к ранению Сукачева, военно-медицинская комиссия признала его не годным к строю. Ему дали следующий, капитанский, чин и послали в один из уездных городов на должность заставного офицера.
Кипучему, деятельному и крайне самолюбивому Сукачеву унизительной показалась должность заставного капитана. С виду он смирился, но на сердце открытой раной горела обида. И как-то раз оскорбленное самолюбие вырвалось наружу.
Проезжавшему по шоссе важному генералу заспавшиеся инвалиды надзирательской команды долго не открывали шлагбаума. Персона взбеленилась и вызвала на расправу заставного офицера.
— Почему долго «подвысь» не командовал? — орал генерал на побледневшего Сукачева. — Как фамилия?
— Капитан Сукачев, ваше превосходительство.
— Не капитан Сукачев ты, а сукин сын! — крикнул в злобе генерал.
Оскорбление это было каплей, переполнившей чашу терпения. Македон Иваныч размахнулся и съездил персону по физиономии.
Судили. Разжаловали. Послали в сибирский понтонный батальон рядовым, но с правом выслуги в офицеры. Сукачев, лишь только немного огляделся, дезертировал. Добрался до Камчатки. Поймали, как лишенного сословных привилегий, отодрали на барабане шпицрутенами и снова отослали в батальон, теперь уже без права выслуги. Тяни до гроба солдатскую лямку! Но волю и энергию Сукачева ничто не могло сломить. Македон Иваныч погостил в понтонном батальоне всего несколько месяцев и снова дезертировал. На этот раз он махнул в Аляску. Высадился он на американский материк в 1842 году уже зрелым, тридцатипятилетним человеком.
За двадцать пять лет аляскинской жизни Сукачев переменил немало профессий. Дебри этой страны пришлись по сердцу кавказскому партизану. Сначала он взялся за ремесло траппера, затем, когда надоела Аляска, ушел в Канаду на службу Компании Гудзонова Залива каюрщиком-почтальоном. Увозя письма из глухих факторий, фортов, миссий, Македон Иваныч увез попутно себе жену. Двадцатилетняя дочь американского пастора без ума влюбилась в годившегося ей в отцы сорокадвухлетнего Сукачева. Македон Иваныч с треском, с шумом, с револьверной пальбой умчал на вихревом потяге из канадского форта Нельсон свою невесту. Перебравшись через Чилькутский перевал, заставный капитан в пылу бегства не заметил, как опять влетел на территорию русской Аляски. Путь в Канаду был теперь для него навсегда отрезан. Да и новое семейное положение обязывало к спокойной оседлой жизни.
Заставный капитан предложил свои услуги другой компании — Российско-Американской. Заправилы-компанейщики, обрадовавшись русскому, а тем более грамотному человеку, назначили Сукачева заведующим факторией в Дьи. Здесь и поселился Македон Иваныч с молодой женой. Строгая пуританка и сумбурный партизан не чаяли души друг в друге.
Но прожили они вместе недолго. Вскоре белокурая Мимми начала покашливать тем характерным сухим кашлем, который вызывается омертвением легких, когда-то сожженных морозом. Это сказалась переправа через Чилькут при шестидесятиградусном морозе. А на втором году замужества мистрисс Сукачева умерла, не перенеся трудных родов. Заставный капитан поседел за одну страшную ночь смерти жены. Он зарядил уже волчьей картечью верный штуцер, решив прощальный салют над могилой жены послать не в небо, а себе в рот. Но остановила мысль о родившейся дочери. Ради нее остался жить. И вот со смертью жены он безвыездно проживал в глухом Дьи, пестуя свою единственную радость, дочку Софью…
«Стальная пружина! — думал траппер, поглядывая на суетившегося заставного капитана. — Столько незаслуженных ударов судьбы перенес, а свеж и бодр как юноша. Согнуть его на время можно, а сломать — шалишь!»
— Ну-с, милейший мой, — прервал мысли траппера заставный капитан, — прошу к столу закусить да пропустить куфель-другой спиртного.
Через минуту траппер сидел за столом. Какими вкусными показались ему гречневая каша, щи, а в особенности хорошо пропеченный пушистый хлеб после надоевшей мерзлой рыбы и пресных, без дрожжей, лепешек. Но главнее удовольствие он оставил на дессерт. Это была газета, правда, двухмесячной давности, но все-таки настоящие московские «Русские Ведомости». Траппер наслаждался уже одним прикосновением к ее шероховатой бумаге. А слабый, чуть сохранившийся запах типографской краски доставлял ему тонкую и глубокую радость.
Ужин кончился поздно. Соня тотчас же раскинула постель для траппера, индейцы ушли спать в капитанские нарты, на двор. В комнате им показалось неимоверно жарко, а кроме того, как только зажгли лампу, краснокожие забеспокоились. Оказывается они приняли ярко горящую лампу за Киолью — «духа» северного сияния.
Заставный капитан прошелся по комнате, попыхивая из коротенькой глиняной трубки крепким российским вагштафом. И вдруг остановился против траппера:
— Ну-с, милейший мой Филипп Федорович, выкладывайте ваше дело. Чую, что-то серьезное затеваете.
Траппер рассказал о своем шестимесячном пребывании у независимых тэнанкучинов. Подробно передал рассказы Красного Облака о притеснениях и хищнических налетах «огненных людей». Ему хотелось этими рассказами разбудить в сердце заставного капитана ненависть к белым грабителям и сострадание к краснокожим, чтобы найти в лице Сукачева помощника в своем опасном предприятии. В заключение он сообщил о задуманной покупке оружия в Новоархангельске, а если это не удастся, то в каком-нибудь канадском или американском порту.
Лишь об одном умолчал траппер, повинуясь какому-то глухому предостерегающему инстинкту — о скелетах, о пещере Злой Земли, набитой золотом. Он ограничился лишь вскользь брошенной фразой:
— Деньги на покупку оружия имеются в достаточном количестве. Краснокожие набрали. Охотничий сезон был крайне удачен.
Заставный капитан выслушал траппера внимательно, ни разу не перебив. Но волнение его сказывалось в характерном подергивании обвислых, как у загримированного театрального китайца, усов. А когда траппер кончил, Македон Иваныч вдруг расхохотался:
— Ловко, оглобля с суком! Значит и нарезные ружья и пушку? Да что вы, милейший мой, в военные министры к индюкам определились?
И подойдя к трапперу, ласково похлопал его по спине:
— Хороший вы человек, милейший мой! Помните, я первый научил вас, как говорят здесь, «подвязывать мокассины»? Опираясь на мои плечи, фигурально выражаясь, начали вы топтать аляскинские сугробы. Я ведь знал, что делал, знал, кого в люди вывожу. Ну, вот и не ошибся. Хоть вы и нигилист и еще там что-то, а в своих революционных утопиях не утонули.
— Помилуйте, Македон Иваныч, — засмеялся траппер, — во-первых, учение Оуэна или Прудона[10] не утопия, а во-вторых…
— Да я вовсе не хаю вашей веры, — отмахнулся заставный капитан. — Я, может быть, очень уважаю этого, как его, Пру… Пру… Ну, да ладно! Я хотел сказать, что не засушили вы сердца своего. Человеком, настоящим человеком остались, милейший мой!
Он поймал руку траппера и пожал ее с грубоватой нежностью. И вдруг снова захохотал, даже присел, хлопая ладонями по коленкам.
— А здорово вы это надумали, оглобля с суком! Значит, хотите янкам свинью положить? Да не простую свинью, а порохом да пулями начиненную! Ой, помру!..
— Ну, а вы-то, Македон Иваныч, — нетерпеливо спросил траппер, — согласитесь мне помочь?
— А как же иначе? — вскинул удивленно голову заставный капитан. — Ну-с, шутки в сторону. Теперь, милейший мой, я стану свои «во-первых» да «во-вторых» высыпать. Слушайте. Во-первых, Соне уже шестнадцать лет, пора ей в школу. Во-вторых, не каждый день целую страну, что березовую рощу, продают. На это посмотреть стоит. В-третьих, надо мне компании сдать последнюю ее дань. — Он махнул рукой в угол, где лежали до потолка тючками связанные шкурки.
Поймав недоумевающий взгляд траппера, заставный капитан торжественно закончил:
— Так как и первое, и второе, и третье можно сделать только в Новоархангельске, то я еду с вами. А четвертым моим делом там будет помощь вам. Да разве можно вас одного пустить! — всплеснул он руками. — Вы и дело-то все провалите и сами на виселице очутитесь, оглобля с суком! Ваше дело против царей бунтовать, а уж насчет ружьишек я, как бывший военный, постараюсь. Понятно? Ну-с, а теперь спать, и быстро, аллюр два креста! Честь имею пожелать спокойной ночи, — отсалютовал воображаемой шашкой заставный капитан и скрылся за перегородкой.
Македон Иваныч размахнулся и съездил персону по физиономии…
Траппер, благодарно и счастливо улыбаясь, направился было к постели, но увидел на столе нечитанную еще газету. Жадно схватил ее и, сев поближе к лампе, торопливо развернул бумажную простынь.
С полуистертых газетных строчек глянула на него совсем иная жизнь: Россия, университет, революционный шум столицы, театры, выставки, музеи. Все это было когда-то и его жизнью, но каким далеким, каким фантастическим казался ему теперь этот мир.
XIII. Бегущие от цивилизации.
Траппер забыл уже, как спят под одеялом с подушкой под головою, поэтому сон его был крепок и жаден. А проснувшись, он долго еще лежал в постели, довольно жмурясь и поеживаясь от ласковых прикосновений мягкого теплого одеяла.
Заставный капитан, неслышно ступая ногами, обутыми в мягкие мокассины, увязывал вымененные меха. Он, видимо, готовился к поездке. Шкурки, запакованные в пачки обратной стороной, похожи были на связки грязных досок. Лишь в Петербурге из экипажей, из театральных лож засверкают эти аляскинские «пушистые бриллианты». Впрочем о красоте мехов можно было судить по десятку шкурок, сушившихся под потолком. Это были искрящиеся меха лисиц: серых, серебристых, чернобурых, белорозовых и аристократок — голубых и белых.
Следя из-под полуоткрытых век за сухонькой фигуркой Македона Иваныча, траппер пытался разобраться в причинах, по которым он вчера не рассказал заставному капитану о золотой пещере Злой Земли. Подозревать Македона Иваныча, этого бессребренника, в корыстолюбии было бы просто смешно. Траппер даже покраснел от этой мысли. Но тогда что же заставило его умолчать о золоте тэнанкучинов?
И траппер наконец понял. Он побоялся взрыва неуместного патриотизма со стороны заставного капитана. Ведь Аляску на-днях передадут американцам за несчастные семь миллионов долларов. И русское правительство, само того не подозревая, отдаст Америке золотой клад, во много раз превышающий плату за всю Аляску. Не найдет ли заставный капитан, недолюбливающий к тому же «янков», такой поступок изменническим? А попробуй втолковать Македону Иванычу, что золота этого и не понюхает русский народ, что клад схапает Российско-Американская компания, а следовательно и царская фамилия, так как с 1802 года в число пайщиков компании вступили и высочайшие особы.
«Нет, лучше ничего не говорить капитану, — твердо решил траппер, — а то чего доброго он побежит к русскому губернатору Аляски и расскажет о тайне Злой Земли».
Хриповатый, похожий на скрип неподмазанной телеги смех заставного капитана был ответом на мысли траппера.
— Ну, и обманщик же вы, милейший мой!
Траппер испуганно привскочил: «Откуда капитан узнал о золоте? Неужели индейцы проболтались?»
— Я-то думаю, что он спит, на цыпочках хожу, а он со мной в прятки играет: отвернусь — откроет глаза, погляжу на него — закроет. Ну-с, довольно валяться, вставайте!
Облегченно вздохнув, траппер сбросил с кровати ноги.
— Когда едем?
— Сегодня-то во всяком случае не уедем.
— Почему?
Заставный капитан молча указал на окна. Подбежав к ним, траппер не увидел ничего, кроме бешеных снежных вихрей, крутившихся за стеклами. Буран чудовищными белыми языками со свистом и воем лизал стены фактории, заставляя их испуганно вздрагивать.
«А пожалуй и неплохо еще денек отдохнуть, — думал траппер, уже сидя за столом. — У меня впереди еще пятьдесят… зарубок. — Он улыбнулся, вспомнив о шесте. — А ведь как хорошо после долгих бродяжеств сидеть вот так под шарообразной морской лампой, глядеть на родной тульский самовар и слушать звон гитарных струн!»
Гитарные струны звенели под корявыми, в мозолях и заусенцах, пальцами Македона Иваныча. Заставный капитан под рокот их тихонечко напевал свою любимую кавказскую:
Плачьте, красавицы, в горных аулах, Правьте поминки по нас…— Ну-с, милейший мой, чего призадумались? Выпьем-ка по маленькой. — Македон Иваныч поднял объемистый куфель с «аляскинским бенэдыктыном», как называл он водку, настоенную на морошке.
— Только вот за что пить будем? А?
— Выпьем за новых хозяев Аляски, американцев, — невесело улыбаясь, предложил траппер. — Может быть они дадут ей покой и счастье.
— А ну их к ляху! — отмахнулся заставный капитан. — Неизвестно еще, что будет, когда эта страна перейдет под сень Старой Славы[11], которая далеко не стара и отнюдь не славна. Выпьем просто за Аляску, нашу вторую родину!
Опрокинув куфель и крякнув традиционно, заставный капитан продолжал:
— Не люблю я янков. Без крику, без драки, а прямо в икры цоп! Вредная нация. Все стараются не штыком, не пулей, как мы дураки-русаки, а долларом. Торгаши всесветные.
Капитан отложил в сторону гитару.
— В шестьдесят пятом еще году приплыли они сюда, в Дьи, на своих паровых судах. Тычут мне бумагу из Петербурга. Служащие телеграфной компании будут проволоку тянуть через Берингово море, чтобы соединить телеграфом Америку с Сибирью и Европами, оказывать им-де всякую помощь. Ну, ладно, снарядил я для них обоз на собаках, переправил через Чилькут в Канаду. Мнение имею, что шпионы были, вынюхали почем здесь сотня гребешков и ушли.
— «Пришли, понюхали и ушли», — улыбнулся траппер. — Помните, как Гоголь-то сказал?
— Какой Гоголь? — оживился капитан. — Стрелковый или интендантский?
— Ни тот, ни другой, — фыркнул траппер. — Писатель Гоголь.
— Такого не знавал, — не смутился Македон Иваныч. — А вот Гоголь стрелковый у меня в роте субалтерном службу начал. Храбрый был офицер. Ну-с, а вы, милейший мой, вот что мне скажите. На кой чорт продаем мы Аляску?
— Насколько я понял из статьи в «Русских Ведомостях», продажа Аляски объясняется желанием России, соперницы Англии, доказать свои симпатии Соединенным Штатам и подготовить в будущем столкновение между этими двумя государствами.
— Стравить хотят двоюродных братцев, — кивнул понимающе заставный капитан. — Это англичанке за пятидесятые годы отместка. В пятьдесят четвертом и пятом годах они порядком-таки нашкодили здесь, у Аляскинских берегов[12]. Стреляли по безоружным, по женщинам да детям. Сунулись красномундирники было и сюда, в Дьи. Да я им насыпал горячего в штаны!
— Насыпали? — заинтересовался траппер. — А ну-ка, расскажите как было дело.
— Заметил я, — самодовольно поглаживая усы, начал заставный капитан, — что близ нашего поселка, в море болтается небольшой аглицкий фрегат с одной закрытой батареей. Три дня болтался, все не мог в бухту войти, на море неспокойно было. Созвал я краснокожих, насыпал на мысочке, где теперь часовня, вал, поставил на нем «барыню», — это мы на Кавказе так пушки звали. Компания прислала мне ее сюда на всякий случай. А рядом с «барыней» положили мы бревна. Издали — ну, прямо брешь-батарея! И только я управился, на море стихло. А утречком гляжу, фрегат-то к нам, значит, ползет. Втянулся он на рейд да и выслал большой вельбот. Не то за пресной водой шли, не то просто пошарить на берегу, соболями разживиться. Ах ты, думаю, оглобля с суком! Покажу я вам сейчас, каковы на вкус русские соболя! Дал я красномундирникам подойти поближе, да как дуну из «барыни» картечью! Аж в горах стоном застонало. Знай наших, кавказских! Вельбот сейчас же руль на борт да обратно к фрегату. Подошел; слышу, галдят красномундирники. Ну, думаю, плюнет сейчас по мне бортом фрегат. А сам тоже фитилем машу: отвечу, мол, в случае чего. Ну-с, погалдели, погалдели англичане, и что же вы думаете, милейший мой? Поставили паруса да и ушли. Видно, они мои бревна и вправду за пушки приняли. То-то, чай, после удивлялись — откуда-де у русских в такой дыре целая батарея появилась? Вот дело-то как было.
— Фрегат этот наверное натравила на вас Компания Гудзонова Залива, — сказал траппер.
— Может быть. Гудзоновцы-то и тогда здорово на нашу Компанию злились за то, что мы у них из-под носа соболей, лисиц да горностаев перехватываем. Не раз дело до драки доходило. То наши охотники их траппера подстрелят, а то наоборот. Всяко бывало. У меня самого под кожей аглицкая пуля катается. Гудзоновец угостил. Я только что черного песца заполевал. Слышали о такой прелести? Они теперь на вес золота. Черные песцы-то здесь в семнадцатом веке богато водились, когда в Аляске русскими и не пахло. Говорили мне, что о черных песцах как о редкости даже в древних еще летописях писали. А мне вот подвезло на тот раз. Ну, гудзоновец-то расстроился да и трах в меня из карабина! Только не выгорело у него это дело. Я-то, видите, цел, а он…
Капитан многозначительно махнул рукой.
Траппер с горечью думал о вековой вражде двух компаний. Российско-Американская компания получила от русских царей жалованную грамоту на все аляскинские промыслы, рыбные и зверовые, на поверхности и недра страны, на право возводить поселки, посты, вести торговлю и даже распространять православие. Но вскоре она нашла соперника в лице Компании Гудзонова Залива, основанной еще в 1669 году, получившей от английских королей коронные права на Канаду, Нью-Фаундленд, Полярный архипелаг и владевшей всеми пушными промыслами этих земель. Интересы Петербурга и Лондона столкнулись на снежных равнинах Севера. И начались убийства из-за угла, Трапперы обеих компаний, добывавшие себе кусок хлеба каторжным трудом, в каком-то кровавом ослеплении стреляли из-за засады в спину друг другу, радуя сердца господ компанейщиков, которые подсчитывали барыши в конторах лондонского Сити и в петербургском доме на Мойке.
— Вот мы-то, — заговорил снова заставный капитан, — батареи из бревен воздвигали, а янки по-другому здесь орудовать хотят. Слышал я, что в разных пунктах побережья хотят строить они военные форты.
— Об этом тоже в газете есть, — сказал траппер, — а объясняется постройка фортов тем, что индейцы и эскимосы обнаруживают неудовольствие по поводу перехода Аляски в другие руки. Ждут волнений.
— Врут газеты! Здесь в другом дело, — хитро прищурился заставный капитан. — В золоте дело, милейший мой!
— В золоте? — испуганно прошептал траппер. — В каком золоте?
— Да слухи есть, что якобы янки где-то в Аляске золото открыли. Вторая-де Калифорния здесь будет. Вот и строят заранее новые редуты, чтобы чужих сюда не пускать. Да только, думается мне, брехня все это.
— Конечно брехня, — поторопился согласиться траппер. — Какое здесь золото? Американцы рассчитывают купить попугая, а им петуха подсовывают.
— Ну, с этим-то я не соглашусь! — возмущенно стукнул по столу Македон Иваныч — Аляска страна добрая.
— Да я и не хаю ее, — начал защищаться траппер. — Я только хотел сказать, что янки ошибаются, считая Аляску курицей, которая будет нести золотые яйца. Нет, Аляска не золотом хороша. К ней с другого бока подходить надо.
— Ну, то-то же, — успокоился заставный капитан. — Труд здесь всегда прокормит, только по-хорошему, по-человечески работай, а не так, как сейчас: компании деньги загребают, а индейцы да и белые трапперы тоже с голоду дохнут. Не-ет, раньше лучше было.
«Дал я красномундирникам подойти поближе, да как дуну из „барыни“»…
Заставный капитан помолчал, рассеянно дергая мандаринские свои усы.
— Как оглянешься на прошлое, — продолжал он, — на сердце светлее становится. Чище, раньше мы жили, честнее, милейший мой. Когда прибыл я сюда, белых на всю центральную Аляску не более двадцати-тридцати человек было. Помню, раз в форту святого Михаила поймал я русского при воровстве с поличным. И сейчас его, раба божьего, вытурил из поселка в тундру без кремня, трута, без золотника пищи. А в другой раз вора, тоже белого, зашили в медвежью шкуру и выпустили на него псов. Загрызли конечно. Морщитесь? Жестоко-де? Да как же иначе-то, оглобля с суком? Нужно же было показать краснокожим, каковы мы, белые. Ведь они нас за богов считали.
— Ну, а как с индейцами ладили? — спросил траппер. — Здорово их притесняли?
— Всяко бывало. Сами знаете, милейший мой, что для нас, трапперов, «индюк» первый человек. С ним охотишься, с ним в одном зимовье спишь, с ним же иной раз последним куском делишься. И после этого станет он для тебя вроде брата родимого, только окраски другой. А их благородия зверствовали, надо уж правду говорить. Когда я в Аляску прибыл, как раз восстали индейцы. Соединились все юконские племена и племена южного побережья под главенством Хромого Волка. Этот краснокожий Наполеон не раз и не два по всем правилам тактики и стратегии расколотил наших вояк. Обозлился губернатор и сформировал «налетные отряды». Пошла в эти отряды всякая дрянь каторжная. Окружили тысячи две краснокожих на среднем течении Кускоквима и что же, черти огалтелые, сделали! Бить не били, но и не выпускали никуда из маленькой долинки. Подконец краснокожие обезумели от голода, начали бросаться друг на друга с ножами, а потом взяли да и сожгли сами себя на кострах. Тут пошли трубить — победа! «Веселися, храбрый росс»! А мы, трапперы, после этого не могли на пять верст от поста отойти. Индейцы в отместку нас ловили и на кострах жгли. А губернаторским-то воякам что? Нашкодили, да и испарились.
— Действительно, испакостили наши власти Аляску, — сказал траппер. — Что она теперь? Мешанина какая-то. Первобытные, живущие еще в каменном веке индейцы плюс манжеты чиновников и шпоры жандармов. Краснокожий-отец боится бога Клуша, а сын — полицейского урядника. Оба же вместе больше всего боятся колокольчика на потяге сборщика ясака. Вот и все следы культуры. И это после стодвадцатипятилетнего хозяйничания просвещенной русской нации. Ну, если и всюду такими путями пойдет цивилизация, то…
— А ну вас к лешему с вашей цивилизацией! — выругался заставный капитан. — Знаете, что такое эта хваленая цивилизация? — Здешняя весенняя мошкара, что забирается под кожу и объедает у людей ногти, ресницы и уши у собак. Вот что! Да вы сами судите.
— Здесь виновата не цивилизация, — тоскливо сказал траппер, — а те, кто ее принес сюда на мушках карабинов и в водочных бутылках. Это — изнанка цивилизации.
— Ну, вы ведь начетчик, вам и книги в руки, — досадливо отмахнулся капитан. — А я попросту сужу. Прожил я здесь без малого четверть века. За это время немало перевидал и многое передумал. И ясно мне, как день, что вконец запакостили мы эту страну. А ведь страна-то какая свежая! Затягивает она как-то, привораживает. Как снегурочка-красавица. Полюбишь — не оставишь.
— Вы правы, — кивнул головой траппер.
— Ну, а что нам, беднягам, делать, когда сюда янки придут? — спросил капитан. — Ведь они такого цивилизованного туману напустят — не передохнешь. А ну их к дьяволу!
— Так за чем же дело стало? — лукаво улыбнулся траппер. — Вместе и побежим от цивилизации. Найдутся еще у нас на Великом Севере такие уголки, где и не пахнет этой самой цивилизацией. Махнем хотя бы на Великого Раба[13] или на Крысью реку[14]. По рукам, что ли, а?
— Нет уж, без меня придется вам итти, — уныло сказал заставный капитан. — Куда мне с вами, только свяжу вас по рукам и ногам. Вы-то уйдете, верю. Вы крупный человек, аляскинских наших дрожжей. А я стар стал, у меня кавказские ревматизмы в костях мозжат.
(Продолжение в следующем номере.)
Изобретения профессора Вагнера: Чортова мельница. Серия научно-фантастических рассказов А. Беляева.
— Прямо от станции идет через весь поселок большая улица — Советская. По ней вы и идите. Дачи окончатся, начнется полевая дорога, идите по ней мимо спортивной площадки, вниз, к речке. У самой речки и будет деревня Стрябцы. Идите по улице налево до конца деревни. Второй дом слева, — обратите внимание на огромные дубовые ворота, — это и будет моя дача. Хозяйка, Анна Тарасовна Гуликова, летом живет на мельнице. А до мельницы рукой подать. На всякий случай вы сходите к хозяйке на поклон — она женщина строгая. Скажите, что вы приехали ко мне в гости, будете ночевать, и что я приеду попозже.
Такими напутствиями снабдил меня Иван Степанович Вагнер, приглашая к себе на подмосковную дачу. В этом году профессор Вагнер жил в Москве, так как Трест точной механики по его заказу заканчивал сооружение какого-то сложного аппарата, и присутствие Вагнера было необходимо. Почти все свободное время Вагнер проводил в мастерских Треста, редко выезжая даже на дачу. Но в этот день — субботу — работы в мастерских оканчивались рано, и Вагнер обещал мне приехать и провести со мною воскресенье.
Я без труда нашел дачу Вагнера и пошел познакомиться с Тарасовной. Несмотря на вечер, было очень жарко. Лето и осень в том году были исключительно знойные. Маленькая речушка Илевка, на которой стояла мельница Тарасовны, совсем пересохла. Еще не доходя до мельницы, я услышал женский голос силы и высоты необычайной. Голос этот, принадлежавший вдове Гуликовой, запомнился мне на всю жизнь — он прямо контузил барабанные перепонки. Притом Тарасовна обладала способностью выпускать в минуту столько слов, что даже премированная стенографистка не в состоянии была бы записать и половины. На этот раз Тарасовна обрушила все свое пулеметное красноречие на голову крестьянина, привезшего рожь для помола. Крестьянин почесывал лохматую бороденку, а Тарасовна, упершись кулаками в широкие бедра, кричала:
— Не видишь, что ли? Курица вброд речку переходит, а он — молоть! Тут лягушки передохли от суши, а ты — молоть! Самовар поставить воды не наберешь, а он — молоть! Вчера Жучка последнюю воду вылакала, а ты — молоть!..
«А он — молоть», «а ты — молоть», — звучало как припев. Крестьянин слушал долго и внимательно, потом крякнул и начал собираться в обратный путь.
Тарасовна обратила внимание на меня. Узнав, что я гость ее дачника, она снизила голос на несколько тонов, отчего пронзительность его не уменьшилась, и с деланной приветливостью пригласила меня «быть как дома».
— Неужели в самом деле даже на самовар не хватит? — спросил я, с опаской поглядывая на речку и чувствуя, что горло у меня пересохло.
— Хватит, хватит, не беспокойтесь. У нас колодец есть. Васька! Поставь самовар гостю.
Я обернулся и увидел лежащего на траве парня лет восемнадцати; это был сын Тарасовны и ее помощник — подсыпка на мельнице. Васька лениво встал, стегнул прутом траву и побрел к дому, а Тарасовна еще долго терзала мне уши, пронзительным голосом жалуясь на бездождье, на пересохшую Илевку, на бога, на весь свет. Мельница ее стояла, а ведь мельница кормит ее с детьми, кормит весь год.
— И что за народ несознательный! Сами видят: комару напиться не хватит, а они — молоть. Как будто я сама от хлеба отказываюсь!..
— Самовар закипел! — крикнул Василий со двора.
— Милости просим.
Я еще не успел отпить чай в садике среди захудалых яблонь, как услышал знакомый голос Вагнера:
— Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок…— Скучаете? — Вагнер уселся за столик рядом со мной. Он рассказал мне, что делается в городе, я ему — о своих впечатлениях.
— Да, надо помочь Тарасовне. Пойдемте после чая к ней на мельницу, — предложил профессор.
И мы отправились. Вагнер был в самом жизнерадостном настроении.
— Можно посмотреть устройство вашей мельницы? — спросил он.
Тарасовна милостиво разрешила, и мы с профессором вошли в полумрак мельницы. Вагнер осмотрел ее немудреную механику.
— За полторы тысячи лет до нашей эры строились мельницы мало чем отличавшиеся от этой, — сказал Вагнер. — Сколько она у вас в день намалывала?
— Сколько привезут, столько и намалывала, — отвечала Тарасовна. — Полсотни центнеров, а то и больше, когда воды много.
— Так, так, — Вагнер задумчиво кивал головой. — Полсотни центнеров не обещаю, но десяток можно будет смолоть. Для начала. А потом посмотрим.
— Сотню! Если бы хоть сотню! — вздохнула Тарасовна.
Вагнер постоял еще несколько минут над жерновами, попробовал вал, подумал и сказал:
— Вот что, Анна Тарасовна. Я вам поставлю маленький двигатель. Надо будет только переставить жернова, — эти будут велики для моего двигателя. Я прилажу ваши старые, из них можно будет сделать маленькие. Василий поможет мне. Но только уговор дороже денег. Двигатель мой будет находиться в ящике. Не открывайте этот ящик и не смотрите что в нем находится, иначе вы испортите двигатель, и тогда уж я ничем не помогу вам. Идет?
— Да что вы! Да конечно. Да разве я?.. Будьте милостивы!
Вагнер принялся за работу. Василий и я помогали ему. Я решил, что по всей вероятности Вагнер хочет поставить небольшой керосиновый или нефтяной двигатель. Но почему такая таинственность?
Мы проработали почти до полночи. Когда мы с Василием свалились от усталости и крепко заснули, Вагнер продолжал работать: ведь он не нуждался в отдыхе.
Проснувшись утром, я отправился на мельницу. Вагнер был там. Он установил над жерновами довольно объемистый ящик и теперь был занят тем, что выводил через потолок железную трубу.
— Помогите мне, — сказал он.
— Дымовая труба? — спросил я.
Вагнер промычал в ответ что-то неопределенное, но глаза его так насмешливо и весело поглядывали на меня, что я решил: Вагнер затевает что-то любопытное. Это не похоже на газолиновый двигатель.
— Что находится в этом ящике? — спросил я.
— Двигатель.
— Какой?
— Увечный.
— Вечный? — переспросил я, думая, что ослышался. Но Вагнер ничего не ответил. Он сильно застучал топором, прорубая дыру в потолке. Через эту дыру он вывел трубу. Затем Вагнер попросил нас удалиться и, оставшись один, занялся последними приготовлениями. Через несколько минут я услышал, как медленно заворочались жернова. Я посмотрел в трубу, поднимавшуюся метров на пять над крышей, но не заметил над ней ни малейшего признака дыма или пара.
Вагнер открыл двери мельницы и пригласил нас войти.
— Мельница работает, — сказал он, обращаясь к Тарасовне. — Видите эту ручку на ящике? Когда захотите остановить мельницу, поверните ручку.
— Зачем останавливать? Зерна хоть отбавляй, день и ночь молоть буду.
— Ну, и мелите на здоровье. Только помните уговор: ящика не открывать.
Тарасовна начала благодарить Вагнера.
— Пока еще не за что. Когда соберете муку за помол, тогда поблагодарите. Идем, — обратился он ко мне.
Мы вышли на улицу.
— Сейчас я еду в Москву, — сказал Вагнер. — Приеду обратно к обеду на очень интересной машине.
— Автомобиль?
— Д-д-да, — протянул Вагнер. — Автофуга. Самобежка, так сказать. Да вот увидите.
Махнув мне на прощанье рукой, Вагнер отправился на станцию, бодрый, свежий, несмотря на то, что проработал всю ночь. Я пошел в сад, разыскал местечко в тени сарая и углубился в чтение. Однако в этот день мне не суждено было насладиться отдыхом.
Душераздирающий женский крик раздался со стороны мельницы. Словно два накаленных добела штопора просверливали мне барабанные перепонки, а заодно и мозг. Неистовый вопль, разорвавший тишину сонных Стряцбов, мог быть произведен только голосовыми связками почтенной вдовы Гуликовой. Вероятно епископ Гаттон, заживо съеденный крысами, не кричал так перед смертью, как вопила Тарасовна. Но что могло ее так напугать? На мельнице было немало крыс и мышей, но Тарасовна привыкла к ним. Не успел я подняться с земли, как крик неожиданно прекратился на захлебывающейся ноте, как будто Тарасовне кто-то сжал горло. Я побежал к мельнице.
После яркого солнца в полумраке мельницы в первый момент я ничего не мог разобрать. Все было тихо. Жернова продолжали свою работу. Я сделал несколько шагов и зацепился ногой за что-то мягкое. Глаза мои уже несколько привыкли к полумраку. Наклонившись, я увидал лежащее ничком на полу грузное тело вдовы Гуликовой. Одна рука ее была отброшена в сторону, пальцы судорожно сжаты в кулак, другая рука была прижата телом… Убийство?.. Внезапная смерть?.. Я повернул тело Тарасовны, взял руку и нащупал пульс. Он был еле ощутим. Тарасовна, видимо, находилась в глубоком обмороке.
Я взял ковш и побежал к речке, чтобы набрать воды и побрызгать на Тарасовну. Мне казалось, что я вернулся очень быстро. Но за это время Тарасовна уже пришла в себя. Не успел я подойти к широким дверям мельницы, как оттуда выбежала с тем же неистовым криком Тарасовна. Как взбесившаяся корова, она налетела на меня, сбила с ног, при чем вода из ковша, предназначенная для приведения ее в чувство, окатила меня самого. Бок мой был порядочно ушиблен тяжелой стопой пробежавшей по моему повергнутому телу Тарасовны, затылок сильно болел. Я пролежал на земле вероятно с минуту, пока наконец получил возможность соображать. В конце деревни, около сельсовета слышался крик Тарасовны, прерываемый отрывистыми восклицаниями. Я с трудом поднял голову и уселся на пыльной дороге. По случаю праздника крестьяне были дома, и члены сельсовета, сидя на завалинке у избы председателя, мирно обсуждали общественные дела, когда крик Тарасовны взорвался перед ними как бомба. Председатель поковырял в ушах, словно извлекая оттуда застрявшие визги Тарасовны, и что-то сказал ей. Она вновь начала громко тараторить. Потом все поднялись. Председатель окликнул милиционера, и все двинулись к мельнице. Я заметил, что Тарасовна, женщина отнюдь не робкого десятка, шла в самой гуще толпы, видимо боясь выступить вперед. Я поднялся, отряхнулся и приветствовал представителей власти.
— Ну, показывай, где это? — спросил председатель, замедляя шаг.
— Да вот ящик над жерновом, видишь? — сказала Тарасовна, не входя в мельницу.
Председатель, видимо, боялся, но «положение обязывает». Он осторожно подошел к ящику.
— Вот оно штука-то какая. Как же этот ящик открывается? Ну-ка, может ты лучше понимаешь? — обратился он к милиционеру.
Вопль, разорвавший тишину сонных Стрябцов, мог быть произведен только голосовыми связками почтенной вдовы Гуликовой…
Милиционер, молодой парень в веснушках, подошел к ящику и храбро поднял крышку. В тот же момент Тарасовна крикнула и выбежала на улицу. Вслед за нею бросилась бежать и набившаяся в мельницу толпа любопытных. Только представители власти остались на мельнице. Но и они невольно отшатнулись, заглянув в ящик. Я подошел ближе и, когда увидал, что находится в ящике, был поражен не меньше остальных.
В ящике был заключен конец горизонтально вращающегося вала. К валу прикреплено колесо с ручкой. Человеческая рука — живая рука! — крепко держала эту ручку и, видимо, она же вращала колесо, а вместе с ним и вал, приводящий в движение через шестерни жернова. В локтевом суставе рука была прикреплена к металлическому цилиндру. Этот цилиндр был соединен с трубой, выходящей наружу. Кроме того в цилиндр были вставлены две стеклянные трубочки и, повидимому, электрические провода, выходящие из ящика поменьше. На этом же небольшом ящике были установлены гальванометр и манометр.
Да, неспроста Тарасовна так кричала. Странное и жуткое впечатление производила эта работающая живая человеческая рука. Тарасовну, как и ее легендарную прародительницу Еву, погубило любопытство. Вагнер оказался таким же плохим знатоком женской психологии, как и библейский бог. Не скажи Вагнер Тарасовне, что в ящик смотреть нельзя, она не поинтересовалась бы механизмом, приводящим в движение жернова, вполне удовлетворенная тем, что они вертятся. Но Вагнер запретил ей смотреть и этим возбудил непреоборимое любопытство. И теперь она узнала страшную истину: ее жернова вертятся рукою мертвеца!
Представители власти были ошеломлены. Они не знали, как реагировать на такой непредусмотренный законом случай.
— Гражданин! Вылазьте из ящика! — крикнул милиционер, предполагая, что если рука двигается, то она принадлежит живому человеку, который, очевидно, спрятан в ящике. Но рука продолжала вертеть колесо, и никакой гражданин не появлялся.
— Негде тут человеку спрятаться, — сказал председатель. — Видишь, плечо в банку вдвинуто, а выше один маленький ящичек.
— Нарушение кодекса о труде, — глубокомысленно сказал зять председателя, весовщик железнодорожной станции. — Без биржи труда нанята и, наверное, незастрахованная. Нарушение дней отдыха и рабочего времени. Можно обжаловать постановление.
— Чья рука? — спросил милиционер, оживившись.
— Дачник мой Вагнер пристроил мне. Его рука! — ответила Тарасовна. — Я, говорит, мельницу тебе в ход пущу, только не смотри в ящик. Разве ж я знала? Тьфу! Чтоб покойницкими руками хлеб зарабатывать? Не хочу я работать на чортовой мельнице!
— А чем плохо? — спросил старик с хитрыми прищуренными глазами. — Кормить не надо, платить не надо, а работает круглые сутки. Это бы и к косе такую штуку приладить, или, скажем, молотить. Ты лежи на печи да ешь калачи, а она…
— А ты молчи! — сердито сказал милиционер. — Не сбивай. Я спрашиваю, рука чья? Может быть тут смертоубийство произошло. Может человеку руку отрезали, и он теперь без руки ходит и ищет, где рука.
— Батюшки-светы! — заголосила Тарасовна. — Ну, как сюда придет да крикнет: «Отдай мою руку!»
— Вот то-то и оно. Это, граждане, не шутка, а преступление по статье уголовного кодекса. Где твой дачник Вагнер?
— В Москве. Сегодня должен быть.
— Вот мы его арестуем и допрос с него снимем. Откуда он человечью руку достал и на каком кодексе ее эксплоатирует? Помол прекратить! Незаконно.
— Ах, батюшки! — опять вскрикнула Тарасовна. Теперь она горько раскаивалась в своем любопытстве, а еще больше в том, что сгоряча разболтала о напугавшей ее руке. — Разве ее остановишь? Ведь на нее кричи не кричи — не услышит, ушей нету. Крутит и крутит.
— Ну и пусть крутит, а зерна не засыпай.
Громко разговаривая, все ушли с мельницы. Я остался посмотреть, что будет делать Тарасовна. Она не осмелилась ослушаться приказания начальства и больше не засыпала зерна в воронку. Но она пожалела руку, которая теперь напрасно вертела жернова, а может быть жалко стало жерновов, и Тарасовна остановила работу руки, повернув рычажок на ящике.
— Натворили вы дел! — сказал я Тарасовне, сердясь на нее за то, что ее любопытство и болтливость наделают теперь хлопот Вагнеру. Я ни на минуту не сомневался в том, что Вагнер не совершал никакого преступления.
— Это вы натворили! — ответила она с раздражением. — Всю мельницу опоганили! Вот и люди говорят: чортова мельница.
Председатель сельсовета и милицонер вернулись с печатью и сургучом. Милиционер вспомнил, что не принято мер к охране следов преступления.
— Перестала молоть? — спросил милиционер.
— Пошабашила, — ответила Тарасовна.
Председатель наложил печать на дверцы ящика, в котором находилась рука, при чем Тарасовна ужасно боялась, чтобы председатель не спалил мельницу. Но все обошлось благополучно. Вторая печать была наложена на дверь мельницы.
Я пошел по дороге навстречу Вагнеру, намереваясь предупредить его о событиях дня. Однако мой маневр не удался. Милиционер окликнул меня и предложил вернуться. Мне ничего больше не оставалось, как пойти в сад и продолжать прерванное чтение.
Деревня волновалась и гудела как встревоженный улей. Все с нетерпением ожидали приезда Вагнера, а он заставил себя ожидать довольно долго. Уже начало смеркаться, когда мальчишки, сторожившие на дороге, закричали:
— Едет! Едет!
Все поспешили на дорогу. К нам действительно подъезжал Вагнер. Но на каком экипаже! Представьте себе длинный канцелярский стол, покрытый сукном, спускающимся до самой земли. Наверху по краям «стол» огорожен досчатой или железной стенкой сантиметров пятидесяти высоты. Это, очевидно, и была та «самобежка», о которой говорил мне Вагнер.
Из-за горы поднималась сизая туча. Ветер крутил на дороге маленькие смерчи пыли. Приближался дождь, давно жданный Тарасовной.
— Садитесь! — крикнул Вагнер, увидав меня. Он остановил свою необычайную тележку, я прыгнул и уселся рядом с ним. В это время толпа, предводительствуемая председателем сельсовета, уже подошла к самобежке.
— Гражданин, слазьте, вы арестованы! — сказал председатель.
Неожиданно порыв ветра поднял край сукна, которым была завешена самобежка. Крик ужаса прокатился по толпе, и она отшатнулась, словно не слабый ветер, а сильнейший ураган вдруг ударил по ней. Пронзительный визг Тарасовны покрыл все голоса. Несколько минут продолжалось это смятение, причины которого я не понимал.
Вагнер спокойно посмотрел на толпу, взялся за руль управления и… толпа снова вскрикнула еще громче прежнего. Самобежка поднялась на дыбы, как лошадь, которую опытный наездник заставляет повернуться всем корпусом на задних ногах. Затем Вагнер направил свой экипаж в гору, не обращая внимания на крики толпы, председателя и милиционера. Милиционер бросился вдогонку, но Вагнер перевел рычаг скорости, и самобежка с необычайной легкостью начала брать подъем.
Милиционер остался позади, но он не хотел мириться со своим поражением. Он бежал вслед за нами. До станции было недалеко. Мы ехали еще не на полной скорости. Через несколько минут после того как мы миновали станцию и выехали на шоссе, ведущее к Москве, мы услышали за собою треск мотоцикла. Очевидно милиционер, раздобывший откуда-то машину, решил продолжать погоню. Вагнер улыбнулся.
— Вот я сейчас покажу вам все качества моей самобежки.
Он продолжал ехать с тою же скоростью, не обращая внимания на приближающегося преследователя. И когда милиционер уже почти нагнал нас, Вагнер повернул… нет, не повернул, а сделал такой вираж, который совершенно невозможен для обыкновенного автомобиля. Он внезапно остановил самобежку и затем как-то подвинул ее всем корпусом вправо к краю дороги, словно самобежка могла бежать не только вперед, но и вбок. Это было сделано так неожиданно, что милиционер не успел сдержать мотоцикла и проскочил вперед.
Но Вагнер не удовлетворился этим эффектом. Он вновь пустил самобежку вперед и скоро оказался впереди милиционера, как бы подзадоривая его.
В это время пошел дождь. На шоссе образовались большие лужи, стекавшие в довольно глубокие канавы по обе стороны шоссе. Вагнер подпустил своего преследователя еще ближе и вдруг, круто повернув, направил самобежку поперек шоссе, в канаву. Я невольно ухватился за борт. Но мои опасения были напрасны. Самобежка, как маленький танк, благополучно переползла через канаву и побежала по изрытому, кочковатому полю. Милиционер со своим мотоциклом, конечно, не мог последовать за ним. Он сломал бы свою машину в первой же канаве.
— Вот видите! — сказал Вагнер, видимо, сам восхищенный своим изобретением.
— Великолепно! — воскликнул я. — Но как устроена эта самобежка и что испугало толпу, когда она увидала ваш экипаж?
— Погоня отстала, мы можем побеседовать, — сказал Вагнер. — Наклонитесь и приподнимите сукно.
Я приподнял сукно и вскрикнул от удивления. Сукно прикрывало… три пары голых человеческих ног!
— Позабавились и довольно, — сказал Вагнер, смеясь. — Надо уважить и товарища милиционера, он честно выполнял свой долг. Едем обратно и сдадимся в руки представителя власти. Мы вернемся на дачу и объясним все происшествие. У меня имеются документы о том, что все руки и ноги взяты мною для научных опытов из анатомического театра: ясно что никакого убийства я не совершал.
— Но каким же образом эти ноги и рука, вращающая жернова…
— А вот подождите, — перебил меня профессор, сейчас проделаем церемонию сдачи в плен, а потом я расскажу вам.
И когда эта церемония была проделана, Вагнер, продолжая ехать на своей самобежке под конвоем милиционера, сопровождавшего нас на мотоцикле, начал свои пояснения:
— Буду краток. Говорят, жизнь есть горение. Однако последние наблюдения над жизненными процессами показали, что это не совсем так.
Жизнь не есть горение, но без горения жизнь не может долго длиться. В мышцах нашли особое вещество гликоген, который с химической точки зрения представляет собой почти то же, что и сахар. Так вот, при работе мышцы в ней из этого сахара образуются молочная кислота и теплота, то-есть свободная энергия. Высчитано, что при переходе сахара в один грамм молочной кислоты освобождается сто семьдесят калорий. Таким образом работа мышцы, или, если хотите, ее жизнь, происходит без окисления или сгорания. Но когда в работающей мышце выделилось тепло (энергия) и появился гликоген, то без кислорода эта молочная кислота исчезнуть не может, и мышца не в силах дальше работать. Но перенесите вы такую утомленную мышцу в атмосферу кислорода, и молочная кислота тотчас исчезнет, кислород будет поглощен, при чем выделятся углекислота и тепло, как при всяком горении.
Куда же девается молочная кислота? Она вновь превращается в сахар. Только пятая часть ее исчезает бесследно. Таким образом можно сказать, что мышца — машина, работающая за счёт химической энергии, которая возникает при переходе тел с более сложным строением в тела более простые за счет падения потенциала химической энергии. Значит, для того чтобы энергия мышцы восстановлялась, необходимо лишь снабжать ее кислородом. В атмосфере чистого кислорода при известных условиях опыта мышца делается неутомимой.
Вот на этом я и строил свои изобретения с отрезанными у трупов руками и ногами. Зачем им пропадать, если они могут нести полезную работу? Вы знаете, что органы человеческого тела могут жить, отделенные от тела, неопределенно долгое время, если только их питать надлежащим образом. Они могут функционировать, то-есть выполнять свою обычную работу. Человеческие мышцы — это великолепно построенные машины. Почему бы их не заставить работать после смерти владельца, возбуждая сокращение электрическим током.
Вам известно, что мои мышцы также не знают устали. Но я шел в борьбе с усталостью своих мышц несколько иным путем. Я изобрел антитоксины усталости. С рукой на мельнице и ногами под этим экипажем я поступил иначе. Прежде всего я обеспечил их питанием. Особый физиологический раствор, весьма близкий к составу крови (заметьте: усиленно насыщаемый кислородом), питает мышцы руки на мельнице и этих ног. Обильное снабжение кислородом делает мышцы неутомимыми. Электрический ток вызывает их сокращение.
— А зачем вы устроили на мельнице трубу?
— Я опасался, что мучная пыль может попасть в сосуд с питательной жидкостью и сгустит ее, сделав негодной для «кормления» руки. По трубе получается кислород прямо из воздуха. Это мое изобретение, значительно удешевляющее эксплоатацию мышечной силы человека. Вы только подумайте, какие перспективы открывает мое изобретение! Со временем все люди, как я сейчас, не будут знать мышечного утомления. Производительность человеческого труда возрастет необычайно. Но этого мало: мы заставим работать и мертвых. Подумать только: миллионы лет потребовалось природе для того, чтобы создать такой совершенный механизм, как человеческое тело, и вот смерть навсегда уничтожает эту великолепную машину. Разве не нелепо? Если мы не в состоянии победить смерть совершенно, то продлим по крайней мере работу мышц. Представьте себе фабрику, машины которой приводятся в движение отрезанными от тела человеческими руками.
— Жуткая картина!
— Ничего. Польза скоро заставила бы людей смотреть другими глазами на эту картину. Вот я поставил руку на мельницу. Тарасовна испугалась. Но выгода для нее ясна. И в конце концов она вероятно не отказалась бы от того, чтобы ее покойный муж продолжал оказывать ей помощь своими руками… Приехали.
Дождь прошел. При нашем въезде в деревню изо всех изб начали выбегать люди, окружившие нас. «Суд» окончился быстро. Вагнер предъявил бумажки из Москвы, и они оказались убедительными. Тарасовна просила его убрать поскорее с мельницы мертвую руку. Она боялась, что эта рука когда-нибудь ночью задушит ее. Впрочем в руке не было и надобности. Сильный дождь поднял воду речонки, и она готова была заменить руку мертвеца. И эту руку, несмотря на протест Вагнера, отнесли на кладбище и закопали. (Сообщено П. Н. Якименко.)
По поводу этого рассказа Вагнер написал:
«Научное объяснение факта дано довольно правильно. Мышца животного или человека, даже вырезанная из тела, действительно обладает некоторым запасом потенциальной химической энергии благодаря тому, что в ней имеются материалы, способные к распаду. Если такую мышцу раздражать электрическим током, она может выполнять известную работу. После работы в мышце появляется молочная кислота. Но при кислородном питании молочная кислота исчезает, и мышца вновь делается способной к работе. Таким образом в атмосфере чистого кислорода мышца может сделаться неутомимой. Такой опыт с неутомимой мышцей я действительно производил на даче. При помощи электричества я заставил двигаться руку человека, которая даже производила некоторую работу. Опыт продолжался всего несколько минут и являлся повторением опытов, уже проделанных в некоторых научных лабораториях. Но практического значения такая „посмертно работающая мышца“ иметь не может. Игра не будет стоить свеч — кислород дорого стоит. О непосредственном добывании его из воздуха, наподобие того как это делают легкие, я только думаю. Быть может воспользуюсь механизмом легких и сердца-мотора. Вы теперь сами поймете, что в рассказе от науки и что от фантазии.
Вагнер».Месть Шашибушана. Колониальный рассказ Леонида Соловьева
Фасад губернаторского дома с толстыми как слоновьи ноги колоннами, с застывшими у подъезда каменными львами был обращен к морю. Вечерами над морем буйно расцветали кровавые тюльпаны заката и туман курился над морем, легкий как шелковый шарф. Вода становилась блестящей и непрозрачной, серые громады военных кораблей зловеще алели и казались еще грознее чем днем. Струи заката текли по белым стенам губернаторского дома и жидким желтым пожаром горели в толстых зеркальных стеклах. Одно окно во втором этаже открывалось, и губернатор, сидя в старинном удобном кресле, смотрел на море и играл на скрипке. Дрожащее море гасило в зеленых своих недрах накаленные стрелы последних лучей. Тускнел, погибал закат. Свет луны рассыпался по зыби подобно дрожащей ртути, выступали на небе звезды и светлыми пятнами трепетали в воде. Далекий, невидимый в смуглых сумерках маяк вдруг взблескивал одиноким огненным оком.
Окно закрывалось. В комнате вспыхивал белый электрический свет. Мальчик-слуга с длинным бронзовым лицом и огромными страдающими глазами мягким кошачьим шагом входил в комнату и опускал тяжелые шторы. Поклонившись губернатору, он уходил так же скользяще и неслышно. Губернатор садился за письменный стол и начинал работать. Работы у него было много. Каждое утро слуга приносил ему громадную кучу газет, журналов и писем, а в полдень секретарь, высокий рыжий человек в круглых роговых очках, принимал телеграммы. Некоторые из них — служебные — были шифрованные. Секретарь, сидя в своем кабинете, долго терпеливо разбирал бесконечные ряды цифр и в восемь часов вечера докладывал губернатору содержание телеграмм. В депешах из Лондона и Дэли была твердо начертана линия поведения губернатора в подвластной ему провинции. Губернатор давно уже решил ни на волос не уклоняться от продиктованной ему линии и поэтому был в Лондоне и в Дэли на самом лучшем счету.
Простые же телеграммы губернатор читал всегда сам: он не хотел, чтобы секретарь знал, как идут дела на золотых приисках, в угольных копях, на хлопковых плантациях и других предприятиях, в которых участвовал губернатор. За последнее время дела на золотых приисках сильно поправились и закрыли брешь, проделанную в кармане губернатора забастовкой рабочих на хлопковых плантациях. Сегодняшние телеграммы принесли еще более приятные вести: открыта новая золотоносная жила.
Часы гулко и кругло ударили восемь раз. Последний удар долго дрожал и бессильно упал на пушистые ковры. В дверь постучал секретарь и, подождав традиционного «войдите», скользнул в кабинет. Поклонившись, он сказал: «Добрый вечер, сэр» и подошел к креслу, ожидая приглашения сесть. Его рыжие волосы, казалось, искрились от яркого света. Губернатор вообще не любил рыжих, секретарь же внушал ему особенную антипатию. Неприязненно взглянув на огненную голову секретаря, он сказал:
— Садитесь. Что нового?
— Сию минуту, — ответил секретарь. — Вы разрешите начать с самого важного?
Губернатор кивнул головой, откинулся в кресло и закрыл глаза, приготовившись слушать. Секретарь быстро скользнул по его бледному лицу хитрыми острыми глазами и начал читать. Из Дэли писали, что в провинции, вверенной губернатору, в самом городе — у него, губернатора, под самым носом! — снова возникла какая-то революционная организация, разославшая агентов по всей стране.
— «Насколько нам удалось установить, — читал монотонно и бесстрастно секретарь, — эта организация имеет целью уничтожение в стране британского владычества и намерена пользоваться для достижения этой цели как агитацией, так и террором. Есть основание предполагать, что внезапная смерть губернатора Калькутты стоит в тесной связи с возникновением указанной организации…»
Секретарь сделал глубокий вдох и, блеснув огненной головой, продолжал:
— «Мы выражаем твердую надежду, что вы приложите максимум энергии к раскрытию и ликвидации этой организации, угрожающей могуществу Британской империи, не останавливаясь перед преданием военно-полевому суду отдельных активных участников организации. Во всяком случае ликвидация должна быть радикальной…»
Секретарь сделал паузу. Он знал, что значит «радикальная ликвидация», и перед его глазами на мгновение встал жуткий силуэт виселицы. Наверное губернатор подумал о том же: он едва заметно поморщился. Секретарь закончил:
— «Текст настоящей телеграммы предлагается объявить начальнику полиции вашего округа».
И понизив голос, секретарь прочел почти шопотом имя того, кто был в стране полновластным хозяином, имя Дэлийского генерал-губернатора.
За этой телеграммой следовал ряд других, но губернатор их почти не слушал. Он был взволнован. Ему было досадно, что он не смог сам узнать об этой организации и донести генерал-губернатору, а дождался того, что ему сообщили о ней. Весь тон телеграммы ясно говорил, что в Дэли им недовольны. Чувство досады все сильнее овладевало губернатором. По окончании доклада он угрюмо бросил секретарю:
— Попросите ко мне к девяти с половиной сэра Филипса.
По недовольному отрывистому голосу губернатора секретарь понял, что Филипсу будет жестокая головомойка, и очень обрадовался: он не любил Филипса, потому что месяц назад тот женился на дочери богача-пароходчика и овладел приданым, на которое целый год пялил глаза секретарь.
После ухода секретаря губернатор долго сидел за столом и нервно барабанил пальцами по блестящему полированному дереву, поминутно оглядываясь на часы. Было уже больше девяти. Губернатор встал, прошелся по комнате, опять сел, взял первую попавшуюся книжку и начал читать.
Почитав минут пятнадцать, он поймал себя на том, что читал совершенно механически; сейчас он ни за что не смог бы сказать, что это была за книга — роман, свод законов или научная работа. Мысли губернатора то-и-дело возвращались к телеграмме. Перед ним встало его отражение — высокая худая фигура, длинное лицо, гладко причесанные седоватые волосы, высокий умный лоб и серая неумолимая сталь глаз под тонкими бровями. Он укоризненно покачал сам себе головой. В дверь постучали. Губернатор резко повернулся на каблуках, быстро пошел к своему столу и стоя сказал:
— Войдите!
Вошел Филипс и вежливо поздоровался. Губернатор сухо ему ответил и пригласил сесть. Потом запер двери, сел в кресло и начал читать телеграмму.
А за дверью стоял согнувшийся секретарь, припав глазом к замочной скважине и жадно слушая обрывки разговора. На лице секретаря играла злорадная улыбка: головомойка началась.
* * *
Над морем и над городом колыхались плотные душные покрывала ночи. По улицам, прямым как вытянутая нитка, призрачно струился электрический свет, трамваи наполняли их тугим пением, зло и отрывисто вскрикивали авто. Бесчисленные огни зловеще мигали, и синее мягкое небо от этих огней казалось черным, глянцевитым, как жесть.
Шашибушан сидел на своем обычном месте — около изгороди парка — и ожидал щедрых людей, которые пожелали бы посмотреть на его представление со змеями. Но уже начали слипаться старые глаза Шашибушана, уже двенадцать раз ударили башенные часы, а щедрых зрителей все не было. Жалобно вздохнув, Шашибушан встал, аккуратно свернул в трубочку пестрый дешевый коврик, взвалил на спину корзину со змеями и двинулся в ту сторону, где за огнями, за трамваями, в древней величественной тишине чутко спал старый город. Там узкие переулочки переплелись как змеи в корзине Шашибушана, небо над переулочками бархатное, синее, и звезды горят и переливаются, не обесцвеченные мертвенными глазами электрических фонарей.
Домик Шашибушана находился в плохом месте. Прямо перед дверью, в десяти-пятнадцати шагах застыла большая лужа, и зеленая зловонная плесень плавала по ней целыми островками. И когда с моря дул ветер, несший в открытые окна губернаторского дома соленый запах, вливающий силы в иссохшие мускулы подагрического старика, в дом Шашибушана тот же ветер нес от лужи жирную, густую, как застывающая кровь, вонь. Шашибушан плотно закрывал хлябающие рамы перекосившихся окон, запирал двери, но вонь проникала в незаметные щели и дыры, и старик плевался и бранил ужасными словами соседа-мясника, выбрасывавшего в лужу отходы от убитого скота.
Трое были захвачены в плен, один убит и один ранен…
По вечерам, когда губернатор играл на скрипке и смотрел в море, Шашибушан, сидя у ограды парка, тоже играл на дудочке, сделанной из черного дерева, и смотрел в бессмысленные глаза своих змей, стоявших на хвосте и мерно раскачивавшихся в такт мелодии. Шашибушан, продолжая играть, брал змей, гладил, вешал на шею, потом складывал в корзину и плотно захлопывал крышку. Только тогда отнимал он дудочку от онемевших губ и собирал с коврика медные и серебряные монеты, набросанные щедрыми зрителями. А щедрых зрителей было мало. Совсем мало. А кобрам надо много молока. И Шашибушан питался впроголодь и не раз, глядя на кобр, пьющих густое пахучее молоко, думал, что лучше бы ему было родиться змеей. Жить трудно! Хорошо, что сыновей пристроил. Анукуль работает в порту. С утра до вечера таскает он на гибкой спине тяжелые тюки, а зарабатывает?!. Лучше не говорить сколько он зарабатывает! Вот уже четвертый месяц он не может купить себе пояса с пряжкой, украшенной бирюзой…
Бени младший устроился лучше, Шашибушан так беспокоился за него: слабый он, в порту работать не может. Но Бени повезло. Знакомый повар, что готовит самому губернатору, взял его к себе в помощники. А теперь Бени получил повышение — он прислуживает самому губернатору: зажигает свет, обметает стол, подает воду. Правда, жалования ему дают мало, но хоть сыт, одет — и то хорошо. Но скучно без Бени. Только два раза в месяц отпускают его домой. Пришел вчера и опять ушел, и теперь не скоро придет. Вот когда он начнет получать побольше, можно будет отдохнуть и Шашибушану, а пока приходится играть на дудочке и показывать людям змей…
А стар стал Шашибушан. Давно бы пора ему бросить опасное и недоходное змеиное ремесло. И губы устают скоро, и кашель мешает играть на дудочке, и не раз уже во время представления на Шашибушана нападал приступ кашля. Натужившись, сдерживаясь громадным напряжением воли, он торопливо складывал змей в корзину, закрывал ее и долго мучительно кашлял. А ведь может случиться так, что Шашибушан и не сдержится. Страшно подумать, что будет тогда.
Шашибушан видел в молодости, как старик укротитель змей выронил изо рта во время представления свою дудку. Змеи замерли. Замер и укротитель. Глаза его были широко раскрыты, и он вытянул вперед руки с растопыренными пальцами. Это продолжалось меньше секунды. Змеи зло зашипели, упали на ковер, свились в тугие кольца и сразу, прямые как стрелы, бросились на старика. Он крикнул и прянул в сторону. Но было уже поздно: его укусили в трех местах. Зрители разбежались, кобры куда-то скрылись, и на пыльной траве остался труп старика.
Шашибушан знал, что его ждет такая же судьба. Нельзя до семидесяти лет безнаказанно заниматься с кобрами. Кобры не любят стариков. Они слушаются только мерной и плавной музыки, и горе тому, кто ошибется хоть в одном звуке…
* * *
Когда вновь прибывшему кораблю нужно было итти на выгрузку, он делал это с бесконечными предосторожностями — так тесно было в порту. Черные туши грузовых пароходов, казалось, навсегда вросли в воду. Легкие тонкие шкуны царапали небо остриями мачт, а кругом целое скопище лодок — и большие, и маленькие, и парусные, и весельные. Лодок стояло так много, что можно было, не замочив ноги, уйти по-ним за километр от берега. На берегу высились громадные склады и пакгаузы, в них были грудами навалены различные товары: и белый легкий хлопок — слезы Индии, и рис в плотных серых мешках — пот Индии, и в маленьких ящиках сладкий драгоценный яд опиум — радость Индии. Грузовые пароходы неуклюже боком подходили к пристани, перебрасывали зыбкие сходни, и по ним в этой пестрой, дразнящей сутолоке от зари и до-темна бегал сын Шашибушана Анукуль. Живей! Живей!! Работа не ждет!!! Ныли тупо и привычно ноги и плечи, а бездонные черные трюмы глотали без конца и хлопок, и рис, и опиум…
Анукуль приходил домой поздно, а за последний месяц стал приходить совсем ночью. Шашибушан терялся в догадках. Не похоже на Анукуля, чтобы он пьянствовал. Да и деньги он приносит домой целиком. Пробовал Шашибушан спросить сына, но тот угрюмо отмалчивался. Шашибушан испытывал смутное беспокойство и пробовал даже следить за Анукулем, да разве угоняться старым ногам за молодыми…
* * *
Филипс помнил слова губернатора:
«Ваши агенты ничего не делают, да и вы сами тоже. Извольте переловить эту проклятую организацию».
На другой день после разговора с губернатором Филипс жестоко распекал своих помощников. Те передали головомойку ниже, и постепенно она обошла всех служащих, не исключая и швейцара. Агенты-англичане всполошились, засуетились. Но на них мало надеялся Филипс. Агент-европеец хорош для раскрытия уголовного преступления, но в данном случае он бесполезен. У Филипса были два агента-индуса, он отдельно поговорил с ними и пообещал им крупную награду в случае успеха.
Началась упорная слежка.
Ворота распахнулись и оттуда, окруженный облаками пыли, вылетел автомобиль…
Шли недели. Ежедневно губернатор нетерпеливо выслушивал доклады и досадливо махал рукой:
— Что вы меня кормите обещаниями! Дайте конкретный результат вашей работы.
Филипс краснел, бледнел, но молчал.
Однажды губернатор после обычного, доклада, в котором Филипс как обычно утешал его «верными следами», сказал с нескрываемой насмешкой:
— Куда девалась ваша энергия? Похоже, что вы сильно устали. Я думаю, вам будет полезен перевод на более легкую работу.
Филипс великолепно понял смысл этих слов. Губернатор предупреждал, что дальнейшее пребывание Филипса на почетном и прибыльном месте начальника полиции всецело зависит от раскрытия этой проклятой организации.
И вечером Филипс с тоской выпытывал у агента-индуса:
— Значит, никаких следов? Плохо. Может быть ты замечал какие-нибудь собрания? Нет? Плохо…
Однажды агент пришел к Филипсу в неурочное время, прошел прямо в кабинет и сказал коротко:
— Нашел.
Филипс вскочил с кресла и запер двери. С час он беседовал с агентом. Потом индус ушел, и Филипс пробежал пальцами по клавиатуре звонков во все отделения своей канцелярии. Звонки были настойчивы и требовали от помощников немедленной явки. Все собрались тотчас же, и Филипс, стараясь казаться спокойным, сообщил:
— Нити в наших руках, господа!
Приказ: «К девяти всем быть в канцелярии с оружием; экспедицией руководит сам Филипс». Ответ: «Будет сделано, сэр…»
К девяти все были в сборе. В десять выступили. В одиннадцать подошли к загородному саду. Но в самый решительный момент, когда, казалось, все дело было в шляпе, из глубины сада вдруг послышался резкий предупреждающий свист. Филипс вздрогнул, хрипло крикнул:
— Вперед!
Сад наполнился криками и треском револьверных выстрелов. Но ночь выдалась темная, сад был густой, а стрелять наудачу полицейские не решались из опасения перебить своих. Когда все утихло, Филипс мог созерцать свою жалкую добычу: трое были захвачены живьем, один убит и один ранен. Раненый хрипел, изо рта у него текла струйка крови; ясно было, что он не доживет до утра.
Но Филипс сделал вид, что он очень доволен результатами своего похода, и громко сказал, указывая на арестованных:
— Главари ликвидированы.
И хотя все знали, что это не так, что арестованные — мальчики лет по двадцати — не могут быть главарями, но тоже сделали веселые лица и начали поздравлять Филипса. Этот самообман был выгоден всем.
В эту ночь напрасно ждал Шашибушан сына. Думал, что подвернулась спешная работа, что к утру придет Анукуль, но встал мутный, зеленый рассвет, а Анукуля все не было. Шашибушан пошел в порт. И там торопливо (нельзя долго отрываться от работы) высокий худой грузчик сказал ему, что Анукуль больше не будет работать в порту, потому что он вздумал бунтовать и его поймали.
Шашибушан остолбенел. Анукуль? Бунтовать? Не может этого быть!.. Но все торопились, бежали, и никто не хотел рассказать ему подробно о сыне. Тогда Шашибушан решил найти Анукуля, расспросить его и выяснить эту чудовищную ошибку. Шашибушан знал, где надо искать его: низко опустив голову, он шел прямо к тюрьме. Старика прогнали от ворот, он подошел опять, и снова его отогнали. Тогда Шашибушан вернулся в порт и, дождавшись конца работы, повел двух грузчиков в харчевню и там узнал от них, что ошибки здесь не было, что Анукуль действительно бунтовал, что проклятые полицейские поймали его и теперь, наверное, убьют. Шашибушан вздрагивал и в муке кривил сморщенное лицо, но как ни старался разуверить себя, ужасная мысль в его мозгу все росла, крепла и превращалась в уверенность: «Анукуля убьют»…
На другой день Шашибушан опять пошел к тюрьме. И опять его не пустили, сказав, что Анукуля сейчас судят. И еще ему сказали, что он напрасно бьет свои старые ноги, потому что по закону человек, глядящий в лицо смерти, не должен видеться ни с кем. Шашибушан выслушал, кивая головой, и тусклым, безжизненным голосом попросил у привратника разрешения посидеть у ворот тюрьмы до конца суда.
— Хоть до вечера сиди, — ответил привратник.
Шашибушан сел прямо на землю на самом солнцепеке и застыл, уронив на грудь седую голову. Он не умел плакать, но сейчас не мог сдержать слез, и они крупным жемчугом прыгали по его бороде. Ломая пальцы, со смертной тоской глядел он на тюрьму. И такими страдальческими были его глаза, что проходивший мимо незнакомый индус тихо сказал своему спутнику:
— Это отец арестанта. И, наверное, сын приговорен к смерти.
Наконец ворота тюрьмы распахнулись, и оттуда, окруженный облаком накаленной белой пыли и бензинной вони, вылетел автомобиль. В нем сидели три офицера. Автомобиль исчез. Привратник безжалостно и привычно сказал Шашибушану, что эти три офицера только что кончили судить бунтовщиков и приговорили всех троих — Хуркумара, Нибарона и Анукуля — к смерти…
Привратник запер ворота и захлопнул окошечко. Шашибушан бегом бросился к губернатору. Он знал, что это всесильный человек. Дорогой Шашибушан потерял одну туфлю, но не остановился поднять ее. Заплаканный и запыхавшийся, он подбежал к калитке губернаторского дома, но его остановил часовой. Он преградил Шашибушану штыком дорогу и спросил:
— Что нужно?
Шашибушан торопливо и несвязно стал говорить, что ему спешно надо видеть губернатора. Необходимо видеть… Сегодня… Вот сейчас… Часовой терпеливо выслушал Шашибушана и равнодушно объяснил, что с такими делами к губернатору через эти ворота не ходят, а надо обогнуть квартал и итти с переднего хода. Шашибушан побежал вокруг сада. Железная ограда казалась нескончаемой. У Шашибушана от бега нестерпимо ныл бок. Вот наконец угол. Шашибушан передохнул секунду и опять побежал. Добежав до переднего входа, он промчался мимо ошеломленного швейцара и очутился в большой комнате. Хотя до сих пор он ни разу не был в губернаторском доме, но знал из рассказов Бени, что губернатор днем находится за дверью, украшенной тяжелыми бархатными портьерами. Не глядя ни на кого, Шашибушан пошел прямо к двери. Сидевший перед дверью за столом рыжий секретарь попытался остановить его, но Шашибушан отстранил секретаря и шагнул в кабинет.
Губернатор был не один. Перед ним стоял Филипс, держа в руке подписанный приговор. Они весело по-дружески разговаривали — от недавней размолвки не осталось и следа. Шашибушан подбежал к столу и кинулся ниц перед губернатором. Вслед за Шашибушаном в кабинет вбежал секретарь и остановился посреди комнаты, не зная что делать. Губернатор встал с кресла, отступил шаг назад и тихим, полным изумления голосом спросил секретаря:
— Что это значит, сэр?
Его слова были покрыты воющим криком Шашибушана. Губернатор внимательно осмотрел распростертого перед ним старика и еще раз спросил секретаря:
— Что нужно этому человеку?
Филипс, понявший Шашибушана, тихо пояснил с угодливой улыбкой:
— Это отец одного из преступников, сэр. Он просит о помиловании осужденного сына.
Губернатор сел в кресло. Помолчав, он обратился к Филипсу:
— Скажите ему, чтобы он встал.
Филипс перевел. Шашибушан покорно исполнил приказание и встал, пришибленный, жалкий, с заплаканным лицом.
Губернатор сказал:
— Переведите ему, что я его очень жалею, но не могу помиловать его сына, потому что я — не закон. Пусть он не просит, скажите ему — это невозможно. Я сам отец и вполне понимаю его, но закон выше меня, и я не могу…
Губернатор твердо помнил телеграмму, предписывавшую «радикальную ликвидацию организации».
Секретарь и Филипс подхватили старика под руки…
Когда Филипс кончил переводить, старик опять с плачем бросился в ноги губернатору. Секретарь и Филипс подхватили Шашибушана под руки. По кабинету и приемной они вели его осторожно, словно он был стеклянный. В передней же Филипс грубо бросил его на скамейку и прошипел испуганному швейцару:
— Как вы впустили его? Я еще поговорю с вами. Уведите его подальше.
Оставшись наедине с Шашибушаном, озлобленный швейцар пинками вышвырнул старика на улицу. Шашибушан не пошел домой. Всю ночь он пролежал в кустах, в городском парке. Ночью он слышал недалеко от себя и музыку, и смех, и говор, и совсем близко поцелуи, но все эти звуки как бы отскакивали от его ушей, не проникая в мозг. Старик не спал ни минуты. На рассвете его выгнали из парка. Он долго бродил по улицам и незаметно попал домой. Бросился на постель и застыл — молча, ни о чем не думая, как мертвый. Его привел в себя визжащий крик Бени:
— Отец! Вставай! Отец! Отец!
Бени стоял перед постелью бледный, нелепо размахивая руками. Шашибушан сел и в упор сказал:
— Я знаю…
— Их уже повесили… Отец…
Бени упал на грудь к отцу и забился в рыданиях. Шашибушан сидел неподвижно, молча, как каменный…
* * *
Они шли долго. Было очень жарко — два часа дня. Бени привел отца к морю. Они прошли несколько загородных садов, круто повернули по дороге, и Шашибушан вздрогнул, осел: шагах в трехстах от них, на ровном месте стояли виселицы, а на них неподвижно ровно висели длинные мешки. Около виселицы ходили двое часовых. За виселицами спокойно синело море. Шашибушан застыл, оперевшись на палку. Бени тихо плакал. Часовые ходили взад и вперед…
— Пойдем, — твердо и спокойно сказал Шашибушан, тронув Бени за плечо.
Дорогой они сказали друг другу только по одной фразе.
— Знают ли у этого… у собаки, — голос у Шашибушана стал прерывистым и грозным, — что ты — брат?
— Знает только повар, — ответил Бени. — А он сейчас болен.
Пришли домой. Шашибушан размышлял. Видно было, что он уже давно не думал так напряженно. Наконец он достал из сундучка, стоявшего в углу, три длинных мешочка, сделанных из грубой кожи. Он показал их сыну и спросил:
— Ты знаешь для чего эти мешки?
— Нет.
Шашибушан пояснил Бени, что в таких мешочках носят кобр на далёкие расстояния. Кожа толстая, и кобра не прокусывает ее.
— Ты возьмешь три таких мешочка, — спокойно говорил Шашибушан, а за щеками у него играли желваки, — и положишь куда-нибудь, где не заметно. И все. Ты сделаешь это, Бени! Вспомни Анукуля… Ты говорил, что этот любит вечерами играть на скрипке. Ты положишь их сегодня до вечера…
Бени содрогнулся. Но он вспомнил море, виселицу перед морем и сказал:
— Да.
Прощальными словами Шашибушана были:
— Когда положишь мешочки, распусти немного завязки. Слышишь? Не забудь! Но только немного…
* * *
Вечером, только начало заходить солнце, Шашибушан подошел к ограде губернаторского сада. Он долго ходил вдоль нее, наконец присел на бетонный карниз ограды.
Улица была пустынна. Редкие прохожие не замечали Шашибушана. Закат краснел, накалялся. Где-то тоскливо кричал пароходный гудок. Лиловые облака пропитывались кровью. С моря задувал чуть заметный ветер.
Шашибушан услышал звуки скрипки, несшиеся из открытого окна губернаторского дома. Он посмотрел на дом и со страхом подумал, не перепутал ли Бени комнату. Нет. Не должно быть: ведь он знает привычки хозяина.
Скрипка пела, стонала, разгорался закат, шелестели листья деревьев, и одиноко, тоскливо продолжал гудеть пароход. Шашибушан застыл, слушая скрипку… Долго — ему показалось целый час — слушал он. Не сробел ли Бени?.. Не забыл ли распустить завязки?.. Стелет скрипка колышущиеся полотна мелодий, стелет ровно, красиво, жалобно. Умирает медленно день, а скрипка все поет. Неужели не хватило у Бени духа?..
Вот он, желанный перебой! Нет скрипки. Тревожная, тугая тишина…
Опять скрипка… А, проклятый! Он знает мелодию заклинателей змей. Он играет то же, что играл и Шашибушан на своей дудочке. Плавно, вкрадчиво и таинственно рассказывает скрипка: перед ней сейчас колышутся, раскачиваются три кобры, они не мигая смотрят зелеными ледяными глазами в глаза проклятого… Поет, поет скрипка, околдовывает змеиные души, пеленает змей сладкими цепями очарования. Они тихонько присвистывают, они довольны. Но они голодны, а руки у проклятого не железные: устанет, собьется. Неужели не собьется?.. Все играет, а закат уже погас, и на небе трепещут первые звезды. Тише, кажется, поет скрипка… А вот сразу сильнее.
Вкрадчиво и таинственно рассказывает скрипка: перед ней сейчас колышутся, раскачиваются три кобры…
«Помогите!.. Я не могу больше петь!» — кричит скрипка. Но кто ее поймет кроме Шашибушана. Остальные люди только удивятся, что верный всегда своим привычкам губернатор сегодня играет в запертой комнате дольше обыкновенного. А Шашибушан никому не скажет, никому…
«Помогите! У меня нет больше сил! — вопит скрипка из окна. — Я не могу больше петь и видеть перед собой этих страшных змей! Уберите их!..»
Звуки дрожат. Они не верны. Кобры сейчас перестали качаться и свирепо шипят… Нет — снова верно. Опять качаются кобры. Вот сбился… Снова поет, колдует… Над морем нависает ночь…
Вопль!.. Человеческий вопль!.. Вот оно!..
Шашибушан опускается на колени и, протянув руки к небу, шепчет молитву. А из дома несутся испуганные крики, и в открытое окно слышен судорожный звон телефона…
Изгнанник джунглей. Рассказ А. Демезона.
I. Вырванный из джунглей.
Уппа был измучен и смертельно голоден. Он стоял на опушке тех самых джунглей, которые искони были владением его предков. На всем пространстве от озера Чад до берегов Атлантического океана вольно и гордо расхаживал его отец. Под его тяжелой пятой ломились деревца и кусты, и звери почтительно уступали дорогу владыке джунглей. Достигнув излучин Салаги и Нионга и почуяв острый соленый запах моря, он поворачивал в сторону восходящего солнца. На ходу он вырывал с корнем молодые деревья, обдирал кору со стволов, таких же толстых, как его туловище, и с наслаждением поедал высокие стебли жесткой колючей травы сисонго.
Уппа, смешной лопоухий слоненок, следовал за матерью, путаясь у нее между ног и время от времени получая звонкий шлепок хоботом.
Однажды утром они с матерью паслись на глухой полянке. В припадке веселости Уппа катался по влажной траве, неуклюже гонялся за пестрыми огоньками колибри, подбегал к матери и шаловливо дергал ее за хвост.
Внезапно в кустах что-то зашелестело. Потом — сухой оглушительный треск, змейка огня. Мать пошатнулась и рухнула на землю, зарывшись головой в траву. Ее серые заскорузлые бока порывисто вздрагивали. Уппа удивленно на нее глядел.
Ему захотелось пососать мать, и он ткнулся хоботом ей под брюхо. Но она судорожно била ногами по воздуху, словно мчалась галопом от невидимого врага. Получив удар по уху, слоненок отскочил. Что с матерью? Она никогда не отказывала ему в молоке. Он зашел с другой стороны и заглянул ей в глаза. Они были налиты кровью и полузакрыты. Между глазом и ухом, в височной впадине чернела дыра, оттуда стекала красная струйка…
Раздались дикие пронзительные крики, и отряд чернокожих выскочил на поляну. Они набросились на слоненка, схватили его за ноги и начали связывать. Уппа разъярился. Размахивая хоботом, он наносил тяжелые удары направо и налево. Испуганные негры бросили было свою добычу, но тут появились двое белых охотников. Они накинули Уппе на шею аркан и ловко опутали его веревками. Слоненок сделал еще несколько отчаянных попыток освободиться, но веревки не поддавались. Подняв хобот, он издал трубный клич, призывая на помощь отца и сородичей. Но только смутное эхо джунглей и злобный хохот негров были ему ответом…
С этого дня Уппа больше не слышал слоновьего трубного клича, львиного рыканья и хищного плача гиен. В негритянской деревне, где он прожил некоторое время, в уши его назойливо забивался гортанный говор туземцев и трескучая речь немецких охотников. Черномазые ребятишки изводили Уппу, дергали его за уши, тыкали палками в глаза, забирались на спину и отплясывали победные танцы. Связанный Уппа хрипел от ярости, отряхивался, но не мог избавиться от своих мучителей.
Смешной лопоухий слоненок следовал за матерью…
Потом белые люди новели его по глухим тропам, через топи, долины и реки. Запуганный, забитый слоненок покорно брел за охотниками, с тоской глядя на мелькавшие по сторонам джунгли…
На третий день пути они очутились в большом шумном городе. С изумлением глазел Уппа на высокие дома. Он принимал их за каких-то исполинских зверей, перед которыми чувствовал себя маленьким и беспомощным. Пугливо озирался он по сторонам, ожидая, что гиганты вот-вот начнут двигаться и раздавят его, Уппу, как бывало отец топтал наглых гиен…
Они шли прямыми аллеями, обсаженными пальмами. Проходили мимо базаров, где кишела разноязычная пестрая толпа. В глаза его ударяло горячее солнце. Грохот повозок, гул голосов, мельканье незнакомых образов. Уппа был оглушен и окончательно сбит с толку. Он испытывал страстную тоску по молоку. Жажда палила его внутренности.
Наконец его привели в просторный сарай и поставили перед ним ящик с литровыми банками сгущенного молока. Осушив одну за другой двадцать банок, Уппа почувствовал блаженство. Он разлегся на мягком, устланном соломой полу и погрузился в сладкий сон, словно в нагретую солнцем коричневую топь. Он так любил барахтаться и кувыркаться в грязи болота рядом с дремавшей матерью. Слоны залезают в болота, чтобы покрыться слоем грязи, предохраняющим их от укусов насекомых.
* * *
Время шло. Уппе было уже около двенадцати лет. Он достигал двух метров в вышину. Ноги были несколько хилые, кожа дряблая. Он привык к жизни в неволе, и воспоминания о джунглях, о матери и отце постепенно гасли в его сознании, словно пламя костра, оставленное охотниками на сырой лесной поляне. Развитие его приблизительно соответствовало развитию четырехлетнего ребенка. Он был кроток, покорен и ленив, как почти все животные — рабы человека.
Аппетит слоненка возрастал непомерно. Он истреблял несметное количество ящиков сгущенного молока, подсчет которым приходилось вести на страницах правительственной приходо-расходной книги под рубрикой «разные расходы». Но пища эта была однообразна, да и выдавалась она ему не всегда аккуратно, случалось Уппе и голодать. Поэтому он увеличивался в росте и объеме не быстрее, чем ствол черного дерева в стенах оранжереи.
Его первый хозяин, молодой охотник, сын резидента германской колонии, уделял ему много времени и внимания. Когда обнаружилось, что кормление слоненка отзывается на государственном бюджете, он задался целью отучить Уппу от молока. Это оказалось нелегкой задачей. Слоненка перевели из сарая в козий загон, чтобы приучить питаться свежей травой и сеном. Но вскоре пришлось его оттуда убрать, так как он пробовал выдаивать хоботом обезумевших от страха коз и переломил хребет двум-трем козлятам, которые оказались его соперниками. Уппу перевели в отдельный загон неподалеку от дома его хозяина. Кадка с водой и охапка сена — вот его ежедневное меню. Лежа на солнце, Уппа предавался сладостным воспоминаниям о круглых банках из светлой жести, заменявших ему материнское вымя.
II. Уппа ищет хозяина.
Однажды утром Уппа напрасно поджидал своего хозяина. Молодой человек поспешно уехал в глубь Африки вместе со своим отцом-резидентом и немецкими чиновниками. Корпус франко-английских колониальных войск высадился на побережье, а известно, что когда десант разворачивает свои действия в какой-нибудь области, подданные враждебной державы спешат убраться прочь, увозя деньги, счетные книги, ценности и кое-какие письма, но никак не ручных слонов. Уппа в числе прочих трофеев перешел в ведение французской администрации, сменившей немецкого резидента.
Солдаты колониальных войск, принадлежавшие к племени, у которого был развит культ слонов, приносили Уппе охапки свежего сена, и он продолжал жить в своем загоне в стороне от превратностей мировой политики.
Пожилой французский чиновник, проживавший в городе, вдали от семьи, оставленной им в Париже, привязался к слону. Каждый день он навещал Уппу, приносил банки сгущенного молока, которые слон с жадностью опустошал. Он нанял негра, чтобы тот чистил Уппу, менял ему воду и задавал корм. Тоскующий по семье папаша находил некоторое утешение в общении с молодым слоном, который заменял ему его далеких детей. Он долго и нежно говорил с Уппой, называл его уменьшительными именами своих сыновей, почесывал ему шею и уши, давал сахару, хлеба и бананов, и порою грустные умные глаза животного встречались с беспокойным усталым взглядом человека.
Но вот исчез и второй хозяин. Здоровью чиновника сильно повредил африканский климат, и он был отозван во Францию. Вернувшись в Париж, он часто рассказывал ребятам о своем приемном сынишке, о его тяжеловесных прыжках, умном взгляде и истребительном аппетите.
Между тем военные действия закончились. Колония окончательно перешла к Франции. Войска были выведены из города. Начались злоключения Уппы. Некому было приносить ему охапки сена. Новый губернатор области был экономный практичный француз. Он не пожелал тратить государственные средства на содержание слона и решил отделаться от Уппы. Но никто из чиновников, которым губернатор предлагал Уппу, не захотел взять его: прокорм обходился слишком дорого. Слона выпустили на свободу.
Однако Уппа не направился в джунгли, синей стеной встававшие на горизонте. Неуклюжий поджарый малый грузно шлепал по улицам, с любопытством всматриваясь в окружающий мир. Он зорко наблюдал за всеми действиями людей, казалось даже вслушивался в их беседы.
На площадях и бульварах Уппа чувствовал себя как дома. Распустив по ветру широкие уши словно гигантские веера, тяжелой рысцой он трусил по аллее, направляясь к лавкам за утренней поживой. Иногда он стоял, неподвижный как изваяние древне-индусского храма, величественно подняв хобот, втягивая ароматный вечерний воздух, или грузно топтался на месте, раскачиваясь всем телом, исполняя древнюю пляску слонов, или терся о каменную ограду, чтобы очистить растрескавшуюся кожу от колючек и свирепых слепней. В эти минуты он был похож на своих сородичей, которые с незапамятных времен топчут дикую почву Африки.
Уппа старался найти себе нового хозяина, но это ему не удавалось. Всякий был рад позабавиться с ручным слоном, подразнить его, сунуть ему в хобот булку, пряник или плод, но никто не хотел сделать его членом своей семьи.
Негры относились к слону с затаенной враждой: сородичи Уппы немало досаждали им, вытаптывая поля, ломая заборы и расшатывая хижины. Глядя на Уппу, они мысленно подсчитывали, сколько могло в нем оказаться мяса: негры — охотники до нежного мяса молодых слонов. Но конечно ни один из них не дерзнул бы покуситься на жизнь правительственного питомца: французские власти уже успели внушить туземцам ужас.
Но правительство и не думало заботиться о своем питомце. Вероятно оно полагало, что он достаточно вырос, чтобы самому себя прокормить. Оно великодушно предоставило в его распоряжение загон в городском парке. Загон этот был всегда открыт, и Уппа мог входить и выходить оттуда когда пожелает.
Слоненок пробовал выдаивать хоботом обезумевших коз…
Парк был расположен на краю города, и с его холмов открывался широкий чисто африканский вид. Крытые соломой хижины негритянских поселков подступали к городу. Далее расстилались желтовато-бурой пеленой ямсовые и просяные поля. На горизонте под шатром серобирюзового неба вставали джунгли, мрачные и таинственные.
* * *
Как-то раз Уппа, выйдя из загона, остановился на одном из холмов и начал пристально всматриваться в сторону леса. Внезапно его охватило странное томление. Он почувствовал словно зуд в голове. Уппа почесал голову об ограду, которая чуть не повалилась от его прикосновения. Лесные дали притягивали его. Приподняв хобот, он жадно понюхал ветер, приносивший ему вести о родных джунглях. Его маленькие глазки влажно заблестели. Он расставил уши, как это делала его мать в моменты приближения опасности, и устремился в сторону джунглей.
Но порыв его быстро прошел. Выбежав за ограду парка, Уппа остановился, в нерешительности потоптался на месте. Потом уши его опустились, вялые как тряпки, хобот понуро поник, глазки потухли. Слон угрюмо поплелся к центру города.
Итак, Уппа выбрал город. Правда, вряд ли он найдет себе там нового хозяина, но лавки и ларьки целый день открыты, и всегда можно ожидать сладкой поживы. Слабость Уппы к сахару была хорошо известна всем в городе. Обывателей забавляло, когда длинный серый хобот просовывался сквозь решотку веранды и осторожно брал лакомые куски. Слон засовывал их в пасть и долго ритмично пережевывал.
Голова Уппы появлялась в дверях магазина, хобот просительно протягивался в сторону прилавка. Хозяин поднимал от счетов потное усатое лицо:
— Ах ты, старый лакомка! Опять пришел клянчить. А ну-ка, Пьер, угости его.
Мальчишка-приказчик отламывал добрую половину сахарной головы и давал слону. Уппа брал сахар и немедленно отправлял в рот. Его глазки сияли от наслаждения.
На туземные базары Уппа обычно не ходил. Там ничего не было кроме рыбы, мяса и бананов, и все это за прочной деревянной решоткой. Туземцы недолюбливали Уппу. Губастые жирные негритянки-торговки отгоняли слона-попрошайку ударами палки. Поэтому симпатии Уппы были решительно на стороне белых.
III. Уппа празднует взятие Бастилии.
Однажды — это было 14 июля — Уппа, выйдя на очередную прогулку по городу, нашел все лавки и ларьки закрытыми. Напрасно тыкался он хоботом в ставни — он ударялся о засовы и замки. Над всеми домами плясали по ветру трехцветные флаги. По улицам двигалась праздная расфранченная толпа. Слышались бравурные взлеты марсельезы.
В этот день ни одна рука не протянулась, чтобы дать голодному слону хоть кусочек сладкого белого камня или печенье. Уппа угрюмо брел назад в загон, где на худой конец можно было пощипать жесткой высохшей травы. Когда он проходил мимо кафэ «Паризьен», пьяные крики, несшиеся оттуда, заставили его остановиться. Не будет ли здесь какой поживы? Слон повернул голову и стал приглядываться к публике, сидевшей на веранде.
Уппа вылил жидкость в пасть…
Кафэ было переполнено. За столиками сгрудились чиновники, торговые агенты, приказчики и офицеры оккупационного корпуса. Они праздновали падение Бастилии, отмечая этот великий день обильными возлияниями. Публика сидела в кафэ с одиннадцати часов утра и была сильно навеселе. Уже много раз пропели марсельезу, выпили и за Фоша, и за Пуанкарэ, и за победоносную французскую армию, и за дорогих союзников и даже… за падение Советов. Хриплые тосты словно петарды[15] взрываются в потной духоте. Их никто уже не слушает. Все косноязычны. Тыча друг в друга тупыми щупалами осоловелых глаз, военные вспоминают свои заслуги перед родиной. Густая мутная скука, словно прокисшая опара из разбитой миски, расползается по кафэ.
Туземные игры — бакэ, бег в мешках — на время развлекли подпивших патриотов. Победитель был награжден бутылкой шампанского, стофранковым билетом и шелковым цилиндром с лысой обалделой головы директора банка. Но под конец наскучило и бакэ. Красные, как бордосское вино, лица никли над бокалами. Никого больше не забавляли охотничьи рассказы, соленые и пахучие, как лимбургский сыр, городские сплетни и события из торговой и административной жизни.
Неожиданно над перилами веранды появилась тяжелая голова слона.
— Уппа! Уппа!.. — многоголосо рявкнуло кафэ.
— Милый крошка, он тоже пришел чествовать республику! — захлебываясь, вопил начальник полиции, у которого усы слиплись от вина и плачевно повисли над свинцовыми губами.
— Браво, слон-патриот!
— Сознательный гражданин республики!
— У этого животного французская душа!
— За здоровье мудрейшего из слонов!..
Всеобщее оживление. Слизняки улыбок ползут по лицам. Руки тянутся к слону. Словно из рога изобилия сыплются конфеты, фрукты, бриоши, печенье. Черный бой, стоя у стены, ворчит себе под нос:
— С ума посходили господа. Мыслимо ли все эти вкусные вещи стравить лесному негодяю, который вытаптывает наши поля и нагоняет страх на деревни!..
Уппа без разбору хватает все лакомства, они живо исчезают в его голодной пасти.
— Дайте Уппе бокал шампанского, и пусть он тоже выпьет за здоровье республики! — пронзительным голосом крикнул молодой лейтенант колониальных войск. У него щемило на сердце: он не получил с последней почтой письма от очаровательной мадемуазель Франсины, которая цвела добродетелью в маленьком городке провинции Сены и Уазы, в то время как он завоевывал Африку.
Уппе протянули бокал, но он был слишком мал для его хобота. Тогда молодой лейтенант схватил ведро, где замораживалось шампанское, вытряхнул лед и влил туда бутылку редерера. Уппа повел хоботом, нерешительно втянул несколько капель и шумно чихнул.
Дружный хохот. Сиплые крики:
— Надо подсластить. Без сахару не выпьет.
— Он разборчив, длинноносый лакомка!
К ведру протянулись бутылки с сиропами, ликерами, шампанским, лимонадом. Когда все это размешали и поднесли Уппе, он скосил глаза, приподнял уши, осторожно опустил хобот в ведро, втянул жидкость и вылил ее в пасть. Через мгновение он прижал уши к голове и вопросительно поднял хобот над опустевшим ведром.
Этот чудовищный глоток вызвал новую бурю хохота:
— Браво, браво, Уппа! Чисто сработано!
— Это я понимаю — осушил ведро и глазом не моргнет!
— Как помпой выкачал!
— Этакая махина пожалуй и сорокаведерную бочку выхлещет!
Лейтенант позабыл о коварных золотистых глазках Франсины, начальник полиции — о грызущей ноги подагре и грызущей нервы сварливой жене, интендант — о грозящей ревизии, гарнизонный хирург — о зарезанном накануне больном… Тяжелая туша Уппы серой стеной загородила весь мир от пьяных гуляк.
Глядя на эту оргию, чернокожие слуги хмуро качали головой:
— Чего только не выдумают белые господа для своей забавы! Теперь он очумеет от хмеля и пойдет крушить направо и налево.
Хохот наконец утих. Французы стали расходиться по домам. Слону не хотелось расставаться с людьми, угостившими его сладкой шипучей водой. Группа офицеров вышла на улицу. Они брели, покачиваясь и перекидываясь шутками и смешками. Уппа направился было за ними, но отяжелевшие ноги отказывались слушаться. Через силу сделал он несколько шагов, хотел прислониться к забору, но потерял равновесие и тяжело рухнул на землю, едва не задавив полусонного негра, искавшего прохлады в подзаборной тени…
Когда же он проснулся, ему показалось, что он наглотался камней — таким тяжелым стало его тело. Дыхание спирало, голова кружилась, в глазах расплывались красные и зеленые пятна. С трудом поднялся Уппа на ноги и медленными, заплетающимися шагами побрел к своему загону. Хвост болтался, как мокрая веревка, уши свисали тряпками, хобот уныло опустился до земли…
IV. Слон-алкоголик.
На другой день после праздника, в котором он невольно принял участие, Уппу неудержимо потянуло к кафэ. Он еще не вполне протрезвился после вчерашней выпивки. Странная жажда сжигала его глотку. В надежде снова полакомиться сладкой водой, он побрел в город.
Но ожидания его не оправдались. Днем в кафэ почти не было посетителей. Два-три увесистых буржуа, прокисших от жары, клевали носом над парижскими газетами. Никто и не подумал поднести ему хотя бы стаканчик вина, а черный бой свирепо запустил в него табуреткой, Уппа шарахнулся от кафэ.
С горя он забрел на рынок. Но и тут не было поживы. Голодному гиганту не перепало ни банана, ни кусочка зелени. Торговки овощами и фруктами голосили при его приближении, отмахивались палками, охраняя свои сокровища.
Торговки отгоняли слона палками.
В мясном ряду люди в окровавленных фартуках, потрошившие бычьи туши, встречали его злыми шутками:
— Вон какая гора мяса привалила!
— Жаль только говядина у тебя жестковата!
— Давай-ка, приятель, отхвачу тебе хоботище!
Мясники шумно точили ножи и угрожающе потрясали ими, когда слон проходил мимо. Уппа протягивал к ним хобот со смиренным видом нищего, молящего о подаянии, но уже готового к отказу. Вместо подачки он получал по хоботу удар узловатым кулаком и благоразумно удалялся.
* * *
Настали дни бесчестья. Потомок славных предков, властителей джунглей, окончательно превратился в жалкого попрошайку. Целый день таскался он по городу, часами простаивал перед кафэ, клубом и ресторанами. На какие штуки он только не пускался, чтобы привлечь внимание находящихся там людей! Он высоко поднимал хобот, печально трубил на разные лады, громко хлопал исполинскими веерами ушей, долго ритмично кланялся, словно китайский болванчик — и все это для того, чтобы выклянчить волшебную воду, которая приятно щипала язык и вливала в мозг и во все его тело пьянящую радость.
Когда он видел у кого-нибудь в руках бутылку джина, то пытался даже приплясывать. Грузно переминался он с ноги на ногу, вскидывая в такт лопухами ушей и поматывая хвостом. Он напоминал опустившегося аристократа, который, проиграв на скачках и рулетке состояние, честь и здоровье, таскается из кабака в кабак и под истошные визги скрипки дребезжит дряблым голосом игривые шансонетки.
В те дни, когда Уппе не удавалось поживиться спиртным, он чувствовал себя глубоко несчастным. Люди, деревья, дома казались ему врагами. Он пугливо озирался по сторонам. Иногда в жажде опохмелиться он доходил почти до безумия. Метался по загону, натыкаясь на забор, выдирая кусты и подымая тучи пыли. Однажды он растоптал попавшуюся под ноги собаку и долго плясал над кровавым месивом, хрипло трубя…
— Пьяница! Старый пьянчуга! Опять нализался! — галдели мальчишки, оравой увиваясь за ним по пятам. Они швыряли в слона камнями, пригоршнями песку, но он равнодушно отряхивался словно от назойливых мух и плелся дальше.
Уппа редко оставался без угощения. Слон-алкоголик развлекал обывателей, дохнувших от скуки в африканской глуши. Когда Уппа приближался, торговцы выбегали из своих магазинов, радуясь случаю позабавиться. Охотно подносили они ему хмельные напитки. В благодарность слон каждый раз проделывал свои фокусы.
Ему тащили джин и вермут, клико, ром, коньяк и лимонад. Напившись, он, к великому удовольствию купцов и приказчиков, сваливался в канаву.
Однако никому не приходило в голову покормить голодного бродягу. Все словно позабыли, что у слона есть жадный объемистый желудок. Уппа исхудал. Кожа стала дряблой, покрылась трещинами, ссохлась. И когда он ложился, сморщенные и обвисшие бока так западали, что в их углубленье свободно могла поместиться крупная собака с щенятами.
Когда голод особенно его терзал, в нем просыпалось инстинктивное влечение к родным джунглям, синевшим на горизонте. Чаще всего это бывало по вечерам, когда лавки запирались и белые покидали клуб и кафэ, отправляясь домой ужинать. Лес призывал молодого слона дыханьем влажного ароматного ветра, нежно обвевавшего его разгоряченную голову. Он звал его не выдуманным людьми именем «Уппа», а безъименными властными зовами. Приподняв хобот, широко раскрыв глаза, Уппа долго и жадно вглядывался в горизонт.
Иногда опьянение сменялось тяжелой меланхолией. Часами неподвижно стоял он с опущенной головой, ничего не замечая кругом и словно прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу, который должен был указать ему выход из мрачного тупика. Но проходил день, проходила ночь. Утро следующего дня приносило острые схватки голода, и в определенный час неумолимо заявляло о себе желание напиться допьяна. Подчиняясь ему, Уппа покидал загон и тащился в пеструю сутолоку города.
Он проходил через сады, срывал цветок и тут же бросал его, разрушал по дороге изгородь, вырывал у подзаборного куста какой-нибудь корешок и, найдя его несъедобным, выплевывал. Во время прежних прогулок он уже истребил все попадавшиеся ему на пути растения, которые природа разрешила есть слонам.
Сворачивая с улицы на улицу, Уппа добирался до пристани. Здесь им сразу овладевало инстинктивное желание окунуться в медленные темные воды реки. Но всегда на водной глади колыхались черные исполинские чудовища, каждое с тремя хоботами, дерзко задранными к небу. Чудовища ревели, пыхтели, плевались — вся вода была ими заплевана и стала мутной, жирной и тяжелой. По спине их сновали темные юркие фигуры, напоминавшие Уппе обезьян…
Эти жуткие гиганты-купальщики и не думали уходить. Казалось, они выкрикивали на неведомом языке угрозы и ругательства. И осторожный слон подавлял свое влечение к воде. Кто их знает, еще нападут…
Иногда, пересилив страх, он все-таки спускался к реке, чтобы утолить жажду, но вода была так грязна, и от нее тянуло таким смрадом, что он ни разу не решился напиться.
Тут он соображал, что ничего другого ему не оставалось, как направить свои стопы к обладателям спиртных напитков. Уныло поднимался он на мостовую среди беспорядочно нагроможденных тюков с товарами. Медленно шел, ударяя хоботом по ящикам, переворачивая и сбрасывая на ходу мешки, пока не улавливал острого дыхания спирта или сладкого запаха патоки. Возле таких ящиков он останавливался подолгу, как очарованный вдыхая их испарения.
Однажды он перевернул груду ящиков с джином — все бутылки перебились. Чернокожие грузчики в бешенстве принялись что есть мочи колотить его по хоботу палками и прогнали Уппу, не дав ему подышать спиртными парами. С тех пор они уже не подпускали его к товарной пристани.
Изнемогая от голода и жажды, слон плелся в город с видом бродяги, который хочет показать, что у него нет никаких подозрительных намерений. Проблуждав некоторое время по лабиринту улиц, он меланхолично направлялся по широкой пальмовой аллее к своему загону. Время от времени он останавливался и терся о стволы кокосовых пальм. Тяжелые орехи срывались с ветвей и с грохотом сыпались ему на голову и спину словно капли каменного дождя…
Подняв хобот, Уппа грузно топтался на месте…
Густел вечер. Из влажной сини джунглей долетали волнующие дымные зовы. Уппа начинал тревожно кружить по загону или носиться прыткой рысью по аллеям парка. В такие часы он был совсем не похож на того смиренного, пришибленного и голодного пьянчугу, который в течение дня забавлял клянчаньем и ужимками городских обывателей.
V. Запах человека.
Однажды вечером чернокожий сторож парка принес в город сенсационное известие:
— Уппа ушел!..
Это случилось неожиданно для самого Уппы. Призывы джунглей пересилили в нем жажду «культурных» утех. Слон вышел через ворота парка, которые остались открытыми на ночь.
Перед ним мутно текла в простор широкая, обсаженная пальмами дорога. По небу плыли трепаные клочья облачков. Лихорадочный гомон ночного города замер позади. Уппа слышал только свои шаги, быстрые и глухие. В его крови всколыхнулись и забродили глубинные атавистические[16] силы, лишь только он вышел за городскую черту.
Растаяли последние кривые хижины негритянского поселка. Собачий надрывный лай и дробный рокот тамтамов остались позади. Вокруг разлеглась пустынная холмистая равнина с одиноко торчащими деревьями. Кое-где бурели квадратики полусгнившего проса.
Чернокожие жители поселка, завидев при свете луны громаду несущегося по дороге слона, прятались под соломенные кровли хижин. Для них это был призрак крупного слона, убитого ими год назад на ямсовом поле. Теперь «дух» животного вернулся в поселок, чтобы отомстить за свою гибель. Старики и старухи гнусаво шептали заклинания, прижимая к груди амулеты. Некоторые из негров решили, что ночное появление «духа» — новая проделка колдунов, наславших его на поселок, чтобы внушить всем страх перед своим могуществом…
Быки за колючей изгородью взревели от страха и заметались по загону, обрывая привязи. Но Уппа был не меньше быков испуган их ревом и паникой. Это ночное происшествие зародило в нем первую тревогу перед неведомыми опасностями, окружающими со всех сторон свободного обитателя джунглей.
Он то-и-дело поводил ушами, подымал хобот, остро прислушивался к каждому новому звуку. И безостановочно несся вперед настоящим слоновьим шагом, мягким, упругим, слегка колыхающимся.
Наконец перед ним встала темная стена с узкими прорезями угольного мрака. Джунгли открывали ему бесчисленные двери. Потрясенный, остановился слон-бродяга у этой таинственной стены. Хобот приподнят, чуть вздрагивает, глаза лихорадочно блестят, слух напряжен, как никогда в жизни. Шершавая складчатая кожа нервно ежится, хвост дрожит.
Жгучая потребность поскорее наполнить пищей огромный пустой желудок вывела Уппу из оцепенения. Он принялся яростно щипать сочную траву на опушке и обрывать хрусткие побеги молодых деревьев.
Шаг за шагом он продвигался в глубь джунглей, куда скупо проникал лунный свет. Случайно Уппа схватил хоботом вместо побега сухую ветку. Раздался треск. Обезьяны, серыми комочками прикорнувшие в ветвях, всполошились. С тревожным любопытством свесились они на руках и хвосте, пытаясь разглядеть, что творится в чаще.
Обезьянье сборище обменивается короткими визгливыми криками, похожими на истеричный смех. Потом сразу, точно по команде, обезьяны умолкают. Множество зорких каштановых глаз ловят каждое движение Уппы. Снова заверещали колючие визги. Уппа раздосадован назойливым шумом. Ему кажется, что невидимые враги дразнят его.
Он ломится все дальше. Свежие лохматые ветви склоняются к нему со всех сторон, словно приветствуя владыку джунглей, вернувшегося в свою вотчину. Над его головой в окне лунного света чеканится гроздь наливных плодов. Они манят Уппу пряным ароматом. Он поднимает хобот и срывает плоды. Испуганный этим шумом из-под корней дерева выскакивает какой-то крохотный зверек. Его писк и шорох травы, по которой он скользнул мимо Уппы, нагоняют на слона страх. Он роняет гроздь плодов. Его бока вздрагивают. Хобот свернут в кольцо, уши крепко прижаты. Уппа бестолково мечется в тесном пространстве между стволами. Сломав несколько молодых деревьев, он пробивает себе дорогу в самую чащу джунглей, где сумрак густ, как шерсть черной овцы,
Обезьяны, очнувшись от страха, подымают неистовый визг и вой. Некоторые из них бомбардируют бегущее чудовище плодами и сухими сучьями. Уппа мчится во весь опор. Треск деревьев, гулкий топот его ног, гомон обезьян пробуждают вокруг всех лесных обитателей. Встречные шакалы врассыпную спасаются бегством. Дикая кошка в разгар ночной охоты прервала свои маневры и недвижно распласталась на ветке. Пантера, поджидающая у водопоя антилопу, злобно рычит, но уступает дорогу Уппе. Крики разбуженных попугаев зычно врываются в общую кутерьму.
Тысячи звуков, опьяняющие запахи разнообразных плодов и растений, дыханье зверей, притаившихся в темноте, — все это приводит слона в панический ужас. Уппа не в силах понять причину этой всеобщей тревоги, дружной ненависти к нему. Он пришел сюда, чтобы вступить в братский союз с лесными обитателями, они же встречают его как враги.
Бедняга не может догадаться, что вся беда лишь в нем одном. Странная весть мигом разнеслась по окрестностям:
— Сын движущихся гор пахнет человеком!..
В приступе отчаянья Уппа пробует затрубить, но из его пересохшего горла вместе с отравленным городскими миазмами дыханием вырываются лишь жалкие хрипы. Он ошалело мечется из стороны в сторону в надежде выбраться из враждебного стана.
Никакого просвета в душной крыше ветвей, ни намека на выход. С обеих сторон тропинки, проложенной его бегом, крутые черные стены ветвей. Уппа теперь похож на заблудившегося ребенка, которому мерещатся в темноте сказочные ужасы.
Внезапно в просвете между ветвями он замечает вдалеке, на краю неба, одну из тех звезд, которые люди зажигают по вечерам. Холод ужаса сменяется живой теплотой надежды.
Туда, к этой человеческой звезде! Уппа устремляется в сторону призывного огня. Через минуту он на опушке. Вот и дорога, которая привела его в джунгли. Луна смотрит на него теперь с явной насмешкой. Уппа без колебаний направляется к городу, где все так знакомо и безопасно.
Джунгли провожают его тысячеголосым воем, свистом, хохотом, воплями. Без оглядки галопом мчится он по дороге. Там, впереди — безопасность, уютный ночлег в загоне. Он не успел проглотить ни одного плода в джунглях, но от сильного потрясения перестал ощущать голод.
VI. Последняя выпивка.
На другое утро сторож парка, сдавая ночное дежурство, доложил:
— Уппа вернулся.
Это событие ни в ком не возбудило особого интереса. По существу обывателям не было никакого дела до судьбы Уппы.
Снова начались скитания от загона к центру города. Неудач и разочарований встречалось все больше, но Уппа терпеливо их переносил. Волшебная сладкая вода доставалась ему значительно реже. Алкоголь был обложен пошлиной. Никто не спешил опорожнить бутылки с джином ради фокусов слона-попрошайки. К тому же все эти штуки приелись и перестали смешить публику.
Но нет такого неудачника, которому не выпадало бы на долю счастливых моментов. Выдался и Уппе день удачи.
Уппа ломился все дальше…
В город, где ползли его голодные дни, заехал по дороге во Францию сержант колониальной пехоты. Он провел два года в глубине Африки и совершил немало охотничьих подвигов. Об этом свидетельствовали его трофеи — внушительный груз слоновьих клыков. В ожидании парохода сержант истреблял спиртные напитки, рассказывая завсегдатаям клуба о своих охотничьих приключениях. То-и-дело он требовал ликеру, шампанского, коньяку и джина для себя и для собутыльников, за которых платил. Батареи бутылок громоздились на столиках, черный слуга сбился с ног, исполняя приказания охотника.
Сержант был крепкий, мускулистый мужчина со скуластым усатым лицом древнего галла. Его кожа была выдублена солнцем, ветром и ливнями Африки, а жесткие прямые волосы казались сделанными из жести.
Но и этого крепыша сломил хмель. Губы стали ватными, а язык распух и еле шевелился. Хохот и героические эпопеи смолкли. Отяжелев от жары, сытной еды и обильных возлияний, он слегка задремал в качалке под навесом веранды. Дремали и его собутыльники, уронив голову на мрамор столиков. Над верандой распласталась знойная тишина. Слуги скользили нацыпочках, чтобы не потревожить отдыха белых. Слышалось лишь равномерное посапывание, зуденье зеленых мух, липнущих к сладким бокалам, да отдаленные прибои базарного гула…
Внезапно ухо охотника поймало хорошо знакомый ему грузный слоновий топот. Сержант приоткрыл глаза, и взгляд его уперся в тощего молодого слона, остановившегося у веранды. По привычке он стал шарить кругом, отыскивая ружье. Не найдя оружия и сообразив, что он не в джунглях, а в клубе, сержант закричал во всю мочь:
— Не позволю над собой издеваться!.. Из цирка что ли выпустили эту падаль, чтобы подразнить меня! Или это просто двое шутов напялили на себя слоновью шкуру? Счастье их, что под руками у меня нет ружья, а то поплатились бы, черти, за мерзкую шутку!..
Чернокожий бой поспешил объяснить сержанту, кто такой Уппа и каковы его привычки. Неожиданно пьяница пришел в хорошее настроение. Вероятно его тронуло, что у животного одни с ним вкусы.
— Ах ты дирижабль этакий! — воскликнул он, вскакивая на ноги. — Чорт возьми! Я еще никогда не видал пьяных слонов… Ну, иди, иди поближе, старина! Выпьем с тобой за твои джунгли.
Несмотря на то, что у охотника был грубый сиплый голос, Уппа приблизился к нему и робко с просительным хрюканьем поднял хобот. Глаза его блестели мольбой и надеждой.
Развеселившийся сержант потребовал ведро и наполнил его шампанским, ликерами, джином, подсластив эту смесь несколькими бутылками лимонада.
Уппа осушил ведро одним духом.
— Клянусь всеми вырванными у твоих братьев клыками, — завопил в восторге сержант, — никогда не буду больше вас стрелять! Если бы я только знал, какие выпивахи бывают среди слонов!.. Вот продам клыки, куплю сладкой водки, напою все джунгли — и слонов, и чернокожих. Пусть все знают Гаспара Грюо!..
В благодарность за угощение Уппа проделал все свои фокусы и медленно побрел прочь от клуба. Вслед ему гремел хриплый хохот африканского героя.
VII. Туша на рельсах.
Ночь, густая и ароматная, как старое вино, затопила город и предместья. От реки тянул свежий ветер, пальмы сухо, металлически шелестели; изредка всхлипывала пароходная сирена, покрывая гулы города.
Долго бродил Уппа, пошатываясь и спотыкаясь, по опустевшим рынкам и улицам. С пьяных глаз он никак не мог найти дорогу в загон. Миновав пристань, он забрел на товарную станцию, опрокинул несколько ящиков, разрушил какие-то перегородки и вышел на железнодорожную линию. Поездов до утра не предвиделось, и сторожа мирно храпели в своих будках. Линия была пуста. Редкие фонари скупо мерцали. Тускло отсвечивали стальные ленты рельс. Кое-где чернели одинокие силуэты товарных вагонов.
Уппа вяло брел вдоль полотна. Внезапно резкий порыв ветра ударил по насыпи. Низкие тяжелые тучи разразились тропическим ливнем.
Косые струи яростно хлестали слона. Рельсы, насыпь, фонари, вагоны — все пропало. Ткнувшись в телеграфный столб, Уппа рухнул на полотно. Сознание его потухало. Вытянув хобот, он лежал на боку под лавинами воды. Темная туша бугром поднималась над рельсами. Вода ручьями сбегала с головы и собиралась лужицей в глубокой впадине на боку. Уппа был похож на исполинскую черепаху, распластавшуюся на прибрежном песке.
Он спал глубоким сладким сном. Ему снилось, что он наелся доотвала. Брюхо его так набито, что он не в силах подняться с земли. Но к чему подниматься? Опять шататься по городу, выпрашивая у белых сладкую воду? Нет, ему больше не нужны люди. Он поглотил такое количество травы, плодов, сочных побегов, сладких корней, что теперь уже никогда не будет голоден. Теперь он нежится в теплом болоте. Рядом с ним его мать. Она хочет вымыть своего слоненка и щедро поливает его из хобота болотной водой. И не только мать с ним. Вот одна за другой от зеленой завесы джунглей отрываются исполинские фигуры — это слоны его племени. Они радостно приветствуют его. Стадо все растет, окружая Уппу живой стеной. Бессчетное множество хоботов ритмически опускаются и подымаются, поливая разгоряченные бока Уппы каскадами воды.
Тысячи ног, массивных как стволы двадцатилетних деревьев, топчутся в болоте. Слоны исполняют древний священный танец вокруг своего повелителя. Грозные трубные рокоты разносятся над джунглями.
Уппе хочется принять участие в пляске сородичей. Он пытается подняться на ноги, вытянуть хобот, зычно затрубить, как трубят все кругом, слиться с общим торжественным ритмом. Но ноги подламываются под ним, он слишком наелся, слишком отяжелел. Он стал таким грузным, что земля больше его не держит, и он погружается в нее все глубже и глубже. Жидкая золотистая грязь уже прикрывает ему бедра. Еще немного — и он захлебнется…
Но нет: стадо стоит на страже своего вождя. Слоны-братья не дадут ему погибнуть. Они волнуются, радостный клич сменяется криками страха. Они тянут Уппу за ноги, за хвост, за хобот, за уши.
Внезапно старый самец-исполин, споткнувшись, падает на него. Уппа задыхается под его тяжестью. Глаза застилает туман, и сердце сжимается предсмертной тоской. Он пытается спихнуть с себя давящую тушу, но она не поддается. И вдруг слон вонзает бивни в грудь Уппе, где-то совсем близко от сердца. Уппа хочет закричать, широко разевает пасть и… слышит запах винного перегара.
— На помощь! Спасите! — вопит Уппа.
Но что это? Стадо пришло в неистовство. Потрясая хоботом, слоны разбегаются во все стороны. Уппа с ужасом постигает смысл их гневного вопля:
— От него пахнет человеком! Он забыл заветы джунглей! Он стал рабом белых врагов! Его дыханье отравлено смертью!..
В то же мгновение трясина смыкается над головой Уппы. И это уже нестрашно. Уппа доверчиво погружается в ее мягкие глуби, словно в постель из трав, словно в тень листвы родных джунглей.
На мгновенье он ощущает свое тело. Оно странно неподвижно и стало воздушно легким, как те голубые дымки, которые он видел на заре над лесной рекой.
Еще миг — и он не ощущает уже ничего.
Все кончено…
* * *
На следующий день, часов в восемь утра пассажирский поезд, подходивший к городу, был задержан стрелочником. Поднялась тревога. Солдаты поездной охраны, схватив ружья, выскочили на полотно и застыли в изумлении перед громадным трупом слона, перегородившим путь.
— Ну и история! Дернуло же его притащиться из джунглей на полотно и здесь издохнуть! — дивились солдаты.
— Недурно бы попользоваться клыками, — заметил кто-то.
Вооружившись веревками, солдаты начали стаскивать тушу с путей в канаву.
На фоне жгуче синего неба над трупом лесного великана роилась стая птиц. Коршуны и марабу кричали радостно и жадно:
— Сколько тут мяса!.. Тут для всех нас хватит еды!..
Наконец туша была убрана. Поезд сопя и фыркая, двинулся дальше, и птицы приступили к погребальному пиршеству…
Полярные трагедии: Тайна двух норвежцев. Очерки Ал. Смирнова.
I. Навстречу неведомому.
В эту ночь, с 11 на 12 сентября 1919 года, на «Мод» никто не смыкал глаз. Трещины во льду с каждым часом увеличивались, и капитан был убежден, что утром удастся покинуть бухту. Конец восьмимесячному ледяному плену!
С тех пор как судно покинуло берега Норвегии прошло уже больше года, а до цели еще так далеко, что нельзя было даже приблизительно сказать, когда она будет достигнута. Предстояло сделать еще несколько сот морских миль к востоку, и только тогда судно попадет в течение, которое вместе со льдами понесет его к Северному полюсу.
И вот, когда стало известно, что капитан посылает двух матросов, Тессема и Кнудсена, с донесением в Норвегию, между бухтой Мод[17], затерявшейся в скалистых извилинах угрюмого Таймыра, и фиордами Скандинавии, где не умолкает шум прибоя, протянулась незримая нить. В то время как одни вооружились карандашами и принялись за писание писем, другие занялись собаками и санями, нагружая их съестными припасами. Путь, который предстояло совершить Тессему и Кнудсену, был не близок, а главное, в первой своей части совершенно не исследован. Известно было только то, что до острова Диксона, от которого судно отделяла тысяча километров, они не встретят ни одной живой души, а потому им надо было рассчитывать только на самих себя.
Время шло. Отгорели сполохи северного сияния, и ночной мрак стал уступать место короткому дню. Темный полог неба бледнел, одна за другой гасли звезды, а там, где должно было появиться солнце, кто-то развешивал пурпуровый занавес. Когда над краем ледяного поля показалось солнце, сборы были закончены, и к этому времени трещины вокруг судна превратились в настоящие каналы. Можно было отправляться в путь: судну — на восток, людям с санями — на запад. Те и другие — навстречу неизвестному. Непродолжительный прощальный завтрак в каюте — и все спустились на лед, где нетерпеливо повизгивали запряженные в сани собаки.
— Ну, кажется, все в порядке, будем сниматься, — сказал Тессем, в последний раз осматривая запряжку и закидывая за плечи ружье. — Счастливого вам плавания.
— Поскорей добраться до полюса, — добавил Кнудсен.
— А вам поскорей увидеть Норвегию.
— Счастливый путь!
— Привет родине!
— До встречи в Осло!
Вожак упряжки натянул постромки, и сани тронулись. Двое людей стали удаляться по направлению к берегу. С палубы еще долго кричали пожелания, махали шапками, но вот путники превратились в точки, а затем и совсем исчезли. Матрос Якобсен оторвал взгляд от ледяного поля и задумчиво сказал:
— Вот и ушли, на двоих стало меньше… По правде сказать, я им немного завидую.
— К весне будут дома, — заметил его сосед.
— Это как сказать, — процедил сквозь зубы старый Лapc. — Путь не близкий, а чорт знает, что может случиться в этих местах.
— Заткнись, брюзга! — набросился на него Якобсен. — Ты вечно каркаешь, как старая ворона.
Ларс усмехнулся и не спеша набил свою трубку.
— Я вовсе не каркаю, — возразил он, — а хочу сказать только то, что когда тебе придется итти по таким местам как эти, не торопись заказывать к своему приходу кофе — может остыть…
Помолчал и добавил:
— Ты в полярном плавании впервые, а я в третий раз. Знаю, как путешествовать в этих проклятых снегах…
II. Боцман Бегичев.
Зима в том году была необычайно суровая даже для мест, помеченных семидесятой параллелью. Обитатели поселка Дудинки, затерявшегося в устьях Енисея, говорили, что таких бурь и морозов уже не было больше двадцати лет. Поселок был невелик — два десятка бревенчатых изб и несколько юрт, населенных частью русскими, частью якутами. Единственным занятием дудинцев являлась охота, а потому все они были отличными следопытами. Но даже среди этих бывалых людей был человек, которому принадлежало исключительное место. Это был боцман Никифор Алексеевич Бегичев.
— Такого охотника у нас еще не было, — говорили про него дудинцы. — Да что у нас! Таких людей, пожалуй, не много найдется и в других местах.
Слово «боцман» прилипло к Бегичеву не даром — эту должность он занимал в молодости на шкуне «Заря», совершив на ней полярное плавание под начальством барона Толя. Впоследствии, когда Толь пропал со своим судном во льдах, Бегичев ходил на его поиски. А после этого Север навсегда его покорил: вернувшись из экспедиции, он выбрал местом постоянного жительства поселок Дудинки. Отсюда он мог время от времени совершать походы за белыми медведями в ледяную пустыню, да и вокруг было немало таких мест, которые обозначаются на географических картах белыми пятнами. Короче говоря, Бегичев был не только охотник, но и самобытный путешественник-исследователь, каких немало на далеких окраинах нашего Союза.
Поэтому назвать поселок Дудинки постоянным местом жительства Бегичева можно только условно. Он задерживался там ровно столько времени, сколько надо было для реализации добычи и приготовления к новому походу. Погода и времена года его не останавливали. Зимой его можно было видеть с упряжкой собак на ледяных равнинах или кочующим на оленях по тундре, а летом — на борте баркаса в плавании по Енисейской губе и даже в самом море. Тундра, безграничные просторы льдов и воды — вот что было подлинным домом этого человека.
— Самым ужасным наказанием для меня было бы просидеть несколько месяцев на одном месте, — говорил Бегичев дудинцам, когда они удивлялись его непоседливости. — Я чувствую себя хорошо только тогда, когда надо мной нет потолка.
Свой край Бегичев знал так же хорошо, как свою могучую пятерню, а пятерня его действительно была богатырская. Как-то на охоте медведь подмял под себя одного из охотников. Стрелять в зверя было рискованно, так как можно было задеть человека. Недолго думая, Бегичев вскочил верхом на медведя, оттянул за уши его морду, потом взял одной рукой, одетой в рукавицу, за нижнюю челюсть, другой — за верхнюю и разорвал медвежью пасть. Товарищ был спасен, а медвежья шкура присоединена к охотничьим трофеям.
Впрочем, с этим медведем — вернее, с его шкурой — произошла еще одна история, которая укрепила за Бегичевым славу не только отважного охотника, но и человека, который не гнул спины перед сильными старого мира. Возвращаясь с промысла, охотники сели в низовьях Енисея на пароход, на котором случайно оказался енисейский губернатор. Прогуливаясь по палубе, губернатор обратил внимание на сверток звериных шкур, лежавший на палубе, и пожелал приобрести одну из них для своего кабинета. Узнав кому принадлежат шкуры, он велел позвать Бегичева.
— Сколько ты хочешь за медвежью шкуру? — спросил губернатор охотника.
— Я продаю ее за сто пятьдесят рублей, — отвечал Бегичев.
— А сколько ты возьмешь с меня?
— Я уже сказал: сто пятьдесят.
Губернатор, очевидно, ожидал, что охотник отдаст шкуру такой важной особе, как он, за полцены, а потому сказал с раздражением:
— Я даю тебе пятьдесят, да и то это высокая цена.
— Вместо того чтобы отдавать шкуру за пятьдесят рублей, я просто могу вам ее подарить.
Голубоглазый гигант говорил спокойно, чуть-чуть улыбаясь, но ирония в его словах была очевидна.
— Я не нуждаюсь в ваших подарках! — вскипел губернатор и повернулся к охотнику спиной.
— Господин губернатор вероятно не знает, как добывается шкура белого медведя, — сказал Бегичев, оборачиваясь к капитану парохода. — За эту шубку или надо брать ту цену, которую она стоит, или просто дарить ее хорошему другу, такому, например, как ты. — Хлопнул капитана по плечу и добавил громко: — Забирай ее, дружище!
Губернатор это слышал и, побагровев от злости, поспешил спрятаться в свою каюту.
III. Загадка полярной пустыни.
Несмотря на суровость зимы, Бегичев не сидел без дела. Время с февраля по апрель он провел в тундре за охотой на песцов, а вернувшись домой, ждал вскрытия рек, чтобы отправиться в новый поход. Томясь вынужденным бездействием, он не подозревал, что оно окончится скорее, чем он думал.
Случилось это так. Однажды под вечер перед избой Бегичева остановились самоедские нарты, из которых вышли два человека. Охотник был очень обрадован и в то же время удивлен, узнав в приехавших Новоселова и Титова — своих хороших знакомых из Комитета Северного морского пути. Что заставило их приехать в Дудинки в такое время? Стояло начало мая. Многоводный Енисей уже собирался сорвать с себя ледяные оковы, а тундра, как губка, наполнялась вешними водами. Пора для путешествий в этих местах самая неподходящая.
Лишь только приезжие уселись за стол, они без лишних разговоров приступили к изложению причины своего приезда.
— Ты слышал, Никифор Алексеевич, про норвежского путешественника Амундсена? — спросил Новоселов.
Бегичев утвердительно кивнул головой.
— А не слышно ли в ваших краях что-нибудь о двух иностранцах, путешествующих по тундре с собачьей упряжкой?
— Нет, — отвечал Бегичев. — Кто такие эти иностранцы?
— Сейчас узнаешь, — улыбнулся Новоселов нетерпению охотника и рассказал следующее.
В 1918 году Роальд Амундсен предпринял путешествие к Северному полюсу. Ему хотелось выполнить то задание, которое в свое время увлекло Нансена, а именно: при помощи полярных течений пересечь Северный полюс и затем Полярное море. В июле судно «Мод», построенное Амундсеном специально для этого плавания, покинуло берега Норвегии. В начале сентября «Мод» прошла Карское море, а 9 сентября достигла мыса Челюскина, но дальше продвижение остановилось — судно было затерто льдами. Перед второй зимовкой, то-есть в 1919 году, Амундсен отправил в Норвегию двух матросов с донесением правительству о положении экспедиции, высадив их где-то на побережье Таймыра. Путешественники имели упряжку собак и были хорошо снабжены съестными припасами, а потому Амундсен не сомневался, что они благополучно доберутся до Сибирской железной дороги. Их маршрут был таков: морским побережьем до острова Диксона, затем Енисеем к Красноярску. Между тем, достигнув следующим летом Нома, американского порта в Беринговом проливе, Амундсен снесся с Норвегией и узнал, что отправленные им матросы на родину не прибыли. Так как времени прошло достаточно, то возникают опасения за участь этих людей. Норвежцы oбpaтились к советскому правительству с просьбой организовать экспедицию для их поисков.
— Теперь ты уже можешь догадаться в чем дело, — закончил свой рассказ Новоселов. — Организацию поисков правительство поручило Комитету Северного морского пути, а у нас не долго думали, кому поручить это дело. Мы остановились на тебе, вот и бумага об этом.
1. Амундсен на судне «Мод». 2. Карта части северного побережья Сибири; вправо — бухта Мод, в которой перезимовал Амундсен. 3. Тессем и Кнудсен отправляются на собаках для установления связи с внешним миром. 4. «Это как сказать», процедил сквозь зубы старый Ларс.
Бегичев прочитал поданную ему бумагу и вопросительно посмотрел на сидевшего рядом своего неизменного спутника в путешествиях, старого дудинца Егора — того самого охотника, которого он спас из объятий медведя.
— Как, Егор, возьмемся за поиски норвежцев?
— Вознаграждение независимо от того, будут найдены норвежцы или нет… — начал было один из приезжих, но Бегичев его остановил:
— Подожди. Что касается меня, то я берусь за это дело не потому, что получу хорошие деньги, а главным образом потому, что оно мне по душе. Если бы я знал, что где-то в тундре заблудились люди и нуждаются в помощи, я отправился бы к ним, не дожидаясь пакета, который вы мне привезли. А что ты, Егор, скажешь?
Егор затянулся из трубки, выпустил облако дыма и неторопливо ответил:
— Что ж, Никифор, ты знаешь меня не первый день. Куда ты, туда и я.
— Значит, вопрос решен, — улыбнулся Бегичев своему другу и, обратившись к приезжим, добавил: — Мы с Егором отправляемся на поиски этих норвежцев…
IV. На север.
Такие люди, как Бегичев и Егор, привыкли в своих странствованиях по тундре обходиться немногим, а потому сборы были недолгие. Через несколько дней следопыты погрузили на нарты мешки с мукой и сушеной рыбой и закинули за плечи винтовки. Поход начался. Горсточка людей бросила вызов угрюмому Северу с его тайнами.
Между тем полярная весна вступала в свои права. Тундра сбрасывала снеговой покров. Снег лежал только в низинах и на северных склонах холмов, а там, где его не было, уже зеленела тощая травка и пестрели желтые головки купальницы. Косяками тянулись с юга перелетные птицы. Солнце, точно желая вознаградить за бесконечную полярную ночь, все дольше и дольше задерживалось на небе.
Путешествовать по тундре весной — дело не легкое, и Бегичев отдавал себе отчет в трудности взятой на себя задачи. Ехали на двадцати оленях, запряженных в четверо нарт, но уже через несколько дней одни нарты выбыли из строя — олени натерли холки и не могли итти в упряжке. Хотя самоедам была уплачена полная стоимость оленей, но они неодобрительно покачивали головой: пускаться в такую дальнюю дорогу летом — это значит дразнить шайтана, который только и ждет случая, чтобы утащить душу человека.
Ближайшей целью путешествия был остров Диксон. Только оттуда должны были начаться поиски пропавших норвежцев. Раз они не пришли на Диксон, значит с ними что-то случилось на морском побережье. На Диксоне надо было побывать еще и потому, что тут к охотникам должны были присоединиться двое норвежцев, которых норвежское правительство давало в помощь русской экспедиции. Эти норвежцы беспокоили Бегичева: их должна была высадить на остров шкуна «Таймень», а как быть, если шкуна не прибудет к тому времени, когда они достигнут Диксона? Терять время на ожиданье было невозможно: полярное лето коротко, а только летом можно найти какие-нибудь следы пропавших норвежцев.
В начале июля первая часть пути была закончена — перед путешественниками открылся безграничный морской простор. Он был почти чист ото льдов, и лишь у берегов они скоплялись огромными нагромождениями. Таким же льдом был заполнен и пролив между материком и островом, и это дало возможность тотчас же отправиться на островную радиостанцию, не дожидаясь лодки. К счастью, опасения Бегичева не оправдались: двое людей со шкуны «Таймень» находились на острове. Это были крепкие ребята, не раз совершавшие полярные плавания, и Бегичев остался ими доволен.
Как ни торопились с отправлением, но прошло четыре дня, прежде чем сборы были закончены. Остров Диксон — это оазис среди ледяной пустыни, и там всегда имеются запасы для полярных экспедиций. Отсюда надо было выходить готовым ко всем случайностям, какие могут встретиться на дальнейшем пути. А продолжительность этого пути определялась в три месяца, — три месяца по местам, где нет ни одного человеческого жилья.
Наконец все было готово: запасы провизии перевезены на материк и погружены на нарты. Бегичев и двое норвежцев распрощались с радистами и направились по льду к берегу, где их дожидался Егор с самоедами. Тут север первый раз погрозился путешественникам.
Дул крепкий ветер, и лед в проливе находился в движении. Под напором волн льдины колыхались, налезали одна на другую, образуя местами предательские полыньи. До берега было уже недалеко, когда один из норвежцев вдруг взмахнул руками и в следующее мгновение исчез из вида. Льдины разъехались под его ногами, и он провалился в образовавшуюся полынью. Но норвежец не был новичком в таких делах: погружаясь в воду, он успел повернуть горизонтально палку, которую держал в руках, и это его спасло.
— Вы не суеверны? — спросил Бегичев норвежца, когда тот с его помощью выбрался из воды.
— А что? — улыбнулся норвежец, выжимая куртку.
— Вот если бы тут были наши самоеды, они истолковали бы это приключение как очень плохое предзнаменование. Такой приметы, впрочем, держатся и русские охотники.
— Если обращать внимание на такие пустяки, тогда, пожалуй, тут нельзя сделать и шагу, — сказал другой норвежец. — Я думаю, нам предстоит немало приключений в этом роде.
После этого случая Бегичев окончательно убедился, что норвежцы не будут лишними в трудном путешествии.
V. Навстречу тайне.
Солнце давно уже не покидало бледного северного неба. Как ни медленно совершалось передвижение по заболоченной тундре, но позади осталась не одна сотня километров. Между тем не было найдено ничего, что пролило бы хоть каплю света на судьбу пропавших матросов. Ни следов костра, ни куска тряпки. Крепко схоронила тайну полярная пустыня.
Безмолвие и пустота. С одной стороны — бескрайний простор моря, с другой — такой же простор тундры. То и другое было безжизненно. Однообразие ландшафта нарушалось лишь ослепительно белыми айсбергами, которые показывались иногда вдалеке над морской гладью, а безмолвие тундры изредка оглашалось криками гусей. Побережье моря к востоку от устья Пясины не богато ни зверем ни птицей. Трудно найти более унылое место.
— Проклятая страна! — говорили норвежцы. — Шпицберген лежит севернее, но там летом больше жизни.
Через несколько переходов от реки Пясины характер тундры стал меняться — из болотистой она становилась каменистой. Это однако не уменьшало трудностей похода, так как и на высоких местах почва была заболочена. Берег становился все более скалистым, в одном месте на пути встали такие скалы, через которые, казалось, невозможно было пройти с оленями. Но по внимательном осмотре обнаружили неширокий проход между скалами. Было невероятно, чтобы люди, если только они тут шли когда-нибудь, могли миновать этот проход. Поэтому местность была осмотрена самым тщательным образом.
— В конце концов это странно, — сказал один из норвежцев, когда все собрались к костру после осмотра прохода. — Идя побережьем, это место нельзя миновать, не остановившись тут для отдыха или ночлега. Между тем на это нет никакого намека.
— Может быть следы просто уничтожились? — высказал предположение его товарищ.
— Это невозможно, — заметил Бегичев, — в местах, где богат растительный покров, следы пребывания человека действительно уничтожаются очень быстро. Но тут растительность отсутствует, и следы должны сохраняться очень долго. Обыкновенно кострище в подобной местности сохраняется в течение нескольких лет.
— Значит остается предположить, что они не достигли этого места?
— Пока — да. Хотя не надо упускать из вида и того, что Тессем и Кнудсен шли тут зимой, а потому могли обойти скалы по льду.
Тот факт, что матросы могли часто спускаться на лед, сильно смущал норвежцев, — так можно было дойти до места их высадки и не обнаружить никаких следов. Бегичев однако был уверен, что рано или поздно они нападут на какой-нибудь след. В нем говорил тот инстинкт, который часто предупреждает охотника о близком присутствии дичи. Во время его многолетних скитаний ему не раз приходилось быть в затруднительных положениях, и еще не было случая, чтобы внутренний голос обманул его: слушаясь этого голоса, он всегда находил правильный выход.
— Если, идя прямо, вы вдруг бессознательно делаете несколько шагов в сторону, — повинуйтесь этому движению: вы скоро убедитесь, что именно так и надо было поступить, — нередко говорил он.
И вот теперь, руководствуясь чутьем природного следопыта, Бегичев неутомимо шел вперед.
VI. Жестянка из-под консервов.
Лето перевалило на вторую половину. По расчетам Бегичева они должны были уже достигнуть бухты Вильде, но она не была обозначена на карте, которая у него имелась. Поэтому, миновав за последние дни несколько небольших бухт, он не мог с уверенностью сказать, прошли они эту бухту или нет. Между тем найти ее было необходимо. В бухте Вильде Амундсеном был оставлен небольшой запас провизии, что было известно норвежцам, отправившимся к Диксону. По состоянию склада можно было установить, дошли ли они до этого пункта или с ними случилось что-нибудь еще на пути к бухте Вильде. В первом случае следопыты могли повернуть назад, начав поиски в обратном направлении.
Ревниво оберегая свою тайну, северная пустыня грозила тем, кто хотел ее разоблачить. Олени падали один за другим, а это животное для тундры то же, что верблюд для Сахары. Из двадцати штук в oтряде Бегичева осталось только пять, да и те скоро должны были разделить участь остальных. Самоеды сильно опасались, что шайтан утащит их души, как он сделал это с пропавшими норвежцами, а потому не упускали случая умилостивить злого «духа» жертвоприношениями. Делали они это весьма просто. Когда становилось очевидно, что олень не может двигаться дальше, кто-нибудь из самоедов брал нож и, отведя животное в сторонку, перерезал ему горло. Потом доставали из сумы деревянного болванчика и мазали его кровью оленя. Затем пили кровь сами. По словам самоедов выходило, что если они до сих пор еще живы, то лишь потому, что часто приносили жертвы «духам».
Олени нужны были путешественникам не для того, чтобы на них везти провизию, а главным образом как непортящийся запас мяса. Провизия подходила к концу. Несколько банок консервов, немного сахара и кофе, а также полмешка муки, из которой делали на кипятке заваруху, — это было все. Питались исключительно мясом павших оленей, приберегая оставшиеся продукты на крайний случай. Норвежцы уже не раз намекали Бегичеву, что пора подумать о собственном положении, но дудинский зверобой только плотнее сжимал губы. Он попрежнему был убежден, что их поиски не будут безрезультатны.
Однажды во время стоянки, когда все улеглись спать, Бегичеву пришло на ум побродить с ружьем по берегу, так как спать ему не хотелось. Захватив свой штуцер, он направился к небольшому мыску, который они еще не успели осмотреть. Вокруг царила глубокая тишина, нарушаемая лишь тихим рокотом прибоя.
Дойдя до оконечности мыса, Бегичев увидел невдалеке груду камней, а подойдя ближе, уже не сомневался, что тут когда-то ступали люди. Перед ним был «гурий» — пирамидальная куча камней, какие устраивают в полярных странах экспедиции и промышленники, когда хотят отметить какое-либо место. Сняв несколько камней, он нашел под ними жестянку из-под консервов, а в ней — завернутый в тряпку клочок бумаги. Вот тут-то присутствие норвежцев в экспедиции и оказалось полезным — бумага была исписана не по-русски.
1. Спасение Бегичевым охотника Егора. 2. Встреча Бегичева представителями Комитета Северного морского пути. 3. В тундре на оленях в поисках пропавших норвежцев. 4. Высадка норвежцев, посланных в помощь Бегичеву со шхуны «Таймень». 5. Находка костра с обгоревшими человеческими костями. 6. Бегичев и охотник Егор на льдине. 7. Находка скелета Тессема в пещере.
Через полчаса бумага из консервной жестянки была переведена норвежцами. Вот каково было ее содержание:
«„Мод“ — экспедиция. Два матроса экспедиции, путешествующие с санями и собаками, прибыли сюда десятого ноября 1919 года. Мы нашли склад провизии, сложенный на этом месте, в очень разоренном состоянии. Особенно хлеб был сырой и попорчен соленой водой. Очевидно, высокая вода моря омывала этот пункт. Мы подвинули склад дальше приблизительно на двадцать пять ярдов[18] и пополнили наши запасы из провизии, находящейся здесь. Мы находимся в хороших условиях и собираемся уходить на остров Диксон. Ноябрь, 15, 1919.
Петер Тессем, Пауль Кнудсен».В эту ночь у костра долго не спали, обсуждая найденный документ. Итак, первый след был обнаружен, но тайна исчезновения этих людей попрежнему оставалась неразгаданной. Что же помешало Тессему и Кнудсену дойти до указанного в бумаге пункта, раз они находились в хороших условиях? Какая трагедия произошла на пути от этого места до острова Диксона?..
VII. Костер из человеческих костей.
Чтобы не терять времени на поиски в одном направлении, решили разделиться: норвежцы с самоедами двинулись по прямому направлению на о. Диксон, а Бегичев с Егором пошли непосредственно по берегу, исследуя каждую извилину. Посылая норвежцев по более легкому пути, Бегичев преследовал и другую цель — он не считал себя в праве подвергать опасности жизнь иностранцев: положение с продуктами было катастрофическое. Питались исключительно олениной. За себя и Егора Бегичев не боялся — они смогут продержаться охотой.
А время бежало. Уже настала осень, не за горами была лютая зима с бесконечной полярной ночью. Нельзя было терять ни одного часа. Находка в бухте Вильде не проливала ни капли света на судьбу людей со шкуны «Мод». И Бегичев решил найти новые следы, несмотря ни на что.
В этот день следопыты шли до полного изнеможения. Внизу у их ног ревел расходившийся океан, а вверху нависало угрюмое облачное небо. Голые скалы, изъеденные ветрами и волнами, падали вниз крутыми обрывами. Унылая, безрадостная картина. Вокруг не было ни одного живого существа, но это место когда-то посещалось человеком: на одном из прибрежных уступов охотники увидели остатки большого костра. Зола и угли были унесены бурями, но груда головешек лежала на месте. Тут же валялись консервные жестянки с иностранными этикетками, несколько стреляных гильз и рукоятка сломанного карманного ножа. Сомнений не было: здесь был привал норвежцев. Но для одного из них эта остановка была последней, — в костре было много полусгоревших костей. Круглый белый череп, жутко смотревший на путешественников пустыми глазными впадинами, красноречиво говорил кому принадлежат эти кости. Тут был сожжен человек…
Это было очень странно. Конечно, мало ли что могло случиться: голод, болезнь, неудачная схватка с белым медведем, наконец просто одна из тех многочисленных случайностей, которые делают жизнь человека в этих местах хрупкой игрушкой. Так или иначе один из путешественников погиб, но что значит этот полусгоревший скелет? Для чего человек был сожжен на костре? Тот, кто остался в живых, мог схоронить своего несчастного товарища в камнях, как это обычно делается в таких случаях. Это было тем более необъяснимо, что сжигание трупа в этих местах — дело не легкое. Ни леса, ни кустарника поблизости не было, и топливом мог служить лишь плавник, выбрасываемый морем на берег, но собирать его трудно — он не всегда попадается в достаточном количестве. Мрак, окутывавший судьбу норвежцев, не только не рассеивался с этой страшной находкой, но сгущался еще более.
Кости собрали, и пирамидальная груда камней отметила место гибели еще одной жертвы полярной пустыни. Дальше всякие следы прекратились, хотя было несомненно, что тот, кто остался в живых, мог итти в том же направлении, в каком шли охотники. Но как ни велико было их стремление раскрыть до конца тайну, настал день, когда мысль о норвежцах отошла на второй план, и следопытам надо было подумать о себе.
Мясо песца не очень лакомое блюдо, но вскоре и песцы перестали попадаться. Поэтому, когда заметили на льдах несколько темных точек, раздумывали не долго. Добыть мяса надо было во что бы то ни стало, так как консервы давно уже съедены, а эти темные точки были не что иное, как тюлени. Достаточно добыть одного из этих животных, чтобы добраться до о. Диксона — лишь несколько дней пути отделяли их от этого пункта.
Спустившись на лед, занялись охотой. Пока они набивали сумки жирным мясом, море рассердилось не на шутку. Вокруг нарастал глухой шум — это пришли в движение льды. До берега оставалось каких-нибудь пятьсот метров, когда охотники вдруг остановились. Там, где они шли два часа назад, теперь была широкая полоса воды. Лед, на котором они находились, оторвался от берегового припая и, гонимый штормом, медленно двигался в открытое море…
VIII. Во власти моря.
— Ну, Никифор, видно пропадать будем, — сказал Егор. — Много раз попадали мы с тобой в беду, а такой еще не было…
Бегичев ничего не ответил. Плотно сжав губы, он смотрел на свинцовое море, точно спрашивая у него, действительно ли пришел их смертный час. Прошло уже пять дней, как они находились на льдине. Берег давно исчез из вида. Что могло спасти их? В эти места не заходят промышленные суда.
Пищи пока было достаточно, но нестерпимый холод сковывал их члены. Развести огонь было нечем. Чтобы как-нибудь согреться, они боролись друг с другом, скакали по льдинам, но скоро не стало помогать и это. Особенно плохо приходилось Егору — охотясь за тюленем, он промочил ноги, и теперь его трясла лихорадка. Бегичев отдал ему свой шарф, чтобы он мог завернуть ноги в сухое.
Шестую ночь провели в каком-то забытье, в котором действительность мешалась с бредом. Казалось, ночной мрак будет продолжаться бесконечно, но когда дождались тусклого рассвета, это не принесло утешения. Вокруг попрежнему не было ничего, кроме взлохмаченной зыби. Двигались они или нет? — Несомненно двигались, так как льды, как бы ни велики были их скопления, никогда не стоят на месте — их уносит или ветром или течением. Но куда они двигались? Прибьет ли их к берегу или еще дальше унесет к северу?
Так прошел еще один день. Томительное ожидание смерти было нарушено появлением на льдинах большого количества тюленей. Егор отнесся к животным равнодушно, но Бегичев убил одного, набив его мясом сумки. В то время как Егор хотел только одного — чтобы смерть поскорей избавила его от мучений, Бегичев еще не терял надежды на спасение. Его неукротимый дух не хотел мириться с таким бессмысленным концом.
Покончив с тюленем, Бегичев принялся тормошить Егора, чтобы вывести его из сонного состояния, которое в таких случаях является первым шагом к смерти. Стащив с него унты, он принялся растирать ему ноги и скоро добился того, что побелевшая кожа приняла более жизненную окраску. После этого он заставил его перекладывать с одного места на другое мелкие льдины. Больше, как можно больше движений! Но к чему все это, когда гибель, казалось была неизбежна? У Бегичева однако было в голове что-то другое, чего он пока не хотел говорить своему товарищу. Он лишь все чаще посматривал на север, и по мере того как крепчал ветер, а появившееся в северной части неба ватное пятно росло и ширилось, затягивая горизонт белой мутью, его лицо все более и более прояснялось. Такие люди, как Бегичев, готовы умереть каждую минуту и в то же время борются за жизнь до последнего момента.
В сумерки ветер достиг силы шторма, разразилась снежная буря. Море взбесилось и словно хищный зверь набросилось на льды. Грохот водяных валов и треск ломающихся льдин превратились в один сплошной гул, с которым не могла бы сравниться ни одна пушечная канонада. Казалось, рушится весь мир, и нужно было иметь нечеловеческое хладнокровие, чтобы при таких условиях питать какую-либо надежду на спасение. Под напором волн льды дробились как хрупкое стекло, стирались в порошок, налезали друг на друга, образуя чудовищные торосы, и в кромешной тьме полярной ночи нельзя было разобрать, с которой стороны угрожает опасность. Потом Бегичев говорил, что ему никогда не приходилось переживать ничего подобного, но все же они дождались наступления дня. А когда дали раздвинулись, они увидели, что спасены: северный шторм пригнал к берегу льдину, на которой они находились.
Буря бушевала три дня, а когда она кончилась, тундра оказалась погребенной под снегом. Наступила зима. Продолжать дальнейшие поиски норвежцев было невозможно, и следопыты вернулись на Диксон. Радиостанция передала в Норвегию краткий отчет об экспедиции, и в заключение было добавлено, что Бегичев не теряет надежды с наступлением весны выяснить судьбу и второго норвежца. После этого Бегичев с Егором вернулись в Дудинки.
IX. Скелет в пещере.
С наступлением весны поиски были возобновлены. Чтобы не терять времени на переход из Дудинок к Диксону, Бегичев достиг побережья на лодках, спустившись по реке Пясине. После прошлогодней находки в бухте Глубокой, Бегичеву было ясно, что ключ к разгадке судьбы второго норвежца, а может быть и всей трагедии, надо было искать на участке между устьем Пясины и Диксоном. Тут и было сосредоточено внимание второй экспедиции.
Расстояние от устья Пясины до Диксона равно приблизительно ста пятидесяти километрам. Береговая линия здесь не имеет больших изгибов, и это в значительной степени облегчало задачу. Идя побережьем и не упуская из вида ни одной складки местности, следопыты скоро убедились, что находятся на верном пути. Сейчас же за бухтой Пясины им стали попадаться следы прошедшего тут когда-то человека: остатки костров, обрывки тряпок, стрелянные ружейные гильзы. Кострища попадались очень часто — в расстоянии двух-трех часов пути одно от другого, — и это говорило о том, что оставлявший их человек находился в тяжелом положении, не будучи в состоянии совершать больших переходов. Но красноречивее всего это было подтверждено той находкой, которая попалась следопытам уже в непосредственной близости от Диксона. Это была небольшая пачка бумаг, завернутых в тряпку. Они были исписаны не по-русски, но среди них нашлась одна и на русском языке. Вот каково было ее содержание:
«Г-ну заведующему радиостанцией.
Это та телеграмма, о которой я упомянул в моем письме к вам и которую прошу отправить по назначению при первой возможности. Если в телеграмме что-нибудь непонятно, то прошу за разъяснением обратиться к г-ну Тессему.
С почтением Роальд Амундсен.»Итак, этот клочок бумаги является сопроводительным письмом к тем документам, которые были поручены норвежцам. Может быть среди этих бумаг находилась и та телеграмма, о которой говорится в этом письме. Нет, этой телеграммы, до сего времени не дошедшей по назначению, в числе найденных бумаг не было. Очевидно она хранилась у норвежца в другом месте. Все же факт нахождения этих бумаг говорил многое: очевидно, человек, в руках которого они находились, уже не надеялся, что ему удастся отправить телеграмму Амундсена. В противном случае он не бросил бы этого сопроводительного письма.
После этого казалось бы нетрудно было найти и того, кто нес эти бумаги. Он, или вернее его останки, должны быть где-то тут, но дальше следы исчезли. Бегичев дошел до Диксона, вернулся назад, обследовал побережье на несколько километров в глубь — ничего. Ни одного кострища, ни одной тряпки. Куда же девался этот человек? Ведь если бы он хотя немного прошел вперед, перед его глазами был бы Диксон. Спасение находилось от него в расстоянии какого-нибудь десятка километров.
Участок местности между последней стоянкой норвежца и Диксоном был исследован с такой тщательностью, что если бы тут был утерян карманный нож, и то пожалуй был бы найден. Тем не менее это не дало никаких результатов. Не пошел ли норвежец после последней остановки в глубь берега? Это было возможно, потому что он мог не знать, что Диксон так близко. Наконец в этот момент могла быть метель, и он, не заметив острова, мог пройти мимо. А раз это так, то поиски надо было вести уже к западу от Диксона.
Об этом именно и думал Бегичев, направляясь на радиостанцию, чтобы выяснить вопрос о продуктах для дальнейшей экспедиции. Дожидаясь у пролива лодки с острова, он обратил внимание на одну прибрежную расщелину, мимо которой ему и другим случалось проходить уже не раз. В этот момент он не думал о норвежце, а спустился в расщелину в силу укоренившейся привычки осматривать все, что попадалось на пути. В глубине расщелина переходила в довольно большую пещеру, в которой можно было стоять не сгибаясь. Войдя в нее, первое, что увидел Бегичев, был след костра, но и это не навело его на мысль о том человеке, которого он так упорно искал. Слишком близко было человеческое жилье, чтобы тут можно было рассчитывать найти его след. Присутствие же костра объяснялось просто — его могли оставить радисты, которые часто, разнообразя свою монотонную жизнь, охотятся в окрестностях на белых медведей. Но, осмотревшись, Бегичев тотчас же понял, сколько он потратил бы даром времени, отправившись в новую экспедицию: в глубине пещеры он увидел того, кто в действительности когда-то жег тут костер…
Теперь это был скелет, прикрытый полуистлевшей одеждой. Рядом лежал кожаный мешок, но ни лыж, ни ружья нигде не было. В мешке обычные принадлежности путешественника: складной нож, расческа, очки для защиты глаз от блеска снега, записная книжка и парусиновый пакет с бумагами. Во внутреннем кармане вязаного жилета — золотые часы. На их крышке с внутренней стороны была выгравирована надпись на иностранном языке, но Бегичеву без труда удалось прочесть слово «Тессем». В парусиновом пакете в числе других бумаг оказалась и та телеграмма, о которой говорилось в препроводительном письме Амундсена. Вот содержание этого документа, два года пролежавшего на груди скелета:
«Экспедиция „Мод.“
Телеграмма Леону Амундсену. Христиания.
Вышел из Диксона 4 сентября 1918. Ветер и состояние льдов благоприятствуют. Встретился со свежеизломанным льдом у архипелага Норденшельда. Пытался обогнуть эту группу островов, но был задержан непроходимым паком. Вошел в архипелаг у о. Макарова, прошел 7 числа в Таймырское море, где, видимо, вновь взломанный лед двигался к северу. Туман и лед отчасти препятствовали нашему продвижению вперед, но течение быстро несло нас к северу. На короткое мгновение открылись острова Хейберг, кроме них ничего не видели. 9-го мы с усилиями продолжали выбиваться из льдов при сильном юго-западном шторме во вновь образовавшуюся полынью. В тот же день под проливным дождем и под завывание бури обогнули мыс Челюскин, самую северную точку Азии. Были остановлены льдом в нескольких милях к востоку. Паковый лед держался вплотную к берегу, несмотря на сильные юго-западные штормы, и нам удалось пробиться на 21 милю к востоку, где 13-го нам пришлось искать возможно более защищенного места из опасения быть зажатыми льдом и не повторить дрейфа „Фрама“ в более южных широтах.
Встали на якорь в бухте, в 200 ярдах от берега, где немедленно и вмерзли. Бухта защищена с юга и востока, но открыта с других сторон. Мы тут же приступили к устройству нашей станции и наблюдательной будки, а также к защите судна. 1 октября все было в действии.
Солнце скрылось 27 октября; зима мягкая, самая низкая температура — минус 46 градусов. Частое и величественное северное сияние. Время проходит быстро. Солнце вновь появилось 15 февраля. Выехали на нартах 1 апреля на полуостров Челюскин, который был тщательно обследован и заснят в отношении географическом и магнитном. Весна началась в июне. Холодное и сырое лето. Лед стал проявлять признаки взламывания после урагана 2 августа. Животный мир беден. Убили несколько оленей, птиц и 31 медведя. Растительность также скудная. Были найдены кости мамонта в трех различных местах.
Научная работа идет великолепно. Беспроволочных сообщений не получали. Очевидно наш приемник слишком слаб. Прекратите всякие операции помощи в направлении мыса Колумбии. Посылаю первую часть моей книги, содержащей 105 000 слов, тысячу снимков, несколько карт и набросков. Тессем и еще один человек выходят в октябре[19] для доставки домой почты и научных материалов. Судно выйдет, как только состояние льда это позволит. Все здоровы.
Август 15, 1919. Роальд Амундсен».
* * *
Итак, задача, взятая на себя Бегичевым, была им разрешена. Норвежцы с судна «Мод» были найдены. Кнудсен погиб в бухте Глубокой, а Тессем — в двух километрах от острова Диксона. Полярная пустыня однако осталась верна себе: она крепко схоронила все, что могло бы пролить свет на обстоятельства, при которых произошла трагическая гибель этих людей. В их смерти было много неясного: лыжи и сани, которые нигде не были найдены, путешественники в крайнем случае могли употребить для костров, но куда девались их ружья? Потом, для чего один из них был сожжен на костре? Куда, наконец, девались те солидные научные материалы, которые им были вручены великим путешественником? Обо всем этом лишь можно строить разные догадки, но какие бы мы предположения ни делали, все они могут оказаться далеки от истины. Так было пять лет спустя и с полярным следопытом боцманом Бегичевым: его трагическая гибель в этих же самых местах вначале рисовалась совсем не так, как она произошла на самом деле…
В заключение эпопеи двух норвежцев надо заметить, что Бегичев не ограничился только ролью следопыта, разыскивавшего потерявшихся людей: производя поиски, он не переставал в то же время быть деятельным исследователем этого мало известного края. Открыв две больших, еще не нанесенных на карту реки, он собрал огромный краеведческий материал. К сожалению преждевременная смерть помешала передать их куда следует — записки Бегичева пропали.
Приключения трех натуралистов: Страшный зверь. Солнечник пятнобокий. Серия рассказов Воронина.
Страшный зверь
— Если подняться на эту гору, — сказал Игнат, указывая пальцем на огромный массив влево от крепости Гоние, — то в конечном итоге на скалах повиснут три трупа. Придется атаковать второй от реки приступ.
Игнат задумался, пробуравил пальцами маленькую ямку среди травы и плюнул туда.
— Смотри, ребята, — добавил он, — зверь страшный…
Антон в недоумении приподнял реденькие брови. Я рассердился.
— Чего ты страху подпускаешь! Велика важность — втроем медведя убить!
Игнат вздохнул.
— Медведь незнакомый, никем не исследованный. Говорят местные жители — страшный зверь…
Антон, Игнат и я сидим на берегу реки Чороха в ожидании каюка. Еще вчера Игнат старательно вспахал поле нашего любопытства. Сегодня утром выросли плоды охотничьей страсти. Первые шесть километров пыльной дороги Игнат изображал предводителя могикан: шел впереди, отшвыривая носком сапога камни, и пел песни. Сейчас он благоразумно втесался в толпу простых воинов (я и Антон). Он перепугался ответственности, увидав впереди дико раскиданные массивы гор. Начиналась пограничная полоса. Редкий человек отходил дальше чем на километр в сторону от дороги за Чорохом. Нам предстояло пройти через вершину крайнего хребта вглубь неведомых гор…
Мы впрыгнули в подошедший каюк. Аджарцы-перевозчики ловко работали шестами. Юркая вода завертелась у бортов.
— Скажите пожалуйста, — обернулся Игнат к аджарцам, — какой зверь вас мучает? Какой зверь народ пугает?
Перевозчики взволнованно закивали головой:
— Есть зверь: маленький как большой теленок, злой как змея, хитрый как человек… Убей пожалуйста!..
— Какой зверь?
— Седой дым — шерсть есть. Острый кинжал — зубы есть. Убей пожалуйста, очень просим!..
Мы постарались расшифровать аджарскую грамматику. Страшный зверь — аджарский медведь. Цвет шерсти — пепельный. Рост — маленький. Ударом лапы убивает корову. Двумя ударами — буйвола. У молодых медведей на груди белое пятно. С нечеловеческой хитростью он завлекает охотников в медвежьи западни и убивает в глухих непроходимых горах…
На том берегу Чороха перевозчики не взяли обычной платы.
— Ты добрый дело!.. Не надо… не обижай!..
Попрощались они с нами как с покойниками — поцеловали в лоб.
Через два часа три охотника — я, Антон и Игнат — нерешительно топтали подножие второго от реки выступа горного хребта. Запах первобытного, никогда не рубленного леса встретил нас, раздув наши ноздри. Неприятное ощущение: полутемный, полусырой воздух, полускользкие камни, полукрутой подъем. Мы взбираемся гуськом, притихшие, озабоченные, внимательно оглядывая местность, готовые нападать и боясь нападения.
— Это похоже на охоту за гориллой, — заметил я.
— Помалкивай, — зашипел Игнат.
Я охотно подчинился. Мы взбираемся выше.
Хребет горы. Надвигается вечер. Солнце опутало красной паутиной весь ландшафт и само покраснело от натуги, стараясь утащить с собой высокие горы за далекий горизонт.
Нам попалась удобная для ночлега площадка: сзади стена подпирает тучи, спереди стена спустилась вниз, в открытое пространство, поросшее кустами рододендрона и самшита. Ниже поляны и сбоку темнел лес. С правой стороны площадка осыпалась крутым обрывом. С левой можно было пройти по узкому карнизу.
Дежуря по очереди, мы благополучно встретили утро. Легкий завтрак удвоил энергию.
— Вперед! — скомандовал Игнат, поскользнувшись на обломке скалы.
Он удачно съехал вниз, в кусты, разодрав брюки.
Начался трудовой охотничий день.
Я заметил, что с восходом солнца природа молодеет. Воздух прозрачный, холодный. Растения — свежие, светлозеленые, контуры мягкие. Днем наступает зрелость: пышнее кажется лес. Воздух нагрелся, тягучий. Легкая пыль покрывает небо седым налетом… Вечером — душно. Обвисли листья. Только солнце, вечное обновление, крадется, пылая старческой краснотой, за горизонт…
Размышляя и поглядывая по сторонам, я и не заметил, как мы спустились к глубокому обрыву, поросшему колючим кустарником ежевики. Я заглянул через край. Внизу, промыв глубокое ущелье, звонко плещется маленькая горная речка. Слева утес скрывает узкий проход в горы. Под обрывом те же кусты ежевики. Дно ущелья покрыто мелкими сырыми камнями.
— Отдохнем, — предложил Антон.
— Тут отличное место для звериного водопоя — отозвался Игнат. — Ветер встречный. Все благополучно. Я думаю залечь часика на два.
Я в полном согласии опустился на землю.
Прошло полчаса. Река монотонно плещется. Пролетел ястреб. Пробежала белка. Внизу забегали трясогузки.
— Начинается… — шепнул Игнат.
Маленький рыжий шакал осторожно высунул морду из-за утеса, оценивая безопасность водопоя. Приседая, он пробежал открытое место… Внезапно из-за выступа показалась широкая морда. Шакал стремглав скрылся в кустах. На берег вышел серый как пепел медведь. Он был длинный, худощавый, похожий на волка. Лоб крепкий, большой. Глаза маленькие, бессмысленно злые.
Я замер, в первый раз увидев настоящего аджарского медведя — «страшного зверя». У воды он лениво наклонил морду. Массивный загривок вздыбился… Игнат вскинул ружье к плечу. Я повторил его движение… Руки Антона быстро опустились на наши спины.
— Не стреляйте… тише…
Мы повернули голову в сторону его взгляда.
Смешно кувыркаясь, из-за утеса выбежали два бурых медвежонка. За ними вышел небольшой бурый пестун. Искоса поглядывая назад, он подгонял азартную команду. Секунды через две показалась новая морда. Высунулись два бурых бревна, передвигавшие мохнатое туловище. Огромная медведица явилась на водопой.
Очевидно медвежата не привыкли к строгим окрикам посторонних зверей. Они обиженно рявкнули на стоявшего в воде серого медведя. Через секунду они попятились, испуганно подняв морду. Еще секунда… Медвежата бросились со всех четырех ног. Пестун сердито заворчал. Медведица, глухо рыча, в два прыжка заслонила свое семейство.
Я подумал, что серый медведь ввязался в опасную историю: вдвое меньше медведицы, он стал сопротивляться. Но… пять минут спустя я перестал так думать… После десятиминутного наблюдения холодный пот выступил у меня на голове…
Серый медведь нагнул морду. Пестун поднялся на дыбы. Медведица бешено бросилась вперед. Серый медведь отскочил и со страшным ревом опрокинул пестуна. Оба медвежонка, заорав, помчались еще дальше. Медведица с разбегу шлепнулась в реку. Серый медведь побежал за утес. Я увидал немедвежью хитрость, — зверь притаился за утесом.
Перепуганный пестун бросился к мокрой медведице. Быстрая оплеуха. Пестун опомнился. Отбежал к кустам, строгим окриком собрал медвежат и, сконфуженно облизывая морду, уселся перед ними. Медведица мчится к утесу…
Мои симпатии на стороне медведицы. Я замахал рукой:
— Куда?.. Дура собачья!.. Беги назад!..
Рука Игната больно стукнула мои губы (глупая привычка — держать в руке запасный патрон). Антон ущипнул меня в ногу.
— Тише… болван!..
Медведица добежала до утеса. Быстрый бросок серого туловища. Двойной рев. Опрокинутая медведица замерла под серым противником… Через мгновенье она взметнула лапы, — брызги крови и клочья серой шерсти разлетелись по сторонам. Обезображенный, в мгновение истерзанный серый хищник рухнул на землю. Бурая туша навалилась сверху.
— Теперь конец, — прошептал Игнат, поднимая к плечу карабин. — Бурую медведицу я сам уложу. Вы — пестуна. Медвежата на прибавку пойдут…
— Подожди, — попросил я. — Сделай одолжение, подожди…
Игнат снисходительно пустил ствол карабина. Охотник подчинился натуралисту.
Серый медведь не издох. Он вцепился клыками в бурую грудь медведицы, рвал когтями ее нависший живот. Рыча от боли, медведица присела, прижалась к врагу плотнее, и полплеча серого зверя исчезло в ее огромной пасти.
— Молодец баба! — одобрительно промычал Антон. — Ишь, как чехвостит серого подлеца!
«Серый подлец» вдруг вытянул длинную волчью морду и завыл.
Трудно передать этот громкий, тоскливый и как будто призывной звук. Казалось — медведь в предсмертной агонии торопит смерть. А может быть умоляет о пощаде?
— О-ох!.. — выл он низким басом. — О-ох!..
— Кончается, — весело добавил Антон. — Последнее издыхание.
— Ишь, мучается, — жалостливо заметил Игнат. — Пристрелить бы его…
Мы одновременно вздрогнули. Игнат подхватил карабин и сгреб в руку все запасные патроны. Далеко сверху послышался ответный рев:
— Ох!.. Ох!..
Мы подскочили.
— Ох!.. Ох!.. — раздалось в стороне.
— Ох!.. — отозвалось где-то совсем близко.
Трещат сучья. С грохотом сыплются камни. С быстротой атакующей кавалерии выбежал из-за утеса, щелкая страшным оскалом клыков, серый медведь. Дико заревела бурая медведица, раненая в бок. Высоко взметнула морду. Схватилась с новым врагом.
По-моему пестун пострадал невинно. Второй примчавшийся на призыв товарища серый медведь обрушился, ломая кусты, на безобидного стража двух младенцев. Налетевший бандит поработал клыками и лапами на совесть. Пестун бесславно превратился в груду мяса, крови и шерсти. Перепуганные медвежата юркнули в кусты.
Атакованная с двух сторон медведица заревела немедвежьим предсмертным ревом. Сквозь вихрь диких звуков пролетел тонкий писк. Медвежата, все еще удивленные, пищат тоскливым дискантом… Медведица бросила неравный бой, она мчится к кустам. На полдороге ее настигли «страшные звери», впились в плечо, в горло… Последняя схватка… Рев…
— Давай смоемся, пока не поздно… — шепнул перепуганный Игнат.
Антон уже пятился в кусты. Опережая Игната, я нырнул за Антоном. Страх удесятерил силу наших ног. Как джайраны мы бежали от места медвежьей схватки. Выше… выше!.. Вот наша площадка… Скорее!..
Гул внизу стих. Мы легли на скале животом вверх, едва дыша. Рядом легли карабины и груды патронов. Мы перевернулись на живот и смотрим вниз.
Один раз показался «страшный зверь». Я невольно щелкнул затвором. Медведь подозрительно поднял кверху морду. Никто не выстрелил. «Страшный зверь» скрылся в лесу…
Всю ночь мы дрожали у огромного костра. Утром спешно направились к переправе у Чороха. Только внизу, выйдя на дорогу, мы опять обрели дар слова.
— Чтоб они издохли! — выругался Игнат. В первый раз за всю свою охотничью практику он возвращался без добычи.
— Страшный зверь… — мотнул головой Антон, убивший когда-то двух бурых медведей… нарисованных на мишени тира.
— Да, — согласился я, скромный натуралист. — Очевидно серый медведь случайно нарушил свою привычку — бродить только у горных вершин, и, что удивительнее всего, у них прекрасно налажена связь и взаимопомощь.
О солнечнике пятнобоком
День — ясный как хорошо вымытое стекло. Обычно седая от туч вершина Мтиралы четко проявилась в небе темнозеленым конусом. Игнат сидит рядом со мной у открытого окна лаборатории. От безделья он ловит мух и впрыскивает им формалин. Мухи дохнут. Игнат доволен…
Хлопнула дверь. На пороге появился в более чем растрепанном виде Антон.
— Айда за мной! — говорит он, запыхавшись. — Я договорился с рыбаками. Мы выезжаем через час от мыса Бурун-Табие. На весь день баркас и снасти в нашем распоряжении… А, кстати и Игнат здесь. Поедем, Игнатушка?
— Всегда готов.
Игнат нахлобучил на голову потрепанную кепку.
— Заготавливай инструмент.
«Инструментом» Игнат называл шприцы, баулы, банки.
* * *
Море — изумруд. Небо — бирюза. Солнце — алмаз. Баркас легко разрезает грудь моря, оставляя позади свежую рану — волнистый след, сверкающий блеском солнца. Я с Игнатом гребем дружно. Сзади нас гребут двое рыбаков. Их движения профессионально равнодушны. Антон сидит рядом со старшим рыбаком у рулевого весла. У его ног торчат железные прутья.
— Антоша, — кричу я, — не думаешь ли ты железом дельфинов глушить?
Приятель смеется и машет рукой, — греби, мол, и не разговаривай.
В стороне от баркаса выпрыгивают, играя, дельфины. Гавань удаляется, превращаясь в узкую, усеянную колышками полоску. Между Зеленым мысом и Махинджуари белый дымок — мчится поезд. Игнат, не переставая грести, плюет на руки.
— Ружье дома оставил, жалко. Я бы по дельфинам пострелял.
Игнат не может пропустить равнодушно ни одно живое существо. Никогда из него не выйдет хорошего натуралиста.
— Антон, — догадался я, взглянув на железные прутья, — ты взял драгу?
— Да… греби.
Прошло два часа. Море потемнело. Блеск усилился. Гавань скрылась за горизонтом. Над морем остались вершины горных хребтов. До берега не менее пятнадцати километров. Антон махнул рукой.
— Довольно, клади весла.
Старший рыбак перешел на нос баркаса. Под его быстрыми руками замелькали, падая в воду, пробковые поплавки. Два других рыбака навязывают к низу сети грузила — небольшие камни. Мне с Игнатом осталась наименее ответственная работа — подавать сеть старшему рыбаку таким образом, чтобы не запутаться в веревках. Поплавки по очереди отплывают от баркаса. Антон медленно гребет. Оба конца сети, описав полукруг, сошлись у баркаса.
— Тяни! — скомандовал рыбак.
Четыре пары рук удвоили энергию. Сеть вышла из воды, мигая лопающимися пузырями. В крупных ячейках запутались морские ерши, мелькнула расписная красавица тригла-ласточка, забили хвостом звездочеты. К мошне прижался серебряный горбуль, и среди мелкой рыбешки вытянулось длинное полено, словно обтянутое замшей. Антон бросил весла.
— Акула… сельдевая акула!
Увертываясь от удара мускулистого хвоста, опережая Антона, я подхватил акулу под плавники.
— Берегись! — крикнул Игнат.
Я охнул и присел, поспешно засовывая ладони подмышки. На первое ощущение казалось, что проклятая рыбина покрыта не чешуей, а настоящей наждачной бумагой. Игнат укоризненно мотнул головой.
— Эх ты! Нашел чему радоваться! Я этой дряни у устья Чороха десяток тебе наловлю.
Рыбаки подтвердили заявление Игната. Сельдевая акула — обычное явление на Черном море. Путается она между стаями хамсы, селедки, мелкой кефали и другой стадной рыбы, которой и питается. Не кусается. На людей не нападает. Длина — до двух метров. Неприятность только в том случае, если провести рукой по коже, шершавой как коровий язык.
Я охнул и присел, поспешно засовывая ладони под мышки…
С помощью рыбаков я принялся освобождать сеть от улова. Приходилось пускать в ход всю свою ловкость, чтобы не наколоться об ядовитые спинные плавники звездочетов и драконов. Игнат закурил папироску и вдруг толкнул меня локтем.
— Посмотри-ка.
Я посмотрел. Антон стоит на корме, стараясь извлечь железные прутья из-под кормового сиденья. Мои плечи приподнялись.
— Что же тут особенного?
— Чудаки! — рассмеялся Игнат. — Ты вспомни о глубине моря и об особенностях ста метров. Будете вы своим ковшом со дна морского сероводород черпать, что ли?
Я расхохотался. Игнат прав. Антон опростоволосился. Глубже чем на сто метров море насыщено сероводородом. На дне существует в дохлом виде только то, что утонуло.
— Антоша, — заявил я, захлебываясь от смеха, — мне знакомо одно животное, которое раскапывает могилы, питаясь падалью… К чему ты драгу налаживаешь?
Антон молча рванул прутья. Потянулась мелкая «хамсиная» сеть. Я в первый раз видел драгу такой конструкции. Обыкновенная драга состоит из железных полуобручей, прикрепленных к дну, сделанному из досок, обитых жестью. Все это обтянуто сетью. Такое сооружение волочится по дну на буксире.
Антон повернул в мою сторону торжественно ухмыляющееся лицо.
— Эта драга — мое изобретение. Она годится для любой глубины. Я ее опущу метров на сорок. Игнатушка, подержи хвостик… вот так… Ты подержи веревки. Я опускаю… вот так… Пусти, Игнат…
Антоново изобретение потонуло в глубине моря. Драга оказалась толковой. Это сеть, сшитая обыкновенным мешком. К отверстию привязаны два железных прута. К верхнему ободу привязаны две веревки, к нижнему — одна. Потянешь за верхние — драга плывет с открытой пастью на желаемой глубине. Потянешь за нижнюю — пасть закрывается.
Заинтересованный Игнат ухватился за весла. Баркас идет по волнам. Драга, как хищная рыба с открытой пастью, мчится в морской пучине.
— Стой! — заорал Антон.
Игнат бросил весла и перескочил на корму. Рыбаки с любопытством перегнулись через борт. Антон выхватил у меня верхние веревки, дернул за нижнюю.
— Тащи!.. тащи!..
Всколыхнулась вода. Вынырнули железные прутья. В сети, тяжелой и молочной от медуз, бились несколько рыб. Нетерпеливо, игнорируя ожоги медуз, я принялся исследовать содержимое. Игнат поддерживал в раскрытом состоянии пасть драги. Антон замер в счастливом созерцании плодов своего изобретения. Скользнув по медузам, мои жадные пальцы больно накололись на острые плавники.
— Ах ты, дрянь! — выругался я разочарованно. — Это ерши.
Антон заволновался.
Драга, как хищная рыба с открытой пастью, мчится….. в морской пучине…
— Пусти, я сам…
Я охотно уступил. Антон взял конец мошны, быстро поднял и…
— Солнечник!.. Солнечник пятнобокий! — закричал он диким голосом, словно заблудившись в лесу.
Игнат откинул в сторону медуз.
— В первый раз такую штуковину вижу, — заявил он.
— Это знаешь что? — возбужденно указал Антон пальцем, — Это водится только в Средиземном море. Это первый и единственный экземпляр, пойманный на восточном побережье Черного моря.
Брови Игната приподнялись с искренним сожалением:
— А я думал, что эта штуковина вообще нигде не водится… Вот в девятьсот одиннадцатом году у Новороссийска кита поймали, это я понимаю.
— Осел ты! — разозлился Антон. — Сын осла! Дети твои ослами помрут… Это, понимаешь ты, солнечник пятнобокий! Sevs faber!
Во время этого гневного препирательства я старался рассмотреть редкую добычу.
Солнечник пятнобокий никогда не затеряется среди обыкновенной морской добычи. Ромбическая форма туловища с высоким султаном спинного плавника и черное пятно по бокам. Большие янтарные глаза. Матовый блеск чешуи словно излучает собственное сияние, достаточное для того, чтобы называть его…
Вдруг лодка качнулась. Заскрипели уключины. Всплеснулась вода.
— Вы куда? — крикнул Антон рыбакам.
Звездочет.
— Нельзя… — возбужденно ответил старший рыбак. — Трапезондский ветер идет. Посмотри пожалуйста… совсем нельзя рыбу ловить.
Антон мельком взглянул на быстро надвигающуюся с юга черную тучу и отвернулся к своей добыче. Я осмотрел гладкое беспредельное море, потемневшее, мутное с юга, и почувствовал легкую тошноту. Игнат побледнел.
— Посмотрим, — зловеще пробормотал он. — Разве что рыбаки спасут…
* * *
Трапезондский ветер — это ураган, налетающий вдруг и заставляющий еще долго после себя в солнечный день бесконечно ворчать и плескаться мертвой зыбью проснувшееся море. Трапезондский ветер — это несчастье рыбаков, — никогда не угадаешь, когда он прилетит. Внезапный порывистый ветер уничтожает всякую закономерность в движении волн. Они сталкиваются, мечутся, беснуются.
Тригла-ласточка.
Игнат скорчился на носу. Мы с Антоном вычерпываем воду, сгибаясь под ударами волн. Рыбаки гребут, то ударяя веслами по водяной стене, то срываясь резким движением по воздуху. Баркас должен иметь поступательное движение, иначе — гибель. Драгу, шапки, рыбу, баулы, банки унесло за борт. Волны прыгали как бешеные.
Вдруг ветер утих. Гребни страшных мутно-зеленых волн снизились. Я вздохнул. Антон улыбнулся.
— А солнечник здесь! — указал он на оттопырившуюся у груди куртку.
Игнат высунул голову (он накрывался сетями) и испуганно оглянулся.
— Черпайте воду! — заорал он.
Дракон.
Рыбаки отчаянно гребут. Рулевой кивнул головой.
— Выливай воду. Сейчас ветер силу наберет. Выливай пожалуйста.
Через десять минут примчался ветер, яростно теребя море за пенные макушки волн.
* * *
Поздно вечером мы подъехали к мысу Бурун-Табие. Ураган стих. Черно-бархатное небо улыбнулось сверкающими звездами. Я с Игнатом едва выползли из баркаса — без шапок, мокрые как рыбы. Антон бодро ступил на камни, прижимая за пазухой sevs faber’a.
* * *
— Sevs faber! Солнечник пятнобокий!.. Ах ты, паразит несчастный!
Руки Антона шлепались о бедра, о поясницу и не уставали взлетать в воздух.
— Ирод ты этакий!..
Я скромно молчал. Рыба воняла отвратительно. Чешуя и кожа расползались, когда в нее тыкали пальцем.
— Когда я был на Кольском полуострове, — заявил Игнат, выждав паузу Антоновых стенаний, — я видал, как приготовляют рыбий жир. Прежде всего бочки, солнце, никакой соли и много рыбы.
Антон застонал еще больше:
— Брось трепаться, дура кольская! Тоже еще выискался путешественник! Ты лучше обмозгуй, что наделал этот паразит несчастный.
Антон выразительно ткнул в мою сторону пальцем.
— Я понятия не имею, и Игнат не имеет. А кто рыбу испортил?..
— Ну тебя!
Антон плюнул и быстро вышел из лаборатории. Игнат сокрушенно вздохнул.
Солнечник пятнобокий.
— Будет он теперь плакаться в тряпочку. Как это тебя угораздило?
Я развел руками.
— Ничего не понимаю. Я взял обычный состав: двадцать частей морской воды, двадцать — глицерину и шестьдесят — спирту. Все это я в достаточной дозе впрыснул в рыбу, обмазал ее глицерином и спрятал временно в вате… Кстати, щиповки, — я их за неделю до солнечника препарировал. Сейчас посмотрим… Вот.
Я развернул вату во втором ящике. Маленькие полосато-пятнистые рыбки лежат в вате как живые — блестящие, упругие. Я еще раз развел руками.
— Удивительно!
Игнат равнодушно взглянул на щиповок, поковырял их палкой и пробормотал:
— Стоит со всякой дрянью возиться! Сварил бы уху, и ладно.
Я возмутился:
— Ты, Игнат, не понимаешь. Ты охотник, а мы натуралисты. Ты убиваешь и ешь, а я с Антоном изучаем…
— Изуча-а-аем! — передразнил Игнат. — Мучаете вы, а не изучаете. Антон меня перебил, а то бы узнал ты, как на Кольском полуострове я изучением занимался. Два года потом рыбы в рот не брал.
— А что?
— А то… Треску несоленую в открытых бочках держат на самом солнцепеке. Рыба гниет и жир наверх пускает — чистенький, желтенький… А вокруг вонь… Тьфу!
Рыба воняла отвратительно. Чешуя и кожа расползались, когда в нее тыкали пальцем…
Легкий предвечерний ветер залетел в открытое окно лаборатории, нырнул в ящик с злополучной рыбой и ударил зловоньем в мои ноздри. Великие открытия делаются случайно и по вдохновению. Я подозрительно взглянул на Игната.
— Мне кажется, что ты на прошлой неделе заходил сюда.
Игнат по простодушию не подозревал гениальной мысли, которую я полной чашей почерпнул в своем мозгу.
— Был, — согласился он. — Мы все втроем тогда едва приползли сюда после бурной ловли…
Следствие пошло быстро.
— Мы с Антоном вышли позаботиться о кофе… — продолжал я.
— ?!
— Как только захлопулась за нами дверь, ты взял бутылку с надписью «спирт»…
Игнат покраснел.
— А потом благополучно выпил содержимое, слегка разбавив этой жидкостью, — указал я на бутылку с надписью «Aqua destillata»[20].
Игнат смущенно потупился. Я почувствовал величайший приступ гнева.
— Перелил в глотку весь наличный запас спирта и не потрудился сознаться в преступлении! Ты буквально спрятал «концы в воду», то-есть подлил в опустевшую бутылку из-под спирта дестиллированной воды!..
Игнат молчаливо кивнул головой.
Из великой книги природы.
СЛОНОВЬЯ МУДРОСТЬ.
Слон — животное хорошо изученное. А между тем есть много черт из жизни диких слонов, которые еще неизвестны и могут быть изучены только путем терпеливого настойчивого наблюдения.
Вот, например, что рассказывает про слонов американец Блэк, проведший много лет в Африке, где он ловил для дрессировки разных зверей, употребляя ружье лишь в случае крайней необходимости для самозащиты, но отнюдь не для охоты.
«В продолжение многих часов я шел следом за тремя слонами, поведение которых меня очень заинтересовало. Один из них, очевидно, был болен. Он шел с трудом. Остальные два его поддерживали и заботливо предоставляли ему середину тропы, где было легче итти. Часов около одиннадцати они остановились для отдыха. Больной слон опустился на колени, вяло протянув перед собой хобот. Его товарищи дремали стоя, широко расставив тумбообразные ноги. Я тоже задремал.
Часа через два здоровые слоны начали тихонько расталкивать больного, понуждая его встать. Но тот не делал ни малейшего усилия, чтобы подняться. Они сцепили свои хоботы с его хоботом и, казалось, всячески убеждали его понатужиться. Напрасно. Наконец один из здоровых слонов повернулся и тихо удалился, словно потеряв всякую надежду. Другой остался. Некоторое время он продолжал понукать больного, но все более вяло, все более безнадежно. Затем он отошел на несколько шагов, остановился, словно раздумывая, и вдруг наклонил голову, бросился на лежавшего без движения товарища и со всего размаху вонзил бивни ему в бок.
Что это было? Гнев? Жестокость? — Нет, я убежден, что слон убил товарища из сострадания. Он понял безнадежность его состояния и вероятно хотел избавить его от мучительной смерти в когтях льва…
В другой раз мы наткнулись в лесу на такую картину. Одиннадцать или двенадцать слонов разных возрастов стояли мирной группой вокруг какой-то большой серой массы, лежавшей на земле. Некоторые из них игриво терлись друг о друга боками, другие ласкали один другого хоботом, вообще это была тихая семейная идиллия. Так как ветер дул в нашу сторону, они не сразу почуяли нас. Но вот одна самка стала принюхиваться, насторожила уши и затрубила. Моментально семейка прекратила свои забавы, и все слоны выстроились таким образом, что образовали стену между нами и тем, что лежало на земле.
Я с интересом наблюдал, держа на всякий случай ружье наготове. Тем временем „нечто“ поднялось с земли. Это оказалась большая слониха. Она направилась в чащу. Рядом с ней семенил маленький новорожденный слоненок. Остальные слоны последовали за ней. Но четверо еще долго стояли, пока самка с новорожденным не скрылись окончательно. Только тогда они удалились.
Я и раньше слыхал от африканских старожилов рассказы о том, что когда самка слона чувствует приближение родов, она удаляется в уединенное место, а остальные члены стада стоят около нее и охраняют, пока детеныш не появится на свет. Я смеялся над этими рассказами, считая их такой же выдумкой, как рассказы о „кладбищах“ слонов. Но после описанной встречи я не решусь утверждать, что дикие африканские слоны не охраняют своих рожениц».
М. Р.
ТАНЦУЮЩИЙ ДРОЗД.
В один из жарких июльских дней, в самый разгар сенокоса я поймал в свежем сене только что оперившегося дрозда. Принес я его домой и поместил в просторную коробку, выстланную ватой. Первое время дроздик дичился, но аппетит у него был прекрасный, особенно любил он мелко нарубленное мясо.
И вот однажды я сделался свидетелем весьма интересного явления. Прирученный дрозд после изрядного обеда и водопития неожиданно стал делать резкие и разнообразные телодвижения: он подпрыгивал то на одной ноге, то на другой, быстро взмахивая серенькими крылышками. Птица странно кружилась, видимо исполняя какой-то своеобразный танец.
Это наблюдение я проверял несколько раз и убедился, что мой дрозд обладал недюжинным талантом танцора. Не знаю, все ли дрозды умеют танцовать, или этим даром обладал только мой дрозд. Впоследствии он улетел в родные леса.
ДЯТЕЛ В РОЛИ ВОЖАКА.
Зимою всем пернатым приходится очень туго не только от холода, но прежде всего от голода. Особенно достается синицам, воробьям, чечоткам, пищухам, поползням и т. д. И вот в некоторых случаях спасителем мелких птиц от голодной смерти является дятел. Он становится как бы вожаком мелких птичьих артелей. В чем же тут секрет? — А вот в чем. Как известно, дятел добывает пищу, продалбливая длинным крепким клювом кору деревьев и вытаскивая из-под нее личинки короедов и других насекомых. Так вот, когда дятел отправляется на промысел и начинает мерно долбить кору, голодные птицы слетаются к нему, следуют за ним и терпеливо ждут, когда он кончит свое пиршество. После него действительно остается еще кое-что и для других голодных маленьких птиц, и они доедают остатки дятлова обеда. Чуть заслышит стайка синичек, чечоток или другой мелкоты стук дятла, живо летит к нему, зная, что их ждет хотя скудная, но верная добыча, а зимой каждый кусочек пищи дорог.
КРОВАВЫЙ МЕД.
В один из жарких июльских дней я зашел к знакомому деду на пасеку, расположенную на опушке леса, километра за два от деревни, в плодовом саду. Пасека была небольшая, всего ульев двадцать, но мед деда Прокопия покупали охотнее других: он обладал удивительной золотистой прозрачностью. Гудение пчел раздавалось в тишине, и под развесистыми яблонями было прохладно. Дед обрадовался мне. Мы сели на старую колоду, и я по обыкновению передал ему две пачки махры и бумагу, за что дед всегда угощал душистым медом с свеже выпеченным хлебом. Так и на этот раз — дед достал чашку с сотовым медом и подал ее мне со словами:
— Погляди-ка, сынок, на мед-то. Уж больно чудной. Впервые вижу.
Я стал рассматривать мед, который имел наполовину красный, наполовину желтый цвет. Красный мед находился в верхних ячейках и местами походил на прозрачный рубин, при чем имел странный терпкий привкус и резкий запах.
— Давно ты его достал и из какого улья? — спросил я деда.
— Да вчера, вон из того улья, что у плетня, — указал он. — Полез я в улей, а пчелы, точно белены объелись, кусаться стали.
Я заинтересовался и попросил деда пойти со мной, он охотно согласился, и вскоре мы тщательно рассматривали раскрытый улей. Мед на вощинах оказался сверху красноватым. Мы вскрыли второй улей — то же самое. Я поймал одну из пчел и осторожно надавил ей на брюшко. Появилось несколько капель красной жидкости.
Я растянулся на траве и стал наблюдать за ульем. Пчелы улетали за плетень по направлению небольшого оврага, заросшего лопухом. С оврага тянуло гнилью и запахом падали.
Пересилив отвращение, я спустился на дно оврага и наскочил на две ободранных лошадиных туши. Трупы были, очевидно, свежие, разложение только начиналось. К моему удивлению я увидел, что падаль была усеяна сотнями пчел, издававших громкое гудение. Одни прилетали, другие грузно улетали по направлению к пасеке. Я слегка ударил хворостиной по трупу. Не успел я опомниться, как туча пчел накинулась на меня. От зверских укусов лицо и руки превратились в бесформенные обрубки. Сломя голову я побежал к реке, как был — в одежде — рухнул в воду и лишь тогда немного избавился от ужасной боли.
Через полчаса, мокрый и опухший, я стоял перед удивленным дедом и рассказывал ему, как это случилось. Дед недоверчиво качал головой. Тогда я взял его за руку и повел к оврагу, где он убедился в правильности моих слов. Час спустя весь облепленный простоквашей и с сеткой на голове я зарывал вместе с дедом падаль.
На следующий день, открыв улей, чтобы выбросить испорченные соты, мы увидели над красным медом тонкий слой желтого. Теперь дед уже не сомневался, что пчелы носили кровь с падали. В довершение всего на полу улья валялось много издохших пчел, со скрюченными лапками, словно в предсмертной агонии. Явление это сильно заинтересовало меня, и я перерыл всю известную мне литературу о пчелах, но нигде не нашел объяснения.
Сообщил В. Савин.
ТОЖЕ СПОРТСМЕНЫ.
Одно время на улицах Ленинграда не редкость было встретить зимой спортсменов, которые в пиджаке и трусиках тренировались вприпрыжку босыми ногами при пятнадцатиградусном морозе. Любопытно, что среди пернатых также существуют в своем роде спортсмены, бодро переносящие сильнейшие холода.
В хвойных лесах таежной полосы СССР и в в горной части Крыма гнездятся оригинальные птицы клесты, по своим повадкам очень напоминающие попугаев[21]. Обращает внимание массивный клюв этих птиц. Верхняя и нижняя его половины загнуты и перекрещиваются наподобие лезвий ножниц. Подобное строение клюва позволяет клестам выщелкивать сосновые и еловые шишки и доставать находящиеся в них семена[22]. В зависимости от наличия корма клесты выводят птенцов в различные времена года, но главным образом в зимние месяцы. В годы с большим урожаем шишек, семян и ягод клесты гнездятся два раза.
Интереснее всего, что в самый разгар зимы, когда от морозов деревья трещат словно залпы выстрелов, или тоскливыми напевами завывают февральские вьюги, хлопотливая чета клестов бывает занята высиживанием будущего поколения крылатых спортсменов. Жизнь в лесу в это время совершенно замерла, снег повис пушистыми хлопьями на густых ветках, однообразное оцепенение зимнего ландшафта сковало местность — и только клесты беспечно распевают песенки. Когда же при тридцатиградусном морозе появятся неоперенные птенцы, то чувствуют они себя повидимому великолепно. Несмотря на суровые условия зимнего периода и крайне стесненные в гнезде движения, молодые клесты-спортсмены не только не замерзают, но даже не знают вероятно наших насморков и гриппов…
А ведь не много, пожалуй, найдется среди нас таких «неоперенных» спортсменов, которые смогли бы героически перенести трескучие зимние непогоды, подобно молодежи у клестов.
Мелитополь.
И. Брудин.
Следопыт среди книг.
БОГАТСТВА ИЗ ВОЗДУХА.
Еще в прошлом веке наукой был поставлен вопрос о том, — не истощается ли почва, тратя содержащиеся в ней вещества на питание растительных организмов, какие у нее имеются для этого запасы и возобновляются ли они?
Когда выяснилась важная роль азота и его соединений для питания всего животного мира, то встал следующий вопрос: благополучно ли обстоит дело с запасом азота в почве, обеспечены ли растения азотным питанием?
Исследования показали, что дело в этом отношении обстоит неблагополучно и что здесь необходимо вмешательство человека.
Тогда на Западе выросла крупная азотная промышленность. Получение на заводах азотистых продуктов замечательно тем, что оно достигается при помощи простых средств — воздуха и воды, однако техника производства весьма сложна и использование атмосферного азота оказалось возможным лишь благодаря крупным достижениям химической науки и техники и при наличии мощных и дешевых двигателей (напр. водопадов) и источников очень высоких температур (1000–4000°).
Значение воздуха, как источника азотистых соединений, необходимых для химической и военной промышленностей и главным образом для получения сел. — хоз. удобрений, заключается именно в том, что содержащиеся в воздухе в свободном состоянии запасы азота неисчерпаемы, но для выполнения заводских процессов для перевода азота в его химические соединения требуется огромное количество энергии, и вот эти запасы энергии частью ограничены, а частью (напр. нефть, уголь) быстро истощаются.
А между тем азотистые соединения входят в такие необходимые в настоящее время химические продукты, как: 1) порох и взрывчатые вещества, 2) анилиновые краски, 3) некоторые аптекарские товары и наконец 4) сель. — хоз. минеральные удобрения, потребность в которых, в связи с истощением почвы, все увеличивается.
Значение азотистых удобрений можно видеть на примере Запада. Германия была на уровне нашей современной урожайности в 1880 году. С тех пор она стала применять все время азотистые удобрения, и ее урожаи росли приблизительно на 200 кг на гектар в десятилетие. Наоборот, в годы войны, когда Германия была окружена кольцом блокады и запасы азотистых продуктов шли главным образом на военные нужды, продукция сельского хозяйства в ней резко упала. Теперь и в Европе и в Америке считают, что вопрос о связанном азоте (т. е. азоте в химических соединениях) есть вопрос хлеба и питания.
Первая удачная попытка в области использования азота воздуха для промышленных целей была сделана германскими учеными Габером и Бошем. Им удалось сконструировать аппарат, в котором при громадном давлении и высокой температуре, в присутствии особых катализаторов (катализаторы — вещества, действующие ускоряюще на химические процессы) выделялся из воздуха азот и соединялся с водородом. Из полученного в результате аммиака путем дальнейшей обработки можно было добыть нужные продукты, напр. минеральные удобрения или азотную кислоту, основу нынешних взрывчатых веществ.
В настоящее время на Западе имеется ряд заводов для получения синтетического аммиака по системе инж. Казале. В аппаратах этой системы реакция происходит при температуре около 500° и под давлением 750 атмосфер. У нас в Нижегородской губернии построен в 1928 г. завод по этой системе Казале. Одним из первых был построен завод в военное время (1916 г.) в Юзовке в Донбассе. В настоящее время среди других заводов особенно интересна постройка мощного завода в Узбекистане, где двигательную силу будет давать река Зеравшан в своем горном секторе. Получаемые с этого завода минеральные удобрения должны будут сыграть благотворную роль в развитии хлопкового хозяйства. Читатели, несколько знакомые уже с химией, найдут интересные сведения по вопросу о новейших методах добывания азота в книге М. Я. Кагана. — «Воздух — источник сырья», — только что выпущенной Госиздатом и снабженной рисунками и схематическими чертежами (ГИЗ. 1929. Стр. 96. Ц. 50 к.)
В. Ян.
НОВЫЕ КНИГИ.
В редакцию журнала «Всемирный Следопыт» присланы на отзыв следующие книги:
Советская страна. (Рассказы о прошлом). Сборник рассказов А. Серафимовича. ГИЗ. 1929. Стр. 272. Цена 1 р. 25 к.
Железный круг. Рассказы Леонида Завадовского. ЗИФ. 1929. Стр.240. Цена 1 р. 50 к.
Литература в цифрах и схемах. (Русские писатели). Очерк С. и В. Золотаревых. ГИЗ. Стр. 78. Ц. 75 к.
Справочник животновода-коллективиста. Пособие для крестьян, организаторов кооперативов и коллективов по животноводству. Сост. П. П. Тихонов и С. П. Фридолин. ГИЗ. 1929. Стр. 287. Цена 65 к.
Дженни Гергардт. Роман из жизни современной Америки Теодора Драйзера. ЗИФ. 1929. Стр. 495. Цена 2 р. 60 к.
За новую технику. Очерки американской и западно-европейской промышленности и техники С. Лобова. С иллюстр. ГИЗ. 1929. Стр. 128. Цена 50 к.
Борьба за крылья. Очерки из истории завоевания воздуха Чарльза Тернэра, С иллюстр. ГИЗ. 1929. Стр. 265. Цена 1 р. 25 к.
Как наука изучает природу. Очерк В. Фридмана. С рисунк. ГИЗ. 1929. Стр. 112. Цена 50 к.
Что должен знать рабочий изобретатель. Справочное пособие В. Петровского. С рисунк. ГИЗ. 1929. Стр. 126. Цена 35 к.
На дне Лондона. Очерки Ф. Дженнингса из быта лондонской нищеты. Перев. с англ. М. Левберг. Прибой. 1929. Стр. 232. Цена 1 р.
Галлерея колониальных народов мира: Лесные индейцы. Очерки к таблицам на 4-й странице обложки.
ЛЕСНЫЕ ИНДЕЙЦЫ
(К таблицам на 4-й стр. обложки)
Открытие Нового Света и появление европейцев в Южной Америке коренным образом изменили образ жизни населения пампасов. Пешие примитивные охотники, индейцы патагонских памп, быстро превратились в конный народ, многое заимствовав от европейских колонизаторов. Это европейское влияние в значительно меньшей степени коснулось населения тропической лесной области, где в диких дебрях до настоящего времени сохранились отдельные племена, почти не тронутые цивилизацией.
Огромная область бассейнов рек Амазонки, Рио-Негро и Ориноко заселена многочисленными племенами, которые по языку относятся к трем крупным группам: тупи, караибы и аруаки (ароваки). Кроме этих племен, составляющих более культурный слой, мы встречаемся в данной области с отдельными группами лесных бродячих охотников, которым не знакомы ни оседлое земледелие, ни сложное постоянное жилище, ни гамак — общее достояние почти всего населения этих мест. Таковы, например, племена маку по берегам Рио-Негро, гварауно в дельте Ориноко, трумаи в верховьях реки Шингу.
Если оставить в стороне эти племена, то для культуры тропической лесной области Южной Америки характерно относительно высоко развитое мотыжное земледелие. Небольшие примитивные плантации разнообразных клубневых растений окружают поселки лесных обитателей. Разводят бататы, ямс, бобы, сахарный тростник, табак и главным образом мандиоку. Мандиока ядовита, и корень ее пригоден для еды только после продолжительной обработки. Секрет такой обработки хорошо известен женщинам земледельческих племен. Земледелие вообще дело рук женщины. Мужчины каменными топорами расчищают тропические заросли. Лес жгут, и на удобренной таким образом почве засеивается мандиока. Вся дальнейшая забота о поле лежит на женщине.
Годными в пищу животными эта область не богата, и продукты земледелия обеспечивают существование в случае неудачной охоты. Оружие — лук и стрелы и замечательное духовое ружье (духовая трубка). Стреляют из духовой трубки маленькими стрелками, которые выдуваются ртом. Стрелка — пальмовая спица — отравляется ядом. Многим племенам известен наиболее сильно действующий яд — знаменитый кураре. Его добывают из разных растений, главным образом из коры одной лианы (из стрихнеевых).
Карта распространения индейских племен в тропических лесах Южной Америки.
Далеко не всем известен секрет добывания этого яда: он строго оберегается от чужеплеменников, и кураре является предметом широкой торговли. Из духовой трубки стреляют мелких животных: обезьян, грызунов, ленивцев и птиц аpapa, голубей, попугаев, которыми так богаты тропические леса Южной Америки. Для охоты на более крупных животных служат лук и стрелы; ими бьют и рыбу с поразительной ловкостью, доставившей индейцам славу исключительных охотников.
Домашние животные в этой области не известны: однако в каждой хижине вы можете встретить множество прирученных представителей животного мира — обезьян, попугаев, тапиров и даже молодых крокодилов. Их держат просто для развлечения или с религиозными целями, не извлекая из них никакой прямой выгоды. Это только первый шаг на пути приручения животных.
Металлы лесным индейцам не известны. Но было бы неправильно сказать, что они находятся в стадии каменного века. Собственно из камня изготовляются лишь топоры для расчистки пашен: для других орудий и оружия служат материалы из растительного и животного мира.
Ремесла у племен индейцев лесной области высоко развиты и разнообразны: им известно гончарство, высоко развито искусство плетения и обработки коры. Луб разбивается специальными ребристыми колотушками и превращается в хорошую ткань.
Отдельные племена специализируются в тех или иных ремеслах. Так, аруаки в верховьях Шингу — горшечники, трумаи — мастера по изготовлению каменных топоров, нахуква (верховья Шингу) — специалисты по изготовлению сосудов из тыквы. Это межплеменное разделение труда приводит к развитию торговых связей между различными группами оседлого населения.
С земледелием связан оседлый образ жизни, прочное постоянное жилище. Селятся небольшими группами, представляющими самостоятельную общественную единицу. Убранство жилища пестро и разнообразно. Туземным изобретением, получившим мировую известность и распространение, является гамак, изготовляемый из нитей хлопчатой бумаги и пальмовых волокон. Подвешенные в жилищах гамаки служат постелью и спасают от вредных испарений лесной почвы и многочисленных гадов, которыми кишит тропический лес.
Одежда лесных индейцев весьма примитивна: мужской пояс стыдливости и женский передник из обработанного луба и бус. Значительно богаче и разнообразнее украшения. Повсеместно распространены уродования тела: вставки в ушах, в губах, в носовой перегородке, в ноздрях, для чего служат перья, раковины, пластинки из камня и дерева. Особенно славятся украшения из перьев. Пестрые птицы тропиков Южной Америки: попугаи, арара, цапли, ибисы, кассику доставляют разнообразнейший материл для гигантских головных уборов из перьев и целых мантий — праздничных одеяний.
О социальном строе индейцев лесной области мы знаем не многое. Отдельные районы выказывают в этом отношении большие различия. Интересны черты материнского права: принадлежность ребенка к семье матери, переход мужа в селение жены, наследование звания старшины сыновьями сестры как ближайшими родственниками. Возможно, что это связано с той большой хозяйственной ролью какую играет женщина у оседлых примитивных земледельцев.
Из религиозных обрядов следует указать на магические процедуры, устраиваемые ради успешности охоты. В этих случаях организуются танцы в масках, в которых танцующие мимически подражают охоте, чтобы этим магически повлиять на успех охоты. В красочных масках и ритуальных костюмах сказывается высоко развитое искусство обработки коры и крашения.
Игра «Следопыт».
КАК ВЕДЕТСЯ ИГРА.
Играющие (неограниченное количество лиц) внимательно рассматривают рисунок, помещенный ниже, в продолжение 1–2 минут. Затем рисунок закрывается, и один из играющих читает по одному вопросы, предлагаемые нами, а остальные, каждый в отдельности, пишут на них ответы, выводя свои заключения из замеченного ими на рисунке, сопоставляя и анализируя схваченные детали, так как прямых ответов на рисунке часто нет.
ПЯТАЯ СЕРИЯ ВОПРОСОВ.
1. По течению реки идет лодка или против течения?
2. Судоходная эта река или нет?
3. Около правого берега глубже, или около левого?
4. Есть ли рыба в реке?
5. Водится ли поблизости дичь?
6. Какой климат в этой местности?
7. Весна, лето или осень?
8. Утро или вечер?
9. Какой берег выше, правый или левый?
10. Чем занимается окрестное население?
11. По прямому направлению идет лодка или поворачивает?
12. Если поворачивает, то в какую сторону?
Шахматная доска «Следопыта».
Борьба за мировое первенство.
Историческая справка в связи с предстоящими матчами на звание чемпиона мира Алехин — Боголюбов и Алехин — Капабланка.
Звание «чемпиона мира» впервые (по отношению к шахматисту) было присвоено Стейницу в 1886 г. после его победы над Цукертортом.
Сильнейшими шахматистами мира считаются:
Рюи Лопец (Испания) 1570–1575 Леонардо да Кутри (Испания) 1575–1587 Джакимо Греко (Италия) 1622–1634 Филидор (Франция) 1745–1795 Ля-Бурдоннэ (Франция) 1834–1840 Андерсен (Германия) 1851–1858 Морфи (Америка) 1858–1863 Стейниц (Австрия) 1866–1894 Ласкер (Германия) 1894–1921 Капабланка (о. Куба) 1921–1927 А. А. Алехин 1927Значительнейшие матчи за первенство в мире.
(На первом месте — имя победителя. Цифры означают: первая — число его выигрышей, вторая — проигрышей, третья — число ничьих.)
1858 г. Морфи — Андерсен (Париж) 7, 2, 2 1866 " Стейниц — Андерсен (Лондон) 8, 6, 0 1870 " Стейниц — Блэкберн (Лондон) 5, 0, 1 1872 " Стейниц — Цукерторт (Лондон) 7, 1, 4 1876 " Стейниц — Блэкберн (Лондон) 7, 0, 0 1886 " Стейниц — Цукерторт (С. Америка) 10, 5, 5 1889 " Стейниц — Чигорин (Гавана) 10, 6, 1 1889 " Стейниц — Гунсберг (Нью-Йорк) 6, 4, 9 1892 " Стейниц — Чигорин (Гаванна) 10, 8, 5 1894 " Ласкер — Стейниц (С. Америка) 10, 5, 4 1896/97 Ласкер — Стейниц (Москва) 10, 2, 5 1907 " Ласкер — Маршалль (Нью-Йорк) 8, 0, 7 1908 " Ласкер — Тарраш (Германия) 8, 3, 5 1909 " Ласкер — Яновский (Париж) 7, 1, 2 1910 " Ласкер — Шлехтер (Вена и Берлин) 1, 1, 8 1910 " Ласкер — Яновский (Париж) 8, 0, 3 1921 " Капабланка — Ласкер (Гаванна) 4, 0, 10 1927 " Алехин — Капабланка (Ю. Америка) 6, 3, 25Алехин с Боголюбовым ни разу не играли матча. В турнирах они также встречались не часто. Начиная с первого большого турнира послевоенного времени (Гетеборг, 1920 г.) и до настоящего времени во всех турнирах — они встречались всего 13 раз, при чем Алехин выиграл пять партий, одну только проиграл, и семь было ничьих. И все же, несмотря на такой явный перевес, Алехин утверждает, что Боголюбова он считает более серьезным для себя противником, чем Капабланку…
___________
ЛОВУШКИ В ДЕБЮТАХ.
(Продолжение)[23]
ИСПАНСКАЯ ПАРТИЯ
1. е2—е4 е7—е5 2. Kg1—f3 Кb8—с6 3. Cf1—b5 а7—а6 4. Cb5—а4 Kg8—f6 5. Фd1—е2 b7—b5 6. Са4—bЗ Cf8—с5До сих пор все было правильно. Если бы не последний ход черного слона на с5, белые или рокировались бы или пошли бы пешкой с2 или d2.
Но последний ход черных дает белым случай расставить ловушку:
7. а2—а4 . . .И у черных нет никакого удовлетворительного хода, кроме ослабляющего
7. . . . Лa8—b8Если же они, уклоняясь, ввиду дальнейшего открытия линии a, продвинут пешку
7. . . . b5—b4 (или b5 : а4)то дальше последует:
8. Сс3 : f7+ Кре8 : f7 9. Фd2 : с4+ d7—d5 10. Фс4 : с5 Фd8—d6 11. Фс5 : с6! Фd6 : с6 12. Kf3 : e5+ Кр ~ 13. Ке5 : с6и у белых две лишние пешки и конь.
Совпадение идеи.
В прошлом номере «Вс. Следопыта», в связи о сообщением о смерти Р. Рети, мы привели коротенькую его партию с Тартаковером, в которой последний попался в ошеломляюще красивую ловушку.
Случайно мы нашли одну партию, игранную лет на 50 ранее — в Париже, в 1864 г., — где очень известный игрок того времени погиб от подобного же финала и почти так же быстро.
Вот эта партия:
Шотландская.
Мачуский. Колиш. 1. е2—е4 e7—e5 2. Kg1—f3 Kb8—c6 3. d2—d4 e5 : d4 4. Kf3 : d4 Фd8—h4 5. Kb1—c3 Cf8—b4 6. Фd1—d3 Kg8—f6 7. Kd4 : с6 d7 : с6 8. Cc1—d2 Cb4 : c3 9. Cd2 : c3 Kf6 : e4 10. Фd3—d4 Фh4—e7 11. 0—0—0! Фе7—g5+ 12. f2—f4! Фg5 : b4+ 13. Cc3—d2 Фf4—g4 14. Фd4—d8+! Kpe8 : d8 15. Cd2—g5++ Kpd8—e8 16. Лd1—d8×Любопытно, что черные проиграли от расстановки фигур, получившихся вследствие очень слабого хода белых: 6. Фd1—d3. Черные уже и тогда могли бы получить решающее преимущество.
Впрочем преимущество они имели и в конце, играя: 13. Ke4 : d2, далее Сс8—е6 и рокировка в любую сторону.
Две лишние пешки и отсутствие у белых какой-либо атаки обеспечивали бы черным победу. Но случилось, как видите, иначе…
МАТ В 2 ХОДА «СО ВСЕХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ».
Каждая из диаграмм содержит в себе по 4 задачи: (1), (2), (3), (4).
Предлагается решить их, поворачивая последовательно перед собой доску так, чтобы от вас всегда ходили белые.
Задача Т. Бикбэн.
Задача Г. Анселль.
КОЛОСС XIX СТОЛЕТИЯ.
В одном из американских журналов в конце прошлого столетия — в ознаменование помещения 1900-й задачи — была опубликована эта задача, за решение которой был назначен крупный приз.
Мы не думаем, чтобы кто-нибудь из наших читателей решил ее. Мы также не предполагаем давать решение, так как это заняло бы очень много места.
Предлагая эту задачу, мы обращаем внимание читателей лишь на возможность весьма полезных упражнений и на наличие новых комбинаций на доске в 100 полей.
Эта задача любопытна еще и тем, что давно уже раздаются — одиночные пока — голоса о «ничейной смерти шахмат» (например, Капабланки) и в связи о этим о необходимости изменений игры. Предлагают изменить или первоначальную расстановку фигур, или дать им новые ходы, или увеличить на доске число полей до 81 или даже до 100 с прибавлением новых фигур и т. д.
В будущем, конечно, какие-нибудь изменения наступят: ведь и современные шахматы с теми правилами, которые мы знаем и считаем незыблемыми, не всегда были такими. Из столетия в столетие шахматная игра подвергалась изменениям как в смысле объема доски, так в особенности и по характеру ходов тех или других фигур и их взаимоотношений…
Задача-ихтиозавр И. Бэбсона.
Мат в 1900 ходов при условии:
1. Белая пешка на b6 не может быть взята черными.
2. Пешка на j10 играет роль болвана.
3. Ни одна белая пешка не двигается.
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Несколько десятков лет назад были распространены конкурсы на составление и решение задач, в которых имелись два или несколько заданий с перестановкой, снятием или подставкой фигур.
Задача В. Паули помимо своих четырех заданий и вообще интересна по идее.
Задача В. Паули.
Мат в 2 хода.
К этой задаче четыре задания, — все, конечно, в 2 хода:
1. В данном на диаграмме положении.
2. Сняв какие-то две пешки.
3. Из позиции 2-ой, сняв еще какие-то две пешки.
4. Из позиции 3-ей, сняв еще какие-то 2 пешки, после чего получится следующее положение Белые Kpd8, Лg3, Ке3, п. b4, с3 и f7. Черные Кре5.
Примечания
1
Обсидиан — вулканическое стекло, обыкновенно черного цвета, с раковистым изломом, более или менее прозрачное.
(обратно)2
Кресало — огниво.
(обратно)3
Скалистые горы — на границе между Аляской и Канадой.
(обратно)4
Филистер — мещански пошлый консерватор.
(обратно)5
Великий океан.
(обратно)6
Бухта Якутат — у подножия горы св. Ильи.
(обратно)7
Заставный капитан — шлагбаумный надзиратель, взимавший с проезжих плату за проезд по дороге.
(обратно)8
Кукланка — верхняя меховая одежда.
(обратно)9
Импровизированное укрепление — вроде горной баррикады.
(обратно)10
Прудон — французский утопист-анархист, выставивший в середине XIX века теорию «самоорганизации» труда, отрицающую необходимость организации рабочих и завоевания ими государственной власти. Оуэн — английский экономист, проповедывавший радикальное улучшение положения рабочих при капиталистическом строе путем постройки домов для рабочих, сокращения рабочих часов и т. п. Оуэн пытался в 1825 г. создать подобие кооперативно-коммунистической общины, но не достиг цели и потерял свое состояние.
(обратно)11
Так северо-американцы называют свое звездное знамя.
(обратно)12
В 1854—55 гг., во время крымской войны, английский военный флот, посланный в североамериканские воды, бомбардировал русские поселения в Аляске.
(обратно)13
Озеро Большое Невольничье, в Канаде.
(обратно)14
Река Паркюпайн, правый приток Юкона.
(обратно)15
Петарды — разрывные снаряды, которые кладутся на рельсы и производят взрыв от давления колес локомотива. Служат сигналом опасности.
(обратно)16
Атавизм — возвращение к предкам.
(обратно)17
Так Амундсен назвал бухту, в которой перезимовал.
(обратно)18
Ярд — английская мера длины, равная приблизительно 0,9 метра.
(обратно)19
В действительности они были отправлены 12 сентября.
(обратно)20
Дестиллированная вода.
(обратно)21
В Ленинградской губернии клеста называют «чухонским попугаем».
(обратно)22
Смолистые вещества, входящие в состав пищи, употребляемой клестами, предохраняют их мясо от процесса разложения, поэтому убитые клесты могут не загнивать по нескольку лет. Конечно, для этого необходимо, чтобы клесты питались исключительно семенами хвойных деревьев.
(обратно)23
См. «Вc. Следопыт» №№ 1, 2 и 3.
(обратно)
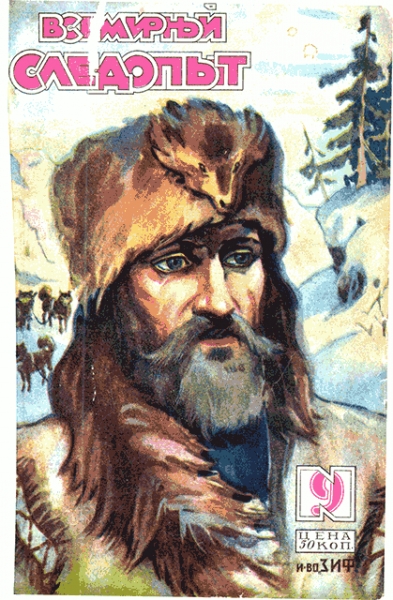
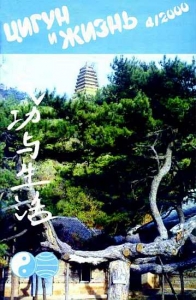


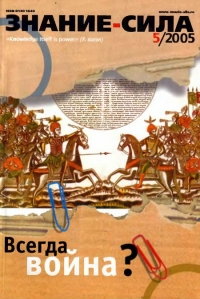



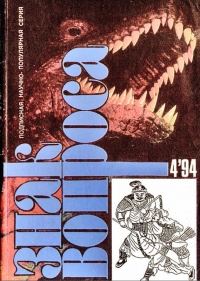
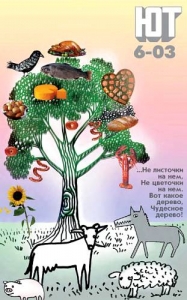
Комментарии к книге «Всемирный следопыт, 1929 № 09», Александр Романович Беляев
Всего 0 комментариев