Василий Григорьевич Ян Записки пешехода
Моему отцу
Приношу искреннюю благодарность кн. Э. Э. Ухтомскому, Ал. Ал. Суворину, С. Н. Сыромятникову, а также всем лицам, которые оказывали мне свое содействие в моих скитаниях по Святой Руси.
В. Я. Ревель, 4 V, 1901.КНИГА ПЕРВАЯ
Не всегда клубиться небу тучами
И грозить холодными метелями.
Не всегда идти дороге кручами,
Темной чащею с седыми елями.
Не томиться век тебе кручинами!
Побежит дороженька равнинами,
Вольной степью, рощами тенистыми
С светлыми ручьями, серебристыми.
Солнце засияет, тучи скроются,
И слезами горе с сердца смоется.
Народная песня
Что же ты, лучинушка,
Не ясно горишь,
Что не вспыхиваешь?
Неужели ты, лучина,
В печке не была?
Я была, была в пече
Во сегодняшней ноче.
Лютая свекровушка
В печку лазила,
Чугун с водой пролила,
А меня, лучинушку,
Она облила.
Записана в деревне Кузнерке,
Малмыжского уезда+
ГОЛОДНАЯ ЗИМА
Элегия в прозе
Деревня Малмыжка стояла далеко от уездного города, затерянная среди большого казенного леса, на берегу реки, по которой весной в половодье сплавлялись дрова и барки. Летом река высыхала настолько, что по ней плавали только в плоскодонных лодках.
Неурожай, захвативший всю губернию, ударил и в этот уединенный уголок. На полях, из растрескавшейся от жары земли, потянулись редкие пустые колосья, годные только на корм скоту. Раньше в деревне всегда бывали общие интересы и радости, но беда разбила всю деревню на отдельные группы и кружки, заботиться стали только о себе и самых близких. Каждый родственный кружок враждебно смотрел на другие, скрывая запасы, словно боясь чего-то. В деревне стало скучно и угрюмо.
Настя, дочь крестьянина Трифона Плотникова, испытала более всех тяжесть одиночества. Ее раньше всегда считали строгой и неприступной, потому что она на гулянья ходила редко, и парня — «прияточки»у нее не было. Парням она нравилась, высокая, румяная, с сильными руками, со спокойным и гордым взглядом.
Ее отец, тихий задумчивый мужик, взял покойную свою жену из дальней деревни, и родственников в Малмыжке у него не было. Когда беда приступила, он потолковал с дочкой и бабкой и ушел в Казань на заработки. Настя перевезла отца на тот берег реки и, вернувшись, долго сидела на высоком берегу и глядела, как по низким отлогим лугам шел мерной страннической походкой отец.
Раньше бывали не раз тяжелые времена, но не бывало того, что случилось теперь. Старики рассказывали, что они помнили неурожаи, но тогда бывали запасы, и народ выкручивался из беды. В старое время люди жили расчетливее. Но лет десять назад подати увеличились вдвое; то, что родилось, свозили по реке на лодках и зимой на санях в город, деньги же как-то в руках не удерживались.
Когда родственные кружки, замкнувшись, обошли Настю, она сделалась еще строже, еще неприступнее к другим. Ей нравилось сидеть дома, прясть и слушать бабку. Та рассказывала про свое прошлое, как она была молодая и как жила в услужении у купца.
Через два месяца пришло письмо от отца. Он писал, что работать теперь трудно, так как мужичье навалило в город со всех сторон, но что он все-таки работает в каменщиках, здоров, шлет свое благословенье и пять рублей денег.
Письмо принес из волости односельчанин, мужик степенный и верный, но пяти рублей в конверте не было.
— Волостной старшина письмо мне выдал и говорит, что батька твой дурак, зачем золотой червончик вложил, монетка-то махонька, кругленька, сквозь щелочку-то она и выкатилась… Да врет он, мошенник, поди, рожа-то красная, масляная, сидит, чаишко дует и в бороду посмеивается!
Настя хотела пойти к волостному, потребовать денег, но бабка ее отговорила:
— Еще выпороть прикажет, — не ходи! Деньги пропащие, поголосим, легче станет!
К земскому начальнику Настя тоже не пошла жаловаться; он жил в двадцати верстах, доступ к нему был трудный, идти к нему приходилось «на авось», так как у него был один приемный день в неделю; если же приходили в другие дни, то мужиков гнали прочь.
Настя и бабка два дня поголосили, сидя на печи, обняв руками колени и покачиваясь из стороны в сторону, и не раз потом, в течение месяца, когда вспоминали об этом, начинали снова голосить.
Бабка, которая мало спала, по ночам шепотом читала молитвы или начинала разговаривать сама с собою. Они вдвоем лежали на печи под одним тулупом. Настя любила, проснувшись, прислушиваться к непрерывному шепоту бабки и угадывать, о чем и про кого она говорит.
В избе было темно, только два окошка вырисовывались странными светловатыми пятнами во мраке. Ветер шумел на улице, качал соседнее дерево, всю ночь ударявшее сухими голыми ветками по стене избы. В ночной тишине чуткий слух Насти улавливал, как причудливый порыв ветра задевал солому на крыше в разных концах, и ей казалось, точно какие-то большие птицы бегают по крыше и задевают солому перьями. Бабка шепчет что-то несвязное, неразборчивое… Настя придвинулась ближе, вслушивается и различает слова. И не знает Настя, бредит ли бабка, или говорит наяву.
Замолчала бабка, зашептала молитвы. Насте страшно стало, окна глядят в темноте, как два тусклых глаза. Кажется, что кто-то тихо в окошко стучится, кто-то высокий и темный по избе ходит и половицы под ним скрипят.
— Бабка, а бабка, мне страшно, — шепчет Настя.
Бабка протягивает дрожащую сухую руку, крестит Настю и гладит по ее лицу и волосам. Но стук в окно усиливается, кто-то настойчиво, но тихо стучит ногтем по стеклу.
— Бабка, а ведь быдто кто стучит? Боязно!..
Настя тихо спускается с печи, ощупывая в темноте босыми ногами, куда ступить, и подходит к окну. Там действительно видна чья-то высокая темная фигура.
— Кто там? — кричит Настя. Фигура придвигается к окну. — Кто такой будешь?..
— Ты Настасья Трифонова Плотникова?
— А ты чей будешь? На что тебе?
— Не ладно с улицы-то говорить, впусти в избу!
— Да мне боязно, что ты за человек? Поди — недобрый?
— Слушай — я старшина волостной, али не признала? Да огня не разводи, я сейчас назад уеду.
— Да ты побожись!
— Вот-те Христос!..
Настя накинула полушубок, зажгла жестяную лампочку без стекла и с нею вышла в сени. Отодвинув засов, она впустила высокого мужика. Борода и волосы были растрепаны, глаза глядели мрачно.
— Ты и есть Настасья?
— Иди в избу что ли, что здесь остановился?
— Ладно! Деньги вам — пять рублей были поштою. Так я сказал, что они потеряны. Не правду сказал тогда… Сынишка мой заболел, умирает. Так совесть меня замучила, — не из-за меня ли? Грехов у меня много по разным местам. Деньги-то свои возьми, да еще 40 копеек от меня. Простите меня окаянного! Всем умирать приходится, смерть у нас закосила по селу, мало кто на лавке не повалялся.
Настя взяла золотой, но от 40 копеек отказалась: «Христос с тобой! И на наших спасибо!» Ей стало жалко старосту; подперевши щеку рукой, она спросила:
— Так сынишка твой болен, говоришь?
— Умирает. Я ночью сюда подъехал, чтоб мужики не видели. Лошадь в лесу привязал. Помолись за парнишку, обидел я тебя, так твоя молитва быстрей до Бога дойдет. Да смотри, никому не сказывай, что я приезжал. Я ведь тайком… Прощай!..
— С Богом!
Настя задвинула засовом двери и вернулась к бабке на печь под теплый тулуп. В избе стало опять тихо. Где-то на деревне, надрываясь, лаяла собака. Появление старшины казалось сном, но реальным оставался золотой.
Настала зима, очень снежная, сугробы снега окружили Малмыжку со всех сторон. Часто деревня была отрезана от всего мира, когда над ней кружились метели. Некоторые семьи соединились в одну избу, чтобы теплее было и легче прокормиться. Запасы тщательно оберегались и все следили друг за другом.
Сена не было. Скоту давали старую солому. Коровы с взъерошенной шерстью мычали целые дни.
Мужики, не желая дожидаться падежа, стали резать скотину. Но коровы, казавшиеся надежными, падали и, не вставая, околевали. Мужики подвешивали скотину к потолку на веревках. Падали и лошади. Их оберегали, кормили чем могли, но лошади бессилели и с трудом возили дрова из лесу.
Понемногу стали учащаться болезни. Больше заболевали женщины и дети; начиналось с того, что чувствовалась сонливость, слабость, желанье лежать и не двигаться. Больная ложилась на лавку или печь и молча, неподвижно лежала часы и дни. Затем появлялись опухоли, боли. Ежедневно число лежащих увеличивалось.
Если бы пройти по всем избам, то в каждой ударил бы в нос тяжелый одуряющий запах множества скученных людей и всюду видны были бы лежащие безмолвные тела взрослых и детей, покрытых тряпьем и овчинами. Некоторые заболевали иначе. У них появлялся жар и озноб, болел живот и они, помучившись, умирали или медленно оправлялись.
В деревню никто не приезжал. Только из нее ездили мужики в село, в котором было волостное правление, церковь, лавки и кабак. Мужики возили туда отпевать умерших, гоняли скотину, продавали свои имевшие какую-нибудь цену вещи. Оттуда привозили домой муку.
Раз в воскресенье приехали в деревню вотяки на трех санях, запряженных парами лошадок с бубенчиками. Они были в мохнатых меховых шапках, со слезливыми маленькими глазами; на тулупах были цветные нашивки, лапти переплетены красными и зелеными тесемками. Они приехали, чтобы взять к себе на усыновление нескольких детей.
Мужики знали, что хотя вотяки живут бедно и грязно, но это от скупости, что они народ богатый, у них и деньги имеются и большие запасы хлеба. Если им дать детей, те по крайней мере не распухнут и не подохнут от голода. Втайне мужики надеялись в будущем детей отнять обратно.
— Мой ребятки не имел, Божинька не давал. Продавай ребятки, мой деньги давал, кормил, сын сделал, когда мой помирал, — хозяин сделал!..
Вотяки взяли нескольких «красненьких», то есть рыжих мальчиков и белокурых девочек и оставили по полтиннику и по целковому за каждого. Бабы ревели, бежали за санями, мужики смотрели в стороны, не решаясь взглянуть друг другу в глаза, плевались и повторяли:
— Божья воля, шут их дери!..
Вечером достали бог весть откуда водки, все перепились, стыдили друг друга «каинами», и была драка великая.
В феврале бабка распухла, постонала недели две и померла. Настя сама ее обмыла и одела. Пришел малознакомый паренек и сказал, что он сколотит гроб и свезет бабку в церковь. Он был невысокий, с жесткими щетинистыми волосами, такими светлыми, что они были светлее его лица. У него были добрые голубые глаза, и он постоянно краснел так, что лицо покрывалось багровыми пятнами. Настя не ожидала именно от него услуги, так как с ним до сих пор она двух слов не сказала.
Гроб был им сколочен к вечеру; паренек с Настей сложили в него окоченевшую бабку и поставили на стол посреди избы. В головах прилепили восковую свечку. В избе было темно. Настя, сидя возле гроба на лавочке, медленно и старательно читала псалтырь. Слабый мерцающий огонек свечи бросал косые лучи на загорелый морщинистый лоб бабки со сдвинутыми бровями. Поскрипывал сверчок за печкой.
Паренек приходил еще раза два, садился на лавку возле дверей, мял шапку в руках, слушал святые непонятные слова, которые читала Настя; или вставал, подходил к гробу и, краснея багровыми пятнами, любовно гладил загрубелой рукой по свежеотструганным сосновым доскам, стараясь сохранить серьезный и деловой вид.
Настя сидела ночью возле гроба, то читала псалтырь, то сидя начинала дремать, глаза сами слипались, как она ни старалась сохранить бодрость.
Утром она надела полушубок и валенки и туго перепоясалась кушаком. В избу собрались несколько женщин и детей, соседних мужиков. Они помогли вынести гроб и поставить его на дровни. Исхудалая и взъерошенная Буланка возовым размеренным шагом потащила дровни на село. Настя с кнутом пошла рядом.
***
Мужики не раз спрашивали старосту, не собрать ли сход и просить земского начальника о пайках. Они слышали, что во многих местах выдавались ссуды хлебом. Староста неизменно отвечал:
— Нельзя, ребятки. Волостной сказывал, что земский заругает; не позволяет, говорит, просить о пайках. А где сход собирали, там сейчас в «холодную» старост посадил. Большая мне охота из-за вас сидеть в «холодной»?
Мужики почесывали затылки и говорили:
— Оно девствительно!..
В марте неожиданно привезли земский хлеб, присланный управою.
Староста потирал руки и говорил:
— Видите, ребятки, и прислали нам хлебца, а намозолили бы земскому, он бы осерчал и ничего бы мы не получили. В Котловке и Молынгурте жаловались в управу, ничего им и не выдали!
Мужики опять повторяли:
— Оно девствительно!..
Но не все остались довольны. Хлеб раздавался не всем, а избранным нуждающимся, по усмотрению старосты. Настю обошли. У нее оставалось немного муки, которую она берегла, урезывала и старалась продлить на возможно большее число дней. От отца не было никаких известий. Она решила уйти куда-либо на заработки или временно поступить послушницей в монастырь.
***
Настя уже не была дородная, румяная девка. И на ней отразилась голодная зима, медленно и неуклонно высасывавшая жизнь, здоровье, бодрость из каждого взрослого и ребенка. Настя исхудала, сделалась тонкой и высокой, с тихими движениями. Расширенные темные глаза смотрели куда-то мимо людей. Соседи глядели на нее с жалостью и боязнью, говоря: «Черная девка стала».
Перед ее уходом пришел к ней беловолосый паренек, который делал гроб бабке, перекрестился на икону и сел на лавку.
— Я долото никак забыл, — сказал он, глядя в сторону и покраснев. — А ты куда уходить хочешь?
Настя не отвечала.
— А ты не уходи!..
Настя слабо покраснела, но кровь сейчас же опять исчезла с ее лица, темного, как на старых иконах.
— Меня голоса зовут… Страшно мне тут. Бабка это за мной приходит или ангелы за мою душеньку спорят? И ночью и днем, как только тихо станет в избе, так быдто в углу кто-то двое шепчутся, а слов не понять. Один быдто сердитый, скоро говорит и бранится, а другой жалобный, точно плачет, все быдто оправдывается или просит. Мне страшно здесь. Моченьки нет оставаться. Я в Казань схожу, может, это батька меня зовет, болен, поди, лежит где на дороге и пожалеть его некому…
На другой день Настя ушла из деревни.
Народная песня
По травке, по муравке Добрый молодец гуляет, Красных девок выбирает. Выбрал девку, выбрал красну, Против себя становил, Девке речи говорил: «Пойдем, девка, пойдем, красна, За ворота побороться!» Девка парня поборола, Черну шляпу с кудрей сшибла, Русы кудри сколочила, Синь кафтан да разодрала. Пошел молодец, заплакал. Девка парня сожалела, Черну шляпу принадела, Русы кудри причесала, Синь кафтан да призашила. Записана в деревне Кузнерке, Малмыжского уездаЖИВУЧИЕ ЛЮДИ
Осенью 1898 года я решился отправиться бродить по русским деревням.
Не для чего было ждать летнего времени. Хотя, конечно, было бы приятнее видеть крестьян на свежем воздухе, в поле за работой или у костра. Но чтобы видеть крестьян не в приукрашенном виде, а в соответствующей им серой и неприглядной обстановке, лучше всего отправиться к ним осенью, в полную распутицу, или зимою, в сильные морозы, когда все попрятались по избам, дел особенных не имеют и рады поболтать со всяким новым человеком.
Мне хотелось пожить жизнью крестьян, испытать и понять их печали и радости, хоть слегка и издали заглянуть в то, что называется «душою народа». Останавливаясь и живя в крестьянских избах, я мог ясно, без каких-либо преград, увидеть ежедневную жизнь крестьянина и все его заботы, которые нам кажутся такими ничтожными и мелочными, а для него имеют столь громадную важность и ценность.
Странное и сильное чувство я испытал, когда, впервые одев полушубок, отказался от всех привычек, сопровождавших меня с детства, от всех художественных и научных интересов, и попал в толпу мужиков в овчинах и чуйках, в лаптях, заскорузлых сапогах или валенках.
Мне казалось, что нет возврата назад, и никогда уже больше не вырваться из этой нищей и грязной толпы. Я ощутил чувство полнейшей беспомощности, — предоставленный только самому себе, своей ловкости и находчивости, — и долго пришлось переделывать себя, чтобы освободиться от этого гнетущего, тяжелого чувства.
Даже в городе, на улице, меня все поражало на каждом шагу, в той толпе, которая шла прямо на меня, не давая дороги, тогда как раньше мужик сторонился перед моей форменной фуражкой.
Но по мере того, как я опускался все глубже и глубже в народную массу, к моему удивлению, весь окружающий меня бедный люд все возвышался, делался сложнее, люди оказывались задушевнее, серьезнее, типы интереснее.
И когда мужики не подозревали во мне «барина», я становился лицом к лицу с очень развитыми личностями, со свежим русским умом, с самостоятельными взглядами и удивительно оригинальными, разнообразными характерами.
Мне кажется, что разница в положении слишком прижимает и давит того, кто стоит ниже и находится в зависимости: при таком положении никогда не узнать ни души, ни мыслей того, кто бедствует и нуждается; часто замечал я, что мужик, разговаривая с барином, притворяется непонимающим или поддакивает против собственного убеждения, — так сказать, косвенно или инстинктивно льстит, — унижая себя, он тем самым подзадоривает в барине мысль об его умственном превосходстве.
С точки зрения городского жителя, деревенская жизнь очень проста и незатейлива; но если войти в деревню на равной ноге со всеми ее обитателями, вы увидите, что каждый человек, каждый ребенок ничуть не менее сложен, чем интеллигентный человек или городской ребенок. У крестьян особенный язык, особая манера выражаться, но под этим скрываются глубокие и разнообразные мысли и чувства: только их не разглядеть тому, кто лишь на час завернет по делам в деревенскую избу.
Каждый отдельный район в России и каждая местность в этом районе имеют свою местную своеобразную культуру, которая незаметна только поверхностному туристу, но поддается внимательному и вдумчивому изучению.
Каждая деревня в этой местности имеет свой культурный материал, на котором воспитываются деревенские поколения.
Все в крестьянской избе, все его грошовые, на наш взгляд, вещи имеют ценность для крестьянина, с той же самой психологической точки зрения, с которой нам дорог медальон, где тонко нарисован миниатюрный портрет нашей бабушки, или «вольтеровское кресло» прошлого столетия и т. д. С каждым предметом в избе связаны самые разнообразные воспоминания, начало которых пропадает в тумане прошлых лет.
Эти воспоминания столь же трогательны, как и в старинных дворянских семьях, которые описаны нашей дворянской литературой; но только для этих воспоминаний нет ни историка, ни писателя, и они хранятся, постепенно тускнея, в полуграмотной памяти народной массы. Этой психологической стороной можно объяснить, почему переселенцы нагромождают на свою телегу и везут за тридевять земель какие-то дешевые вещи, ничего не стоящие корыта и прочее. С ними связаны и радости, и печали, вся жизнь крестьянская, и они стали дороги их владельцу.
А между тем как игнорируется постоянно эта мужицкая душа и его чувство! Никогда не забуду одной тяжелой картины, которую увидел в деревне Голиной, Новгородского уезда, на сборе недоимок, когда из изб вытаскивали самовары, кули, выводились со двора коровы, телята, а крестьяне кричали становому :
— Оставь корову, она «береженая»! В поле у меня сена много, а ты приехал в распутицу, когда никакой дороги нет. Подожди денька два, дорога застынет, пойдут морозы, и я на санях вывезу все сено и продам, а теперь до него через лужи и не добраться…
Если обладать силой воли и крепкими нервами, то провести день-другой в крестьянской избе еще можно; но вся грязь, вонь и духота, царящие в ней от нищеты, начинают понемногу одолевать даже самого нетребовательного горожанина, решившего отказаться от какого бы то ни было ничтожного комфорта, подавить брезгливость и даже испуг, когда на второй день, приглядевшись к чужой крестьянской обстановке, начинает он замечать привычки и самые обыденные проявления этой их жизни.
Зимою жизнь в деревне пробуждается не очень рано, крестьяне встают в 7 — 8 часов утра и позже. Спят все вповалку на нарах, на полу или печке, накрывшись тулупами, одеялами, всем, что только может оказаться пригодным, так как комната постепенно остынет, в ней становится холодно.
Утром бабы растопляют печь тем, что могло быть насобрано: хворостом, щепками, соломой; дрова же слишком дороги. Когда постепенно проснутся и встанут взрослые и дети, каждый плеснет себе на лицо немного воды из ковшика, затем помолится усердно и долго перед образами, и все садятся за стол обедать. Едят из одной миски, и никому в голову не приходит обедать отдельно тому, кто в семье болен — в прыщах и язвах. Братство и общее уважение друг к другу не позволяют кем-либо гнушаться.
Все основано на психологическом отношении, и про больного из своей среды говорят одно: «никто, как Бог! Наказал его Господь, лишил носа, — на то Его святая премудрость, все мы под одним Богом ходим и сами всего ожидать можем».
В зимнее время крестьяне много ходят друг к другу «погреться», посидеть и побеседовать. В их взаимном отношении заметно большое уважение и «душевность», несмотря на наружную грубость, которая со стороны может показаться желанием обидеть. Оскорбительным считается только внутреннее враждебное отношение, хотя бы оно проявлялось в незначительных выражениях.
У крестьян очень сильно развита душевная чуткость, и они быстро подмечают желание обидеть или насмеяться и долго не могут забыть и простить этого. Между собой они относятся с добродушным юмором и большим сочувствием к чужому горю. При всей общеславянской покорности и смирении у крестьян много самоуважения и гордости. «Я сам себе господин, — говорят они, — я сам над собою барин!» Им вовсе не нравится, если, обратившись к мужику, назвать его «дяденька», «братец» или «любезный». «Мы тоже всякое деликатное обращение понимаем и знаем, — по отчеству нас не горазд бы трудно величать!»
Поживши в крестьянской среде некоторое время, начинаешь понимать их точку зрения. Незначительное чиновное лицо кажется крестьянам недосягаемо высокой величиной, и всякое появление кокарды в деревне производит сенсацию и волнение. Каждое слово прибывшего запоминается и потом передается от одного к другому.
Народ ценит всякое выражение внимания и ласковости со стороны начальствующего лица: оно разносится немедленно по всей деревне и создает прибывшему «начальству» массовую симпатию крестьянской среды. «Хороший у нас земский барин, внимательный, всякого выслушает, расспросит, в полности хочет обо всем правду узнать. А вот в соседнем участке, не приведи Бог, какой барин! Ему не смей что-либо объяснять, сейчас гыркнет:» Молчать! Не рассуждать! Нечего мне зря с вами болтать! Слушаться, что я приказываю, и кругом марш!..«
Барина, поговорившего» по душе да по-хорошему «, крестьяне готовы на руках носить. Строгость вовсе не исключает симпатии населения: напротив,» серый народ» любит и ценит строгих начальников, если только строгость связана с порядком, точностью и твердостью сказанных слов, и если начальник доступен просителям. Крестьянин бывает очень тронут, когда видит, что кто-то бескорыстно заботится о нем.
К крестьянам постоянно возвращается мысль о том, что они «отрезаны от правды», что всякий может их обидеть, но живет вера — где-то там далеко в столице живет Царь, и «если только до Царя дойти, то всякая помощь будет…»
Когда же мужик знает, что никто не смеет помыкать им, так как есть у него ближайший начальник, который всегда вникнет в дело и заступится, если дело правое, крестьянин уже чувствует бодрость и не видит себя беззащитным. А ввиду того, что беда может постучаться в ворота мужика постоянно, доступность местного начальства ко всякому просителю более всех других качеств вызывает симпатии массы.
Самолюбие и самоуважение крестьян, насколько было случаев замечать, иногда игнорируется теми, кто имеет с ними дело. Между тем почти 40 лет свободы , быстро идущее вперед общее развитие государства возродили крестьянина и воспитали в нем сознание собственного достоинства и гордость.
***
«Я мужик сер, да ум у меня не черт съел!» — говорят они.
Народная песня
У вдовушки три дочушки, Все белы, хороши. Перва Саша, друга Маша, Третья дочь Ненила. Дочь Ненила прясть ленива, Бела и хороша; За ней ходят, за ней бродят Двое рыболова. Двое-трое рыболовы, Все купцы торговы. Они носят на подносах Дороги подарки. Дороги таки подарки: Кумач и китайка. Кумачу я не хочу, Китайки не нада. На базаре-то ребята Жеребья метали: Кому шапка, кому деньга, Кому красна девка. Доставалась красна девка Не другу, не брату, Лихому супостату.Записана в деревне Шульин почин,
Малмыжского уезда.
ОКОЛО НОВГОРОДА
Волхов катил желтые, мутные волны. На длинном мосту, том самом, где бились в старину друг с другом новгородцы, теперь тянулись ломовики, шли гимназисты, дремал сторож. С Ильменя дул пронизывающий холодный ветер.
С высокого берега подымаются серые унылые стены древней святой Софии ; металлический голубь на кресте над куполом сидит по-прежнему и не улетел, несмотря на предсказание. Очевидно, хотя давно уже пришел конец Великому Новгороду, голубь не хочет его покинуть и остается постоянным грустным памятником былого величия.
Внизу под мостом у берега стоят большие рыбацкие лодки, и возле них копошатся мужики в тулупах и высоких меховых шапках; они поспешно выгружают сено. Я спустился к ним.
— Что, молодец, смотришь? Аль чего нужно?
— Смотрю я потому, что, думаю, завтра вы к себе домой на озеро поедете, так не захватите ли меня с собою?
— Навзеро? Можно, это можно. А куда тебе нужно?
— На Войцы.
— Туда теперь нельзя плыть. Далеко будет. Еще хряснет по пути лодка и заколеет середь озера… На наш берег могим свезти, а от нас дальше ты, коль хочешь, берегом пройдешь.
— Вы сами откуда?
— Мы Самокрязьские, с Неронова Бору. Приходи завтра утренечко сядить, мы до свету выедем…
Когда на другой день, рано утром я снова пришел к реке, по ней с шумом летели льдины, вертясь, наскакивая одна на другую и выпирая на берег. Рыбаки вытаскивали лодки на песок, отвязывали веревки, складывали весла.
— Видишь, молодец хороший, лодкам здесь нужно буде перезимовать. На озере хряснуло, лед пошел, вода густая теперь и ветер густой, лодкам уже не пройти. Мы пробовали пробиться, за мост выехали: бились, бились и назад прибились. Тугая работа на воде, коневня. Мужик из нашей деревни приехал на базар, он тебя свезет, коли хочешь. Все одно ему домой порожнем ехать.
До темков доедете…
На базаре, среди ряда телег, я отыскал самокрязьского мужика. Его сивая лошадь с длинной мохнатой шерстью очень неохотно вывезла телегу с базара и то шагом, то трусцой потащила за город. Сидевший со мной в телеге ее хозяин Василий Иванович очень степенно держался, старался выпытать у меня какие-либо задние мысли, расспрашивал про мои родные места и сам рассказывал обо всем.
— Место у нас напольное, лесу нет совсем. Беда нам без дерева; достаем его из-завзера. А деревен у нас много, сели, поди, шестьдесят на версту!
Кругом простиралась серая равнина без единого деревца, с редко разбросанными убогими деревеньками. Кое-где в канавках торчали голые прутья кустов. Только на берегу Волхова виднелась старая роща, посреди нее блестели золотые купола Юрьевского монастыря.
— Сколько лет назад вызолочены, а до сих пор как жар горят. Богатый монастырь. Сказывали: ночью целые обозы хлеба сюда привозят. И купцы московские вклады стотысячные вносят. А вот там на косе, где Волхов поворачивается, там скит старцев. Живут старенькие монахи. Весной, когда Волхов подымается, вода окружит этот скит и как островок он на Волхове виднеется. У старцев есть хлеб при себе, покуда Волхов не спадет, они на том островке и спасаются.
Мы долго ехали серым, замерзшим полем, при непрерывном ветре с озера.
Нас нагоняли мужики, возвращавшиеся из города, мы присоединялись к ехавшим впереди, но все постепенно сворачивали в свои деревни, и мы с Василием Ивановичем остались одни.
Уже темнело, когда сивая лошадь остановилась возле одной из крайних изб Неронова Бора. В оконце смотрели ребятишки. Ветер дул не переставая; шумела солома на крыше; было холодно и неуютно. Деревня маленькая в открытом поле. Хотелось скорее в избу, согреться, напиться чаю.
Мы прошли сквозь узенькую дверь в сени, затем попали в хлев, поднялись по скрипучей лестнице на сажень высоты и в полумраке подошли по шатким доскам к обшитой тряпками и паклей двери в избу. С трудом распахнув дверь, мы вошли в теплую, парную комнату с низеньким закоптелым потолком.
Пахло ржаным хлебом, чем-то пареным и сырой кожей.
Василий Иванович долго крестился на старые образа в переднем углу. С печки слез маленький голоногий карапуз в одной красной рубашке и валенках и обратился ко мне:
— По штанам видно, что солдат. Я в городе солдат видел.
— А что ты еще в городе видел?
— Горшки видел, шелковое пальто видел, в трактире был, там барин нам чай подавал…
— Откуда ты этого человека взял? — шепотом спрашивает Василия Ивановича его хозяйка.
— Нашим на реке встретился, хочет деревни посмотреть. Кто его знает, что он за человек.
Василий Иванович с семьей сели обедать, пригласили и меня поесть их «хряпу», пирожка с творогом и штей со свининкою. Хозяин и все мы следом за ним долго крестились на иконы перед обедом и после него.
Растворилась дверь и вошла сморщенная подслеповатая старушка, закутанная в тряпье, с котомкой за плечами. С трудом стащила заплатанные рукавицы с онемелых рук, долго крестилась, затем уставилась спокойным взглядом в землю, опершись на клюку. Хозяйка отрезала ломоть хлеба и подала старухе.
— Не хочешь ли штей?
— А какие они?
— Какие? Скажи спасибо, что дают. Вестимо, не пустые, а с мясом.
— Нет, я скоромного не ем.
— Вишь ты какая! А моя бабка так до девятого десятка все скоромное ела. Как исповедываться пришлось, она и говорит попу, что ем мясное.
Нехорошо, говорит поп; а как назад домой приехала, так и опять захлебала.
Помолчала старушка-побирушка и говорит:
— Дрова дороги. Набрала кабы я на четыре с полтиной, купила бы дров, да и сидела бы в избе барыней. А то холодно теперь по-избы. Ну, я пойду.
Дыры нет в полу?..
— Ступай бабка, с Богом, не бойся, держись только с краю.
Старушка ушла, и хозяйка мне объяснила:
— Христом-Богом она побирается. Дочь у ей пригулок, вовсе убогая, глупая. Сама-то здоровенная, а сырая, годов ей тридцать, лежит на печи и боится, что с печи упадет. Так всю ночь керосин горит, а матка с краю сидит и стережет, — жалко родное дите.
Вошли два мужика, покрестились, как водится, поглядывая на меня, и сели на лавку.
— Погодка-то сдымается, — сказал один.
— Кузьма валенки купил, — добавил второй, и оба замолчали. После короткой паузы начались вопросы:
— А ты что за человек будешь? Ты не на пузыре прилетел?
— Как это на пузыре?
— Откуда же ты взялся? У нас один на пузыре с неба свалился, так и ты, должно быть, тоже. А дело было так. Стояли мы с лодками на желязни.
Вдруг, видим, не то облако, не то пузырь летит по небу от Новагорода.
Летел он ровно и вдруг сдохнул к низу. Потом опять сдынулся к небу, потом опять так и сяк стал вилять, то сдынется к небу, то опустится, то сдынется, то сдохнет. На ем немец летел и сказывал потом, что его здорово тогда потрепало и затылок расшибло…
Когда мы увидели пузырь, так и бегим к нему. Тимофей схватил за веревку, что с пузыря по земле волочилась, — как сдынуло его к небу сажен на пять печатных, то-то натрясся тогда. Мы все за веревку хватались, чтобы пузырь в озеро не унесло. А на тот случай, если в воду попадет, у немца жилет пробковый надет был, говорит, что и утонуть в ем он не смог бы.
Мы бросились ловить пузырь, а ен уже якорем зацепился и мы схватили веревку и подсобили. Сперва немец не подпускал нас к пузырю, из него дух зловредный исходил и нас удавить мог. Немец только указывал нам, за что хвататься. А пузырь, что живой, лежит, шелыхается и ворочается; из клеенки сделан такой склизкой, но крепкой. Поверху на нем что кошель из веревочек сделан, маленьки таки гонталочки, а что к низу потолще костелюшки, а внизу совсем веревки крепкие, и кольцо с форточкой, откуда дух выходит…
Порассказав свое, мужики расспрашивали меня про Питер, про правительствующий Сенат, про Святейший Синод. Когда они ушли и хозяева с ребятами стали укладываться спать, я лег на лавку под образами, сумку подложил под голову, укрылся своим полушубком и долго не мог заснуть.
Хозяин потушил керосиновую лампу и кряхтя взобрался на печь. В избе все затихло. Слышно было дыханье спящей семьи. За окном выл ветер. Рядом за стеной лошадь переступала копытами по доскам и фыркала.
Народная песня
Дайте чернильницу с пером И с бумажкой гербовой. Уж я просьбу напишу Государю своему. Государь — от наш отец, Мы сольем ему венец. Мы сольем ему венец Из своих чистых сердец. Записана в деревне Кузнерка Малмыжского уезда.ХОДАКИ
В избу стали собираться мужики, все больше пожилые и старые; прибегали и ребятишки, но их выталкивали вон. Мужики входили в кожаных заскорузлых тулупах, топотали при входе ногами, отряхивая снег, долго молились на темные образа, потом садились на низкие лавки кругом комнаты, опустив лохматые всклокоченные головы и опершись локтями о колени.
Возле меня сел высокий старик с длинными белоснежными волосами и бородой патриарха, держа в руках палку, на которую повесил свою большую меховую шапку. Он заговорил со мной: откуда я, в каких городах и губерниях был? Мужики разговаривали друг с другом вполголоса, а сами в то же время, как мне казалось, прислушивались к тому, что я говорил моему соседу.
Это было в глухую осень, в рыбацкой деревне Неронов Бор, на берегу озера Ильмень. От первых морозов земля застыла крупными комьями, по которым скрипучие новгородские телеги стучали и прыгали, с трудом влекомые крестьянскими лошаденками. Сухой легкий снег не ложился на землю. Озерной, не стихающий ветер выметал его отовсюду и носил по полям, быстро нагромождая одинокий сугроб на какой-нибудь попавшийся по дороге сарай.
Наш разговор со старцем велся вполголоса, степенно и спокойно. За стеной не умолкал ветер, доносивший глухой шум озера, и безостановочно распевал тонкими и грустными голосами в щелях избы. Окошко с просветом, склеенным из кусочков стекла, дребезжало и вздрагивало при порывах ветра.
Маленькая керосиновая лампа, спускавшаяся на железном пруте с низкого потолка, плохо освещала углы избы, где виднелись темные силуэты серьезных мужиков.
— Говори, что ли, Ефим! — прервал наш разговор чей-то голос. Все сразу умолкли и, подняв головы, уставились с выжидающим видом на моего соседа. Старик стал шарить у себя за пазухой и вынул несколько старых сложенных бумаг. Тогда все мужики заговорили сразу:
— Горе у нас! Забытые мы! Некому дело наше выслушать! Дело наше — правое дело, а отовсюду гонят нас, говорят: — «надоели вы с вашим делом!»
Да нам-то что делать, когда другим докука?..
Из темного угла вышел бородатый мужик с мохнатыми бровями, в длинном разодранном тулупе, из дыр которого торчала баранья шерсть. Старик Ефим, повернувшись ко мне, сказал, указывая на подошедшего мужика:
— Тимофей — истинный человек, богомольный. Детей нет, а с женой и свояченицей живет.
— Слушай, чужак! — сказал Тимофей, дотронувшись до моей руки. — Я Тимофей Федоров. Везде я все одно скажу — верное наше дело! Мы — бывшие крепостные, и с нами сделали ошибку. Барин передал нас в казну, а казна пометила у нас на 300 десятин больше, чем на самом деле. Так мы четвертый десяток годов платим подати за эти 300 десятин, которых у нас нет, и все просим, чтобы нам землю смерили. А нас все гонят, говорят, что мы даром начальство беспокоим . Я и до царя-батюшки доходил, довел господь помазанника видеть, покойного Александра Николаевича, да только дело наше все-таки не выгорело, и отчего, — расскажу сейчас.
Пошли мы по Питеру, Игнат за меня держится, боялся очень; а я и тогда уже бывалым считался, потому с барками часто ездил. Пошли мы за толпой и вышли на площадь, а народу там тьма-тьмущая. Говорили, в царя стрелял кто-то, и божья милость не допустила. Пробрались это мы сквозь народ и вышли к самому дворцу, на ступеньках даже стали. Игнат сзади вцепился мне в кушак и так не выпускал, а то оттерли бы его, и я бы не сыскал его больше. И вот народ весь на колени опустился, и мы тоже на ступеньках стали на колени, а прошение я за пазухой держу. Выйдет царь — прошение сейчас себе на голову положу — мы первые, сейчас нас царская милость и увидит.
А рядом с нами стоят какие-то мужики и спрашивают:
— Вы не с прошением ли?
— С прошением!
— И мы с прошением, мы, — говорят, — рязанские; нас ослобонили, волю дали, да вовсе без земли, так мы только на царя-батюшку и надеемся!..
А там дальше костромские стоят, и те с прошением. А кругом народ шумит, не верит, боится, что царя задело пулею, хочет живым и здравым увидеть. А дальше все кареты и кареты стоят, все посланники от заграничных государей и королей, все поздравлять приехали. Генералов что было, — страсть!
Наконец зашумело в народе, что гул по лесу пошел: «царь, царь вышел!»
Весь народ остатний бросился на колени, и крики пошли — «ура и ура!» Шум какой, да радость — что гром гремит! Глаза-то у меня заволокло, я и не вижу, где государь, много с ним генералов было в белых перьях…
И вдруг точно прояснилось во мне, и вижу я, царь стоит, спокойный, высокий и печальный… Какая печаль и грусть была в глазах его, я и сказать не могу.
Зашептались тут и рязанские, и Игнат, все как в одно слово сказали:
«Нельзя подавать прошение — потому что печален государь. Можем ли мы, темное мужичье, наше прошение подавать, когда царь печален, когда кругом заграничные посланники стоят, поздравляют. И если мы тут со своим прошением полезем, что подумают заграничные посланники про наше государство,» какие, дескать, у нас непорядки делаются?«
Сел государь в коляску, и мы, как передние, за коляску ухватились, бежим рядом, кричим» ура!«и радуемся. Вижу, и рязанские, и костромские тоже ухватились, кричат и все бегут за коляской, и народ толпой бежит, и все, как дети, и плачут и радуются…
Видишь, чужак, многим ли из нашего брата приведет Господь царя увидеть? А я вот, как перед тобой, так близко стоял. Ведь что мне стоило, вынь прошение и положь на голову, и царь взял бы его. Да совесть толкнула:
» стой, теперь нельзя, государь печален!..«
Больше царя-батюшку ходакам видеть не довелось. Походили, походили Тимофей с Игнатом по Питеру, сдали свое прошение в» казенный дом «, да ни с чем и вернулись.
— А вскорости царя, — добавил Тимофей, — все равно убили бомбою.
***
Озерной ветер шумел за стеной, шелестел соломой на крыше, подвывал разными голосами в щелях. Окошко дребезжало.
Народная песня
В первом саде-огороде Растет земляничка: Не за то ли меня любят, Что я невеличка? В другом саде огороде Растет трава лебеда: Не за то ли меня любят, Что я молода? В третьем саде огороде Растет трава мята: Не за то ли меня любят, Что я не богата? Записана в деревне Ныша, Малмыжского уезда.ПРЕДАНЬЯ
Тянется длинный ноябрьский вечер. Сидя за столом в натопленной избе одного из ильменских рыбаков, я просматриваю записанные у стариков песни.
Жестяная керосиновая лампа, подвешенная к балке низкого потолка, слабо освещает внутренность избы. В переднем углу маленькая чугунная печка на ножках сильно раскалилась. Сквозь многочисленные трещины и скрепы, грубо замазанные глиной, струйками выходит голубой дым, нависая облачком под потолком. От окон и из щелей несет холодом.
В комнате тихо. Ребятишки молча сидят на полу перед печкой, поправляя кочергой огонь. Хозяйка прядет нитки для сетей. Старый дед Яша, лежа на печи, изредка бормочет и вздыхает. Тишину нарушает поскрипыванье прялки, треск сухих головешек в печи да монотонное завыванье озерного ветра за стеной, от его порывов дребезжит маленькое окошко.
Снаружи хлопнула дверь, послышались голоса, заскрипели ступеньки в сенях и в избу ввалились несколько парней и мальчишек. Все они степенно помолились на образа, поздоровались с хозяйкой и чинно уселись на лавках, уставившись на меня, а один заявил:
— Пришли посмотреть на тебя. Сказывали, какой-то чудородец объявился, песни записывает.
— Да, записываю. Жаль только, что вы старинные, протяжные песни перезабыли, поете только частушки да те, что прочли в песенниках. Даже старики сбиваются в песнях, начало еще знают, а конец уже своими словами расскажут. И про старину да разные чудные дела тоже мало кто помнит.
— Оно конешно, всего нельзя знать.
— Бывают ли у вас на озере странные случаи? Недавно я слышал такой рассказ, — и я стал читать из записной книжки, думая этим подбить кого-либо из парней рассказать что-нибудь подобное. — Это приключилось с вашими рыбаками на озере.
» В Вишере мы ловили рыбу. Поймали ее много, пудов 30 одних щук буди.
Вдруг сделалось холодно, а мы и потянули невод; да вдруг вытащили что-то тяжелое, черное; так и ворочается, а от него холод идет. А еще прежде в лесу что-то откликивалось, ажно нас страх взял. Мы, вишь ты, как «его» вытащили, так все и убежали на гору (берег), да ну креститься!«
» Один наш догадался, накинул на «него» петлю, что на щук накидывается. С полчаса лежал «он» на земле, а как только солнце стало подыматься, «он» давай поворачиваться, да окунываться, да с бродцом в воду влез и ушел «…
— На все дела Господни! — вздохнула хозяйка. — Вот, говорят, в Юрьевской слободе, там, где эти главы на монастыри лоснючие, — там каждый год весной человек тонет либо два. Так перед этим времем непременно каким-нибудь преставлением преставится: либо кто будто плачем-плачет, стонет, и громко так слышно, — либо что еще. Все дела Божьи!
— Один мужик сказывал, — подхватил парень. — Ловили мы на озере.
Много лодок было тогдысь, да не ловилось вовсе, хоть что-либо попади. Один мужик и говори:» Это «озерик»в карты рыбу проиграл «. Вдруг как заходит волна большая, как после парохода, и подняла наши лодки, и запружило нас кверху ногам! Чуть удержались, а то в воду кувырнулись бы!..
— Говорят,» озерики» из разных озер играют друг с дружкой в карты и проигрывают то мелкую рыбу, то сигов, то раков, то что. Прошлым летом наш «озерик» выиграл крупную рыбу, хорошая ловля была. А кто готовил снасть на мелкую, для снятков, то и вовсе ничего не собрал. Раньше у нас на озере было много раков, столько, что в Волхов кучами на берег лезли, а потом года на два пропали совсем. И только недавно стали проявляться опять, но только все порченые: либо без лап, либо с одной клешней, или маленькие да мягкие. Просто ни одного степенного рака! Это все «озерика» шутки!
— А видел ли кто из вас «озерика»?
— Один наш мужик однажды видел. Лежал он в каюте, в барке с дровами, и видит — наверху на палубе сидит человек голый и длинные волосы чешет.
Он, мужик, брось в «него» плахой (поленом), да не долетело. А «озерик» бултыхнулся в воду, только пузыри и пена пошли…
— Другие мальчишки и парни сами представляются. Разденутся, и голые засядут в лимане, да болтаются и плещутся в воде, быдто «лиманники», а бабы и девки идут мимо и боятся…
Над печью показалось морщинистое, заросшее длинной седой бородой лицо деда Яши:
— Слышу я, что вы про чудеса рассказываете. Какие это чудеса? Вот было время, я своими глазами дела дивные видел. Да ноне стариков не слушают. Нынче стариков менят на быков, а старушек на тялушек. Ну, хоть я и дедка, да вздыхаю редко!
— Полно, полно! — обратилась к деду хозяйка. — Завел свою балалайку, когда-то кончит? Расскажи лучше про старину, если знаешь.
— Сами вы балаболки, зря болтаете. Сегодня утром проучил я на кладбище баб ваших. Пришли они к могилам и стали голосить:
«Расступись мать сыра земля, подымись гробова доска, вы раскройтесь очи зоркие, вы проговорите уста сахарны, размахнитесь ручки белые!..»А я им: «Цыц, окаянные, а если бы гробова доска поднялась и» ен» впрямь вышел, так небось всех бы разогнал, никто бы не остался!«Тут они перестали в голос плакать и тихохонько марш-марш домой!..
— Да полно тебе! Расскажи про старину лучше. Видишь, чужаку скучно и хочет он про старину послушать.
— Ну так слушай, — начал дед Яша. — Давно это было, когда у нас на деревне солдаты постоем стояли. Был у них капральный Холудеев. Здоровенный такой, нос толстый и красный, голос как из погреба. И говорили все у нас, что Холудеев молодец, ничего не боится и все сумеет сделать.
Был у нас Рябов, ватаман, дивный человек; как он рыбу заганивал, — никто понять не мог. Выедет ночью, поездит по озеру, ветер и воду испытает, да с» озериками» потолкует. А потом поведет свою ватагу в свое найденное место, — лови ребята сразу на тысячу! И, боже мой, уловы-то какие были тогда: не то что нынче!
Был, значит, Рябов первый человек в деревне, за ним как за собакой все гонялись, и стало ему за досаду, что Холудеева все хвалят, быдто он все может. Стали биться они об заклад — кто ловчее? И вот что сделали.
Пришли в избу Рябова и спросили у хозяйки два кочана капустных. Принесла хозяйка кочны, оба совсем ровные и белые. Сели тогда оба они на лавку верхом, спиной друг к дружке, и стали давить руками каждый свой кочан.
Прошло времечко и видим, — у солдата и у ватамана стали краснеть кочаны в руках и сделались алые как кровь. Вот были молодцы!
«Ровно вышло! — говорит Холудеев, — давай теперь меряться обратно!»
Сели они опять, и вышло в разницу: у Холудеева кочан сделался по-прежнему белый, ровно снег, а Рябов, как ни бился, из красного обратно в белый кочан сделать не смог. «Пересилил, — говорит, — ты меня, служивый, твоя взяла!»И закопал он свой кочан в землю — как нечистый, стало быть.
А Холудеев накрошил свой кочан и хозяйке в котел всыпал, да испортил ее этим: стало у нее сердце гнилое, а сама почернела, стала старая и страшная. Затаил Рябов гнев на Холудеева, поймал он раз его за околицей пьяного, подвесил его за лытки в своем амбаре, зажег под ним мокрые головешки да и копатил его, копатил! «Не за то, — говорит, тебя копачу, что ты был сильнее меня, а за то, что хозяйку мою спортил. Была баба сдобная, сырая и толстая, а стала сухая, никуда больше не годится!» Вот как оно бывало в наше время!..
— А как венчали у вас в старину? Говорят — иначе?
— Да, венчали у нас прежде, не то что нынче. Теперь вези себе невесту откуда хошь, из-за озера ли, или еще откуда. А прежде ино было: какую тебе невесту барин даст, ту и бери, хошь ли, или не хошь. Ты и не знаешь заранее судьбы своей: она у барина и бурмистра в руках была…
— И ты, поди, дедка Яша, таким же манером женился?
— Когда я женился, я еще не знал, с которого боку целоваться. Вот что! Я еще молодой был тогда. Ехать нужно к венцу, а я палец во рту держу и стою посередь избы. «Ты бы, от, нос-то вытер, ведь, поди, венчаться едешь», — говорит отец. А я нос рукавом вытер, да и поехали мы. А поп у нас строгий был, Алексий, еще до отца Ивана, перед отцом Василием. Посадил он меня в своей комнате. «Сиди, — говорит, — на стуле и пуще всего не подходи к окошку, а не то испортят тебя. Как к» Достойно» колокол ударит, ты уже не бойся боле, не подействует «.
Сидел я, сидел, скучно мне стало, думаю, подойду к простеночку и выгляну в окно, кто это на меня хочет порчу навести? Но тут как раз» Достойно» зазвонили, и это спасло меня, а не то быть бы мне «зверем»…
Теперь уже всякую порчу смело, — подошел я к окну и вижу: две бабы старые, Комлиха да Паша Хлызиха, бегут, что есть духу, прочь по дороге, и на ту сторону реки на лодке переплыли.
После обедни нас венчать нужно было, поп и говорит мне: «Открой, Яков, покрывало, покажи мне свою невесту».
А поп у нас зандравный был, не смей ему перечить. Да и я тоже свою плепорцию знаю.
— Нет, — говорю, — батюшка. Мне она еще не передана. Пусть отец вам ее показывает! — Тесть мой и раскрыл невесту попу.
— Молоденькую ты берешь, — сказал отец Алексий: вот я тебя за это заповеди спрошу, знаешь ли ты их?
Смутился я, — при народе-то, в церкви, неравно и собьешься заповеди говорить. Отслужил поп венчанье, все как след быть по чину, а заповеди и забыл спросить. Сели мы в тележку, только тронулись, ан отец Алексий кричит:
— Стойте! Не все по чину сделали. Назад!..
Слезли мы, опять вошли в церковь.
— Одно-то вы забыли сделать в церкви: поцелуйтесь-ка!..
Я и не помню, куда поцеловал невесту, поди в затылок!..
Народная песня
В лес по ягоды ходила, Черного жука нашла — Со руками и с ногами, И с курчавой головой — Настоящий милый мой. Завяжу жучка в платочек, Понесу его домой Родной маме показать. Родна тетка увидала, Разворчалась надо мной, Чтоб я кинула в окно. Я не сделаю того, Брошу жучка под кровать. Темной ноченькой не спится, Жук покою не дает, На белую грудь ползет. Записана в деревне Алька, Малмыжского уезда.МУЖИК — ВОЛК
Крестьянин в селе Голино, на берегу озера Ильменя, рассказывал мне о том, что на свадьбе часто людей портят.
— Разве это случается? — удивился я. — Только зря болтают.
— Случается ли? И теперь это бывает. Если кто захочет — так очень легко испортить можно. Навести порчу легко, а снять порчу трудно. Я видел в Михайловском Погосте, Псковской губернии, лет тому 20 или 15 назад, шел молодой парень через деревню, — сам он из Москвы родом был, — а за ним следом целая свадьба волчья, голов десять их было. Смирные волки, что овцы, так за ним и шли, а парень собак палкой отгонял. Это, значит, целая свадьба была испорчена, жених, невеста и дружки. На всех порчу навели поганые и в волков обратили…
А то и такой случай был. Мужик, с кем дело случилось, сам мне рассказывал, знаю его хорошо, врать не станет. Да и в деревне все тоже эту историю видели. Собрался жениться этот парень, а мать евоная того не хотела, злющая баба была, не могла перенести, чтобы в дом невестку пустить. Решилась она невестку спакостить и поставила на столе кружку квасу для нее, чтобы ее спортить. Но как от свадьбы вернулись, сын-то вместо невестки выпил этот квас. Стало ему душно, тело зудит, вышел он на двор, завернул за пуню
и разделся. Видит — по всему телу у него шерсть пошла. Волком он оборотился. Собака дворовая за ним шла, зарычала на него, залаяла, уже перестала узнавать. Испугался он и убег в поле.
Тоска его взяла, да что ж делать, поселился в лесах, стал питаться кореньями и падалью. Помнит, какова на вкус падаль, точно пареное мясо, или перепрелое. Тосковал он по своей деревне, подбегал к задворкам, а мужики его увидят — цепами выгоняют. Собаки бросаются за ним следом.
Пригорюнится он и уйдет.
Стошнела ему эта жизнь. Уже на охотников он сам бросался, убили бы лучше, думал, так один конец. Увидит он человека, и радостно и страшно ему станет. Схоронится от него в кусты. И так прошло много лет. На его глазах мальчишки мужиками стали, девчонки сами ребятишек позаводили.
Раз на Воздвиженье день был жаркий. Зачесалась спина у человека-волка, стал он валятцать, побежал к реке, воды напился, опять стал валятцать и весь мох с него сошел. Остался он голым, как мать родила, и пошел к байне (бане) и спрятался в ней. А ребятишки заметили его и начали кричать:
— Морушка коровья вошла в байню!
В эту пору поветерье было на скотину, много ее пало; так мужики поверили, что это «морушка» явилась. Побежали с кольями к байне, придушить хотели, сотский только унял их — «может и впрямь этот человек несчастный», — сказал. Снял с себя кафтан и надел на голого. А тот хочет сказать, а чувства нет слов выговорить. «Братцы!»— говорит, только «братцы», и «я ваш»…«
» Ну, покажи избу свою, если ты наш «, — спрашивает сотский. Взяли его под руки и повели. Остановился он перед своей избой и рукой указывает, — здесь, значит. Ввели его в избу, отец его, старик, сидит.» Да, — говорит, — пропал у меня сын после свадьбы, 20 лет назад, но ведь столько лет прошло! Я и не помню его «. А мать евоная лежала в клети — с тех пор как испортила сына своего, гортань у ней выдернулась и слов она лишилась. Как увидела своего сына, — всю ее и передернуло.» Признала, верно!«— решили мужики, и стали у них старики припоминать, что и в самом деле давно пропал на деревне человек.
Явился урядник и приказал давать по полфунта хлеба есть в день, но не больше, а то с непривычки бы не выдержал. Через три дня начал болтать языком. Священник его исповедовал. Скопились потом священник и становой, и повел их наш мужик за околицу, где его шкура лежала. Стали ее исследовать и нашли что то не шерсть была, а мох. На шее у мужика остался крест медный, на веревочке, так даже полоска была, где мох протерло. Долго после этого говорил он, что понимал, про что волки воют, всякую речь волчью постигал.
Все это правда, мужик и до сей поры жив, у сестры своей вдовой проживает, в деревне Жарах, что по Петербургскому тракту. Сколько раз я с ним чай пил! Только след у него на щеке остался — так с медных два пятака мох растет у него на лице, до сих пор — не смог вывести…
Народная песня
Меж крутых берегов Река Волга течет, Вслед за нею волной Легка лодка плывет. В ней сидел молодец, Шапка с кистью на нем; Он с веревкой в руке Воду резал веслом. Он ко бережку плыл, Ко крутому пристал, Лодку в миг привязал, Соловьем просвистал. Как на бережке том Красный терем стоит. Что во том терему Тут красотка живет. У ней вотчим крутой Воевода лихой.Записана в деревне Септяк,
Елабужского уезда
СЧАСТЬЕ
Это было осенью. Выйдя из города, я пошел по дороге не в мороз и не в оттепель. Льдинками затянуло лужи, кругом по равнине расстилались коричневые сырые поля, кое-где редкими белыми пятнами лежал тающий снег.
Вдали виднелись небольшие рощи с молодыми тонкими деревьями, обнаженными от листьев. Галки и вороны стаями летали по небу, прыгали по дороге и садились на мятые, низкие полузамерзшие озими. Иногда по дороге встречались мужики, возвращавшиеся из города. Бесчисленные облака как будто застыли на сером небе в таком же задумчивом молчании, как и природа этой равнины.
Меня перегоняло много мужиков. Их маленькие взъерошенные лошадки мелкой рысью бежали по дороге; в телегах лежали мужики, предоставив лошадкам бежать как вздумается.
В одном месте у спуска к ручью, где дорога была изрыта колеями, полными воды, шагом плелись три телеги. Мужики, соскочив на землю, шли рядом.
— Далеко идешь? — спросил меня один из мужиков.
— Не знаю, далеко ли, — ответил я, — далеко ли, близко ли, как свое дело найду.
— По какому же делу ты идешь?
— Мое дело такое, иду по России и хочу узнать, есть ли на свете счастье?
— Ишь ты какой, на слова гораздый! — недоверчиво стал всматриваться в меня собеседник.
— А что такое счастье? — воскликнул другой мужик, молодой парень. — Вот, когда деньги звенят в кармане, вошел в кабак, подошел к стойке:» подходи ребята, всех я угощаю!«Да еще девка при этом хорошая, — вот тебе и счастье!
— Нет, ты не ладно сказал, это счастье только до завтрашнего дня, сегодня счастье, а завтра голова болит.
— А ты, дядя, скажи, что такое счастье?
— Счастье? А я и не знаю, что такое счастье, в наш деревню оно не заходит, да и на дороге я его тоже не встречал. Ты попытай, может где в других местах оно живет, счастье-то!
— А вот третий что еще скажет? Ты как насчет счастья думаешь?
— Я думаю, что счастье — это кто человек, значит, рассудительный, себя соблюдает; может все справить как следует быть, и в дороге, к примеру, тоже себя соблюдает и в хозяйстве тоже человек карахтерный, вот это и есть счастье!
Посмотрел я на этого мужика: одежонка на нем заплатанная, из шапки дыры глядят, даже лапти растрепались.
— Да ты на меня не смотри, это я ведь не про себя говорю. Потому я сказал про счастье, что у меня самого двугривенный в кармане не залежится, сейчас его в кабак снесу.
— Так куда же ты все-таки идешь? Мы же видим, что счастьем ты это нам зубы заговариваешь.
— Я знаю, ты, верно, в деревню Заболоть идешь?
— Да.
— Не к Митрию ли Иванову?
— Да.
— Так-то. Смотрю я и думаю: верно, он к Митрию Иванову в Заболоть идет!..
Мужики уехали вперед. Я никогда в Заболоть не собирался и не слыхивал про нее, а подавно о каком-то» Митрии «.
Верст через десять я подошел к опушке леса, возле нее расползлись по склону несколько изб. Баба, бравшая воду у колодца, сказала, что эта деревня — Заболоть, а Митрий Иванов возле самого леса, в крайней избе.
Было часа 4 дня, когда осенние сумерки начинают заволакивать туманом даль.
Я подошел к избе, где была прибита доска с надписью» Дмитрий Иванов»и нарисована пожарная бочка. Поднялся, пройдя сквозь сени в избу, где на лавке сидел старик с очками на конце носа, щелкал на счетах и, слюнявя палец, перебирал какие-то бумаги и страницы растрепанной тетрадки.
— Бог на помощь! — сказал я, крестясь на иконы в углу.
— Здравствуйте! — ответил старик, вглядываясь в меня.
— Нельзя ли у вас чайком погреться? Я заплачу за самовар.
— Милости просим, баба сейчас поставит. Ты, может, и ночевать хочешь остаться?
— Хорошо бы. Уморился с дороги.
— Да куда ж идти теперь, смеркает. Пока придешь в другую деревню, там спать лягут, не достучишься. Ложись у меня на лавке ли, или на печи, где хошь. Места у меня довольно.
— Спасибо на том. Так ты и есть Митрий Иванов?
— Так я и есть. Кто ж тебя послал ко мне?
— Встретил по дороге мужика; говорит, что ты человек добрый, и если кто к тебе попросится ночевать, ты его и побережешь, как следует, и вообще уважишь.
— Да… Смотрю я на тебя и дивлюсь: не было еще у меня до сих пор таких чистых странников. И полушубок у тебя новый, и сапоги целы, и часы есть, — вижу, парень ты фартовый…
Хозяин позвал баб. Пришли две девушки, поставили самовар и сели на лавке под печкой, слушая наш разговор. Хозяин же стал со мной вместе пить чай, расспрашивая меня обо всем, а сам рассказал о себе, что держит маленькую мелочную торговлю.
Стали мы говорить о разных делах и высоких предметах, о церкви и Боге, о смерти, о правде.
— Правда теперь прячется и стыдится, и робеет, — говорил Дмитрий. — Правда по маленьким людям сидит, которые про себя ее держат. Все бедные, тихие, робкие — они правду знают и правдой живут. А сильные, веселые, здоровые, удачливые, живут иным чем-то; они живут чутьем и тем, что глядят в оба. А мужик недоволен. Он молчит, ничего не говорит, и ничего не скажет, потому что ему рассуждать не приказано и от него никто рассуждений его не спрашивает.
Что такое мужик? — Первое: хозяин. Один барин имеет 1000 десятин, другой сто, а крестьянин четыре. А он такой же хозяин. Своя у него земля, он по своим четырем десятинам может ходить и властвовать. Так что первое — мужику нужно оказать уважение. Ты стоишь в шапке, и я стой в шапке; ты вошел в церковь, снял шапку, и я; ты перед царским портретом снимешь шапку, и я сниму. А друг перед дружкой мы оба станем в шапке стоять.
Это первое. А второе: зачем на мужика кричат? Что он, скотина или душа христианская? Разве мужик что скверное делает, что на него кричат? В церковь ходит, молится, как по чину полагается, окрещен во святой воде, в бане парится, удавленного или чего скверного не ест. За что же на него кричать? Мужик работает, землю пашет, подати в казну платит, на службе царской свою кровь проливает, а все он виноватый в чем-то. Все на него покрикивают, точно на нем вина какая-то висит.
А третье, скажи мне по совести, — зачем мужик закона не знает, почему мужику не дадут законов? Евангелием сколько уже лет мир стоит. И деды, и прадеды, и святые, и народы, и царства живут, а книжка всего на всех одна, и там ясно сказано, как жить надо, и можно всякого спросить, почитай Евангелие: хочу знать, как я жить должен. Ну побратим мне почитает Евангелие, я и знаю, как мне жить нужно; а если преступлю, так и знаю, что преступил.
А законы должны быть как Евангелие, одна книга, чтобы она здесь передо мной на столе лежала, чтобы я мог прочитать ее и знать, как поступать. И чтобы, когда я прочел законы и пошел на улицу, уже меня никто не смел тронуть пальцем, если я законы знаю и соблюдаю. А если я закон преступлю, тогда меня и судите.
Теперь мужики — маленькие помещики, и они хотят поведения по ясным законам да христианской обходительности. А то идет мужик и все озирается, не начнет ли кто кричать на него? Да тебе, чужак, не понять того, что я говорю. Ты — зверь свободный. Сегодня ты здесь, а завтра поднялся и ушел за сто верст. Думаешь ты по-дорожному: на холоде изба — клад, а самовар — сокровище!..
— Смотрю я на тебя, Митрий Иванович, слушаю, и ты какой-то не русский, будто. Не то ты штундист, не то сектанец …
— Богу-то мы одному молимся…
— Так-то так, только говоришь ты по-особенному.
— Так то-с! Так то-с! — задумчиво ответил на мои слова Митрий Иванович.
Потом в избу стали приходить мужики, беседовали о разных деревенских делах, «про хлеба, про покос, про старинушку», и мне не удалось более поговорить «по душам»с Митрием Ивановичем.
Я переночевал у него и рано утром ушел дальше.
СТАРОВЕРКА
Раннее утро, светает. Скрипит ворот у колодца, плещет ледяная вода.
Бабы в тулупах, закутанные в платки, идут по скрипучему снегу с ведрами.
Еще сумерки; на небе густые, мрачные тучи. Белый снег, засыпавший все окрестности и наваливший сугробами на крыши, отливает синим цветом и лиловыми тенями. На востоке багрово-красный горизонт. За околицей свищет ветер, через дорогу видны заячьи следы.
Входишь в деревню по уезженной дороге, идешь протоптанной дорожкой под избами; в окна заглядывают хозяева. Невольно приходится вглядываться в их любопытные лица, чтобы выбрать более ласковое и там попроситься передохнуть.
— Эй, чужак, заходи погреться!
Избенка маленькая, с черными гнилыми бревнами; покосилась и навалилась на хлев, тем только и держится, а то бы давно развалилась.
Вхожу сквозь низенькие сени внутрь. Небольшая комната; стены так мохом законопачены, точно заросли от старости. На потолке копоть и паутина.
Бедность, грязно; на старой бабе возле печки одни лохмотья.
Возле окна сидит хозяин, высокий парень в разодранной рубахе. Глаза глядят внимательно, сосредоточенно, но бодро, только промеж бровей залегла мрачная складка.
А возле стола, грустно облокотившись и подложив кулак под голову, сидит другой человек, по виду купец, одетый богато, в синей долгополой поддевке, с золотой цепочкой, в шелковой голубой рубахе; волосы кудрявые, светлая бородка, голубые душевные глаза. Перед ним на столе бутылка и два стаканчика.
После нескольких фраз короткого разговора купец придвинулся ко мне, положил руку на плечо и, глядя в глаза, сказал:
— Побратим, послушай! Я тебя озолочу, если ты мне поможешь! Ты человек чужестранный, ты и сделать это, поди, сумеешь. Побратим, помоги мне!
— Если чем могу помочь, так и без денег помогу.
— Слушай! Есть у нас купец, богатеющий сталовер. Туровский — его зовут, слышал, поди? Три сына у него, дуб дуба чище молодцы. Каждого он выделил, каждому свою усадьбу дал. И есть у него дочь Агриппина. Вышла Агриппина замуж за прикащика Туровского; выделил он и им имение. Да недолго прожили вместе, уморила мужа сталоверка, ума лишился, замешался совсем и помер. И случилась такая беда, что увидал я сталоверку молодую вдову: высокая, голову гордо несет, глаза темные, ресницы приспущены и на губах усмешка. Сказал я себе тогда: вот мне жена, женюсь я на ней…
Что ж, я капиталом не меньше ее, три дома у меня каменных, два завода, село свое есть и мельница. Дело долго не затянулось; перед Рождеством я ее увидел, а после Рождества мы и обвенчались. Родился сын у нас. Жили мы сперва ничего, а скоро стало и жестко нам.
«Сталоверка, говорит она, я, да и только! И ты, говорит, должен в нашу веру оборотиться…»Я любил ее, конешно, а сладить с ней не смог! В церковь нашу она меня не пускала. Ну, коли она уедет в воскресенье кататься, я тем временем сбегаю на погост, с полверсты он от нас будет, не больше. Узнала она про это. Один раз меня не было дома, я в город по своим делам уехал. Приказала она заложить сани и сказала, что кататься поедет. А кататься она любила. Села и укатила и сына с собой взяла. Вернулся я, нахожу записку: «Прощай навсегда. Не сумел меня подогнуть, так и не удержать подавно. А с никонианцем жить не хочу».
Сперва я был как бешеный! Чего я ни делал, и полицией, и судом хотел ее вытребовать, и к ней ездил. Приехал раз под ее окно в беговых дрожках.
Окно раскрыто, в окне сынок сидит. И узнал меня, закричал: «вон тятька приехал!» Да сама подбежала: «Врешь ты, это не твой тятька; твой тятька давно умер!»— схватила его в охапку и унесла. А тут собаки были спущены, мой жеребец испугался и понес дрожки…
На сталоверку я рукой махнул, с ней ладу не будет, она с норовом. Да там еще появился около нее какой-то начетчик, или прикащик, с ней все время вместе ездит. Они уже, видно, сговорились и поладили. А вот сын! Я думаю о нем день и ночь, сон в голову нейдет, сердце кровью обливается.
Решил я его выкрасть. Найду людей, которые это сделают. Мне самому туда нельзя сунуться, меня там всякая собака знает. А вот кто чужой мог бы это сделать? Возьмись за это молодец хороший: коли выкрадешь сына, сто рублей денег дам!..
Насчет кражи ребенка мы не договорились: купец захмелел и вскоре заснул.
Дальше опять была та же уезженная дорога, сугробы, обнаженные стволы берез, засыпанные снегом ели, заячьи следы возле опушки леса; те же, точно зарывшиеся в снег, деревни, так же похожие одна на другую, как и встречные мужики.
С ОБОЗОМ
Лежа на дровнях посреди длинного обоза, мои сани — шестые от его начала, за мной — саней шестнадцать или двадцать, от нечего делать я пересчитываю их, и цифра постоянно меняется, — задние то отстают и исчезают в морозном тумане, то догоняют и едут в хвосте обоза.
Впереди я вижу силуэты передних ездоков; первой идет коренастая гнедая лошадка, вся запорошенная инеем. Она идет шагом, поматывая головой; на ее дровнях лежат два куля, вероятно, с солью, а хозяин спит; сквозь сумерки видны три горба, но который из них тут хозяин, не разобрать…
Дорога все время вьется: передние пять саней то заворачивают, и я вижу их все — одни за другими, то выравниваются впереди гуськом в линию, их уже не видно за крупом моей лошади.
Мороз градусов 20. Тихо, ветра нет. Вечер. Но сколько времени, определить нельзя: в декабре темнеет уже около 4 часов дня, и затем тянутся монотонные сумерки вплоть до 7 — 8 часов утра следующего дня.
Можно бы определить, который час, — но для этого нужно распахивать полушубок, расстегивать куртку, снимать рукавицы и вытаскивать часы, а на морозе сейчас же холодные струйки пробегут по всему телу, через несколько секунд руки окоченеют, и долго нужно будет потом похлопывать рукавицами, пока достигается снова равномерная температура…
Да и не все ли равно, сколько времени? Дорога дальняя, ехать еще придется ой-ой сколько, еще впереди две остановки на постоялых дворах; стало быть, лучше не думать вовсе о времени, а заснуть, или мечтать, или болтать с мужиками, — вместе с лошадьми понемногу и время незаметно подвинется вперед.
В дровнях я лежу на сене, но сено постоянно разлетается, и я оказываюся на куле с солью, который тверд, как камень, и отлежал мне бока.
Соль все время просачивается и мажет мой полушубок. Возле меня торчит из сена бутыль с керосином, который бултыхается на выбоинах дороги. Возница мой лежит на дровнях, рядом со мной; он поднял высокий воротник своей шубы, поднявшийся выше его головы, и молча смотрит сквозь щель, а может быть, и спит, кто его знает… Ему тепло лежать, у него полушубок и сверху надета просторная дубленая шуба, на ногах лапти, — самая теплая обувь в дороге, лучше всяких валенок.
Я же одет холоднее, мороз нагрянул неожиданно, а до Рождества там, где я странствовал, все время была оттепель. На мне один «романовский» полушубок и высокие сапоги — самая непрактичная одежда в мороз; на голове башлык; я лежу на боку, подобрав ноги и спрятав их под длинной полой полушубка. Но чуть только задремлешь, невольно вытянешь ноги, и мороз начинает кусаться.
Почти совсем надо мной свесилась добрая, мохнатая голова идущей следом лошади. На ее морде висят сосульки, шерсть взъерошена и покрыта инеем. Лошадка аккуратно следует за нами, мерно покачивая головой при каждом шаге. Передние лошади побегут рысью, наша подтянется, задняя не отстанет, и весь обоз затрусит вперед, пока передняя не пойдет опять шагом; тогда мужики встают с дровней, идут рядом по дороге, сходятся по двое, трое.
Все они ездили во Ржев, за 80 верст, продавать лен и теперь порожняком возвращаются назад. Мой возница и трое мужиков с передних дровней поровнялись и пошли рядом.
— Ну, как, Василий Иванович, ты продал?
— Да неважно. Тихо нынче со льном.
— Да, тихо, тихо.
— А Иван-то Клементьич привез, говорит, во Ржев, ему дали по три с полтиной. Он и обрадовался, на тройке весь свой остатний лен свез, — и вдруг — два семь гривен! Он ждет день, — опять два семь гривен; ждет третий — два шесть гривен! Не назад же везти! Он заплакал даже, как лен отдавал!
— Да и купцам-то тоже поди неважно приходится. В одной единоверческой слободе человека три разорилось и закрыли свои лавочки…
— А что за седок у тебя?
— Да не знаю: учитель что ли, или из духовного звания. Обученный какой-то. Вероятно, защиты едет просить или на должность.
— Да, да, конечно: кто по своей охоте в дорогу отправится? Верно, неволя выслала.
— На Михайлов погост, говорит, пробирается.
Передняя лошадь опять побежала рысью. За ней подтянулся и весь обоз.
Мужики врассыпную бросились к своим саням. Рядом со мной опять очутился мой возница Василий Иванович.
Кругом белые снежные поляны, вдали видны черные силуэты деревьев, неопределенные какие-то темные пятна, вероятно, кусты. Изредка к дороге подступает опушка леса; тонкие и длинные ветви обнаженных деревьев производят впечатление прозрачности и воздушности, а в тумане весь лес кажется легким и дымчатым.
Иногда попадаются на дороге деревья. Тишина полная; в большей части изб огни потушены, кое-где горит огонь, и видна спина бабы в красной холстинной рубахе с красными вышивками на плечах; возле нее прялка…
Чья-нибудь фигура припадет к окошку, составленному из кусочков стекла, склеенных бумагою, и старается рассмотреть, кто едет по улице?
Опять снежные равнины. Дремлется под поскрипыванье связанных лыком саней, топот и фырканье маленьких лошадок, изредка понуканье проснувшегося мужика. Чуть-чуть посветлело, — это на небе сквозь серые тучи показалось мутное пятно месяца.
Спустились с горы: сани раскатывались без железных полозьев, без «тормазов», как говорят мужики; нас встряхивало, бросало из стороны в сторону на скатах дороги. Поднялись снова на гору, и показалась деревенька в несколько изб.
— Вот и Тарасово, — сказал Василий Иванович. — Здесь обогреемся, чайку попьем и отдохнем.
Посреди деревни стояли два низеньких длинных домика и один новый и высокий. Перед ними вся дорога была усеяна сеном от множества проезжавших.
Три воза со льном стояли привязанными к колоде. Передняя наша лошадка свернула с дороги и уперлась головой в самые ворота.
Не весь наш обоз остановился, саней восемь проехали дальше; их деревни были, вероятно, недалеко или они привыкли останавливаться на другом, знакомом им постоялом дворе. Двое из наших мужиков подошли к окошку и стали стучать; изнутри послышался женский голос:
— Сейчас, мои родные, сейчас, мои желанные, — сейчас дворник ворота откроет…
Заскрипели, отворяясь, высокие ворота, показалась темная фигура человека с фонарем. Передние сани въехали, за ними и остальные. Небольшой квадратный дворик с трех сторон был окружен навесами, под ними стояло много саней. Отпряженные лошади были привязаны головой к саням, ели сено и овес. В одном углу двора висели громадные весы, и баба в полушубке, светя фонарем, что-то отвешивала двум мужикам в тулупах. Все прибывшие искусно пробрались между стоящими лошадьми и сумели разместиться.
Баба, покончившая с весами, качая в темноте фонарем, подошла к вновь приехавшим.
— Уж вы извините, желанные мои, не можем вас в светлые горницы провести, заняты они. Дорога железная у нас строится, так анджинер с этой дороги у нас сегодня все три комнаты взял: петь он любит и хочет, чтобы никто ему не мешал, ходит по всем трем комнатам и поет!.. Вы уж потеснитесь у нас на кухне. Кухня у нас хорошая, просторная, только народу набралось много, все бельские уроды понаехали…
Вместе с другими я вошел в низенькую дверь, прошел узким и кривым коридорчиком, подпертым бревнами, чтобы потолок не провалился; где-то сбоку в стене открылась дверь с аршинной высоты порогом.
Мы перешагнули в небольшую квадратную комнату, сажени три в ширину. В этом крохотном помещении с нашим прибытием оказалось, по крайней мере, человек сорок. Всюду, куда только можно было взглянуть, видны были сидящие фигуры во всевозможных позах и положениях. На полу была набросана солома, и лежали вповалку мужики. На печи, лежанке и скамьях тоже лежали мужики, бабы и дети; иные спали сидя, прислонившись к стене. За столом сидели два мужика и хлебали что-то из одной миски.
Мои спутники стали подолгу молиться на потемневшие образа, потом распоясались и полегли на полу, найдя себе местечко среди других лежавших.
Василий Иванович не лег, а сел на лавке и с очень унылым видом уставился в пол. Когда снова вошла баба, приведшая нас со двора, с заспанным и недовольным лицом, Василий Иванович ущипнул ее и, заискивая, спросил:
— Нельзя ли бы, молодуха, сороковочку ?
Откуда-то из-под лавки раздался басистый голос: И мне! — а на печи поднялась всклокоченная голова и заявила, что тоже не откажется.
— Проклятые! Покою от вас нет, — заворчала баба. — Только жизнь мою молодую загублю, иссушу мое тело белое этими ночами бессонными… Сейчас вам достану, мои желанные, всего, чего хотите, чтобы вам пойти да споткнуться!
— Да ты, Домнушка, не сердись, — мы тебя уважим и тебе поднесем, а потом поляжем, и никто более тебя не побеспокоит!
— Не нужно мне ничего вашего. Спать до смерти хочется, — а тут возись с вами! Сейчас спрошу у хозяйки и принесу вам.
Домна уходит, и через несколько минут распахивается дверь и появляется дородная хозяйка постоялого двора с накинутою на плечи шубою.
Точно Марфа-посадница, кричит она зычным голосом:
— Кто хочет что-нибудь из лавки, так я выдам, а потом уж больше не смейте беспокоить!..
Встают с пола и из-за углов какие-то заспанные всклокоченные фигуры и уходят вслед за хозяйкой; вскоре они возвращаются со связками баранок и бутылочками. Водку благоговейно, перекрестясь, они выпивают, закусывают баранками и ложатся снова спать.
Странное впечатление производит эта толпа спящих людей.
Необыденным является детски доверчивое отношение друг к другу, совершенно отсутствующее в городской толпе. Эти мужики, продавшие лен и, стало быть, возвращающиеся с деньгами, — по крестьянскому бюджету очень большими, — не выказывали ни малейшей боязни или недоверчивости к тем совершенно неведомым им проезжим, с которыми им придется провести ночь в одной комнате. Один разговаривает с другим, как будто вчера только с ним расстался и век был знаком; он посвящает соседа в свои интересы, говорит о своей беде, и другой истинно сочувствует.
— Не знаю, что сделалось с конем. Не ест сена и овса не ест.
Попробовал немного и морду отворотил! Пришел я снова, — он лежит; я поднял, поставил, стоит он, раскорячив ноги. Вот сейчас опять ходил, — конь лежит снова!..
— Ты опоил его, быть может?
— Какое! Два часа уже как приехал, а пить ему не дал еще.
Несколько мужиков уже всей душой приняли участие в опасениях этого в первый раз встречаемого человека. Они встают, отыскивают шапки под скамейкой и идут к двери, во двор. Там они все обступают чалого коня, который лежит на соломе, на брюхе, подобрав под себя ноги и, меланхолично подняв голову на длинной шее и отвесив нижнюю губу, с полным равнодушием относится к своим зрителям.
Мужики начинают подымать коня: одни тянут за голову, другие толкают в бок, наконец, кто-то тащит кверху за хвост, и конь, к общему удовольствию, встает. Знатоки ощупывают его со всех сторон, подымают, осматривая поочередно все четыре ноги, наконец, решают, что ничего особенного у коня нет, а что просто и «у скотины своя фантазия бывает»!..
Все возвращаются в комнату и снова ложатся спать.
На некоторое время все несколько стихает. Слышно дыхание спящих, храп, стоны из-под лавки одного лохматого мужика. На печи старушечий кашель, иногда слышно сквозь сон бормотанье слов или шепот: «О, господи помилуй!» скажет кто-нибудь, переворачиваясь на другой бок.
На стене монотонно постукивают часы, закоптелые и засиженные мухами.
Некоторые проезжие изредка встают, подходят к часам, спросонок долго вглядываются, жмурясь, в циферблат, затем, если время подошло ехать, идут во двор поить лошадей и запрягать.
Народная песня
Торги торговали, Свинцу пороху накупали, В стены каменны палили, Стену каменну прошибли, Красну девицу в полон взяли. Ко Румянцеву подводили, — Граф Румянцев сдивовался, Красоте ее любовался. Хороша девица румяна, По немецкому изобранью На ей шубейка шелковая, В косе ленточка голубая. — Мы пойдем во Русей замуж За любимого моего сына За Ивановича Ивана, За русейского енерала. Красна девица испугалась, Со Румянцевым соглашалась. — Вы пожалуйте лист гумажки, Из кармашек карандашек. Начала девица писать, Королю письма отсылать, Чтобы ехал король на свадьбу.Записана в деревне Рахотно,
Малмыжского уезда
МЕРТВОЕ ТЕЛО (ВОТЯКИ)
Высокий вековой лес кончался, и сквозь деревья вдали были видны какие-то строения; но была ли это русская деревня, или вотяцкая, — я не знал. Кругом тесными рядами стояли громадные «мачтовые» ели без ветвей с кудрявыми метелками на вершинах. Между ними густо росли мелкие деревья и кусты, валялось множество старых, гниющих сломанных стволов. Было тихо в лесу, только пчелы жужжали над белыми пышными цветами донника, и перекликались звонки колокольцев пасущегося стада.
Я осторожно пошел вперед и очутился перед можжевеловой изгородью, за которой тянулся огромный пчельник, сотни в две ульев. Долбленые колоды, больше сажени в вышину, стояли вперемешку с небольшими деревцами яблонь и вишень, и на каждой колоде сверху белел большой лошадиный череп, вымытый дождями.
Посреди пчельника пряталась под прислоненными к ней новыми колодами-ульями низенькая избушка. На коньке крыши прибиты сучья и корни, причудливо изогнутые, как застывшие змеи. Это был вотяцкий пчельник.
Старик вотяк в войлочном колпаке, с седой бородкой клином и прищуренными глазами, медленно ходил между ульями, которые были почти в два раза выше его. Нагибаясь к колоде, он прислушивался к жужжанию пчел внутри ее.
Старичок меня не видал: он останавливался, что-то бормотал и кивал дрожащей головой. Отойдя к краю изгороди, он с кем-то заговорил. Я прошел опушкой леса и увидел небольшой шалаш, сложенный из хвороста. Перед ним на корточках сидел молодой вотяк и варил что-то в котелке над костром.
Голубой дымок поднимался в тихом воздухе. Возле костра, тоже на корточках, сидела вотячка в короткой юбке и синих холщовых штанах до пят. С ними-то и разговаривал старик. Все трое говорили, тихо посмеиваясь, указывая руками куда-то в сторону, — где посреди песчаной полянки виднелся бугорок наваленного лыка. Выйдя к вотякам, я подошел и поздоровался. Все трое замолкли и неподвижно уставились на меня испуганными голубыми глазами.
— Здравствуйте! Что вы здесь делаете? Лыко дерете?
— Здравствуй!.. Нет, мы мертвое тело хороним.
— Какое мертвое тело?
— Мужичок убил себя. Пошел в лес и на дереве убил себя.
— Как же это он? Повесился что ли?
— Да, да! На лыке, обвязал лыко вокруг шеи и удавился.
— Зачем же его не отвезете на кладбище и не похороните?
— Становой не приказал. Сказал, надо подождать. Суд еще будет. Знаки на мужичке нашли.
— Какие-такие знаки?
— Мы не знаем какие, только хоронить не приказал!
— А давно вы его так стережете?
— Не знаем. Мы не ученые, где нам знать. Вторая смена уже идет.
Каждый день новый мужик стережет, по очереди, и один раз уже вся деревня его простерегла. Теперь опять сначала пошло… А ты сам откуда будешь?
— Из Петербурга.
— Из Петербурга? — и вотяки переглянулись и замолчали; затем сказали между собой несколько фраз по-вотяцки и опять уставились на меня испуганными светлыми глазами. Меня же ошеломила эта неожиданная встреча с трупом. Вспомнилось «мултанское дело». Старый казенный лес, которым я только что шел и любовался, как тихо покачивались и глухо шумели высокие ели, теперь стал казаться мрачным. Вотяков, видимо, встревожило то, что прибыл я из Петербурга:
— Зачем ты к нам пришел? Не подослан ли ты, хочешь узнать, как мы живем? Ты думаешь, мы какое злое дело делаем? А мы никому не вредим, живем тихо. Это русские мужики на нас говорят, что мы «человека молим»— это пустое! Это они с досады говорят, хотят у нас отобрать наши земли…
— Что же они о вас говорят?
— А говорят, что мы человека подвешиваем над котлом и ножичками колем, чтобы кровь текла, а эту кровь будто собираем в чашечки и пьем. Это все пустое! Вот и теперь, напрасно мы стережем этого мертвого мужика в песке и керосином поливаем; думают, верно, что мы его «замолили». А это пустое! Мужичок — с горя убил себя! Был он парень молодой да бедный, нанялся пахать поле у одного мужика, еще того беднее. А как стал пахать, так соху ему ненароком и сломал! Пришел к тому мужику и плачет, — сломал я твою соху, говорит, зачем я взялся пахать? Кабы не я, ты бы еще долго этой сохой работал! А новую соху тебе не могу купить. Что ты теперь будешь делать? И так он убивался-убивался, да и пропал из деревни. Испугались мужики, пошли в лес его искать, а он уже удавился!..
Мне стало жутко. Я видел, что здесь опять тайна, что мне не дождаться от вотяков ясного безбоязненного разговора. Они напуганы и в самом простом вопросе видят заднюю мысль.
— Как называется ваша деревня?
— Гузношур-Кибья.
— Есть в деревне хоть один русский человек?
— На деревне у нас есть один русский — лесной стражник. Если хочешь к нему пройти, так иди по тропинке, четвертая изба с краю будет, как выйдешь из лесу.
Я пошел мимо пчельника. Заходящее солнце красноватыми лучами освещало белые лошадиные черепа на ульях. По тропинке встречались вотяцкие дети; мальчики были одеты так же, как русские ребятишки, а девочки в длинных до пят узеньких штанах и платьях с вышивками и побрякушками. В детях меня поразило странное взрослое выражение лиц; сперва даже показалось, что все дети одноглазые. Правый глаз закрыт или прищурен, а левый глядит как-то своеобразно, точно насмешливо. Но это было от трахомы, которой больны почти все вотяки, и это искривление глаз придает им загадочное выражение, словно они хранят какую-то тайну.
Когда показалась деревня и я пошел вдоль ее изб, то окошки распахивались, высовывались вотячки, с недоумением глядя на нового неведомого человека, забредшего в их уединенную деревню.
В четвертой избе оказался русский мужик, лесник, единственный русский человек в этой деревне, и на душе у меня сделалось легче. Он радушно меня принял и сей же час стал угощать кирпичным чаем с баранками.
— Это самые добрые люди, — отозвался лесник о вотяках. — Русский — медведь, татарин — волк, вотяк — рябчик, так они сами себя называют.
Всего-то они боятся и потому всякому пню кланяются. Сперва вотяк в церкви молебен отслужит, потом в лесу своему богу помолится, затем и с татарином и с черемисином пойдет молиться, думает, значит — замолит разных богов, чтобы ни один ему не повредил!..
Только когда праздник у них, тогда нужно от вотяков сторониться; они поют песни про свое старое время, как раньше их деды хорошо жили, и как теперь их боги оставили. Я тогда их сторонюсь, да и сами они мне говорят:
«Уходи лучше, Ефрем, куда подальше!»
Когда напьются своей самодельной водки «кумышки», так видят наяву невесть что! Богов своих, и добрых и злых, и с ними разговаривают; а коли русский им попадется на то время, навалятся на него толпой и изобьют, в одиночку-то им не справиться.
Раньше я не знал этого. Как-то в праздник ихний лежу я в избе у окна, время было уже к ночи. Вдруг — шасть кто-то колом в окно. Стекла у меня посыпались, только кол-от не задел. Выскочил я на улицу, вижу — бегут вдали несколько мужиков. Заробел я за ними гнаться, еще убьют за околицей; а кто это был — в темноте не разглядел.
С тех пор, как праздник ихний, я инда выйду на крыльцо да стрельну в небо из леворвера для острастки. А так-то мы живем мирно, в милую душу…
Удмуртские народные песни
На что меня мать родила? Вместо меня лучше бы девок родила. От меня отец и мать теперь далеко. Пойду я вперед по длинной дороге. Вот когда пичужки поют песни утром рано, какое им дело до мерзлого дерева? Вот когда пестрые пичужки есть, какое тебе дело до девок? В чистом поле, в середке, ключ говорит. Бабы лес-то пилят. В чистом поле на горке дуб зеленый стоит; если на него птички какие не сядут — уйдем от него. В деревне, в середке, наш дом. Не хай, хоть и плох, да зайди! Утки плывут по Каме. Видишь? Ты за меня на лодке не гребешь. Я за тебя греблю. Побежим бегом на большую гору. Деревня больно далеко. Там осталась мать и плачет. У одного отца было три сына. Сам отец не знал, который милее, — все кормили, поили его. Пошли на лужайку, скосили и нагребли стог сена. Отец говорит им: друг дружке не смейтесь! Пару лошадей запрягали и гуляли мы. Не упустим хороших товарищей! Пойдем гулять по деревне, к кому вздумаем, туда зайдем. Наши товарищи хороши очень, друг дружку не бросаем. Камыш шумит от ветра. На камыше белый пух растет. Ветром вода несет пух камыша скоро, с полдня ветер когда бывает. Были мы молоды, холосты, скоро, да недолго. В траве вода рано утром бывает, да недолго: ветер скоро ее разносит.Записано со слов удмуртов в деревне Старый Мултан Малмыжского уезда.
АНТИХРИСТОВ РАБОТНИЧЕК (Сомнения)
В Кузнерке, соседней деревне от Старого Мултана, остановился я в избе, имевшей вывеску «Въезжая квартира», и прожил несколько дней в обществе двух очень богомольных баб и старика. Они были услужливы, но относились ко мне с крайним недоверием, не понимая, что мне нужно в их деревне?
Я уже не говорил, что прибыл из Петербурга, так как убедился, что одно это слово «Петербург» производит паническое впечатление, а уверял всех, что я сам из Москвы, езжу и хожу по деревням записывать песни и сказки. Такое занятие казалось всем в деревне не только легкомысленным, но и грешным делом, а также имеющим в себе какой-то задний коварный умысел.
— Смотри! — говорили соседи той бабе, которая решилась сказывать мне песни, — теперь он спишет у тебя все песни, а потом, как поедет он прочь, так побежишь сзади за телегой! Возьми, дескать, деньги назад! Только песни отдай! Память у тебя отшибет от песни, ни одной больше не вспомнишь, а евоные деньги руки тебе жечь будут!..
В этой деревне я чувствовал сильное недоверие к себе со стороны мужиков и долго не мог понять, чем оно вызвано. Сижу как-то раз в избе у окна и слышу доносившийся снаружи разговор. Две бабы, односельчанки, проходившие мимо, спрашивают мою хозяйку, гревшуюся на завалинке:
— Ну что ваш чудородец делает?
— Сидит за столом и в книгу глядит. Книга-то махонька, но больно боязно в нее заглянуть.
— А поди в подполье запирался?
— Нет, на что ж ему туда?
— Да ведь он, верно, деньгодел — деньги у него больно дешевые. Верно, лазит в подполье и там их работает!
— Нет, родные. Он, должно быть, купецкий сынок, сбежал с тятькиными деньгами, да и мотает их здесь на сказки да бесовские песни.
— Нет, мои голубушки! Знаете, кто «ен»? И сказать-то боязно. Уж так мне страшно, что ен в моей избе стоит, так страшно, что я уже опоганилась!
Да как откажешь ему! Вон выгонишь, так, пожалуй, подожжет!
— Да кто же это? Не томи, Пелагеюшка?
— Милостыню он подает, оно верно, да вы видели, как «ен» подает-то?
Ведь ен «Христа ради» не приговаривает, и при том не крестится!
— Господи Иисусе Христе! Страсти-то какие! Так ты что же думаешь, кто это «ен» будет?
— А, голубушка родная, скажи мне, какой у нас год-то нынче: 99 — й! В январе, стало быть, и веку этому конец? А что перед концом века будет?
— Антихрист!
— Нет, голубушка, не сразу антихрист, а сперва работнички антихристовы пойдут народ смущать, да во антихристово стадо совращать, а там уже и сам «Ермошка» придет!..
Обе соседские бабы торопливо ушли сообщить новость по деревне, а хозяйка вернулась в избу, косясь на меня, и села в углу на лавку. Я тотчас сказал ей, что слышал недавний разговор, и счел нужным для успокоения показать, что на мне надет крест, а также прочел «Отче наш»… Тогда хозяйка как будто поверила, а в знак успокоения просила написать письмо ее сыну-солдату.
— А я-то тряслась, тряслась! Думаю, что это будет? Ты чужак тихий, да работники лукавые ловким манером в душу лезут! А думать так я стала вот с чего. Проходила баба через нашу деревню, шла она из города Малмыжа, и говорит мне: «Скоро такой закон выйдет — засыплют все реки и колодцы, а вместо них поделают» фонталы «, из них будет казенная вода течь, и положат на эти» фонталы» оброк. Кто пошлину уплатил, той бабе на коромысло клеймо прижгут!«Услыхав про то, я плакать собиралась, право! Думаю, возьму каравай хлеба и убегу в лес, а клеймо не позволю ставить. Это-то и есть» печать антихристова «, думаю. Проживу в лесу, покуда хлеба хватит, а там лучше с голоду помру, чем антихристу предамся…
Народная песня
Сострой, батюшка, сострой новый теремок! Светик мой аленький, розовый, малиновый? Проруби-ко, батюшка, три окна косящатыи! Перво-то окошечко на большу дороженьку, Другое-то окошечко во зеленые лужки, Третье-то окошечко на сине морюшко. По синему морюшку кораблики плавали, Кораблики плавали не с простыми товарами, — С купцами и с боярами.Записана в деревне Козынево,
Елабужского уезда
У КОСТРА
Тихая ночь спустилась над степью. На горизонте еще пылает багровая полоса неба и на ней черными силуэтами вырисовываются пасущиеся лошади.
Отчетливо слышно, как они неровно переступают спутанными ногами. В сонном воздухе, над неподвижной росистой травой, звуки доносятся, как над поверхностью озера, и откуда-то, близко ли, далеко ли, слышны чьи-то голоса. Небо темное, облака мрачно нависли над отлогим холмом, через который ведет дорога, и на его вершине изредка вырисовывается идущая шагом лошадь, лениво везущая поскрипывающую телегу, постукивающую на сухих кочках, с неподвижной фигурой дремлющего мужика на ней.
Несколько парней лежат на рогожах и тулупах вокруг костра и разговаривают вполголоса. Яркое пламя и красные угли освещают их загорелые лица, а за ними высокие неподвижные стебли растений с белыми цветами, над которыми вьются ночные бабочки. Один парень, лежа на спине, раскидав длинные ноги, начинает петь:
…Мне не спится, не лежится, Сон не берет. Я сходил бы ко любезной, Сам не знаю, где живет…Над дремлющей степью звонко понеслись чистые звуки и с холма эхом возвратилось последнее слово. Парень смолк и, перевернувшись на живот, стал свертывать цигарку. В наступившей тишине тьма, спустившаяся над степью, показалась еще гуще и как будто со всех сторон понадвинулась к костру. А откуда-то из степи зазвенел женский голос:
…Кто меня да девчоночку Да полюбит эту ночку? У кого душа стражает, Ен ко мне дорожку знает…Опять замолкла песня и опять тишиной заволокло кругом. Певший парень приподнялся и с равнодушным видом докончил свертывать цигарку, обратился к соседу:
— Ваня, ты последишь здесь за огнем?
Медленной раскачивающейся походкой парень удалился во мрак. Далеко, в разных местах, один за другим начали петь женские голоса, к ним присоединились новые, и не смолкая зазвенели над степью. Точно нехотя, другие парни вставали по очереди и исчезали во мраке ночи, пока на рогоже возле костра не остался один парень. Он бросил на угли охапку сырого хвороста, в середине возник желтый огонек; он то потухал и синие струйки дыма вились по сучьям, то вспыхивал и желтым светом озарял лежащего голубоглазого парня, задумчиво молчавшего, положив голову на руки.
По траве шуршат шаги, и в полосу света к костру подходят высокий крестьянин и с ним маленькая девочка. Крестьянин одет по-дорожному, с лыковой котомкой за плечами, посохом в руке, в лаптях и высокой войлочной поярковой шляпе. Девочка в малиновом сарафанчике, тоже с котомкой, в больших, не по ноге, лаптях.
— Здравствуйте, добрые люди! — говорит прохожий; девочка хватает его за полу кафтана, смотрит робко и любопытно.
— Здоров буди! — равнодушно отвечает лежащий парень.
— Умаялся-то на дороге. Да и холод сдымается к ночи.
— Садись к костру; огня-то чего жалеть!
Прохожий снимает котомку, опускается на землю. Девочка, став на колени, греет руки перед костром.
— Степь-то как у вас тянется! Ни одной деревни. Как вышел из лесу, так все, чай, полем шли. Место-то какое напольное!
— Да, степь теперь потянется, поди, до самой Казани. А наша деревня здесь сейчас за горой, версты две только. Мы здешние.
Костер разгорелся, и при его пламени казалось медно-красным суровое загорелое лицо прохожего, с темной бородой, прямыми жесткими волосами.
— Цыгане здесь не проезжали ли?
— Цыгане, говоришь? Нет, давно цыган не видно было. Все обозы шли и порожнем мужики возвращались. А на что тебе цыгане?
— Это я так, к слову спросил. Мужика я встретил, очень уж он убивается. Шли мы это полем. Кругом гладко, далеко видно на поле. На холм выйдешь, тоже верст за десять кругом видать, как на ладони. Говорит моя девчонка:» Тятька, никак человек за нами бегит!«Оглянулся я, и впрямь вдали будто точка чернеет. Вроде человек бежит по дороге и то припаднет на землю, то опять вскочит и быстрым бегом по дороге бежит. Оно-то сразу и боязно стало… Но, думаю, недобрый человек так не побежит, а хорониться станет. Верно, ума лишился человек. Но и такого тоже страшно, кто себя не помнит, тот будто зверь, и на другого кинуться может. Но все-таки сели мы на холмике под иконой Казанской богоматери, на перекрестке, ждем, не нас ли, поди, ищет? Когда близко уже был, вижу, человек будто помешался, бежит весь красный, в пыли, грязи вывалялся, и слезы из глаз, и пот текут, по лицу размазались. А глаза его ровно как у полоумного. Увидел он нас и прямо к моей девчонке:
— Манька! — закричал он, — ты ли это?
Я его отстранил рукой и говорю:
— Очнись, очумел ты! Где ты видишь Маньку? То моя дочь Оленка!..
Тут упал он на дорогу лицом и заплакал. Стал я его утешать, поднял, посадил под иконой Казанской. Тут он нам про себя и рассказал:
» Был я, — говорит, — в Сибири. Ушел в тайгу, золото промывал. Ну, намыл достаточно, думал, можно и справить все, что нужно, и дело какое завести. А жену и детей четверых в деревне оставил. Не писал им, конечно, давно. В тайге — какие там письма писать! Будь счастлив, коли живой и приятели не придушили. А жена, поди, полтора года без писем жила «. Денег ей он тоже не присылал. А положение в деревне, знаешь, какое теперь — лишний рот, значит, сам без хлеба сиди. Ссуду тоже выдают мимо десяти на одиннадцатого. Жене евоной никакого пайка не вышло. Билась она, билась.
Одну дочку вотякам отдала, будто взаместо родной дочки. Известно, вотяки часто без божьего благословения остаются, а и лестно им, конечно, русскую дочку иметь. Так за нее она не беспокоилась: ее вотяки так накормят, что растолстеет.
А еще трое на руках остались, хлеба нет, чем их воспитывать? Другие мужики, что тоже в Сибирь ходили, давно все поворочались. Говорили, что» мужа твоего, дескать, не встречали, поди, помер!«. Долго ждала молодуха и пошла девчонок в услуженье отдавать; думала: здесь не отдаст, в Казань сходит и там куда наймется, а девчонок по чужим людям разделит. Нянькой, или приемышем, может, кто возьмет.
Ушла она. А через день муж в деревню возвращается. Фартовым парнем пришел, денег сотни четыре принес, жене, детям подарки накупил. А как подошел к своей избе, видит — окна досками заколочены — и грохнулся на землю! Пришли соседи, говорят ему — беги скорей, жена вчера ушла дочек продавать. Побежал он по дороге, всех спрашивает:» Не видали ль бабы с тремя детьми?«Одни говорят — не видали, много народу идет по дороге, всех не упомнишь, а кто говорит, что и видел…
Когда этот мужик упал возле нас, мне дюже жалко его стало, взял я его за плечо и дальше пошли мы вместе. Я держу его, говорю, что скоро нагоним: куда же далеко за день уйти бабе да еще с ребятами? А как пришли мы в деревню, мужик бросился из избы в избу спрашивать:» Не видали ли бабы с тремя детками?«В одной сказали, что видели бабу, но с двумя. Она, поди, еще не вышла из деревни, сидит где-либо в крайней избе.
Мужик побежал дальше по всем избам спрашивать. Не знаю, ужо нашел ли?
А мы с дочкой пошли дальше…
Пока прохожий рассказывал свое, со степи пришли две девушки в красных кумачовых сарафанах. Обнявшись, подошли они к костру и стояли, озаренные пламенем раскаленных углей. Рассказ их заинтересовал и они сели на рогожу, так же обнявшись, как пришли.
— Так ты и не знаешь, — спросила одна, — нашел ли он свою молодуху?
— Не знаю. Верно, нашел, а то он бы нас нагнал по дороге.
— А я бы своего ребеночка никогда в чужие руки не отдала! Лучше бы по миру с ним ходила.
— Ну, не скажи, моя тетерочка. Было бы у тебя их пятеро, а дома есть нечего, так лучше бы в чужие люди отдала, там, может, и накормят. А нынче и по миру ходить — везде ли найдешь кусочек?
— А свою девчонку ты куда ведешь?
— Не я веду, а сама она напросилась. Хотел оставить ее у крестной, да говорит — возьми да возьми с собой! Да ты устанешь, глупая! Нет, говорит, тятька, я легкая, не устану. Ну, иди на богомолье, сказал я. Вот мы, поди, полдороги уже прошли. В лаптях-то не очень ногу собьешь. Ну, в город придем, там я ей сапоги надену. С собой в котомке несу.
— Так ты на богомолье идешь?
— Да, тетерочка. Тоска меня забрала. С полгода как жену схоронил.
Одна сиротка Оленка у меня осталась. Вот вместе идем на богомолье.
Угодникам помолимся. В дороге-то тоска забывается, людей видишь, места новые, степью тоже идти привольно. Лесом, коли идешь, так инда и скучно станет. Леса назади остались казенные, идешь день, идешь другой, кругом ели седые, что паутиной обернуты, и неба только краешек виден…
— Оленка! Не устала с тятькой идти?
— А не!
— И не страшно идти?
— С тятькой не страшно. Вот коли он уснет, так трудно разбудить. Спит больно крепко с дороги, никак не раскачаешь. Так тогда страшно одной оставаться… Один раз дождь шел, целый день гроза гремела, мы в лесу укрылись в сторожку, вроде как часовенка, и крест на ей сверху, икона старая, черная в углу. Ждали мы ждали, когда дождь пройдет, так и стемнело. Решили заночевать. Дверь прикрыли, тятька колом ее припер. Сами на полу легли. А я заснуть никак не могу, слышится, будто кто в подполье стучит и плачет! А в лесу гул, стук, ветер воет, деревья ломает, душеньки загубленные плачут, а мимо сторожки по дороге вода рекой течет. Окошко махонькое вырублено в сторожке, так в него всю ночь лесовик мохнатый глядел и стонал, как ребеночек…
Все замолчали. Из степи доносились близкие и дальние женские голоса и песни. Костер потрескивал. Девушки, по-прежнему обнявшись, легли на рогожу, накрылись тулупом, оставленным одним из ушедших парней. Из-под темной овчины видны были их загорелые обветренные лица, гладко причесанные волосы с пробором и блестящие глаза, задумчиво смотревшие на Оленку.
Парень, лежавший на животе, болтал ногами в лаптях, рассеянно ворошил прутом угли костра.
— А вы сами откудова будете? Дальние?
— Мы Глазовские с Шульинского починка . Верст 350 будет отсюда, а поди и больше. Уже шестнадцатый день идем.
— Что же и у вас такие же народы живут — и татары, и вотяки, и черемисы?
—» Много есть народу дикого у царя великого…«Это же известно, по всей России они живут, и у нас их довольно.
Народная песня
Высоко заря восходила, Выше лесу, выше темного, Выше садика зеленого, Выше города Саратова. Как во городе Саратове Тут стояла тюрьма новая, Тюрьма нова набеленая. Как во этой тюрьме новой Тут сидел же затюремщичек, Затюремщичек молоденькой. Он по тюремке похаживал, Из окна в окно поглядывал Скрозь немецкого стеколышка На свою дальню сторонушку, На свою любиму женушку. Мне сковали резвы ноженьки И связали белы рученьки. Мы когда тебя, поле, пройдем, Когда, чистое, прокатимся, Горы долы перемаемся, Быстры речки переплавимся.Записана в деревне Соколки, на Каме
НОВАЯ ОБИТЕЛЬ
В одной северной губернии, в глухом лесу строится монастырь. Среди высоких вековых елей, на поляне, по которой всюду видны свежие срубленные пни, стоят несколько одноэтажных домиков и низенькая церковь. Белые клубы дыма поднимаются кверху из труб и расстилаются в тихом морозном воздухе.
На одном домике надпись —» Гостиница «. Вхожу по скрипучей лестнице, попадаю в коридор: по сторонам несколько дверей, из одной выглядывает убогого вида старушка в чепце, кашляет несколько раз и прячется. Из другой двери с надписью» гостиник» появляется благообразный старичок в полушубке и валенках, низко кланяется и отворяет один «нумерок»— маленькую комнатку, оштукатуренную по свежим доскам. Мороз в ней такой же, как и на улице, так что приходится сидеть, не раздеваясь, в шубе, и поданный чай нужно пить в рукавицах.
Гостиник уходит доложить отцу-настоятелю, узнать, когда тот сможет принять меня для беседы; через несколько минут он возвращается и шепотом таинственно докладывает, что «скоро сами будут». Слышатся шаги в коридоре, растворяется дверь и на пороге молодой иеромонах, худой, со впалыми щеками, небольшой светлой бородкой. Благословив меня, он сел возле стола.
— Я радуюсь возможности увидеть вашу обитель…
— Наша обитель — и невелика, и очень юна: мы начали здесь строиться всего три года назад. Но это место — священное: здесь некогда стоял большой, славный монастырь, много старцев подвизалось здесь подвигом добрым. Но уже лет сорок, как монастырь тот сгорел дотла, вся его братия была распределена по другим монастырям. Стало быть, мы строимся теперь — на священном пепеле древней обители. А в чем главная идея и отличие нашего монастыря? Мы не спасаемся, не уходим от мира — напротив, мы набираемся сил, готовимся идти в мир на трудную борьбу…
Отворяется дверь, входит еще один монах — высокий, черный, с горящими глазами, быстро подходит и трясет мне руку:
— Здравствуйте, здравствуйте! Очень рад познакомиться с вами. Я серб, черногорец, это все едино…
— Да, на борьбу и трудную работу в защиту православия, — продолжает первый монах, отец Петр. — Интеллигенция безмолвно отрешила себя от христианства. В силу этого духовенство само отстранилось от интеллигенции.
А если мы видим человека больного или находящегося в опасности, то христианская заповедь требует помочь ему, указывать на его заблуждения, хотя бы он отталкивал, бил и унижал вас… Приезжал сюда один человек, тоже духовного звания, и говорит нам: «На вашего настоятеля искушение ниспослано, славы захотелось, новым Златоустом думает сделаться. Прежде всего, говорит, смирение, а остальное от Бога. А монастырь ваш, говорит, прогорит, потому что вы все не так устраиваете, как то следует. Заведите одного-двух схимников, чтобы к ним купцы приезжали, устройте хор хороший, старайтесь привлекать в монашество лиц с большими вкладами, да гостиницу приведите в благоустроенный вид, а то она столь неблаговидна, что в ней замерзнуть можно. Монастырь, говорит, это предприятие, и на него нужно смотреть с коммерческой точки зрения…»
— Да, да! — воскликнул серб, — он все это говорил! А где же божественная точка зрения? Где же дух? Где идея? Каждый монастырь должен иметь свою идею, как чудотворные иконы — «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радости», «Неопалимая купина»…
— Мир ти благовествующему! — раздается тихий, добрый голос. В дверях стоит сам отец-настоятель — худенький старичок с белой, как серебро, бородою. Что-то очень ласковое было в его фигуре, а глаза смотрели так, точно видели насквозь все ваши душевные движения, жалели и прощали вас.
Невольно чувствуешь себя перед ним так, как много лет назад маленьким мальчиком подходил утром поздороваться к своему отцу… Архимандрит присаживается среди нас.
— Знаю уже, о чем они вам говорили, по последним словам догадываюсь.
Дай-то Бог, чтобы удалась сотая часть того, о чем мы толкуем, чего желаем… Ведь они читают много. Выписывают книги, журналы, следят за быстротекущей жизнью. Здесь можно хорошо заниматься — тишина, кругом лес сосновый, пустынные болота, первая деревня за восемь верст, никого здесь не бывает, только зайцы выбегают иногда на полянку, да птички Божие залетают, щебечут, тем нарушают покой нашей обители…
Начался ряд перекрестных вопросов. Все интересовало этих «спасающихся»в «лесной пустыне», месяцами не видящих иных людей; почта, книги и журналы сохранили в них связь со всем, что живет и волнуется в «миру». Отца-настоятеля вызвал какой-то приезжий мужичок, и отец Петр объяснил:
— Отец-настоятель — это наш критерий истины. Он замечательно начитан в духовных книгах и при спорах сейчас же указывает отклонения от истинного православия, приводит цитату из Отцов Церкви или других редких церковных книг. Светское образование ему чуждо, с юношеских лет был сперва послушником, потом иеромонахом при разных монастырях, долго жил в монастыре на Афоне…
Разговор прервал полуслепой звонарь, пришедший просить благословения звонить к обедне. В церквушке начинается богослужение. После того, в два часа монастырский обед всей братии.
Меня, как гостя, сажают на почетное место — второе от отца-настоятеля, первое занимает отец-казначей. Одна миска служит на пятерых, все черпают из нее деревянными ложками, соблюдая почтительную очередь. Ради праздника три блюда — на первое кислые щи, на второе холодная окрошка с рыбой, на третье — пшенная каша с подсолнечным маслом.
Для смены блюд отец-настоятель звонил в колокол, дергая за шнурок с кистью. Во все время обеда один из монашеской братии читал из «Четьи-Минеи».
После обеда мы перешли в домик отца-настоятеля. В комнатах пахло воском и кипарисом. Быстро темнело. В сумерках бродила худенькая фигура старого монаха, в подряснике, с зажженной восковой свечой в руке, переходя от одной полки к другой, откуда он доставал старинные, редкие духовные книги, собираемые всю жизнь.
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
В Богородицком уезде Тульской губернии развился тип очень полезных и симпатичных воскресных школ, где получают образование взрослые крестьянские девушки.
Инициатором воскресных женских школ является священник села Никитского отец Петр Модестов — очень энергичный, один из тех священнослужителей, которые были передовыми бойцами в борьбе с народным бедствием, когда в 1897 году Тульскую губернию постигнул недород хлеба и все связанные с этим тяжелые последствия.
Видя медленность движения получения образования в окружающем крестьянском населении и почти совершенное отсутствие грамотности среди женщин, Модестов решил приложить свои труды на добрую, хотя и трудную цель. Вот что он сам писал в своем докладе Богородицкому земству:
«Большим препятствием для распространения грамотности служит отдаленность училища от окраин селения. Детям приходится идти до училища несколько верст, иногда в грязь, при дожде, в метель, по глубокому снегу, в большие морозы. При этом мужское население получает некоторое образование, а девушки и женщины остаются неразвитыми. Мальчики в 8 — 9 лет уже имеют сапоги и полушубки, а девочкам такой одежды и обуви в крестьянстве не принято делать, до 12 — летнего возраста они пользуются только серяками; только в более состоятельных домах родители шьют им суконные поддевки. Поэтому девочкам школьного возраста совсем невозможно посещать отдаленную школу. Это видно на практике: при начале учебного года в училище поступают 30 — 35 девочек; первый месяц они посещают школу весьма усердно, много аккуратнее мальчиков, с наступлением глубокой осени от мокроты и грязи оставляют училище совсем…
Другим препятствием к развитию грамотности служит недостаточное расположение некоторых родителей-крестьян; большинство из них не вкусили плоды грамотности, потому не особенно заботятся о том, чтобы посеять ее в своих детях; вдобавок и сами девицы уже в возрасте невест, неохотно, на первых порах, соглашаются учиться, опасаясь пренебрежения к ним со стороны женихов, — не сравняли бы их с» вековушами «…»
В ноябре 1894 года Петр Модестов с дочерью Ольгой и священником Алексеем Нащокиным пригласили двух учителей здешнего земского училища и решились открыть школу для взрослых девиц. По воскресным и праздничным дням училище было свободно, его избрали местом для занятий и назвали эту школу «воскресною». На первый урок собралось 80, а потом и до 120 девушек, так что трудно было их всех разместить, некоторые стояли или сидели на подоконниках, а то и размещали их в двух классных комнатах…
Как оказалось на деле, принятую задачу было невозможно выполнить только в праздничные дни, — стали учить и в один из будних дней. До конца учебного года пробыло в школе 50 девушек; во втором учебном году вновь поступило 55 девушек; из прежних учениц 35 пожелали продолжать учение на второй год, и из них сдали экзамены 21 девица по программе церковноприходских школ…
Опыт показал, что учитель не так пригоден для этой школы, как учительница; да и учителям трудно было вести преподавание в течение всей недели без отдыха и вознаграждения за него; к их чести нужно добавить, что учительский труд принимался ими на себя добровольно и безвозмездно, без всякого принуждения с чьей-либо стороны.
Каковы результаты деятельности «воскресной» Никитской школы, свидетельствует доклад председателя Богородицкой земской управы графа В.
А. Бобринского:
«Успехи, достигнутые девушками в 119 учебных дней, поразительны. Они выучились отчетливо и со смыслом читать и передавать своими словами прочитанное, ясно и без серьезных ошибок писать и даже составлять несложные сочинения… По-славянски они правильно и с соблюдением ударений читали… Они были ознакомлены с некоторыми эпизодами русской истории… по арифметике девушки оказались слабее общего уровня народных училищ, но в Законе Божьем они далеко превзошли оных…»
Несмотря на много трудностей, благое дело стало заразительным примером для окружающих сел, уверовавших в пригодность и нужность воскресных женских школ. Через год открылась подобная школа в селе Непрядве, а за нею, продолжая распространяться по уезду, воскресные школы появились в центре, на севере и юго-востоке уезда, так что к 1 декабря их было уже 12; вскоре открылось еще 9 школ…
Занятия в женских школах вели учителя земских и церковноприходских школ, бескорыстно отдавая этому делу свое единственное время отдыха от ежедневного тяжелого учительского труда…
Всего в этих школах обучилось более двух тысяч девушек…
***
Особый интерес заслуживает опыт устройства воскресных школ, где учительницами стали лучшие ученицы из числа окончивших курс «воскресниц».
Осенью 1896 года пятеро из окончивших весною курс обучения девушек продолжали ходить в школу и помогать учительнице при уроках. Девушки выказали хорошие дарования, любовь к делу, вскоре усвоив элементарные педагогические приемы. Им стали поручать преподавание в младшем отделении.
Воспитанные и живущие в крестьянском быту, они довольствуются еще более скудным вознаграждением, чем наши бедствующие сельские интеллигентные учительницы, отличаются большим прилежанием и аккуратностью и не имеют тех российских недостатков, которые свойственны так часто сельским учителям.
Вот что пишет об этих учительницах-крестьянках заведующий Красно-Холмской школой:
«Они оказались настолько способны в деле учительства, что к концу учебного года их ученицы, приглашенные на экзамены в Никитскую воскресную школу, по испытании заслужили полное одобрение комиссии, производившей экзамен… Этот факт показывает, что есть еще непочатые силы, которые при удобных обстоятельствах могут работать с великой пользой для народа, тем более, что и выходят-то они из его среды… Если успешно вели дело учительства окончившие курс сельской воскресной школы, то чего же можно ожидать, если они получат более полное и систематическое образование?..»
Для борьбы с предубеждением части крестьян против обучения девочек приходилось прибегать к различным средствам. «В народе составился взгляд на начальное образование как на дело, свойственное только детскому возрасту. Равным образом, случай хождения в школу девушек-невест, имеющий приложение впервые на памяти стариков, казался в высшей степени предосудительным, даже позорным. Ввиду этого пришлось склонять крестьян к образованию взрослых девушек путем долгих разъяснений значения образования для человека, его пригодности и почетности для всякого пола и возраста», — рассказывал Петр Модестов; кроме того священники произносили проповеди в церквах на тему о пользе и необходимости грамоты для женщин…
«Грамота каждому нужна», — говорили крестьяне села Волова и благодарили устроителей «воскресных школ». Редкие случаи насмешек со стороны молодых парней, какими иногда встречали идущих из школы невест, смущавшие учениц, прекратились вместе с успехами девушек в чтении и других науках…
«Крестьяне более всего убеждаются в правоте не рассуждениями, а живыми примерами из действительной, окружающей жизни, — писал заведующий Непрядвенской воскресной школой Н. Глаголев, — только этим можно объяснить факт, что во вновь открытую школу поступило для обучения только 25 девиц, или 1/8 часть всех взрослых неграмотных девушек Непрядвы… Как оказалось после, некоторые крестьяне не вполне осознали пользу учения своих дочерей и ждали — какие благие плоды принесут те, можно сказать,» героини «, решившиеся, вопреки установившемуся обычаю, учиться грамоте, уже будучи взрослыми»…
Все же предубеждение крестьян обучению грамоте взрослых девушек можно считать разрушенным. Нечего и говорить, что сами «героини» всюду относились к школе с увлечением и любовью.
Более подробные сведения об указанных воскресных школах помещены в «Докладе Богородицкой уездной земской управы о доставлении всему населению уезда общедоступного начального образования и отчете о воскресных школах».
«ФАБРИЧНЫЕ СЕСТРЫ»
В Ярославле, на Большой Ярославской мануфактуре, несколько лет назад возникло учреждение, слабое и неустойчивое, выросшее из случайностей, но которое следовало бы отметить как светлый симптом настоящего и, может быть, симпатичный образец для будущего.
Возле фабрики, в том предместье, где живет многотысячное рабочее население, стоит старинная Предтеченская церковь. Настоятелем при ней находится отец Федор Успенский, обладающий большой энергией. Его духовную паству составляет фабричный люд, с которым он проводит всю свою повседневную жизнь.
Как-то случайно несколько взрослых фабричных девушек обратились к отцу Федору с просьбой позаниматься с ними Законом Божьим, так как они не только забыли то, что учили в школе, но плохо помнят даже грамоту.
Начались уроки в свободные от фабричной работы часы, причем девушки выказали столько охоты и прилежания, что приезжавший на занятия Ярославский архиерей отметил, через год обучения, их знания лучше приходских учеников…
Но не только изучение Закона Божия оказалось важным в этом начинании.
Дружба, возникшая среди добровольных учениц, не могла заглохнуть и с окончанием лекций. Простые фабричные работницы захотели образовать «братство»с целью взаимной нравственной поддержки, лучшего устройства своей жизни, с тем, чтобы иметь возможность сообща оказывать помощь там, где один человек бессилен.
Среди однообразного, одурманивающего фабричного труда, ужасов пьянства и разгула, где жертвами становятся дети и более слабые женщины, это «женское братство» выросло странным цветком, внесшим благоухание доброй женской души туда, где так нужна и благотворна всякая помощь. Это «братство» хлопотало о том, чтобы получить официальное название «миссии фабричных сестер милосердия», но духовные власти нашли в слове «миссия» что-то сектантское и дали ему какое-то другое название.
Бедные работницы мануфактуры, уделяя крохи от своего малого заработка, наняли сообща квартирку, куда поместили маленьких детей, взятых от пьянствующих матерей. Они сами ухаживали за детьми, устроили поочередное дежурство, и вскоре присоединили к этому приюту ясли, куда фабричные женщины в часы своей работы стали отдавать детей…
Узнав об инициативе работниц, посторонние люди начали принимать участие в жизни этого небывалого учреждения. Первоначальная малая квартира обратилась потом в отдельный двухэтажный домик, очень чисто и аккуратно содержимый.
«Фабричные сестры» воспитывают покинутых детей и делают, что могут, дабы спасти своих подруг — колеблющихся и ступающих на наклонную плоскость. Сам факт возникновения «фабричных сестер милосердия» имеет некоторое значение. У нас так много говорят о разлагающем влиянии, вносимом фабрикой в окружающее ее рабочее население, что проявление в той же среде элементов отпора и нравственной стойкости должно быть очень важно. Следовало бы и на других фабриках лелеять возрастание подобного рода «братств»и «миссий». Хотя искусственным путем трудно создать такое учреждение и ожидать от него жизненности.
На одном из воскресных собраний — «собеседований» фабричных работниц мне удалось присутствовать. Проводил его худой, сутулый, сгорбленный настоятель Федор Успенский, сидя за маленьким столом в классной комнате приюта. На партах, тесно прижавшись друг к другу, сидело множество старых и молодых бледных фабричных женщин, с лицами в резких морщинах, изможденных детьми и работой в фабричных камерах, насыщенных пылью от хлопков ваты, под неумолчный грохот машин и станков. Лица молодых девушек, сутуловатых, преждевременно состарившихся в монотонной работе, тоже были усталые, серые. Только у маленьких приютских детей, ползавших по полу, сидевших на коленях у женщин, передававшихся ими с рук на руки, были свежие, румяные лица.
Когда священник закончил чтение отрывка из Евангелия, начался перекрестный разговор по поводу разных неурядиц, происшедших в некоторых фабричных семьях:
— Ну, что Симониха?
— Да все убивается. «Ен» приходит домой, шумит, все на пол бросает!
Мы Симонихе говорили, потерпи, дескать, лаской обойдись с «Ним». Вы бы, батюшка, «Его» успокоили…
— У Харитоновны мальчишка расхворался, помочь бы надо.
— А Лукина загуляла. На работу не ходит, детей своих забросила.
Ребятишки по улице бегают голодные, чумазые, надо бы их в приют поместить…
«Фабричные сестры» совместно обсуждали меры, какие надо бы проделать: с кем поговорить, за кого попросить перед «Конторой» фабрики, у кого подежурить, и тому подобное.
«УЧИТЕЛЬ ВЕКА»
Русь еще не оскудела людьми, занятыми созидательной работой, которые, как пчелы, строят одну ячейку за другой в громадном улье нашей народной жизни. Эти «созидатели» отыскивают и поддерживают прочные и здоровые основы народной жизни, которые никому не удастся расшатать до тех пор, пока будет стоять русское государство.
И те люди, которые смиренно работают, веря в свои идеалы, заслуживают большего общественного внимания, так как они оставляют заветы будущего и передают свет новым поколениям, при которых тем придется жить и работать.
«Созидатели» при жизни никогда не пользуются ни поклонением, ни шумным успехом, но это — общая участь всех искренних и плодотворных деятелей, заботящихся о чужом, а не личном благе и поэтому оставивших попечение о собственной рекламе и личных выгодах.
Одним из самых замечательных современных русских деятелей, знатоков всей глубины русской жизни народной и «учителей века», является профессор и сельский учитель — Сергей Александрович Рачинский*.
Племянник поэта Боратынского, друг первых славянофилов и преемник их по своим убеждениям и деятельности, С. А. Рачинский принадлежит по рождению к стародворянской части русского общества. После обширной научной подготовки в России и за границей он был 9 лет профессором ботаники в Московском Университете.
Приезжая в свободное время в свое родовое Татево (Бельского уезда Смоленской губернии), Рачинский заинтересовался народной школой в своем имении. Первым же его наблюдением было то, что народная школа страдает некоторым коренным недостатком, который состоит в чем-то более важном, чем неудовлетворительные приемы преподавания. Рачинский бросил университетскую деятельность, оставил все привычки и городские удобства и переселился в школьный дом, начав жить одною жизнью с учащимися крестьянскими детьми.
Рассказывали, как достоверный факт, что местное училищное начальство не разрешало Рачинскому преподавать, за неимением соответствующего диплома, и поэтому бывший профессор университета ездил в уездный город и держал экзамен на звание школьного учителя!
— Многое не дается и не удается, — говорил Рачинский. — Именно потому, что мы боимся показаться смешными и странными. Победа над этою болезнью уже сама по себе есть великая победа, ибо удесятеряет наши средства деятельности, охраняет ту смелость, которая города берет. Но кроме боязни смешного есть и другая боязнь, гибельная для всякого практического дела. Это боязнь труда, не обещающего верных результатов, боязнь предприятий, коих успех не правдоподобен. Все хорошее трудно, все прекрасное не правдоподобно. Этому нужно покориться, но все-таки словом и делом, неустанно работать над тем, что не правдоподобно и трудно, ибо из-за вещей правдоподобных и легких не стоит жить на свете…
Решение Рачинского посвятить себя деревне состоялось в 1875 году; с тех пор он, почти безвыездно, жил в своем Татеве, занимаясь обучением и воспитанием крестьянских ребят и тратя на них все свои средства.
С самого же начала он мог найти удовлетворение своей деятельности: ему было отрадно работать, видя, какие разнообразные дарования и высокие умственные и художественные способности крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, скрываются под бедными, разодранными, заплатанными зипунишками.
«Способности эти разнообразны, — говорил Рачинский, — но заметно преобладают способности математические и художественные. Музыкальная даровитость наших крестьян поистине изумительна! Ничуть не менее распространена другая художественная способность, которая, при нынешнем зачаточном состоянии нашей сельской школы, лишь в редких случаях имеет возможность проявляться, — способность к рисованию. К о л и ч е с т в о д р е м л ю щ и х х у д о ж е с т в е н н ы х с и л, т а я щ и х с я в н а ш е м н а р о д е, — г р о м а д н о, но о нем пока может составить себе понятие лишь внимательный сельский учитель».
Рачинский утверждал, что коренной недостаток народной школы состоял в том, что школа не была национальна, не была построена на началах русской народной жизни. И этот необыкновенный сельский учитель, положив во главу угла национальное воспитание, создал тип русской сельской школы, отвечающей особому культурному сложению нашего народа, особенностям его психики и верованиям.
Рачинский решился давать и последующее образование наиболее способным ученикам своей школы. Дело это, конечно, очень ответственное: «Оторвать от сохи крестьянского мальчика, в предположении, что из него разовьется самостоятельный художник, из глухой деревенской среды бросить его в мутную жизнь столицы, в пеструю толпу воспитанников наших художественных школ, — это значит брать на себя страшную ответственность, ибо, как можно безошибочно угадать в ребенке ту степень таланта, ту силу характера, которые необходимы для успешного художественного поприща?»
Рачинский направил на художественную деятельность троих мальчиков и воспитывал их на свои средства… Один из них (Петерсон), из обрусевших латышей, оказался отличным живописцем, был назначен учителем рисования в школу Новикова в Козловском уезде Тамбовской губернии, но умер очень молодым. Другой — оказался неудачником. Зато третий воспитанник — Н. П.
Богданов-Бельский — доставил много нравственного удовлетворения бескорыстному С. А. Рачинскому.
Окончив Петербургскую Академию Художеств, Богданов-Бельский уже выставил несколько очень интересных картин, одна из которых «Воскресное чтение в школе» находится в музее Императора Александра III*; среди художников «передвижников» имя Богданова-Бельского привлекает к себе много внимания. Картины его, главным образом, из крестьянской жизни: «Последние распоряжения», «Нищий у дверей школы», «Устный счет», «Будущий инок»и другие.
Рачинский не ограничивался этими тремя воспитанниками. С самого начала своей учительской деятельности он старался помогать дальнейшему продвижению и образованию учеников Татевской и соседних школ, выводя их в учителя, приготовляя и отдавая в различные училища, доставая им места управляющих, приказчиков и т. п…
В то время, когда я посетил С. А. Рачинского, уже более 40 его учеников самостоятельно учительствовали, а в селе Дровнине, Гжатского уезда, возникла учительская семинария, где бывший ученик и помощник С. А.
Рачинского — В. А. Лебедев — очень успешно подготовлял народных учителей.
«Сельских учителей нам нужно много, — говорил Рачинский, — дельных, непритязательных, честно исполняющих свое трудное дело с любовью и терпением. Контингент, доставляемый нашими учительскими семинариями, качественно и количественно недостаточен. Сельских школьных учителей должна плодить сама сельская школа»…
Будучи глубоко религиозным, Рачинский пытался образовать из части крестьянских мальчиков, «которых тянет к церкви и духовным подвигам», — священнослужителей нового типа.
Рачинский говорил следующее: «С в я щ е н н и к и н а ш и п л о х и. Н а ш е д у х о в е н с т в о ч а х н е т и м е д л е н н о г и б н е тп о з о р н о йс м е р т ь ю, п о х о ж е й н а с а м о у б и й с т в о. Долго замкнутое в строгую касту, оно постепенно выделяло и продолжает выделять из себя живые силы, сохраняя в своих недрах лишь элементы слабые и косные, да те немногие сильные личности, у кого случайно призвание совпало с рождением».
«Дивиться нужно скорее тому, что у нас встречаются сельские священники, в тишине и смирении совершающие свое святое дело, за которое никто и никогда не скажет им» спасибо!«
» В наше время и сельский учитель, и священник, и даже гимназический учитель не привлекают к себе ни симпатий, ни уважения публики. Даже сравнивать нельзя отношения нашего общества к этим благородным и высоким профессиям — с тем почетным положением, каким пользуется народный учитель и пастор в Германии, Швеции, Дании, даже в нашем Прибалтийском Крае*.
Причина такого полупрезрительного отношения, которое позволяет себе принимать всякий российский обыватель, мнящий и называющий себя «интеллигентом», лежит именно в рецидиве необразованности этого интеллигента, а не в учащем персонале. Русский крестьянин в своем почтительном отношении к учителю и священнику стоит гораздо выше и нередко оказывается культурнее так называемого интеллигента…«
» У ч и т е л ь с т в о в р у с с к о й ш к о л е — п р и з в а н и е, н о н е р е м е с л о «.
Философ В. В. Розанов писал в то время, что» невидный труд Рачинского увлек и увлекает многих. Татево стало рассадником школ, так сказать, материнской школою, от которой все новые и новые пчелки отлетают в сторону, но на новом месте творят дело и ширят веру старого Татева.
Образовался район школ, где трудятся люди одного духовного происхождения, частью родные старого профессора, а большей частью бывшие ученики его школы. Из других губерний, незнакомых местностей, обращаются к Рачинскому с просьбой дать для сельской школы учителя его выучки и направления. И, без регламентации, «штатов и жалованья», вырос некий и притом общерусский «учительский институт»…
Татевская школа находится возле церкви, за оградой парка, окружающего старинный дом Рачинских. В школе — несколько комнат; классная очень просторная, с высоким потолком. Училось в ней тогда более 60 детей, из них около 30 из дальних деревень, живущих в самой школе.
Меня поразило особенное настроение учеников школы — это было тихое счастье детей, любовное, братское и почтительное отношение друг к другу.
Была заметна торжественность настроения, точно это была не школа, а церковь. К С. А. Рачинскому ребятишки относились как к любимому и доброму «дедушке», доверчиво обступали его, совершенно не так, как обыкновенно дичатся деревенские ребята перед «барином».
Я видел нескольких учительствующих, бывших учеников Рачинского, смотрел в задушевные глаза этих людей, поднявшихся из народной массы, но не порвавших нитей, связывающих их с коренной народной силой, с Землей-матушкой, и мне было отрадно и тепло возле них, от кого веяло чем-то искренним и честным. Какими нелепыми становились модные в некоторых кругах интеллигенции толки и «теории»о вырождении великорусской народности. Э т и л ю д и — н е с о б ь ю т с я с д о р о г и, н е п р о п а д у т,сн и м ир у с с к а яз е м л ян е о с к у д е е т!..
С. А. Рачинский был уже стар и слаб, вследствие нездоровья недавно оставил школьные занятия и переселился в свой дом. В школе у него делались головокружения и обмороки. Волей-неволей пришлось ему передать любимую школу своим молодым помощникам. Но, несмотря на слабость здоровья, от его личности веяло неугасимой бодростью и энергией. Глаза его горели юношеским огнем.
Бывают редкие люди, удивительной чистоты и возвышенности души, которые облагораживают всякого, кто говорит с ними; их душевный мир — это священный храм, входя в который вы забываете мелочность и пустоту жизни и становитесь перед высокими целями, святыми помыслами и глубочайшими запросами духа.
К таким людям нужно причислить и С. А. Рачинского.
СТРАННИКИ
1. ТОСКА
Бывают тягостные ночи: Без сна, горят и плачут очи, На сердце жадная тоска.Лермонтов
Ветер нес по сухой степи тучи пыли, стремительно налетал, трепал одежду и едва не сбивал с ног. С запада ползли темные облака, надвигая грозу, а наверху небо еще было светло-бирюзовое и солнце жгло яркими весенними лучами. Холмистая степь, на которой едва начинала пробиваться трава, пустынно растянулась кругом, серая, мертвая, с потрескавшейся землей и высохшими кустами колючего бурьяна.
Впереди недалеко роща с прозрачными сквозистыми березами, на которых только начинают лопаться клейкие почки. Сквозь деревья виден какой-то сарай, — в нем можно укрыться. В роще ветер со свистом проносится по обнаженным вершинам берез, качающихся с жалобным скрипом.
Сарай сложен из неровных жердей, оставляющих широкие щели, и покрыт хворостом и дерном. Внутри сарая навалено сухое сено. В стене раньше была дверь, но она оторвана и лежит рядом с входом на земле.
Когда первые капли дождя забарабанили по сухой земле, я лег на сено и заснул под монотонный шум дождя, прерываемый раскатами грома.
В сарае было темно, должно быть уже вечерело, когда я очнулся от звуков человеческих голосов. Говорили двое, дрожащий старческий голос и молодой:
— Ты хочешь счастья? Его ты не найдешь. Знаешь, сделай что — отвернись от всего и забудь о счастье, и тогда оно побежит за тобой, и станет здесь, рядом, и в тебе самом.
— Амвросий, мне тяжело. Тоска меня мучит такая, и не знаю, что бы с собой сделать?
— Тоска? А что такое тоска? Она есть у всякого. На донышке у всякого тоска лежит. Тоска — это ядовитые капли. Ты ее не взбалтывай, береги, сверху заваливай, не давай всходить на верх. Если тоску не тушить, она одолеет, жить нельзя будет. Когда тоска всплывает, все тело загорается, мысли горят и что-то жжет душу. А ты сдержи себя, железные вериги наложи на плечи, сдави все свои помыслы и мечтания, стань степенный, сдержанный, холодный.
— И у тебя, Амвросий, тоска бывает?
— У меня-то? У меня явиться она не смеет. Свою душу я в руках держу.
— Хожу я с тобой по святым местам, молюсь, на себя тяжести накладываю, изнуряюсь постом, обеты исполняю, а все гложет, сердце перевернется и кровью обливается.
Голоса замолкли, и я опять забылся во сне.
«…Мой отец в своем кабинете сидит за большим столом, окруженный книгами. Как всегда, он в золотых очках, четыре свечи горят под зеленым абажуром. Я бы хотел теперь тихо, тихо войти в кабинет, чтобы ему не мешать. По стенам кругом стоят полки и шкафы с книгами, в темных переплетах. Я бы тихонько подошел, выбрал интересную книгу и затем сел в кожаное большое кресло рядом со столом и стал бы читать. А отец бы заметил, что я здесь, и спросил бы строго, глядя поверх очков:» Где же ты был эти три года?..«
— Странствовал… — отвечаю я.
— Что же ты делал?
— Ходил по Руси, ее дорогам, деревням, городам, монастырям и святым городищам…
— А что ты хорошего за это время сделал?
— Хорошего? Еще не знаю. Хочу пользу народу принести, добро делать…
» душу свою положить на други своя «…
— Подожди, — говорит отец. — Потерпи, и твой черед придет.
…В зале сумерки, мебель чехлами одета, сквозь окно синеватый свет льется, рояль открыт, за ним сидит и играет сестра… Как давно я не слышал хорошую музыку. Соната Бетховена. Кто-то иной красивыми звуками рассказывает тебе самые сокровенные твои мечты, показывает их такими живыми, близкими. Как самоцветные камни, они переливаются разноцветными огнями. Счастье кажется возможным: музыка плачет и улыбается, и ты знаешь, что это только музыка, красивые звуки, и, как мыльные пузыри, они переливаются радугой и лопаются…»
Очнувшись, я осторожно придвинулся к стене и стал смотреть в щель между жердями. Ветер утих. Редко стояли обнаженные стволы берез с нависшими дождевыми каплями на черных ветвях, невысокие сосенки с длинными иглами, полными воды, и корявая ель с вылезшими из земли кривыми корнями.
Под густыми ветвями ели на коленях стоял маленький горбатенький старичок, неподвижно, как ель, обрызганная дождем, и его грубый армяк, разодранный и в заплатах, был такого же бурого цвета, как и еловые корни.
На сучке ели перед ним висела иконка в медном окладе.
Отодвинувшись от стены, я опять лег на сено. Капли дождя изредка стучали, падая на землю. Хотелось заговорить со странниками, но я не смел нарушать молитвы старика и прислушивался, стараясь уловить какое-либо движение. Послышались приближающиеся новые голоса:
— Здесь можно укрыться, обсушиться. Чего по грязи и дождю далее идти?
— Да тут люди какие-то!
— Ну и хорошо. С ними и дальше пойдем. Скопом к вечеру лучше идти.
2. СКИТАЛЬЦЫ
В сарай вошла высокая смуглая девушка в бурой сермяге. Темные расширенные глаза смотрели робко и в то же время сосредоточенно, словно вглядываясь в свою, внутреннюю, скрытую от людей мысль. Девушка опиралась на посох, за спиной ее висела котомка. Не снимая котомку, она присела на пороге. Следом за ней вошел высокий сгорбленный старик, босой, тоже с котомкой, сверх нее были подвязаны сапоги.
— Да тут человек есть, — заметил старик. — Здравствуй, молодец хороший! Огоньку бы развести, малость обсушиться…
Старик снял котомку, стал вытаскивать сучья из груды хвороста и жердей, наваленных в углу сарая, быстро сложил костер возле входа, подсунул клок сухого сена и развел огонь. Тогда девушка скинула с плеч свою котомку и подсела к костру, глядя на огонь задумчивыми глазами.
Старик, присев на землю у костра, скинул свой армяк и стал раскуривать большую трубку. Промокнув под дождем, греясь возле огня, старик, видимо, почувствовал себя хорошо и стал словоохотлив. Он сообщил, что зовут его Фомой Пинчуком, был он солдатом, участвовал в Восточной войне , теперь идет на богомолье к Троице-Сергию , а оттуда в Киев, а дальше в Одессу на пароход, какой повезет в Иерусалим; жить ему, вероятно, осталось уже недолго, так перед смертью хочет помолиться…
— А это, — указал он на девушку, — Настя Плотникова, — идет отца своего искать в Казань. Она из соседней деревни, отца ее Трифона хорошо знаю. Степенный мужик, да запропастился куда-то.
Я слушал Фому и ждал, когда же появятся те два странника, молодой и старик, говорившие за стеной. Вскоре они показались перед сараем, но оба с котомками за плечами, как видно, собираясь уходить. Старику Амвросию приглянулся огонек, захотелось погреться, молодой его спутник уговаривал пойти дальше, но потом уступил, и оба подошли к костру.
Сложив у стены свои котомки, Амвросий подсел к старику солдату, а молодой спутник, оглядев всех рассеянным взглядом, вышел из сарая.
Некоторое время он стоял в дверях, глядя в даль, степь, видневшуюся за березовыми стволами, и пошел на опушку рощи. Был он высок и тонок, узкоплечий, бурая сермяга, широко висевшая на нем, не закрывала тонкой и длинной шеи. Смуглый, с темными глазами, глядевшими рассеянно. Но несмотря на бедную сермягу, онучи и лапти, гордость и независимость замечались в его движениях и манере говорить.
Выйдя из сарая, я подошел к нему, и мы разговорились.
Я ему рассказал, как сам начал «ходить по Святой Руси», записывая ее песни и предания. «Пошел к мужикам, потому что меня тянуло к ним, хотелось бродить среди других странников и богомольцев, быть в толпе, в народе, великом и загадочном, таящем в себе неведомые силы, которому мы все, интеллигенты, должны служить».
Николай ходил уже несколько лет. «Сперва я ходил один, а потом мне встретился старичок Амвросий, который уже много лет переходит по Руси от одной обители к другой. Теперь ходим с ним вдвоем. Амвросий дивный человек; душа его кроткая, как у ребенка, он много видел, инстинктом может чувствовать людей, и у него есть способность предвидения. Во многих местах его принимали за юродивого. Ходя с ним, я точно имею рядом с собою свою совесть, и этот горбатенький старичок меня охраняет своей чистой душой лучше, чем какая бы то ни было сила».
Николай говорил, что он все-таки еще не чувствует себя «своим», будучи в крестьянской массе: «Представьте себе, что впереди незнакомая деревня, куда нужно войти. Много я уже ходил, и все-таки перед каждой новой деревней, где хотел остановиться, знакомое чувство охватывает и на мгновение сжимается сердце. Больших усилий стоит выработать в себе умение производить впечатление прохожего и» своего» человека; тому, кто говорит смело и весело, толпа больше доверяет, забывая свою обычную подозрительность.
Было время, когда мужики были робкие, забитые, когда они и пню молились и каждой бляхе кланялись. Прошло сорок лет. Мужики оправились.
Люди, видевшие барщину, доживают свой век. Выросло новое поколение, не пробовавшее крепостной узды, у которого выросло чувство самоуважения и гордости.
Каждый мужик из нового поколения уже сам себя называет барином:
«о д и н б а р и н н а д д р у г и м б а р и н, а я с а м н а д с о б о й б а р и н». Каждый крестьянин обратился в маленького помещика: он хозяин над своим куском земли и своим домом; ко всему остальному миру относится с полной самостоятельностью и большим самоуважением. Русские крестьяне вступили в новый фазис истории, который, несомненно, чреват большими результатами, и весь этот хаотический мир представляет сплошную массу новых русских граждан «…
Над степью угасала багровая заря, и кое-где замерцали огоньки дальних костров и деревень. Мы вернулись к сараю. Старики, солдат Фома и Амвросий, лежали возле костра, подложив котомки под головы. Настя сидела поодаль, смотря на костер большими темными глазами.
3. ГОЛОДАЮЩИЕ
» Приехал к нам в село, — рассказывал солдат Фома, — из города молодой человек голод исследовать. Чего нужно еще исследовать? Г о л о д я ю щ и й — т а к г о л о д я ю щ и й, э к а н е в и д а л ь, ч т о л и? Говорит он нам: «Где же у вас голод? У вас деревня еще ничего, мальчишки в бабки играют, все как быть следует…» Один мужик ему отвечает:
— «голодяющие по улице не гуляют, в бабки не играют, они по избам прячутся»; пошел этот молодой человек в первую избу, там мужик с печки слез. «Ты что ж, — спрашивает он, — голодаешь?» Мужик отвечает: «Так точно, все терпим».
«Покажи избу!» Другой мужик полез в подполье и нашел там мешок луку. «Ну, какой же ты голодяющий? Поезжай на базар, лук продай, а хлеба купишь!»— «Так точно, — отвечает мужик, — это и мы знаем, что лук продать можно и хлеба купить. А вот когда этот купленный хлеб съедим, а дальше что?»…
Старик у нас есть, такой навязчивый, пристает он к приезжему, говорит ему:
«Вам в баню непременно сходить надыть». — «А на что?»— «Икру мужицкую посмотреть. Голодяющий отощал очень. В лаптях да онучах оно не видно, а как в баню пойдешь, так в и д а т ь, ч т о м у ж и к б е з и к р ы, ну просто ни одного сурьезного мужика с икрой не найдешь, окромя разве только у одного вашего приезжего степенства…»
Фома накрылся сермягой и закрыл глаза. Амвросий тоже дремал. Настя спала. Костер, догорая, вспыхивал красными огоньками, и по углам сарая шевелились большие тени.
— Мне приходилось много бывать в тех местах, где теперь голод, и я дивлюсь тому смирению, в то же время сильной воле, какую проявили голодающие мужики, — говорил Николай. — У нас много этого лживого смирения, особенно в интеллигенции, отказывающейся от своей родины, убивающей свои убеждения и заискивающей перед всем, что ей выгоднее и полезнее. Но есть у нас и другое смирение, великое и терпеливое — оно в народе. Э т о с м и р е н и е о д е р ж и в а е т с у в о р о в с к и е п о б е д ы, с т р о и т В е л и к у ю С в я т у ю Р у с ь, д а е т с и л у п е р е н о с и т ь р у с с к и е б е д ы…
Слушая Николая, я вспоминал то, что видел, и думал:
«Что такое русский голод? — Это великое смирение, самоотречение и умеренность. Главный трагизм русского голода в том, что голод незаметен.
Нет ни криков, ни стонов, ни шума. Жизнь идет, как всегда, обыкновенно, естественно, спокойно.
Крестьяне, молчаливые, сумрачные, безропотно проводят свою однообразную жизнь. Но сегодня умрет один ребенок в одной избе, завтра две бабы в других избах, затем опять двое-трое мужиков, — но так спокойно, незаметно.
Все делается как-то естественно, само собой; люди сперва долго лежали, или даже вставали, имели болезненный вид, а затем померли, тихо, без стона и жалобы!
Но если сосчитать число этих больных и умерших от голода, то вдруг поражает их громадная цифра. Эта серая тихая жизнь и серая смерть, уединенная, незаметная. Если бы валялись трупы на улицах, если бы умирающие семьи ходили группами по улицам и кричали, то в голоде не было бы уже сомнения, так как голод бил бы на чувства, эти картины имели бы театральный и трогательный вид.
Но он тих, незаметен, замкнут, безмолвен, терпеливый русский голод.
Станут ходить по улицам и попрошайничать и плакаться немногие, люди без самолюбия и чести — таким скорее помогут благотворители. Н о н а ш и к р е с т ь я н е,н о в ы е с в о б о д н ы е р у с с к и е г р а ж д а н е — г о р д ы и с а м о л ю б и в ы.
Всякий крестьянин добивается того, чтобы его считали» самостоятельным «, то есть независимым, содержащим сам себя и свою семью; таким он себя считает, когда не имеет долгов, а владеет известным достатком, который дает ему право ни у кого ничего не просить, обходиться своими средствами.
Крестьяне даже скрывают друг от друга свое положение, показывают, что живут безбедно, в полном достатке. Поэтому в период голода гордость, самолюбие да и все душевные качества и чувства страдают особенно сильно и больно. Страдает сознание крестьянина от того, что он не может, не в силах охранять и поддерживать семью так, как это нужно.
Незаметный, безмолвный, терпеливый русский голод, когда распродается все, что можно продать, когда уходят все небольшие сбережения прошлых лет, когда урезаются куски и рассчитывается каждая копейка, когда медленно, постепенно нищает целый район, высасываются и истощаются жизни тысячей спокойных, трудолюбивых, терпеливых и безропотных людей. Это вовсе иное, чем бунт толпы, неруководимой и неспособной самой выйти из беды, переносить страдания, кричащей и требующей» хлеба!«…
Видел я, как недалеко отсюда, на реке у берега стояла барка, на которой земство доставило хлеб для голодающих. Съехались мужики с подводами со всего уезда, сотни телег запрудили весь спуск к реке.
Крестьяне шутили, смеялись, бодро и весело таскали кули с барки на берег.
Всякий старался похвалиться своей силой, таская кули, и все высмеивали тех мужиков, у кого, истощенных и слабых, подгибались ноги под пятипудовыми кулями, и они падали. И сами падавшие шутили и смеялись. Не было ни одного печального взгляда, ни одного жалобного стона.
Н е и м е т ь» д у х а у н ы н и я»и б ы т ь н а с т о л ь к о т е р п е л и в ы м и и в ы н о с л и в ы м и — м о г у т т о л ь к о в е л и к и е д у ш о й л ю д и…«
Всю эту белую весеннюю ночь мы проговорили с Николаем.
Когда стало всходить солнце, каждый ночевавший в сарае пошел дальше своим путем…
1898 — 1901
ИЗ ВТОРОЙ КНИГИ
ДОРОЖНАЯ ПАНОРАМА
Этим летом мне пришлось проехать с севера на юг, от Балтийского моря к Черному, и передо мной четыре дня развертывалась интересная панорама с живыми действующими лицами. Точно в кресле театра сидел я у окна вагона и видел, как постепенно меняются картины русской природы, разнообразные ее пейзажи, и мелькает бесконечное число лиц и типов на этой длинной железнодорожной линии.
Я выехал из старинного городка, чистого и аккуратного, с веселыми каменными домами под красными островерхими черепичными крышами, с шахматной гранитной мостовой, быстрыми извозчиками и пестрой деловитой толпой на узких улицах.
Прохожие, прилично одетые в» немецкое платье «, как говорят у нас мужики; рабочие, толпой возвращающиеся с фабрики, в пиджаках, жилетах, крахмальных рубашках. Женщины, в темных скромных платьях, в башмаках на толстых подошвах и в нитяных перчатках, шли скромно, почти сурово, глядя вперед, не встречаясь взором со встречными.
Улицы мирные, без выкрикиванья разносчиков, суеты и особенного движения. Везде чувствовалась привычка и любовь к порядку, к сдержанности и даже в мальчишках-подростках заметна солидность, напускная важность, видно было, что они стараются показать себя» большими «, взрослыми, говорить внушительно и деловито.
Проехав Петербург и» неумытую» Москву, ехал я далее мимо великорусских городов и деревень. На каждой станции к поезду сбегалось множество баб и детей, большей частью девочек. Босоногие, в красных ситцевых юбках и платках, быстро появлялись они из-за кустов и заборов.
Одни веселые, хитроглазые, бойко предлагали «молочко»и «яички», задорно отсмеивались от пассажиров, начинавших зубоскалить, отпускать шуточки на их счет. Другие грустные и хилые, с застывшим выражением испуга на лице, робко протягивали тонкие руки и просящим взором предлагали что-либо купить.
Суетливо перебегала эта ярко-красная толпа от одного вагона к другому, кричала, ссорилась и, как только поезд трогался, быстро скрывалась опять за кусты и заборы, подальше от глаза станционного начальства. Очень жаль, если преследуют этих милых голубоглазых детей. В тяжелом, почти нищенском крестьянском быту, где, несмотря на имеющиеся рабочие руки, некуда приложить эти свободные силы, там пролетающие железнодорожные поезда — маленькое подспорье, где можно получить пятачок за бутылку молока, или даже сердобольная дама бросит «копеечку» девочке, ей понравившейся за грустные синие глазки.
С полдороги начинают показываться в изобилии нищие и калеки, каких на севере почти не видно. К приходу поезда на станцию они вырастают точно из-под земли и бредут возле вагонов, открывая свои лохмотья и воющим голосом выпрашивая подаяние. И слепые, которых ведут мальчишки, бросающиеся в разные стороны за собиранием брошенных монеток, и разные уроды тащутся на костылях, или их несут на спине здоровенные поводыри, обступают вышедших пассажиров, торопливо выкрикивают свои стереотипные «жалостливые» фразы.
Иные калеки, нищие и монахи, если их не заметят кондукторы, влезают в вагоны и начинают идти вдоль поезда. Едучи во II классе, как-то утром проснувшись, я увидел у себя в ногах громадную, как бочонок, кудлатую голову без шапки, с выпученными глазами — карлика на кривых ножках, молча протянувшего свою руку. В другой раз нищий — безногий старик, весь в язвах и струпьях, ловко, как паук, вскарабкался в вагон и пошел по проходу.
Сидевшие в этом отделении дамы, полные брезгливости и ужаса, подняли крик, и старик калека с непостижимой быстротой и ловкостью выбежал и выскочил уже на ходу поезда из вагона.
На южных дорогах встречаются часто грабежи и кражи. Просматривая местные провинциальные газеты, продававшиеся на станциях, заметно, что железнодорожным преступлениям уделено в них много места. В моем поезде два мужика отыскивали свое пропавшее ведро, да у одного старого почтенного господина во время сна стащили шляпу; долгое время он выходил на станциях с развевающимися седыми волосами, пока не получил откуда-то «московский» купеческий картуз с козырьком.
Когда мы подъезжали к одной большой станции, кондуктор рекомендовал присмотреть тут за своими вещами, объясняя, что на этой станции всегда много краж. Из газеты я узнал, что накануне нашего поезда поезд останавливали четыре раза между маленькими станциями посредством Вестингаузовского тормоза. Курская газета предполагала, что здесь дело злоумышленников, думавших таким образом нарушить железнодорожное движение и вызвать крушение поездов. Через несколько дней в другом поезде были убиты купец и поездной смазчик и сброшены на рельсы.
Еще дальше едучи на юг, все чаще начинают пассажиры говорить о железнодорожных происшествиях, кражах и грабежах. В горячей атмосфере раскаленного июльским солнцем вагона все кажется вероятным и возможным изнывающим от жары пассажирам. Северные пасмурные дни, отрадный прохладный ветер и бесконечные леса Николаевской дороги остались далеко позади.
Кругом одни распаханные поля или желтые созревшие нивы, нет ни тени, ни воды. Среди этой высушенной горячей равнины мчащийся поезд кажется единственным предметом, на каком солнце сосредоточило свои жгучие лучи.
1898
ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ
Вопрос о центре, о его оскудении, заброшенности и даже вырождении уже много привлекал к себе внимания печати. Наш центр требует и достоин специального изучения и искренних исследователей. С одной стороны — бывшие крепостники-помещики, с другой — новый нарождающийся тип дворян-землевладельцев — прилагающих все усилия, чтобы удержать в своих руках фамильные усадьбы, но они с трудом выдерживают натиск и постепенный захват земли помещиками-купцами, разбогатевшими крестьянами, отставными интендантами, инженерами или консисторскими чиновниками.
Последние могикане — помещики старого закала и новые смешанные поколения земледельцев представляют собой громадный интерес для стороннего наблюдателя и для истории нашего времени.
Напрасно думать, что в центре можно увидеть много этих помещиков-могикан. Их там мало осталось. Скорее их можно встретить в маленьких меблированных комнатах в столицах, с трудом перебивающихся и доживающих свои дни на последние крохи от былых состояний.
Этим летом я поездил по некоторым нашим великорусским губерниям, бывал у помещиков разных формаций и слоев общества, говорил с ними и с особенным интересом осматривал старинные поместья, воспетые нашей дворянской литературой. И я должен сказать, что вынес самое грустное впечатление от тех разговоров, которые мне пришлось иметь с помещиками, и от всего, что я увидел.
Прежде всего самым печальным явлением нужно признать какой-то полный упадок духа у всех наших землевладельцев. Или нужно признать временным этот упадок духа, явившийся последствием тяжелого для земледелия времени, нынешнего мирового сельскохозяйственного кризиса, или же это тихая печаль вырождающегося племени, безмолвное уступание дороги более сильным и свежим смешанным слоям народа нашего государства.
Вспоминаю такую картину.
Двухэтажный разваливающийся каменный дом, не ремонтировавшийся уже, вероятно, лет пятнадцать — двадцать. Живут в доме — старый граф Атцеков и его ветхая «графинюшка». Граф в свое «доброе старое время» прожил десять миллионов, теперь от всего былого богатства остался этот дом, наполненный редкими и ценными для любителя-коллекционера вещами, свезенными сюда со всех концов Европы. Ненужный хлам и драгоценности перемешаны и лежат в беспорядке и на полу, и на подоконниках, а в шкафах все сверху покрыто густым слоем пыли.
Приезжают к ним изредка соседи-помещики. Граф встречает их в высшей степени предупредительно:
— Ах! Здравствуйте, любезные Петр Петрович и Марья Ивановна! Что же вы так поздно приехали — мы только что отобедали… Какая жалость, пообедали бы вместе, — говорит графиня, хотя и не знает, чем удастся ей пообедать сегодня.
— Ну, что, граф, — спрашивает во время беседы гость, — неужели вы не хотите расстаться с тем хрустальным бокалом, который я смотрел у вас прошлый раз? Продайте его мне, у вас и без него так много ценной посуды…
— Что вы, Петр Петрович, что вы! Никогда я не продам вам его. Это наша фамильная драгоценность, и ее я никогда никому не отдам.
— Тогда нельзя ли мне еще раз посмотреть на него?
— Эээ… Графинюшка, где же теперь стоит этот бокал?
— Да я и не знаю. Тебе, граф, лучше знать. Ты его недавно куда-то поставил.
— Ах, да! Я его заставил в шкафу другими предметами, так что долго доставать теперь. Но, надеюсь, это побудит вас к нам приехать следующий раз. Я так рад буду вас снова видеть и к тому времени приготовлю бокал…
Между тем этот бокал накануне продан в городе за три рубля только, чтобы можно было купить провизии к обеду. Когда иссякнут эти три рубля, в город посылается плутоватая, обирающая графов экономка, которая продает за гроши какие-нибудь редкостные бронзовые часы или блюдо императрицы Евгении. Однако же страх показаться бедным перед другими помещиками заставляет притворяться, лгать и уверять, что граф не продаст ни одной вещи, хотя соседи и предлагают за них громадные деньги.
Много разного рода оригинальных людей можно встретить «там, во глубине России», но одного рода людей мне не удалось увидеть, быть может, случайно — людей бодрых, энергичных, веселых. Все встреченные какие-то подавленные, грустные и вялые. Были люди работающие, сделавшие много для своей местности, но их деятельность угрюмая и не жизнерадостная.
Точно разуверившись и отчаявшись в своих надеждах, они наложили на себя эпитимию в виде работы, и в этом труде для общественной пользы думают найти успокоение и забвение скучной окружающей действительности.
Я не говорю только о разорившихся дворянах-помещиках, нет, болезнь века, грусть и скука, заразила все сословия и вышла далеко за пределы городов. Где-то я прочел изречение, что «в России веселы только гимназисты четвертого класса да ломовые извозчики»; в этой мысли больше правды, чем кажется с первого раза. Конечно, главной причиной всему всегда люди, а не та форма, в которой они действуют. Преданные своему делу люди, имеющие альтруистические цели, сумеют принести пользу даже в самой неудобной, немыслимой обстановке.
1898
«СТРЕКОЗЫ»и «МУРАВЬИ»
У нас принято говорить, что русское земледелие идет под гору, что русская деревня разоряется. Но нельзя обобщать все русское земледелие.
Россия настолько велика и разнородна, это такой пестрый ковер, сшитый из кусков настолько различной ценности, что можно говорить только о земледелии разных уездов. Одни уезды богатеют, а рядом с ними — местности, какие, несмотря на всевозможную поддержку, пустеют, и мужики из них разбегаются.
Мне приятно было встретить одного, очень работящего и деятельного, бодрого хозяина-земледельца, верующего в хорошее будущее, а это среди нынешних приунывших помещиков — большая редкость.
«Люблю я землю, как какое-то живое существо, — рассказывал мой собеседник — и негодую, когда с нею скверно обращаются. Не причисляйте меня к тем ворчунам, которые всем недовольны, ничего хорошего не замечают и не верят, и не ждут, что придет лучшее будущее, потеряли всякую надежду.
Я же, напротив, принадлежу пока еще к очень немногочисленному отряду русских людей, искренне верящих в светлую судьбу нашего Отечества и не находящих настоящее столь плохим, что следует отчаяться.
Отживающее дворянство, старики помещики, воспитанные еще на крепостном праве, избалованные всем — и воспитанием, и своей роскошной первоначальной жизнью, и всеми мероприятиями правительства, доставившего им столько льгот и привилегий, теперь, когда все условия сельского хозяйства изменились, эти» стрекозы-помещики» остались при своих прежних барских потребностях и замашках. Понятно, они ворчат, и вот они-то и составляют класс недовольных людей, больше всего печалятся об участи поместного дворянства.
От одного из таких господ я слышал такое типичное высказывание: «И чего жалуемся мы, воспитанные на дрожжах крепостничества? Дали нам выкупные — мы их проели; устроили частные банки, повыдавали нам ссуд — мы их проели; учредили Дворянский банк, опять стали выдавать ссуды — и их мы проели; открыли соловексельный кредит — мы и его проели; постарались забрать деньги под частные закладные — и эти деньги мы проели! Словом, отяготили землю долгами чуть ли не в полной сумме ее стоимости, так что нам дальше и двинуться некуда. Теперь, когда всякий кредит исчерпан, стали подумывать о том, как выбраться из той петли, которую сами же над собой затянули. Обещают дать еще мелиоративный кредит — для улучшения состояния имений и увеличения их доходности; мы уже раздумываем — удастся ли его проесть? А это еще неизвестно. Кажется, на сей раз присмотр за расходованием этих денег будет очень строгий…»
В этом высказывании характерно выставилась жизнь этого типа дворян «помещиков-стрекоз», вся их история за последние десятилетия. Есть, конечно, и среди них исключения, но редкие.
Например, один помещик имел 270 десятин земли и жил самым аккуратным образом, перевертывал каждую копеечку, прежде чем ее израсходовать, это в то «золотое время», в 70 — 80 годах, когда рожь была по рублю за пуд, а овес по 70 копеек. За эти годы сей помещик скопил до сорока тысяч, на них купил еще 800 десятин у разорявшихся соседей «стрекозиного» типа. Теперь со всей земли он получает до шести тысяч рублей чистого дохода.
«Как ни дешев, — говорит он, — кредит в Дворянском банке, но дай Бог от него держаться подальше, лучше своими деньгами изворачиваться. Только те земли приносят доход, какие не имеют долга. А помещики» стрекозиного» типа по теперешним временам остались, как раки на мели. Они привыкли жить на широкую ногу, ибо доходы былого времени не чета нынешним, позволяли себе проживать весь доход с имения, ничего не оставляя на «черный день», не научились ограничивать, сдерживать себя, соразмерять расходы с доходами. Один знакомый сосед искренне горевал, что ныне он не может каждый день всовывать своему сыну-пшюту, бездельнику, четвертную кредитную бумажку в его жилетный карман, «на мелкие расходы»!..
Эти господа «стрекозиного» типа в денежных делах поступали совершенно как дети. Например, получившие ссуду под имение тратили ее на совершенные пустяки, или, в лучшем случае, на вещи бесполезные и бездоходные. Так, один помещик, получив ссуду банковскую, выстроил за 30 тысяч здание для конского завода, не приносящего никакого дохода. Другой, добившись увеличения размера ссуды, в конце концов истратил деньги на певиц местного кафешантанного хора, заставляя их распевать куплеты в костюмах, состоявших только из ленточек на шее и коленях. Третий, получив ссуду, укатил на два года за границу и возвратился домой, лишь когда имение было поставлено на торги за неплатеж процентов с займа. Четвертый — выстроил на сумму кредита паровую пеклеванную мельницу и крахмальный завод, верстах в трех от ближайшей воды, и подвозил ее бочками, наймом за деньги… Можете сообразить, сколько он понес убытку, если в день приходилось тратить только на воду 30 рублей?.. Таких печальных примеров можно привести сколько угодно. Все они — одно и то же бестолковое российское проедание и мотание денег.
Появилась категория земледельцев иного, «муравьиного» типа. Получив в наследство от своих промотавшихся отцов — «стрекоз» перезаложенные имения, дети — «муравьи» всецело ушли в сельское дело, и кое-где можно видеть результаты их упорного труда. Они смотрят на сельское хозяйство как на коммерческое предприятие, заботятся о том, как увеличить его доходность, живут в деревне сами, не полагаясь на добросовестность управляющего, говоря: «Жить в деревне можно и должно; земля-матушка всегда вознаградит труд земледельца, если последний не зевает и внимательно относится к своим, в части земли, обязанностям».
Эти «муравьи» следят за литературой о сельском хозяйстве, не боятся рискнуть проводить опыты, вводят многопольную систему с травосеянием и корнеплодами и всегда получают доход с десятины выше, чем у соседей «стрекозиного» типа…«
***
Когда, стоя в поле у жнивья, мы беседовали с одним из таких помещиков — » муравьев «, подъехал на велосипеде седой господин, оказавшийся уездным предводителем дворянства. Он пожаловался на самовольно запаханную крестьянами землю.» С верхушки холма межевой столбик постепенно передвигался вниз. Затем перепахали ручей и влезли пашней на дорогу!
Постоянные потравы, и свиньи на нашем огороде…«
Как объяснил мне помещик — » муравей «:» Наш земский начальник, это «барин»в лучшем смысле слова, хотя может оказаться и в противоположном его значении. Но стоит ли ему быть этим «лучшим барином», когда непонятны и загадочны его опекаемые?
Наши мужики все народ крещеный, но, по-моему, такой таинственный вопрос, такой сфинкс, что я не знаю, что же такое в действительности наша серая масса, вся эта «С в я т а я Р у с ь»? Варварство ли и татарщина это, или «Т р е т и й Р и м»?
А наш барин возмущается их недоверчивостью, обманами, насмешками, подозрительностью. Если льготы им делать, то говорят: «Блажной барин!», «Тронулся!». Не понимает: «Почему мужицкие гонения на меня?»
Доходность мужицкого хозяйства столь незначительна, что крестьянин дрожит над каждым своим шагом, чтобы какой-либо оплошностью не уменьшить свою крохотную прибыль. Но отчего же он беден? Не от того ли, что он не развит, не имеет сельскохозяйственного образования, туп, и не умеет взять с земли того, что само в руки дается? Нужно знать только, как это взять?
Нет! К р е с т ь я н и н б е д е н п о т о м у, ч т о н и к т о н е х о ч е т, ч т о б ы о н б ы л б о г а т. Мало ли бед навалилось на мужика? Что же касается до его умственного развития, то я вовсе не согласен с тем, что он будто бы не развит и туп. О н н е о б р а з о в а н, н о б о л е е у м е н, д а и х и т р е е, ч е м э т о к а ж е т с я б а р и н у-и н т е л л и г е н т у…«
1898
НА» СУПРЯДКЕ «
— Манька! Сегодня Петька обещался на» супрядки»с тальянкой прийти, плясать будем.
— А положит ли кто нам на свечки?
— Жди! Наши ребята даром целоваться хотят. Говорят: и то вам честь, что к маленьким пришли!
— А ты бы попросила своего Ванюху положить на всю компанию, он бы и дал!
Такими фразами обменялись две девочки лет 10 — 12, собираясь на свою детскую «супрядку». У каждого возраста своя «супрядка». Есть для маленьких, которые утром ходят в школу, а вечером собираются в просторной избе, прядут нитки, поют новые песни — частушки — и играют в разные игры.
Подростки в 14 — 16 лет собираются тоже отдельно, и, наконец, взрослые девушки имеют свои, старательно устроенные «супрядки»и своих постоянных участниц с их поклонниками.
В каждой деревне есть две-три или более таких «супрядок», и между ними происходит соревнование и в умении петь и танцевать, и в одежде участниц, и в убранстве избы, так что тот, кто переходит из одной «супрядки»в другую, «изменяют компании».
С сыном хозяина избы, где я ночевал, мы вышли на улицу деревни и присоединились к толпе парней, которые медленно шли вдоль по дороге и пели песни.
Месяц был на ущербе, и снег, засыпавший все кругом, озарялся слабым голубоватым мерцанием. В избах светились маленькие окошечки, в которых мелькали темные силуэты, ребятишки припадали к стеклу, стараясь рассмотреть, кто это поет на улице. Парни пели в унисон и очень быстрой скороговоркой. Впереди шел парень побойчее и подыгрывал на гармонии.
Когда я привык к темпу и стал разбирать слова, я услышал песни, где разнузданность мысли и циничность глумились над всем святым, почитаемым, и не было ничего, кажется, чего бы не задел этот молодой нахальный крик с визжащей гармонией; он обращался и на небо, и на церковь, осмеивал «начальство», перед которым вчера снималась шапка, и все это пелось с подмигиванием и подчеркиванием — смотри, дескать, народ честной, какие мы лихие ребята!
Когда парни проходили мимо сильно освещенной избы, песня усиливалась, — «чтоб пробрало их хорошенько!»В одной избе отворилось окошечко и показалась всклокоченная голова мужика, закричавшего:
— Бесстыжие богохульники, стыда на вас нет!..
Парни загоготали и принялись пуще прежнего выкрикивать свои песни. С присвистом, гвалтом и топотом ввалилась наша толпа в избу, из которой слышалось пронзительное, визгливое бабье пение. Уже без нас там было много народу, а с нашим приходом стало и тесно, и жарко.
Комната с низким потолком была вся обклеена «газетинами», по стенам на лавках сидели девушки в ситцевых, туго обтянувших грудь кофточках, с прялками в руках, и пронзительно пели свои песни. Возле некоторых сидели парни, обхватив за пышную талию руками, и что-то нашептывали на ухо, отчего их собеседницы фыркали, закрывая рот рукой. Увидав среди пришедших новое лицо, они, окончив куплет, запели:
Чужаки, вы чужаки, У вас зелены кушаки; Хоть вы и поднаддевочке, У нас форсисты девочки.Нужно было «задобрить» присутствующих, и я дал двугривенный «на свечки». Сидевшие парни, увидев, что я уважил компанию, заявили мне с достоинством:
— Садись, молодец хороший, к нашим барышням, мы ничего против этого не имеем.
Снова запелись пронзительные песни-частушки, куплеты в четыре строчки с рифмами. В каком они роде — можно видеть на следующих примерах:
Меня маменька ругала, Зачем с пьяным я гуляла. А я маменьке в ответ: У нас тверезых вовсе нет. Стояла у чуланчика, Любила новобранчика, Стояла у тесового, Любила развеселого. Кину, кину, перекину Через речку баночку, Говорит мамаша сыну: Не бросай беляночку…Вот какая современная деревенская поэзия. Напрасно думать, что это набор слов вовсе без всякого значения. В своей среде эти песни-частушки говорят очень много фантазии крестьян; два-три слова, нам непонятных, певец умеет подчеркнуть, пропеть с таким значением, с такими намеками на кого-либо из присутствующих, или вообще на что-нибудь, что я должен был изменить свое скептическое отношение к современной русской песне, как чему-то бессмысленному, бессознательному.
Современная песня, и крестьянская, и фабричная, находится в переходном, не выработавшемся еще состоянии, и из народной толпы должны выйти русские Беранже, которые запоют хлесткие песни, лучше отделанные, и те пойдут гулять по России. Старинные, протяжные и поэтичные песни уже переводятся, их позабыли уже старики, но обрывки вымирающей народной песни перекладываются в рифмы, скандируются, и в этой форме песня снова начинает возрождаться.
После пения начались танцы. Составилась «кадриль», фигурами немного напоминающая городскую. Парни все время меняли своих «дам», перебрасывая их из объятий в объятия, а сами в то же время делали очень быстрые выверты ногами. После первых пар стали танцевать новые, лица раскраснелись, глаза заблестели, в избе становилось все душнее; почти возле каждой девушки появился ее «прияточка»; объятия и поцелуи сделались продолжительнее.
Песни смолкли. Одна только гармония беспрерывно визжала, покрывая своими звуками и шум толпы, и топот ног танцующих.
— Ребята! Сейчас новобранцы придут! — крикнул маленький мальчишка, выскочивший на середину избы, чтобы торопливо возвестить эту важную новость. — Сейчас идут мимо Трифонова двора. Петька-то целый день плакал навзрыд, его зовут некруты идти вместе прощаться, а он припадет, обернется, махнет рукой и опять…
Расталкивая ребят, в избу вбежали три парня, принарядившиеся для дороги. Они подошли к трем девушкам, которые сидели одиноко со своими прялками, и стали их обнимать и целовать.
— Смотри, Манька, — шепчет один, — не вздумай забыть меня, потерпи до возвращения. Письма писать тебе буду, и ты мне пошли весточку.
— Да ты, Петька, ведь в город едешь. Городские барышни красивые да лукавые. Забудешь меня, девчонку!
— Ну, прощайте, барышни дорогие, прощайте, молодцы хорошие! Дай вам Бог! Не поминайте лихом!
— Прощайте, ребята! Кланяйтесь нашим в полку!
Новобранцы поцеловались по очереди с парнями, потом с некоторыми «барышнями». Я вышел вместе с ними.
В избе снова завизжала гармоника, и опять пошли пронзительные песни.
1899. Село Киевка, Порховского уезда
ИКОНОПИСЦЫ-НЕУДАЧНИКИ
При Троице-Сергиевой лавре существует иконописная школа. Разумеется, как факт, это — очень хорошее явление: где же быть основанию иконописного дела, как не в сердце нашего православия, чем должна являться Троице-Сергиева лавра.
Школа находится в большом зале и нескольких меньших комнатах и существует вместе с иконописной мастерской, где работают наемные художники, исполняющие все те заказы на иконы, с которыми богомольцы постоянно обращаются к монастырю. У школы имеется начальник — художник, окончивший Московское училище живописи и ваяния.
У нас жалуются давно на печальное положение иконописного дела в России, на появление в русском иконописном искусстве тенденций римско-католического характера, угрожающих исказить самый характер русской иконной живописи.
«Пора уже положить конец варварству при ремонтах церквей, — писал на днях» Церковный Вестник «, — и появлению живописи, уродующей лики святых, древнюю иконопись. Приходские» батюшки» простодушно полагают, что чем ярче и гуще положены краски, чем они свежее и лучше покрыты лаком, тем икона ценнее «.
Что говорить о деревенских священниках, когда даже Софийский сбор в» господине Великом Новгороде»в настоящее время расписывается суздальскими «богомазами», не обращающими никакого внимания на древние стены и стиль собора, хранящие древние фрески и иконы этой исторической русской святыни!
От кого же ожидать охраны наших древних икон и дальнейшего развития русской иконной живописи, как не от художественных учреждений, таких школ, как при Троице-Сергиевой лавре? Между тем если ждать от нее каких-либо благих практических результатов, то ждать этого придется долго, ввиду того, что это учреждение не имеет ничего общего с принципами древнерусского искусства.
Учениками школы берутся вовсе не мальчики, показавшие способности к живописи, а напротив — все те, которые ни к чему не способны: исключенные из духовных училищ, маленькие певчие церковных хоров, потерявшие голос, и тому подобные неудачники из духовного звания, весь тот лишний балласт при школьных занятиях, с какими начальство не знает, что делать.
Этот «практический» способ создавания «иконописцев»в конце концов вовсе малопрактичен, так как эти мальчики худо «вырисовывают» лики святых угодников, всячески «отлынивают» от занятий, и, закончив школу, все убегают в более незатейливое дело — в псаломщики, навсегда забрасывая искусство, бывшее для них чуждым занятием с самого начала.
Наши наиболее известные древние чудотворные иконы имеют сильную одухотворенность выражения и глубокую идею; и сотую часть этого не могут передать бедные мальчики, без призвания, насильно обращенные в «иконописцев».
Между тем есть неистощимая и богатая сокровищница, в которой хранятся художественные таланты, — это бесчисленные сельские школы. Там, в бедной толпе грязных ребятишек наблюдательный человек может отыскать много маленьких художников — in potentia (в потенции. — М. Я.), в чьих сердцах бьется нежное, непонятное им самим стремление к искусству. За неимением карандаша и бумаги они пачкают углем стены, вырезают из редьки лошадок и человеческие фигурки, за что их секут родители, видящие в таком занятии только баловство и очень последовательно забивающие в детях те священные порывы, какие могли бы распуститься пышным цветом; если бы они встретили, хоть в ком-нибудь, гуманное желание поддержать эти слабо тлеющие искры художественного дарования, то можно было бы рассчитывать и на какие-либо практические результаты.
1899
НА МАРИИНСКОМ КАНАЛЕ
«НОГИ В ВОДЕ»
В конце 1899 года я прервал свое «хождение по России», воспользовавшись возможностью посетить Англию. В петербургской и ревельской печати тех лет опубликованы несколько моих корреспонденций из Лондона периода англо-бурской войны.
Вернувшись весной 1900 года на родину, я жил в Ревеле и Петербурге, периодически продолжая свои скитания по России. Однажды я решил попасть на баржу, направлявшуюся Мариинским каналом в Вологду. Пароходик довез из Петербурга до начала канала, и в Свири я высадился на пристани, устроенной среди болота на высоких сваях. Ряд больших узких барж, привязанных канатами, ожидал буксирного парохода. Быстро смеркалось. Предстояло где-то переночевать.
В небольшом домике, тоже стоявшем на сваях, меня приветливо встретили дородная хозяйка и красивая девушка, ее дочь. Они провели в маленькую комнатку, предложили чаю и водки, от какой я отказался, поставили какую-то еду на столик.
Когда женщины ушли, извинившись, что у них сейчас нет керосина для лампы, я зажег свою свечу и заглянул во все углы комнаты. Под кроватью был люк. С трудом приподнял я крышку этого люка и посветил туда свечой. Под люком плескалась вода. Оттуда тянулась веревка, намотанная одним концом на вбитый в сваю крюк. «Наверное, тут верша для ловли рыбы», — подумал я, потянул веревку и вытянул из воды две ноги в высоких сапогах. Я отпустил веревку, и ноги опять погрузились в воду. Осторожно прикрыв люк, я стал искать щель в стене.
Из комнаты хозяйки доносился заглушенный разговор. В щель можно было заметить высокого мужчину в «городском» пальто, с поднятым воротником. У него были приметные рыжие усы и остроконечная бородка. Незнакомец и хозяйка тихо переговаривались, посматривая в мою сторону. Скоро разговор стих.
Я погасил свечу и, оставаясь настороже, не раздеваясь, прилег на кровать. Все было тихо, и, усталый, я начал дремать. Очнувшись, я почувствовал, что мои ноги осторожно трогают и начинают захлестывать веревкой. Я чиркнул спичкой и увидел у себя в ногах красивую дочь хозяйки.
Она стала громко хохотать: «Какой вы чуткий! А я хотела с вами пошутить!..»и убежала.
Как только стало светать, я положил на стол рубль и, накинув свою котомку, ушел по мосткам к каналу. Баржи были отвязаны, на некоторых двигались люди, впереди посвистывал буксирный пароход. Проходя по тропинке береговой насыпи и увидев деревянное здание с надписью: «Полицейское управление», я решил зайти к исправнику, рассказать про «ноги в воде». Но в раскрытое окно я увидел рыжие усы и бородку незнакомца, заходившего к хозяйке. Теперь он был в полицейской форме. Наши глаза встретились, я попятился и прыгнул на переднюю баржу, уже начавшую двигаться по каналу. У борта стоял высокий чернобородый человек. Я шепнул ему: «Спрячь меня, за мной крючки гонятся!» Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Люцинер?»Я кивнул головой. «Скорей, укройся в том чулане!»
Через несколько минут к барже подошел полицейский. Идя рядом с движущейся баржей, он крикнул: «Эй, хозяин! Не видал ли ты молодчика в черном полушубке, с котомкой?»— «Видел, ваше скородие, — ответил чернобородый. — Он побежал по насыпи в ту сторону, через кусты!»
Полицейский свернул и поспешил в указанную сторону. Буксир усиливал ход, и баржа, а за ней пять других стали все быстрее двигаться вперед.
Вскоре чернобородый человек, оказавшийся старшиной каравана барж, выпустил меня из чулана. Он мрачно выслушал мой рассказ о ногах, торчавших из воды, и сказал: «Ты счастливо отделался. Другим, которые подымали шум, пришлось хуже. Проезжая по каналу, я не раз слышал, что здесь, в Свири, пошаливают лихие люди, и подумывал, что это не без участия здешнего исправника или пристава».
Позднее, вернувшись в Петербург, я написал корреспонденцию о «ногах в воде»и дал ее Сигме . Тот не стал ее публиковать, а через свои связи добился того, что в Свири было произведено тайное расследование людьми, специально прибывшими из Петербурга. Была раскрыта большая шайка грабителей и бандитов, во главе ее стоял местный пристав. Однако корреспонденция о «ногах в воде» так и не была опубликована.
«КОЛЕСО С КРЮЧКОМ»
Караван барж двигался все дальше по Свири, и вскоре старшина Клим Авксентьевич стал открывать мне свою душу:
«Когда я отбывал воинскую повинность, то служил матросом. Мой срок кончался уже, и в это время приехавший на корабль чужой капитан сказал нам:» Вскорости отправляется в кругосветное плавание учебный парусный корабль. Нам нужны сверхсрочные опытные моряки. Кто хочет попасть на этот корабль — три шага вперед!«
Тут я подумал:» Ч т о т а к о е н а ш а ж и з н ь? Э т о б о л ь ш о е «к о л е с о с к р ю ч к о м». Вышиной колесо до неба и поворачивается вокруг своей оси. Бывает, что крючок подойдет к тебе совсем близко, и если за него ухватиться, то колесо подымет так высоко, что оттуда, сверху, откроется вид на весь мир. Хватайся, Клим, за этот крючок, и ты увидишь то, чего в другой раз увидеть не придется!«Я шагнул три шага вперед и сказал, что хочу продолжать морскую службу. Так я попал на бриг» Ретвизан»и проплыл на нем вокруг Света. А потом сдурил — бросил корабль и сную теперь взад-вперед по каналу между Питером и Вологдой.
На этих пяти баржах погружены ситцы и другие товары на большие деньги. Их хозяева мне доверяют, знают, что я все довезу в целости. Не раз я думал: встречу человека с виду тихого, а может быть, с ним ко мне опять подойдет крючок на колесе, и снова я увижу далекие страны. Я тебе помог, а ты мне помоги. Устрой меня, если можешь, опять на такое дело, чтобы вокруг Света плавать!«.
Буксир увел баржи на Онежское озеро. Ночью были слышны странные звуки, словно пели далекие, звонкие серебряные трубы. Они перекликались всю ночь. Утром старшина объяснил, что это кричали дикие перелетные лебеди.
» Дикая птица! — говорил Клим Авксентьевич, — а без всякого крючка, без чужой помощи, летит в Египет!..«
1900 — 1947
НА ПЛОТУ
Несколько лет назад я скитался в народе по России, бродил по ее деревням, монастырям, дорогам и рекам. Летом 1901 года, в начале июля, я был в Киеве и вдоль Днепра направился на Юг. Стояла сильная жара; идти берегом было тяжело, и я с завистью смотрел на вереницы плотов, плывших по темно-синей реке.
Когда один плот был недалеко от берега, на крутом повороте, я окликнул рабочих-плотовщиков и попросил их взять к себе, довезти до Екатеринослава . Молодой парень немедленно отвязал плоскодонку и, ловко правя веслом, подплыл к берегу, усадил меня на дно зыбкой лодки и быстро догнал грузный плот, медленно плывший по течению.
На плоту были две соломенные будки, в аршин вышиной и два аршина длиной, и два ящика с глиной, на которых дымили костры. Возле одного ящика сидел угрюмого вида мужик и кипятил жестяной чайник, подвешенный на развилок жерди над костром. Он предложил мне сложить свою сумку и расположиться в одной из будок. В ней на подостланной соломе можно было удобно лежать растянувшись, глядя на двигающиеся мимо красивые берега.
После знойной, пыльной, утомительной дороги, особенно приятной казалась невозмутимая тишина плывущего плота. Громадные круглые бревна, связанные лозой и веревками, наполовину окунувшиеся в прохладную воду, были собраны в четыре» грядки «, или» гребенки «, свободно привязанных одна за другой. При повороте реки этот четырехколенный плот извивался по течению и все его связки издавали жалобный скрип…
***
На плоту было восемнадцать человек, из них три» ватамана «. На обязанности ватаманов оберегать плот, — шестами отпихивать его от берега или мели.
Четвертый» дозорный ватаман»с мальчиком-помощником на маленькой лодке едут впереди плота за полверсты и осматривают местность. Дозорный ватаман подает сигналы на плот, в какую сторону сворачивать. Чтобы повернуть грузный тяжелый плот, требуется много времени и мастерство; если пропустить нужный момент, плот может с разгона налететь на мель или берег при крутом повороте, тогда плот рассыплется, балки расплывутся; или плот так засядет на мель, что нужно будет нанимать буксирный пароход, чтобы стащить его в воду.
Сзади плота привязана большая лодка — «дуб», в которой всегда сидят наготове семь человек гребцов, «дубовы-хлопцы», и рулевой — «дядя-дубовик», которому принадлежит высшая власть на плоту и он отвечает больше всех за его целость.
Весь плот состоит из 500 бревен, связанных канатами и «гужбой»— кручеными лозой и ветвями лозняка. Над одной будкой возвышался шест с деревянным крестом и красным флагом, на другой (где я поместился) — стоял фонарь, зажигавшийся ночью.
На Днепре веял едва заметный ветерок. Солнце жгло прямыми беспощадными лучами. Вода гладкая, как зеркало, и плот катился бесшумно, не дрогнув, и только по желтому песчаному берегу, медленно подвигавшемуся назад, можно было заметить, что мы с днепровской водой плывем вниз.
***
Три ватамана сейчас без дела. Один возле костра разогревает манерку с водой, другой ковыряет корзину и плетет ее из корней лозы, той самой, что выпустила длинные коричневые нити по всему обрывистому песчаному берегу Днепра. Третий ватаман сидит верхом на переднем бревне, спустив босые ноги в воду, и длинным шестом пробует глубину реки.
Одни из «дубовых-хлопцев» сидят в лодке, другие лежат на бревнах, подставив загорелые груди жгучим лучам солнца. «Дядя-дубовик» стоит, пристально смотря вдаль. Днепр заворачивает, и быстрое течение несет плот прямо на береговую кручу.
— Гей! До — дуба, хлопцы, живо! — кричит дубовик.
Хлопцы вскакивают, садятся за весла и гребут сильно, с шумом пеня воду. Ватаманы бросаются на край плота и обматывают конец каната, опущенного с дуба, вокруг бревен. Дуб отъезжает на середину реки, и хлопцы сбрасывают в воду громадный якорь, высотой с человеческий рост. Канат вытягивается, соскакивает с силой с одного бревна на другое, ударяет по воде, делая всплески, все четыре грядки со стоном растягиваются одна от другой. Плот поворачивается и относится течением на то место, которое наметил дубовик.
Тогда семь хлопцев берутся за другой канат, привязанный к кольцу сброшенного якоря, становятся на борту дуба в ряд и медленно, раз за разом, с припевом, подтягивают якорь к лодке. Дубовик колом подхватывает лапу якоря и выворачивает ее на помост дуба. Другие хлопцы также подхватывают кольями, борт лодки накреняется к воде, хлопцы перегибаются на другую сторону, но якорь уже втянут и выдвигается на середину помоста.
А плот уже повернулся и несется по новому направлению. Хлопцы с дубом притягиваются якорным канатом к плоту и ждут следующей «драйки» якоря.
Днепр течет быстро, часто заворачивает и вьется, несет плот на берег.
Дубовику нужно зорко смотреть вперед и следить за течением и за сигналами едущего впереди дозорного ватамана. Хлопцы же, чтобы занять время, начинают петь песни, рассказывать сказки или перебраниваются.
***
— Вот здесь на косе крест стоит, — рассказывает товарищам хлопец, уже лет десять ходящий с плотами на дубу. — Выше этого места мы драгили якорь.
Вот как вытащивать его нужно было на палубу, один из хлопцев подхватил колом, да не довел до конца. Кол назад отвернулся, да хватил его по животу. Он и свалился в Днепр и сразу на дно пошел, как камень. Мы дальше поплыли, его уже не отыскать было, на верх не всплывал. Потом его рыбалки поймали и на косе закопали. В Катеринославе мы расчет получили и назад по Днепру пошли. Рыбалки нам указали, где они его закопали. Мы его отрыли, — у него уже волосы отопрели. Мы ему в песке яму глубокую вырыли, чистой одеждой прикрыли, крест на могиле большой поставили. Без попа и панихиды зарыли. Где же здесь попа достать? А в селе, дома его поминают…
— А то здесь, тоже недалеко, весь дуб перевернулся и шесть человек разом затонули. Тоже когда якорь вытаскивали, он лапой за край дуба зацепился и перевернул его кверху дном.
***
Для филологов интересно было бы исследовать те слова, которые употребляют плотовщики на Днепре. Они сплавляют бревна тем же путем, каким варяги пришли в Киев. И не от северных ли корней произошли некоторые слова? По-шведски vatten значит «вода», man — «мужчина». Если это так, то «ватаман», вероятно, значит «водяной человек», так как раньше, в древности, когда вся Русь была покрыта дремучими лесами и путями сообщения были только реки, то и разбойники продвигались реками. Из «ватамана»и атаман. «Драгить якорь», «драйка якоря»— это значит «вытягивать якорь». А drage по-шведски значит «тянуть».
***
От ватаманов требуется хорошее знание Днепра. В ватаманы возьмут только бывалых людей, которые изучили нрав и характер этой громадной реки, знают, где ее мели или скрытые камни, когда и где нужно причаливать плоты к берегу, чтобы их не погнало и не разбило. Из ватаманов потом выходят дубовики. Дозорный ватаман, едущий впереди на лодке, получает жалованье больше простого ватамана, оберегающего плот. На его лодке развевается маленький флаг. Он оглядывает Днепр, не произошло ли где каких перемен, и в случае надобности машет издали флагом, в какую сторону кренить.
Наш дозорный ватаман Андрей говорил, что знает все деревни «скрозь по Днепру», начиная от Борисова, Минской губернии, откуда начинается гонка плотов.
— Тут, за Орликом, пойдет Половещина, за ней Китай-город, большое село. На той стороне пойдут многие деревни: и Карнауховка, и Запорожье, и Рим-деревня… Я бы мог давно за дубовика идти, да никто за меня не попросит. Для первого раза надо приказчику дать рублей двадцать, чтобы рекомендацию он дал хозяину…
***
Плоты гонятся целой партией. В середине партии на одном из плотов едет «хозяйщина», там построен небольшой домик в две комнатки. В одной склад припасов, в другой помещаются грозные для рабочих приказчики, переезжающие на лодке от одного плота к другому, пересчитывающие бревна и наводящие страх на всех хлопцев и ватаманов.
Наша партия была из 16 плотов, но по пути купцы Парцов, Нагаткин и Лепешин, владельцы бревен, часть распродали во встречных городах. Теперь от партии остались четыре плота по шесть грядок, и один наш в четыре грядки.
Все служащие на плотах содержатся на хозяйских харчах, получают от «хозяйщины»— хлеб, пшено, сало, сушеную рыбу тарань, «олей»— льняное или кунжутное масло, на каком жарится рыба и заправляется им каша. Выдается также хозяйский табак и папиросная бумага для «козьей ножки».
Дубовику и ватаманам выгоднее прогнать плоты как можно скорее. Они получают плату за прогон по реке до Екатеринослава, независимо от времени, — дубовик — 50 рублей, ватаманы — по 35 рублей. Дубовые хлопцы получают каждый по 3 рубля за неделю, так что им, чем дольше работать, тем больше и «наробить».
***
Один рабочий-плотовщик с дуба, добродушный белорус с голубыми глазами и светлыми волосами, рассказывал о своей жизни:
— Наша жизнь, можно сказать, дается вроде как наказание. Конечно, в плотовщики идет тот, кому в земле стеснение. Богатый сюда уже не пойдет.
Сперва мы ранней весной бревна в воду стягнем, свяжем в грядку. На каждую грядку одного человека посадят, и он один едет по Березине, один, как муха, шестом отпихивается. Где крутой поворот, там дубы стоят и один за другим гребенки задрагивают, дают верное течение. Сперва работа как каторга — вода идет со льдом, стоишь в воде мокрый, кожа немеет. Потом, как на Днепр выплываем, грядки вместе свяжем канатами, по 8, по 6 и 4 грядки, вместе, попарно. Тогда на каждый плот прибавляется дуб и на нем дубовик и семь хлопцев.
Для ватамана будка соломенная полагается, а для хлопцев — нет. Когда ночь застанет, они лягут в груду один на другого, шинелками покроются, да так и спят, как придется. Дождь пойдет, — хлопец пригнется где-нибудь, — так и пережидает. Много мрет людей от болезни, «безбут» называется, вроде лихоманки. Иссушит человека совсем, и года два промается. Конечно, такого хлопца хозяин рассчитывает. Что ему за интерес больного содержать? Когда ветер на Днепре подымается, соломенные будки разнесет, нас вымочит. Одежа на нас гниет.
***
Другой рабочий был мечтатель, любил рассказывать сказки товарищам, лежа на спине и глядя на облака. Вся его жизнь проходила в скитаниях по чужим местам. За лето он несколько раз проплывал с плотами, остальное время служил на заводах. Раньше он работал на каменноугольных копях, возле Ростова-на-Дону, и любил напевать шахтерскую песню:
На Ростовском-Донском поле, Понарыты шурхи-норы, Где работали шахтеры. Одна ямочка такая, Преогромна глубокая, Три сажени ширины, Полтораста глубины. Сверху вниз идет шнурок, А вверху бьет молоток. Подай машинист гудок. Первый гудок прогудел, — Шахтер обуваться сел. Второй гудок прогудел, — Шахтер завтракать сел. Третий гудок прогудел, — Шахтер к клеточке пришел. Нас на клеточку садилось По двенадцать человек. Клетка в гору троганула, Нам у сердце колянуло. Клетка вихрем понеслась, Аж постройка затряслась! Клетка к камеру подходит — Там шахтерушки стоят. У всех лампочки горят. По продольной разошлися, За работушку взялися. Каждый свое дело знает — Вагонщик за вагон, А забойщик за забой. Всю продольную прогнал, Себе спинушку ободрал. Распроклята жизнь шахтерска — Ровно в каторге живешь. День и ночь мы со свечами, А смерть наша за плечами. И вагонщик молодой Катит новенький вагон. А в вагоне том шахтер Раненый лежит больной. И того мы шахтера Вытаскали на гора. И к тому-то шахтеру Собирались дохтура. Хоть шахтер буде живой, Но калека вековой.Неделю плыл я с хлопцами по Днепру. От зноя лицо, руки и ноги сделались такие же черные, как у плотовщиков. Иногда, проплывая мимо сел, я с молодым Ильей, помощником ватамана, съезжали на плоскодонке на берег и в течение нескольких минут беседовали со степенными «хохлами»и говорливыми «хохлушками», хозяевами украинских хат прибрежных деревень, а затем долго догоняли унесенные быстрым течением плоты.
Когда поворотов Днепра не предвиделось, хлопцы раздевались и бросались в воду позади плота. Плыть сзади было легко и не утомительно, течение равномерно несло и купальщиков и бревна, и казалось, что плывешь по стоячей воде.
Ниже Кременчуга к ночи поднялась буря. Плоты пригнали к берегу за выступом песчаной отмели и привязали канатами к рослым тополям на берегу.
Непогода бушевала всю ночь, волны ударяли о плоты, заставляли качаться и стонать тяжелые бревна. Хлопцы укрылись на дубе и в соломенных будках.
Утром буря стихла. Хотя небо хмурилось и Днепр сердито плескал волнами, заливая плоты, но мы тронулись дальше.
Не доплыв до Екатеринослава, плоты причалили к берегу, и здесь я распростился с гостеприимной артелью. Хлопцы попрыгали в Днепр и по горло в воде стали развязывать плоты, снимать будки, чтобы гнать бревна дальше через днепровские пороги…
1901 — 1907
«БОГОИСКАТЕЛЬ»
В Петербурге мне довелось познакомиться с художественным критиком «Петербургской Немецкой Газеты»— Федором Ивановичем Грус. Он переводил какой-то обширный труд немецкого профессора по истории искусства и, плохо зная русский язык, пригласил меня редактировать его перевод.
Грус был женат на дочери известного музыкального издателя Юргенсона, и поэтому в его доме можно было встретить издателя «Могучей Кучки»
Митрофана Беляева, критика Владимира Стасова, художников Бакста и Серова, многих других выдающихся деятелей мира искусства того времени.
Грус свел меня с приехавшим в Россию «богоискателем»— немецким поэтом и писателем Райнер-Мариа Рильке , который, услыхав, что я «ходил по России», очень хотел со мной познакомиться.
Рильке считал, что «правда» придет из России. Он с трудом и плохо изучил русский язык, но все же пробовал «ходить» по России, одно время жил в Казани, затем у Льва Толстого.
Рильке говорил, как о чем-то совершенно реальном, что «по России ходит Христос». Об этом он сказал Толстому, а Лев Николаевич ответил ему:
«Что вы! Если бы Христос явился в нашу деревню, то его бы там девки засмеяли!..»
Любопытно, что эта же мысль, о Христе, идущем по России, нашла позднее свое выражение у другого замечательного поэта, в «Двенадцати»
Александра Блока.
Рильке написал большую поэму об искателе бога и правды — русском дьяконе, ставшем отшельником.
Рильке читал мои записки о «хождении по Руси», а некоторые перевел и напечатал в Германии.
Встреча и беседы с ним в то время меня потрясли, настолько его речи и вся личность были наполнены глубокой, мистической силой, а его поиски «правды» мне импонировали.
Рильке был в России два раза и после того поехал во Францию. Живя в Париже, он несколько лет работал бесплатным секретарем у замечательного скульптора Огюста Родена и написал книгу бесед с ним. Как известно, Роден тоже был «искателем правды»и творцом новых форм в скульптуре, пытавшимся в камне выразить великие общечеловеческие идеи и запросы. Кто не знает его бессмертного «Мыслителя», породившего множество подражаний?
Советский поэт Давид Самойлов рассказывал мне, как после освобождения Берлина от нацистов в 1945 году он с товарищами отправился в Германскую Государственную Библиотеку, и там они нашли всех сотрудников-библиотекарей на своих местах.
Те не покинули этой сокровищницы человеческой мысли, когда все другие немецкие чиновники бежали в панике при штурме города.
Помня мою просьбу — привезти последние, неизданные у нас в России, произведения Рильке, Д. Самойлов и его приятели спросили библиотекарей — сохранились ли книги Рильке?
Библиотекари повели их в подвал, где стоял ряд шкафов, обтянутых проволокой и запечатанных. Один шкаф имел наименование «Рилькеана».
«Эти книги должны были быть сожжены, — сказали библиотекари, — но мы их сохранили. Вы, как победители, можете вскрыть эти шкафы. Мы сами этого делать не будем. Мы надеемся сохранить для потомства произведения наших лучших поэтов…»
1947
В. ЯНЧЕВЕЦКИЙ — Р. — М. РИЛЬКЕ
Дорогой г. Рильке!
Я очень признателен и благодарен Вам за Ваше доброе письмо и за Вашу пьесу, которую мне очень хочется перевести на русский язык. Вероятно, мне это удастся сделать.
Я путешествовал теперь несколько месяцев по Центральной России. Мне придется продолжать мои поездки вероятно еще около года; я хочу изучить наши наиболее культурные губернии по линии Псков — Казань.
Когда Вы приедете снова в Россию? Не хотите ли путешествовать вместе со мною?
Я готовлю мою книгу «Записки пешехода», но она еще не готова.
Над чем Вы работаете теперь? Будете ли Вы что-нибудь писать о России?
Мне будет очень интересно следить за Вашей литературной деятельностью.
Какие интересные новости в германской литературе?
Я теперь месяцы нахожусь без газет, журналов и почты, поэтому и Ваше письмо получил так поздно, и так поздно отвечаю Вам. Простите меня, пожалуйста, за неаккуратный ответ моего письма, надеюсь, что мы будем обмениваться письмами.
Что теперь делается в России? Здесь трещат морозы, мужики в деревнях спят на печке и вылезают раз в неделю по субботам, чтобы выпариться в бане, покататься голым по снегу, опять в баню, и затем домой на печку, опять на неделю.
Наши образованные интеллигенты разговаривают о конституции, бранят правительство, англичан и вашего Вильгельма, затем играют в «винт», пьют «казенку»и читают Максима Горького.
Вот общая картинка вкратце современной России. Затем уже все остальное — индивидуализация общего.
Желаю всего лучшего! Поздравляю с новым столетием, с новым счастьем!
Ваш —
В. Янчевецкий
Децембер. 1900 г. Ревель
Р. — М. РИЛЬКЕ — А. Н. БЕНУА
«…В Германии теперь все выглядит слишком» по-немецки «, и тот неприятный псевдопатриотический тон, которым у нас изо всей силы пытаются провозгласить начало нового немецкого» Ренессанса «, закрывает мне путь почти во все периодические издания…
Дельные статьи, в которых хотя бы один раз не упомянуто о величии Германии и не предсказано ее великое будущее, вообще не имеют теперь никаких шансов на опубликование в наших полулитературных журналах…
Так как любое послание из России я воспринимаю как праздник, то меня очень порадовала присланная мне на днях маленькая книжка (собственно говоря, я ожидал от нее еще большего), с автором которой я знаком, хотя и бегло.
Я имею в виду» Записки пешехода»В. Янчевецкого. Вы знаете эту книгу.
Рассказы «Счастье», «Ходаки», «Странники» мне кажутся лучшими.
Господин Янчевецкий меня посетил раз в Петербурге, и я очень интересовался этого молодого писателя (транскрипция подлинника. — М. Я.), который так энергично взял на себя всякие неудобства пешеходства, чтобы служить своему народу.
Может быть, я из этих рассказов переведу что-нибудь для «Цукунфт» или «Лотзе» (Гамбург)…«.
ВСТРЕЧА С Л. Н. ТОЛСТЫМ
Поезд выкинул меня на небольшой станции Тульской губернии. До утра еще далеко. Я вышел на большую дорогу. Накрапывал дождь, а впереди предстояло несколько верст пути по незнакомым пустынным местам.
Вернувшись на станцию, я решил подождать до утра в зале III-го класса, среди спящих на полу мужиков, баб с детьми, корзин и тюков. Когда начало светать, я отправился в путь.
Пришлось идти лесом, тропинками, среди мокрых от дождя кустов. Идти по большой дороге было невозможно, ноги вязли в глинистой почве. С волнением я приближался к тому месту, той деревне, к которой было приковано внимание мыслящих людей всей России и даже всего мира: в ней жил, думал и творил Лев Толстой.
Деревья стали редеть. На опушке леса я решил переждать и присел на пне.
Со стороны станции шел молодой человек. Потертый синий картуз с козырьком, высокие сапоги, черная куртка с бархатным воротником и» либеральная» бородка — наверное, учитель или псаломщик. Он мне поможет.
Действительно, незнакомец остановился, подошел ко мне и стал скручивать «козью ножку».
На мои расспросы он мне объяснил, что впереди, уже недалеко, вдоль холмистого склона, протянулась деревня Ясная Поляна, а в стороне, справа, на спуске с холма, среди липового леса находится старинная усадьба Толстых.
— Мы графа Льва Николаевича часто видим на дорогах близ его имения.
Он ходит с палочкой, в высоких сапогах и галошах, с книжкой в руке. А то сидит под деревом и читает. Он очень любит заговаривать с прохожими, расспрашивая, как люди живут. И я с ним раза два беседовал, вместе гуляли по лесу. Я служу приказчиком у купца Ермакова, он хлебную торговлю ведет.
Люблю я почитывать и книжки Льва Толстого, прочел все, какие только мог здесь разыскать…
Любезный собеседник, помню, еще сказал, что яснополянские крестьяне живут лучше и чище, чем крестьяне соседних деревень: Лев Николаевич многим помогает «справить» хозяйство.
Вскоре приказчик меня покинул и я остался один. Я боялся прийти в усадьбу слишком рано, не зная, как меня примут. Я волновался при мысли о том, что сейчас, может быть, я буду говорить с автором «Детства»и «Отрочества», «Чем люди живы», «Казаков», — моих любимых произведений Толстого. Мне казалось, что рука, написавшая все это, должна быть особенной, полной магической силы. Его глаза, наверное, видят насквозь мысли каждого человека и, конечно, прочтут и мои мысли, мои стремления, еще такие туманные и неоформившиеся, мои собственные искания «правды», какой-то особенной правды, которую люди не знают, которая, как птица, кружит между людьми, а поймать ее невозможно.
Совершенно рассвело. Ветер разогнал тучи. Первые лучи солнца осветили укрывшийся между деревьями двухэтажный помещичий дом, такой небольшой, не нарядный, принадлежащий людям среднего достатка. Сад со старыми деревьями спускался по склону холма и кончался воротами на каменных квадратных столбах. Я все смотрел не отрываясь на эти ворота, ожидая, что именно отсюда покажется знакомая фигура старика с развевающейся по ветру седой бородой.
Ворота раскрылись. Выехал плетеный тарантас, запряженный гнедой лошадью. Он вскоре проехал мимо меня. В нем сидела бледная женщина с грустным лицом, в соломенной шляпке с синим развевающимся вуалем. Два чемодана, стоявшие у нее в ногах, говорили о том, что она направляется к поезду.
Ворота оставались открытыми. Это придало мне смелости. Дождь давно перестал. Приходилось идти по сырому лугу, по высокой траве, на которой еще блестели дождевые капли.
Я вошел в заветные ворота. Я уже был в Ясной Поляне! Навстречу, по дорожке сада, спускался худощавый человек в летнем пальто. Ворот его белой рубашки был расшит пестрым украинским узором. Я подумал, что это доктор Маковецкий, галичанин, постоянно живущий у Толстых. Приблизившись, он остановился:
— Вы, вероятно, к Льву Николаевичу?
— Да, я специально приехал сюда в надежде повидать его.
— Сейчас Лев Николаевич нездоров и никого не принимает. Софья Андреевна очень строго следит за тем, чтобы никто его не беспокоил.
— Вы, конечно, доктор Маковецкий? Я видел вашу фотографию в журнале вместе с семьей Толстых. Помогите мне все-таки повидать Льва Николаевича.
Очень уж обидно, издалека приехав сюда, остаться с невыполненным желанием.
Мы присели на садовой скамейке. Я рассказал, что, одетый по-мужицки, брожу по России с целью изучить ее народ. Я уже обошел несколько губерний, и у меня имеются наболевшие вопросы, на какие я ищу ответа. Лев Николаевич мог бы их решить и мне помочь.
— Знаете, что я вам, пожалуй, посоветую? Выберите в саду скамеечку и на ней подождите. Если вас увидит Софья Андреевна, то она категорически не даст вам возможности говорить с мужем. Но она встает позже, а Лев Николаевич, вероятно, сейчас выйдет. Он любит гулять по лесу рано утром. В лесу для него поставлены специальные скамейки, на которых он отдыхает и остается один со своими думами. Может быть, вам повезет.
Я искренне поблагодарил любезного доктора, и тот ушел.
Мне пришлось ждать недолго. В глубине парка показались две охотничьи собаки. Они перебегали между кустами и, увидев меня, залаяли. А за ними, в конце длинной прямой аллеи, показался о н. Я увидел е г о. Да, это был о н… Я почувствовал себя счастливейшим. Сейчас я буду с н и м говорить.
Пусть о н сердится и бранится, но я услышу е г о голос. Во что бы то ни стало я этого добьюсь.
Лев Николаевич приближался, идя медленным шагом по краю аллеи. Земля так набухла от дождя, что ноги вязли и скользили по глинистой почве. Он с трудом ступал в высоких калошах, опираясь на палку. Осеннее пальто старенькое и потертое. На голове круглая, черная шапочка, вероятно, сшитая руками Софьи Андреевны.
Собаки, прыгая вокруг меня, заливались лаем. Лев Николаевич направился прямо ко мне, успокоил собак, и остановился в двух шагах:
— Что вам угодно? С кем я имею удовольствие говорить?
У него был мягкий высокий голос, тенор, и какая-то барская манера речи. Я решил говорить с ним не стесняясь, искренне, таким языком, каким я пишу свой дневник. Но сухая встреча и эта барская манера говорить меня сковали, показав, что не так-то просто добиться его расположения, его доверия.
Заметив мое смущение, Лев Николаевич сказал:
— Давайте мы с вами пройдемся по окрестностям и дорогой поговорим.
Мы вышли из сада и тропинкой, через поле, направились к лесу, начинавшемуся невдалеке за оградой. Мне хотелось расспросить о многом, но Лев Николаевич, не давая мне времени, стал сам расспрашивать о тех деревнях и селах в различных губерниях, через которые я прошел. Больше всего заинтересовали его вятские мужики, живущие в вековых непроходимых лесах с мачтовыми соснами и елями. А также вотяки-язычники, обитавшие в тех же лесах, прячущие своих древних идолов в лесной чаще. Расспрашивал он также о плотовщиках, которые гонят плоты от Орши до днепровских порогов.
Он много расспрашивал и о русско-японской войне, в которой мне пришлось участвовать корреспондентом СПТА , и переспрашивал, требуя характеристик отдельных генералов — Линевича, Куропаткина.
— Эта война осталась незаконченной, — сказал он. — Нам придется еще раз встретиться с японцами и тогда х о з я и н, — он указал на небо, — по-своему решит этот спор.
Потом мы уселись на скамейке среди густого орешника.
— Итак, сколько же времени вы бродите?
— Уже несколько лет.
— Но вам нужно записывать ваши впечатления. А то какой же будет толк от всех этих скитаний по бесконечным русским дорогам, если вы не оставите записок о том, что такое Россия, наша многогранная Россия сегодняшнего дня?
Я ответил:
— Для того, чтобы все записывать, даже самые яркие впечатления, встречи и разговоры — не хватит сил. Я стараюсь запоминать самые интересные моменты, сцены и выражения, бегло описывая тех необычайных людей, которых я встречал. Мне кажется, что где-то в глубине моей памяти постепенно образуется богатейший склад впечатлений, из которого в моей дальнейшей жизни и работе я буду черпать жемчужины, собранные в этих скитаниях.
Лев Николаевич вдруг оживился и заговорил увлекаясь, горячо и быстро, иногда не доканчивая фразы; к сожалению, я не в состоянии тогда был все запомнить и потом записать, что он говорил. Вспоминаю теперь только самое главное:
— Мне очень нравятся ваши скитания. Это напоминает скитания немецких юношей, которые во времена Шиллера и Гете надевали на спину котомку и странствовали по Германии, посещая ее старинные города. Генрих Гейне оставил нам чудесные записки о таком своем путешествии по Гарцу. Но за границей, конечно, легче бродить, там не было никаких препятствий. А у нас каждый исправник, каждый урядник может задержать путника, потому что такой интеллигентный бродяга с сумкой сейчас же вызовет у них подозрение: «кто ты и зачем в народ идешь?»А между тем в таких путешествиях можно изучить по-настоящему родной край и наш народ и полюбить его. Меня давно увлекает мысль покинуть этот уютный дом, привычный уклад жизни, положить в дорожную сумку толстую тетрадь для записей и пару карандашей и отправиться отсюда на восток — миновать Симбирск, Самару, Казань и, перевалив через Урал, пройти всю Сибирь до Тихого океана! Какая масса впечатлений!
Я сказал Льву Николаевичу:
— Отчего бы вам не пойти, в самом деле, на восток, но, может быть, по другому направлению — через Среднюю Азию, Персию, Белуджистан — в загадочную Индию, там навестить Рабиндраната Тагора и мудрых индийских йогов? А дальше через Сиам попасть в многолюдный Китай? Всюду изучать языки и своеобразные обычаи тех народов, через чьи земли вы пройдете?
— Здесь есть опасность, — возразил Лев Николаевич. — Слишком беглое, поверхностное отношение к тем странам и людям, с какими придется встречаться… Можно легко обратиться в обыкновенных «глобтроттеров»
которых интересует только выигранное пари и количество пройденных километров. Я таких видел, они даже приходили сюда в Ясную Поляну. Но я не заметил ни у кого из них искания правды, искания лучшей жизни для ближнего… А между тем в таком путешествии вокруг света важно не то, чтобы сделать его в восемьдесят дней, как описывает Жюль Верн, а в том, чтобы… — и обратился ко мне:
— Как вы думаете, что важно, что интересно в таком путешествии?
Я несколько растерялся, но затем подумал и ответил:
— Меня в таких скитаниях больше всего интересуют две вещи: встречи с необычайными людьми и беседы с ними. Эти необычайные люди могут быть совсем простыми с виду, незаметными. Кроме того, чарующая особенность таких свободных скитаний еще состоит в том, чтобы на некоторое время прервать их в той местности, какая покажется вам необычайной и привлекательной.
Лев Николаевич приблизил ко мне лицо и пристально вглядывался своими бирюзовыми, близорукими глазами:
— А я о ч е н ь х о т е л б ы с в а м и в м е с т е п о б р о д и т ь п о С в е т у! Каждый день видеть новые пейзажи, беседовать с новыми людьми…
— В самом деле, Лев Николаевич! Давайте, пойдемте вместе! В пути ваше здоровье окрепнет, и вы будете, как мудрец в Древней Греции, бродить со своим учеником! Никто не узнает вашего имени, ни вашей мудрости. А у нас, на Руси, вас сочтут паломником, идущим ко святым местам…
Наш разговор прервался. Быстро подходил доктор Маковецкий:
— Софья Андреевна беспокоится, что вы слишком долго гуляете по сырой траве. Я, как врач, тоже скажу, что это рискованно и делать не следует.
Кофе вас ждет.
Мы возвратились в сад. Под древними липами, на круглом столике стояла сухарница с крендельками и ломтиками белого хлеба, намазанного маслом.
Горничная в белом свежевыутюженном переднике принесла на подносе стакан кофе и сливочник.
— А где же кофе для гостя? — сердито спросил Лев Николаевич. — Попросите Софью Андреевну прислать еще стакан!
— Сейчас принесу.
Я заметил, что Софья Андреевна вышла на крыльцо дома и смотрела в мою сторону. Вскоре горничная вернулась, неся на подносе стакан чаю. Он был без сахара.
Некоторое время спустя Софья Андреевна вышла в сад в очень глубоких калошах, подошла и, кивнув мне головой, сказала Льву Николаевичу тоном заботливого участия:
— Оставаться в саду сейчас опасно, слишком сыро. Следует вернуться в комнаты.
Подобрав длинное, пышное, шуршащее платье, она прошла к воротам, посмотрела по сторонам, затем вернулась в дом.
Лев Николаевич допивал свой кофе и молчал. Я понял, что мой визит заканчивался.
— Я вас провожу еще немного, — сказал Лев Николаевич, и мы вместе вышли из сада на большую дорогу. — Да, я с радостью пошел бы с вами вокруг света или хотя бы по России, от Польши до Владивостока. И то — какой масштаб!.. А у меня дела, срочная корректура. Да и здоровье мое неважное.
Не могу шагу ступить без доктора.
Мы простились. Я пожал его нервную сухую руку. Он на мгновение задержал мою и как-то грустно сказал:
— А я завидую вам: хорошо быть молодым! И с каким удовольствием я побродил бы по Свету!
Я направился в сторону железнодорожной станции. С опушки леса я оглянулся. Лев Николаевич, опираясь на палку, еще стоял на дороге и смотрел в мою сторону.
Ветер развевал его длинную седую бороду. Несколько мгновений я ожидал, что он махнет мне рукой и позовет обратно…
Но он повернулся и тихо побрел к дому.
И мне тогда показалось, что я потерял навсегда близкого и дорогого учителя и человека. Но я был счастлив тем, что все же своего добился, что я его видел, говорил с ним.
***
А через несколько лет весь мир был потрясен сообщением о том, что на безвестной до того станции Астапово умирает великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой, в простой крестьянской одежде, с котомкой за плечами и со странническим посохом в руке — ушедший бродить по России…
1907 — 1938

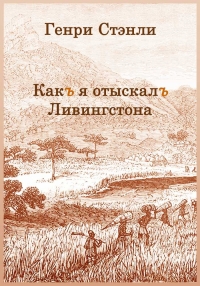

Комментарии к книге «Записки пешехода», Василий Григорьевич Ян
Всего 0 комментариев