Юрий Долетов Страна «гирин герен»
Праздник, который не состоялся
Деревенскому вождю, или, как его еще тут называют, чифу, Ндогу Оджимбе явно не везло. Он не единожды вознамеривался сказать речь, но его все время прерывали…
В будни Оджимбе щеголял в затертых коричневых шортах, выгоревшей рубашке и сандалетах на босу ногу, ничем не выделяясь среди соплеменников. Так, во всяком случае, выглядел он накануне, в день моего приезда в Отесегу. Сейчас, на празднике ямса, вождя было не узнать. В ослепительно белой шелковой агбаде — длинной, до пят, национальной одежде, похожей на балахон, — и без того дюжий от природы, Оджимбе казался еще выше ростом и сиял в лучах солнца, как снежный пик. Под взглядами десятков людей Оджимбе важничал: дескать, вот я какой традиционный правитель — ваш старейшина рода, судья, хранитель имущества, политический наставник…
Мы находились почти в центре афии — деревенской площади размером с футбольное поле, начинавшейся у восточной окраины Отесеги. Как и многие другие селения в южных провинциях страны, деревня была без улиц. Глинобитные хижины на четыре угла с камышовыми крышами прятались вразброс в тени пальм. Такие же пальмы окаймляли афию с северной и южной сторон. Она обрывалась у высокого берега реки, откуда веяло прохладой.
Был погожий октябрьский день, и окрестности хорошо просматривались. За рекой буйствовал тропический лес, которому, казалось, конца-краю нет. Еще недавно здесь несколько месяцев кряду почти не прекращались ливни — стояла дождливая пора. Теперь наступил сухой сезон. Напившись влаги, деревья у макушек высветлились: пустили свежие побеги.
В обычные дни афия пустовала. Лишь дважды в неделю местные жители устраивали тут рынок или созывали в случае необходимости деревенский сход.
Теперь здесь были установлены три ряда столов в виде огромной буквы «П». В середине, на деревянном помосте, музыканты еще с вечера поставили пять тамтамов — похожих на котлы барабанов.
В центре поперечного ряда лицом к реке восседал Ндогу Оджимбе. По правую руку — его жена, дородная матрона в синем платье, на коленях которой ерзал курчавый мальчуган в белом европейском костюмчике. Рядом с мамашей смиренно потупили глаза три дочери-подростка, дальше расположились родственники семьи Оджимбе.
Слева от вождя находились четыре нди экве на нди нзе — титулованные особы, попросту его советники, тоже в белых агбадах.
Сбоку от этих титулованных особ устроители праздника отвели места гостям: мне и лагосскому журналисту Эленду Околи, родом из Отесеги, который привез меня на деревенское торжество. По обе стороны продольных рядов сидели жители Отесеги — принаряженные, улыбающиеся.
Столы ломились от местных деликатесов. Горками лежали акара — бобовые лепешки. В больших кастрюлях остывала только что сваренная эгуси — овощная похлебка. Из глиняных кувшинов выбивалась белая пена игристого тумбо — терпкого пальмового напитка. Миски с фуфу — шариками теста в остром соусе дразнили запахом пряностей. Но, пожалуй, аппетитнее всего выглядели розоватые кусочки на противнях — обжаренный в пальмовом масле ямс, ради которого устраивался праздник и который, как того требовал обычай, первым из всех блюд надлежало отведать каждому из присутствующих.
По традиции, чтобы открыть праздник, вождю следовало сказать соплеменникам и гостям приятные, радостные слова: настроить людей на нужный лад. Ндогу Оджимбе привстал из-за стола со стаканом тумбо, для порядка негромко кашлянул. Люди притихли, устремив на него свои взоры.
— Чуку[1]! — пробасил Ндогу Оджимбе. — Я и мои соплеменники…
В этот момент неподалеку от нас, в левом ряду, подломилась скамейка, и человек десять завалились на землю. Сбегали в деревню за другой скамейкой, расселись.
— Благодарим тебя за то, что ты позволил…
Дикий вопль прервал речь. В правом ряду нетерпеливый юнец, не сводя восторженных глаз с вождя, хотел умыкнуть лепешку, но угодил рукой в кастрюлю с горячей эгуси. Люди минут пять неуемно хохотали, указывая на смущенного парнишку.
— Нам собраться…
Ндогу Оджимбе опять замолчал, стал глядеть под ноги: кто-то из-под стола дергал за полы его агбады. Оказалось, это был сын-непоседа, который незаметно соскользнул туда с колен матери. Шалуна усадили на скамейку.
— Снова на самое торжественное и важное событие в жизни нашей деревни — праздник ямса… — Вождь неожиданно замер. Его лицо исказил страх: брови полезли на лоб, глаза расширились, рот так и остался открытым. Издавая невнятные гортанные звуки, Оджимбе показывал в направлении берега рукой со стаканом, не замечая, что расплескивает тумбо. Мы, смотревшие все до единого на вождя, разом повернули головы в ту сторону.
— Ой! А-а! — раздались возгласы. Было от чего душе в пятки уйти.
От берега на площадь катилась лавина громадных (у страха глаза велики) существ с головы до пят в лохматых шкурах — черных, бурых, рыжих, серых, с которых стекала вода, видимо, после форсирования реки. Это была какая-то кошмарная шевелящаяся масса. Глаз не успевал выхватить отдельные экземпляры, и вся лавина казалась бредовым видением. У страшилищ не было ни копий, ни луков, ни ружей. Но их обросшие свирепые лица с выпученными глазами и звериным оскалом, обрывки размочаленных веревок серо-зеленого цвета, свисающие с плеч, не оставляли места для сомнений: сейчас эти похожие на чертей варвары повяжут сидящих за столами людей и утащат нас если не в пекло, то уж в лесные дебри непременно.
Нападающие разомкнулись и стали брать в клещи продольные ряды столов. В образовавшийся просвет было видно, как из-под берега проворно карабкались, подсаживая друг друга, все новые и новые страшилища — рослые, могучие и в то же время легкие, как пушинки.
Первым вышел из оцепенения вождь. При всей своей внушительной комплекции он, однако, оказался не из храброго десятка: забыв о сане, резво выскочил из-за стола и, подобрав длинные полы агбады, рванул что есть духу к деревне. Вслед за ним кинулись жена с детьми, и все титулованные особы. Женщины пронзительно заголосили. Люди опрокидывали скамейки и бросались наутек.
— Скорей отсюда! — крикнул мне Эленду и потащил за собой.
За ближайшей к площади хижиной мы остановились перевести дух. Я осторожно выглянул из-за угла. К счастью, за нами никто не гнался. У нападающих вроде бы и не было намерения ловить жителей деревни и заниматься каннибальством. Страшилища разбрелись вдоль столов и набросились на еду. Несколько варваров взобрались на помост и начали колотить, по тамтамам кулаками, оглушительным грохотом отмечая свою победу.
— Ну что ты застрял? Бежим! — торопил Эленду. — Кто знает, что у этих оборотней на уме.
Мы пробежали, наверное, полдеревни, пока наконец Эленду не дал знак остановиться, увидев возле одной из хижин кучку запыхавшихся односельчан. Они размахивали руками, наперебой частили:
— Ну, ты, Гвани, и драпал…
— А ты? Пятки сверкали!
— Надо же такой беде случиться…
— Откуда только свалилась на нашу голову эта лохматая саранча?
— Теперь весь ямс порушат…
А ведь мы руки в мозоли избили, чтобы его вырастить…
— Так и не попробовали. Весь праздник насмарку… Мы подошли к сельчанам.
— Что будем делать? — спросил Эленду Околи.
Посовещавшись, сельчане решили собрать разбежавшихся соплеменников, чтобы изгнать пришельцев с афии. Мне Эленду наказал ждать тут, усадив на скамейку у хижины. Я остался один.
На площади остервенело гремели тамтамы. Не выдержав томительного ожидания, я взялся за фотоаппарат, нашел просвет между хижинами и деревьями. Э-х! Афия с варварами получится слишком мелко: не фигуры, а козявки. Телеобъектив бы! Да жаль не захватил.
Мне было понятно негодование жителей Отесеги. Расстроился праздник, а ямс — священный ямс! — достался невесть откуда взявшимся дикарям.
Ямс — растение влажных тропиков. Он выбрасывает из земли травянистые побеги с крупными листьями и выглядит почти как молодая виноградная лоза. Но ценится ямс не своими «вершками», а «корешками» — длинными, с коричневой кожурой, толстыми клубнями, похожими на кабачки. В Нигерии известны пятнадцать видов ямса из тех нескольких сот, что есть на свете, но возделывают в основном только три: так называемые белый, красный и водяной. Все их варят, парят, жарят, как картошку. Готовят отдельно или вперемешку с другими овощами. Но есть у каждого из этих «корешков» и свое главное предназначение. Из белого ямса после сушки делают муку для приготовления фуфу. Красный хорош для булок. Водяной идет на оладьи. Не одинаковы у них и сроки созревания: белый убирают в середине — конце сентября, красный — в октябре, а водяной — лишь в январе.
Однако при всех различиях они схожи в одном — каждый сорт требует для выращивания немалого труда. Перед праздником жители Отесеги рассказали мне, как изнурителен и нелегок этот труд.
Ямс привередлив. Кроме тепла и обильной влаги ему подавай добрую свежую землю. На такой он прилично родит два, от силы три года. Затем, хочешь не хочешь, приходится крестьянину искать новый участок. Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Нигерийские деревни в южных провинциях стиснуты лесами, которые, как вулканическая лава, наползают на любой свободный кусочек земли. Поэтому, прежде чем подготовить участок, надо «открыть» его — вырубить лес.
Расчистку завершает напольный огонь. Угаснут костры — опять с утра до ночи работа под палящим солнцем: надо рассеять золу, мотыгами подбить землю в кучки, которые ровными рядами разлиновывают участок от края до края. А когда упадут первые капли дождя, предвестники ливней, начинается посадка семенного ямса в эти похожие на муравейники кучки…
Тамтамы на площади неистовствовали. С появлением первых ростков приходят новые заботы. Молодые побеги, чтобы уберечь от палящего солнца, нужно обкладывать свежими широкими листьями агавы, заменяя высохшие. Потянутся от стеблей усики пора ставить подпорки. С мая по август землю терзают буйные тропические ливни, и крестьянам по некольку раз на день приходится подправлять мотыгами размытые кучки. К тому же надо еще успеть за сезон прополоть ямс раза три. Сваренные «корешки» слегка сластят, напоминая вкусом подмороженную картошку. Но если в наших местах картошка — хлебу подпора, то в южных провинциях Нигерии, где хлеб не родит, ямс по значимости приравнивается к нему. Здешний крестьянин не мыслит себе жизнь без ямса и поклоняется ему за щедрую силу с таким же глубоким уважением, с каким мы поклоняемся хлебу.
Вот почему праздник ямса — самое важное событие у нигерийцев, живущих в зоне тропического леса. Обычно он устраивается в конце сентября или начале октября — в зависимости от времени созревания «корешков».
Такой праздник и был в Отесеге. Готовиться к нему начали заранее. Женщины обмазали посеревшие за сезон дождей стены хижин красной краской, навели на них узоры в виде птиц и животных. Подростки до единой соринки подмели афию, по краям ее на деревьях нацепили ленты из бумаги и материи. Мужчины расставили на площади столы и скамейки…
Тамтамы не унимались.
Мы приехали в Отесегу затемно и ночь провели в душной хижине родственников Эленду. Спать на плетеном без матраца топчане, покрытом грубой тканью, с тряпичной подушкой в изголовье было непривычно. И все же, утомленный нелегкой дорогой, я, наверное, не встал бы до полудня, если бы меня не разбудил Эленду.
Ополоснув лица, наскоро позавтракали.
— К чифу бы заглянуть, — сказал мой гид, когда мы вышли из хижины. — Но не пустят.
— Это почему?
— Ему сейчас не до нас. У Ндогу Оджимбе в доме совершается обряд, где могут присутствовать только он и советники.
Вот что поведал Эленду об этой традиции.
Ндогу Оджимбе встал в день праздника раньше всех в деревне, облачился в лучшую агбаду и стал поджидать нди эквс на нди нзе. С восходом солнца они не замедлили предстать перед вождем. После пространных поздравлений титулованные особы преподнесли в дар Ндогу Оджимбе десять отборных клубней ямса, козленка, петуха и два кувшина тумбо.
Приняв подарки, вождь поводил несколько раз над головами советников страусовым опахалом — ритуал, которым тут желают долгой жизни, — и пригласил в дом. Затем хозяин и гости взялись чистить и варить ямс. Минут через сорок они расположились на циновках вокруг кастрюли с клубнями и «сняли пробу». Все сошлись в одном: ямс уродился отменным. Ндогу Оджимбе тут же наказал одному из советников известить об этом соплеменников, чтобы они начали готовить «корешки» нового урожая к общему празднику и накрывать на афии столы.
Перед уходом советников вождь вывел из сарая откормленного годовалого бычка — ответный дар всей деревне.
Зачин празднику был сделан.
Закончив рассказ, Эленду Околи взялся показать мне Отесегу…
Подошли Ндогу Оджимбе, Эленду Околи и с ними большая толпа мужчин с мачете, толстыми палками, мотыгами: каждый прихватил то, что попало под руку. Вождь придирчиво осмотрел свою рать. Сил явно было маловато по сравнению с ордой, что захватила площадь: соплеменники в страхе разбежались, и не всех удалось собрать. Оджимбе немного помедлил и с той же решимостью, с какой убегал с афии, повел в бой односельчан. Эленду Околи кивнул и мне: дескать, не робей, присоединяйся.
Перед площадью мы разомкнулись и, притаившись за пальмами, стали ждать сигнала вождя к атаке.
Пришельцы вели себя нагло. Многие столы в продольных рядах были опрокинуты, скамейки повалены. Несколько дикарей, видимо с музыкальными наклонностями, по-прежнему выбивали на тамтамах оглушительную дробь без всякого намека на ритм или слаженность. Под эту какофонию другие страшилища исполняли какой-то немыслимый танец: волчком крутились на месте, кувыркались через голову, скакали на четвереньках.
Бесновались, однако, не все. За неповаленными столами пировали заядлые обжоры, подъедая уцелевшие фуфу, акара, ямс. Стоило кому-либо съесть лепешку или фуфу, как тут же к нему подскакивал другой чревоугодник и бесцеремонно заглядывал в рот. Мне даже слышалось, как он спрашивал: «Что ты ел? Вкусно?» А затем безбоязненно набрасывался на это же блюдо.
Дикари пока что не добрались до того места, где недавно восседали вождь, его семейство, деревенская знать и гости. Там под столом закопошилась маленькая фигурка в белом, и на скамейку выбрался сынишка Ндогу Оджимбе с акарой в правой руке. Малыш, наверное, обронил лепешку и лазил ее доставать.
Об Оджимбе-младшем в спешке забыли. Но ему, по детской наивности, все было нипочем. Он раскачивался на скамейке и без всякой боязни смотрел на страшных пришельцев. Едва малыш поднес ко рту акару, как от ближнего стола к нему подскочил лохматый дикарь с явным намерением отнять ее. Оджимбе-младший не растерялся: мгновенно выхватил из кастрюли с эгуси поварешку и со всей силы, на какую был способен, треснул наглеца по лбу.
У вождя вырвался стон: сейчас дикарь-громила сотрет его любимое чадо в порошок. Но тот неожиданно сник и трусливо отбежал от маленького смельчака. Издав воинственный клич, Ндогу Оджимбе поднял над головой палку, как саблю, и ринулся на площадь. Соплеменники, спотыкаясь на ровном месте, бросились за ним.
Мне подумалось, что сейчас на афии начнется горячая схватка, прольется кровь. Но дикари, хотя их было намного больше, чем сельчан, не думали сопротивляться. Музыканты побросали тамтамы, плясуны прервали нелепый танец, обжоры выскочили из-за столов. Вся эта галдящая толпа начала пятиться, поспешно отступать к берегу реки. И вот что было поразительно: крестьяне не лупили, не валили на землю дикарей, которых еще недавно костерили на все лады, а лишь слегка подталкивали палками тех, кого настигали.
Да и Эленду Околи сразу переменился. Он уже не рвался впереди всех в бой, а остался возле одного из столов, поджидая меня.
— Глянь-ка!
Под столом жалобно хныкал, сжавшись в комочек, маленький лохматый дикарь. Эленду вытащил упиравшегося малыша, взял на руки. Тот доверчиво прижался к груди, зачмокал пухлыми розовыми губами.
Я по-прежнему ничего не понимал.
Эленду, поглаживая малыша по волосатой голове, зашагал к берегу. Около обрыва остановился, опустил малыша на землю, дал шлепка: догоняй, мол, взрослых. И дикарь на четвереньках резво побежал вправо вдоль берега.
Я подошел к Эленду Околи, и тут меня осенила догадка:
— Так это, выходит, были…
— Конечно, обезьяны! — засмеялся Эленду.
— Они на афии погром устроили, а вы их пальцем не посмели тронуть?
— Нельзя иначе. Обезьяны считаются у моих соплеменников священными животными. Убьешь — грех на всю жизнь. Попугали, и довольно, — Эленду Околи стал серьезным.
— Откуда они взялись?
— А ты на реку взгляни! Что она вытворяет…
Еще утром, когда мой спутник показывал свою деревню и мы побывали здесь, на берегу, река дремала, казалась тихой и безобидной. Посредине, как огромный пирог, вытянулся заросший мелким кустарником остров. Через неширокую протоку на него в нескольких местах были переброшены кладни. В дождливый сезон остров заливало, а когда вода спадала, крестьяне наведывались туда за плавником или гибкими прутьями для плетения корзин.
Сейчас река снова шалила: вышла из берегов, несла траву, обрывки серо-зеленых лиан. В том месте, где был остров, лишь сиротливо дрожали в мутном потоке зеленые лозинки. Ночью в верховьях реки, несомненно, на землю обрушился крупный дождь. Такое случается в начале сухого сезона. Вода в русле поднялась, и этот вал докатился днем до Отесеги.
— Все понятно! — комментировал Эленду Околи. — Обезьяны, их там в лесу за рекой кишмя кишит, у себя все подъели. Вожак привел огромное стадо на остров — полакомиться молодыми побегами. Тут обезьян и захватил потоп. Наверное, хотели в лес убежать, да кладни залило: с той стороны остров положе. Тогда они сюда подались.
В общем, бедняги от наводнения спасались, а мы их за оборотней приняли! — расхохотался Эленду.
Мы вернулись на афию. Сельчане, окружив вождя, курили, подшучивали друг над другом, смеялись, вспоминая свою недавнюю оплошность. Ну, а праздник? Что ж! Не повезло в этот раз, повезет в другой…
Загадки Эджиофора
Отнюдь не такое легкое настроение было у Эленду Околи и у меня, когда поутру мы возвращались в Лагос — нигерийскую столицу. Эленду, обычно бойкий на язык, молча вел машину. Хмурился, видимо, считал себя виноватым. Еще бы! Столько наговорил о празднике ямса, а вместо этого только до смерти напугал человека.
Мы ехали, нигде не останавливаясь. Машина замедляла свой бег, когда взбиралась на холмы, стремительно скатывалась под уклон. По обочинам шоссе мельтешили ухоженные плантации ямса, маиса, рощи кокосовых пальм. Довольно часто на пути попадались олрятные деревни с наведенными на глиняных стенах хижин фигурами зверей и птиц.
Припекало.
Мы открыли все окна, и в кабину, стоило въехать в какую-либо деревню, врывался сладковатый запах жареных «корешков». В селениях справляли или готовились справить праздник ямса. Этот запах подолгу не выветривался, дразнил, напоминал об Отесеге бередил душевную рану.
Я чувствовал себя ошеломленным, сбитым с панталыку. Вот бы сейчас посмотрела на меня мадам Сквирс! Каким бы, наверное, растерянным, мокрой курицей выглядел я в ее глазах, совсем непохожим на того вальяжного, уверенного в себе человека, рассказывавшего ей с видом знатока о Нигерии.
Кто такая мадам Сквирс?
…В наш аэрофлотовский самолет в Вене подсела группа пассажиров. Возле меня было свободное место, и его заняла интересная брюнетка в легком, светлых тонов костюме, как вскоре выяснилось, мадам Сквирс. Она побывала у себя дома по делам наследства, по пути накоротке осмотрела Вену и теперь возвращалась в Триполи. Там ее ждал муж, работающий по контракту в Ливии.
Вскоре под самолетом засинело Средиземное море. Впереди по курсу была Африка, и, естественно, разговор зашел об этом континенте, все еще хранящем немало тайн.
— Даже детям сейчас вдалбливают, что такое Африка. Только и слышишь: «Африка! Африка!» — поморщилась попутчица.
— Это где, позвольте узнать?
— Хотя бы в школе-пансионате, где учится наш Бобби.
— Вполне разумно. Что-то люди должны знать о других странах и народах, той же Африке. Континент пробудился, набирает силу.
— То взрослые! А это дети, крошки — двенадцати-тринадцати лет. Так вот: в класс Бобби нагрянула какая-то комиссия и попросила каждого из ребят написать об Африке несколько предложений. Хотите знать, что выдали ребята?
— Конечно!
— «Людей, которые живут в Африке, называют туземцами», — начала вспоминать мадам Сквирс. — «Они носят золотые кольца в ушах и в носу». «У всех туземцев на голове черные курчавые волосы». «Жители Африки еще не сделали колесо». «Туземцы передвигаются на слонах, ходят нагишом или в набедренных повязках». «В Африке очень жарко, там есть джунгли, растут пальмы, и больше ничего нет».
— Интересно! Однако не с потолка ребята все это взяли. Несомненно, вычитали в книгах и учебниках. А ведь их пишут взрослые, вполне нормальные люди. Видимо, кому-то очень хочется показывать Африку отсталой, темной и дремучей, где живут неполноценные чернокожие люди «с кольцами в ушах и в носу», презрительно называть их «туземцами». Не так ли?
Мадам Сквирс ничего не ответила, не спеша достала из кожаной сумочки пудреницу, посмотрела в зеркальце, поправила прическу. После недолгого молчания спросила:
— Простите, а куда вы направляетесь? Я назвал страну.
— О, знаю, — оживилась попутчица. — Это узкая полоска в Восточной Африке!
Нигерию обычно путают с Республикой Нигер, что севернее ее. Но вот «с полоской»…
В Нигерию я летел впервые. Разумеется, перед отъездом проштудировал немало книг, посвященных ей, и считал себя докой, когда дело касалось этой страны. И вот, как нельзя кстати, представился случай блеснуть своей ученостью. С несвойственным мне красноречием и в то же время как можно деликатнее я стал наставлять мадам Сквирс на путь истины.
В Нигерии как бы в концентрированном виде представлена вся Африка с ее саваннами и джунглями, с горами и великими реками, со всеми богатствами земли и вод. Здесь обитает множество народов и племен. Здесь, как в зеркале, отражены все проблемы, все беды, тревоги и надежды континента. Все, что происходит в Африке, отзывается эхом в Нигерии, и все, что бывает в Нигерии, неотъемлемо от Африки.
Страна эта находится вблизи экватора, в западной части континента. Своей южной окраиной она купается в теплых водах Гвинейского залива, северной — подступает к знойной Сахаре. Их разделяет, если брать крайние точки, 1200 километров. На чуть большее расстояние отстоит западная граница от восточной. Территория Нигерии, для наглядности я округлил цифру, миллион квадратных километров — в четыре раза превышает территорию Англии; там без труда могли бы разместиться, не тесня друг друга и не толкаясь локтями, Италия и Франция.
Река вышла из берегов от многих сотен тел, забивших русло
Рельеф в основном спокойный. Вдоль берега морской прибой неустанно намывает песчаные пляжи, отделяющие от океана длинные лагуны. За ними начинается равнина, которая переходит в живописные плато. Эти плоскогорья занимают две трети территории страны, поднимаясь уступами с юга на север. Кое-где на плато есть горы, самая высокая из них — Шере — почти две тысячи метров.
На северо-западе в страну вбегает Нигер — третья на континенте по длине и площади бассейна река после Нила и Конго. В среднем течении Нигер принимает слева крупнейший приток Бенуэ. Место их слияния изображено на национальном гербе, символизируя тем самым единение народов молодого государства.
Нигер вобрал в себя не один только Бенуэ. Его питают еще десятки рек и речушек. Если посмотреть на географическую карту, их синие прожилки как бы образуют дерево, крона которого раскинулась к северо-западной, северной и северо-восточной границам, а ствол вошел на юге в океанские воды.
Большая часть страны расположена в зоне экваториально-муссонного климата. Там нет привычных нам, жителям средних широт, времен года — весны, лета, осени и зимы. Есть только дождливый, когда многие дни и ночи, почти не переставая, хлещут ливни, и сухой, без единой капли, сезоны. Сезон дождей обычно совпадает с нашим летом. Пик сухого приходится на декабрь — январь, когда у нас гуляет метель и трещат морозы. Причем продолжительность сезонов в разных районах неодинакова. На юге страны ливни обычно затягиваются месяцев на восемь, а то и девять. В средней части дождливый сезон лишь на немного (дней на двадцать-тридцать) превышает сухой. В северных провинциях и тот и другой по длительности почти одинаковы. Так же несоразмерны колебания сезонных и суточных температур. В южных районах обычно бывает 28-30 градусов в сухой сезон и 24-26 — в сезон дождей, тогда как в северных — 32-34 и 18-20 градусов соответственно. Такой же контраст в суточных температурах. Если на побережье перепад между дневной и ночной температурами почти не чувствуется, то в некоторых местах на севере страны, случается, ртутный столбик опускается с 35-40 делений до 10-15.
Чего только нет в нигерийской земле! Железная руда, каменный уголь, нефть, природный газ, цинк, свинец, марганец, уран, асбест, олово, вольфрам, молибден, колумбит… — целое созвездие полезных ископаемых. Словом, «африканская жемчужина». Но, конечно, когда говорят о нигерийских минеральных ресурсах, на первое место среди них ставят нефть. Ранее Нигерия пребывала в неизвестности на международной нефтяной арене, а теперь она «нефтяной гигант»: входит в десятку стран мира — крупнейших производителей «черного золота».
Казалось бы, не так уж и велико расстояние 1200 километров, на которое простирается Нигерия с юга на север. Но на этом пространстве полностью представлены растительные зоны Африки. Побережье — царство мангровых зарослей. Их подпирают болотные тропические леса, переходящие в многоярусную вечнозеленую гилею, где сохранились высокоствольные кайя, сапеле, ироко, известные ценной древесиной, которая не меняет своей формы при сушке и не гниет в воде. Леса постепенно редеют, уступая место так называемой гвинейской саванне с высокой, в рост человека, травой и рощами деревьев. За этим безбрежным зеленым морем начинается другая саванна — суданская. Она не такая пышная, как гвинейская, да и однообразнее: трава с узкими и прямыми листьями, встречаются купы акаций и колючих кустарников.
У северных границ Нигерии пейзаж снова меняется. Там зона сахельской саванны с хилой, пожухлой травой, наносами песков (чувствуется близость Сахары). Там нередки засухи, опустошающие и без того скудную от зноя землю.
Для зоопарков, чтобы показать фауну Африки, обычно отлавливают животных в разных ее частях. И невдомек охотникам, что зверей и зверюшек, плавающих и ползающих тварей можно набрать в одной Нигерии. Слоны, бегемоты, крокодилы, львы, леопарды, дикие кошки, буйволы, муравьеды, тридцать видов антилоп. В лесах водятся обезьяны. Тогда я еще не знал об Отесеге и не представлял, в какие орды они могут сбиваться. А сколько еще другой живности: четвероногой, ползающей, летающей. Разве всех переберешь!
Нигерию нередко называют «многоликий колосс», «этнический Вавилон». На то есть свой резон. Она самая населенная страна континента. Каждый пятый житель Африки — нигериец, а их более 100 млн. В этом «Вавилоне» свыше 250 этнических групп и народностей.
Наиболее крупные из них хауса, йоруба и игбо, которые составляют более половины населения страны. Помимо этих народностей выделяются фульбе, ибибио, канури, эдо, тив, насчитывающие от полутора до трех миллионов человек. Особой пестротой отличается население плато Джос, где обитает около тридцати этнических групп.
Каждая из больших народностей издавна облюбовала себе место для проживания. Хауса в основном осели в северных провинциях, они известны как искусные ремесленники. Врожденные коммерсанты йоруба расселились преимущественно в юго-западной части Нигерии и в крупных городах. Игбо выбрали юго-восточный район. Им присущи трудолюбие, предпринимательская сметка, тяга к знаниям, их главный удел — земледелие. Каждая этническая группа живет не обособленно, расселилась по другим районам страны и отличается от прочих местных племен и народностей поразительным разнообразием экономической и социальной организации, религиозных обычаев, бытовых нравов, одежды…
Жители Нигерии называют себя хауса, йоруба, игбо, иджо, нупе, камбари, выделяя тем самым принадлежность к определенной этнической группе. Стоит же кому-либо выехать за пределы страны, этот человек уже не подчеркивает свою племенную обособленность, а непременно говорит, что он нигериец.
В стране в ходу английский. Распространены и местные языки. На некоторых из них — хауса, йоруба, игбо, фульбе, канури, эдо, итсекири, тив — ведутся передачи по радио, издаются книги, журналы и газеты.
Нигерия долгое время была английской колонией. 1 октября 1960 года стала независимой. Испытала суровую годину гражданской войны, видела несколько военных переворотов…
Внезапно привязной ремень до боли сжал грудь. Эленду Околи резко тормознул: наперерез нашей автомашине с лесной тропинки выскочил, не посмотрев на дорогу, велосипедист, и я «спустился» с небес на землю.
Даже в первые месяцы пребывания в Нигерии я был твердо уверен, что знаю о ней предостаточно. Но одно дело начитаться книг, другое — убедиться во всем воочию. Без непосредственного знакомства вряд ли можно иметь полное представление о стране, ее истории, сегодняшнем и завтрашнем дне. Мне казалось, достаточно будет поездить и походить по Нигерии, вплотную соприкоснуться с самобытным внутренним миром людей, ее населяющих, и она начнет раскрывать свои тайны.
Как говорят в Нигерии, если есть желание, будет и дорога. При малейшей возможности я пускался во все тяжкое, чтобы постичь страну с ее прошлым и настоящим, с повседневными радостями и заботами, особенностями и странностями. Здесь-то и начал преследовать меня по пятам злой рок. Бывают в жизни такие полосы невезения. Не заладится что-то с первого раза, так и пойдет все через пень колоду. Приезжал в селение, а там — что за наваждение — никого: местный люд почти поголовно с раннего утра ушел обрабатывать свои плантации. Наслышавшись, что в такой-то деревне отменный рынок — чем не тема для описания здешних бытовых нравов, — мчал туда сломя голову. Увы! У прилавков ни души: не рыночный на этот раз день.
Сколько было таких поездок впустую…
Вырвался в Отесегу, где празднику ямса вроде бы ничто не могло помешать, а праздник не состоялся.
Вдоль дороги снова потянулись хижины, пахнуло приятным дымком. Наша резвая легковушка въехала в деревню, и кабина наполнилась в какой уж раз свежим запахом «корешков». Я недовольно что-то буркнул, заворочался на сиденье, стал поправлять надоевший привязной ремень.
— Ты чего? — спросил Эленду Околи, не отрывая взгляда от дороги.
Я поведал о своем радужном намерении относительно Нигерии и о неудачах, которые стали преследовать меня на каждом шагу.
— Вот оно что! — впервые после отъезда из Отесеги улыбнулся Эленду Околи. — Река течет извилистым путем, и нет людей, которые хотели бы изменить ее русло.
— О чем так заумно?
— Пословица в Африке такая есть: рядом с человеком, попавшим в затруднительное положение, не было никого, кто дал бы ему дельный совет. Хватит тебе скитаться наугад. Твое дело поправимо! Мой друг Эджиофор тебе поможет.
— Кто такой?
— Наберись терпения.
…Через три дня, под вечер, Эленду Околи заехал за мной. Признаться, после Отесеги я не очень-то верил в успех затеянного им предприятия. Какой-то Эджиофор! Чем он может мне помочь? Все же, скрывая сомнения, я согласился.
Мы долго, как мне показалось, петляли по узким, без тротуаров улочкам. Дом, около которого остановились, был такой же одноэтажный, как и соседние. Мы еще не вылезли из машины, как на пороге показался хозяин — поджарый высокий человек средних лет с печатью одухотворенности на лице. Эленду, видимо, предупредил его о нашем посещении. В доме не было прихожей. Прямо с порога мы ступили в небольшой холл. Убранство жилища Эджиофора поразило меня с первого взгляда. На стенах — слоновые бивни, маски из черного дерева, оплетенные поблекшими лианами, амулеты, опахала из страусовых перьев, дротики, луки со стрелами. Впервые приходилось видеть такой экзотический уголок в доме нигерийца, живущего в городе.
Хозяин указал мне и Эленду на два мягких глубоких кресла, вышел на кухню. Я терялся в догадках.
Вначале, когда Эленду Околи заехал за мной, я предположил, что предстоит встреча с местным кинолюбителем. Он уже побывал в разных местах Нигерии, отснял все, что надо, на пленку, подготовил текст. Смотри, слушай и мотай на ус (чем не «Клуб путешественников»?), не испытывая никаких дорожных волнений и неудобств. Теперь, находясь у Эджиофора, я думал иначе. Вероятнее всего, Эленду затащил меня к здешнему коллекционеру, а возможно, и знахарю-прорицателю (есть еще такая категория людей в Африке). Он предложит настой из тайных трав, хотя бы из рха. Это растение обладает удивительными свойствами, утверждают нигерийские медики. Сок из его листьев пробуждает в памяти все когда-то увиденное или услышанное человеком. Под гипнотические нашептывания я начну, наверное, как бы «вояжировать» по Нигерии. Хозяин принес на подносе прохладительные напитки и стаканы, расставил их на коктейльном столике. Сам сел на диван, что был перед нами, наполнил шипучкой стаканы.
— Прошу!
В хозяине ощущались спокойствие и степенность. Он не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути.
— Хотите страну «гирин герен» увидеть? — спросил Эджиофор, обращаясь ко мне.
— Какую «гирин герен»?
— Много, много лет назад в наши края через Сахару пришел караван. Однажды к исходу дня путники достигли реки. Ее противоположный берег был едва различим. Немало рек до этого встречали странники, но такой широкой еще не видели. Они назвали ее «гирин герен» — «река рек». Со временем сказалась игра слов, и реку нарекли Нигером. От этого слова пошло и название нашей страны — Нигерия. Поскольку река бежит у нас не одну сотню километров, мы нередко называем Нигерию по-другому страна «гирин герен», или же «страна великой реки».
Вот оно что! — непроизвольно вырвалось у меня. Я почувствовал на себе пытливый взгляд Эджиофора. Он ни о чем меня не расспрашивал, о себе пока особо не распространялся, что еще больше укрепило во мне предположение о принадлежности хозяина дома к клану знахарей-прорицателей.
— Могу скалу показать, откуда можно увидеть Нигерию — страну «гирин герен», — Эджиофор не терял нить разговора. — Дорога только к ней извилиста и терниста…
Я знал, что в Нигерии нет ни скал, ни гор высоких. Да и невозможно обозреть оттуда, пусть это будет хоть Джомолунгма, более известная как Эверест, такую страну от края до края, разве что с космических высот. Не этого мне хотелось… И все же скала, наверное, есть, раз Эджиофор говорит о ней так уверенно. Но как она может обладать таинственными свойствами, да еще такими, что с вершины можно увидеть всю Нигерию?
Эджиофор говорил загадками. Разумеется, он скажет, где находится скала, но с условием…
Разуверившись в бесплодности прежних поездок, я был готов поверить Эджиофору. Насколько я понимал, он не ставил передо мной заведомо невыполнимую задачу, как это делают в классическом сказочном сюжете по отношению к Иванушке-дурачку, обрекая его заранее на гибель. Эджиофор не помышлял водить меня за нос, а хотел, чтобы я не просто нашел объяснение какой-либо загадке. Он, конечно, имел представление о том, что скрывается за каждой из них, и тем самым подталкивал узнать какую-то неведомую мне доселе сторону жизни нигерийцев.
— Нужно ни больше ни меньше, как пройти по цепочке от первого обозначенного мною рубежа до последнего. А там и до скалы дело не дойдет.
— Цепочке? — решил уточнить я.
— Да-а! — Эджиофор, видимо, почувствовал, что пробил брешь в моем сознании. Теперь эту брешь надо скорее расширять, пока она снова не затянется, как прорубь льдом, пеленой недоверия и сомнений. Терпеливо, как учитель не очень смышленому ученику, Эджиофор стал втолковывать, что мне следует делать. Наставлял медленно, четко выделяя нараспев каждую фразу. Словно хотел понять, доходит ли до меня смысл его слов…
Вскоре мы прощались. Хозяин проводил меня и Эленду Околи до автомашины.
— Не останавливайся на полпути, не думай о трудностях. Если бояться дел, требующих усилий и времени, ничего не добьешься! — изрек Эджиофор в напутствие мудрую сентенцию.
Бронзовый флейтист
В пору, когда нет обложных дождей, нашу тихую улочку будят две зеленщицы. Они появляются, стоит солнцу выпустить из-за горизонта золотые стрелы своих лучей.
— Огеде! Огеде!(Бананы! Бананы!)
Улочка узка, стены домов резонируют, многократно усиливая зычные выкрики. С корзинами на голове, из которых топорщатся бананы, стручки красного перца, выглядывают помидоры, мандарины, орехи кола, зеленщицы шествуют по улочке из конца в конец. Они не уйдут до тех пор, пока кто-нибудь не купит у них огеде или еще что-либо.
В отличие от зеленщиц Алево Иленду никогда не надоедал. Этот робкий паренек приходил с большой кожаной сумкой в последний понедельник каждого месяца, часам к восьми, когда люди были уже на ногах и пребывали в самом благодушном настроении, не обремененные еще дневными заботами. Он выкладывал из сумки на пестрый коврик перед входом в дом черные статуэтки, маски, фигурки животных, умело вырезанные им самим из эбенового дерева, и лишь после этого давал о себе знать коротким звонком. Изделия всякий раз не походили на те, что он приносил ранее, и рука невольно тянулась к кошельку.
Казалось, что еще мгновение и зал наполнится нежной мелодией (бронзовый флейтист)
Однажды, после короткого звонка, я, как обычно, вышел во дворик. Паренек смущенно улыбался, извиняясь за беспокойство, предложил посмотреть товар. Я взглянул на маски, фигурки людей и животных, и они мигом поблекли. Словно среди стеклянной бижутерии мелькнул вдруг чистый драгоценный камень. На коврике рядом со всевозможными эбеновыми поделками красовалась небольшая бронзовая статуэтка.
Мастер запечатлел в металле мгновение жизни. Это была фигурка женщины с напряженными чертами лица. Она присела на колени, придерживая правой рукой на голове вместительный кувшин, который только что подняла с земли. Теперь нужно встать, да, видимо, тяжела ноша, и женщина боится расплескать воду.
Ранее Алево Иленду никогда не приносил бронзу.
— Откуда это? — Я взял статуэтку, любуясь изяществом ее отделки.
— Знакомого литейщика. Просил продать. Подручный заболел, а самому недосуг.
Статуэтка напомнила о бронзовом флейтисте, которого перво-наперво предлагал мне разыскать Эджиофор. «Тот, кто увидит бронзового флейтиста, поймет прошлое Нигерии», — вспомнились его слова. Конечно, это хорошо — насчет прошлого Нигерии. Но как найти «музыканта», если я не имел о нем ни малейшего представления и никто из людей, во всяком случае тех, кого я расспрашивал, не мог сказать ничего определенного.
Что, да литейщик и выведет на след! А по следу до всего доходят.
Я купил статуэтку, не торгуясь.
— Послушай, Алево, как бы повидать твоего знакомого литейщика?
— Чего проще!
…Мастерская располагалась в обычной хижине, каких еще немало в Лагосе. Полуобнаженный жилистый хозяин преклонных лет сидел перед порогом на циновке, скрестив ноги. Перед ним стояли бачок с глиной и ведро с замутненной водой. Смачивая руки, он лепил какую-то фигуру и при моем появлении быстро прикрыл бачок тряпицей.
Наверное, не очень-то хотел показывать свою работу незнакомому человеку. Тем не менее я был нужен литейщику, которого, как оказалось, звали Акпан Иро, в качестве покупателя. Кивнув в глубь хижины, он сказал:
— Ежели взять что хотите, выбирайте сами!
Я смело шагнул в хижину, и тут же лицо обдало жаром. После яркого дневного света закопченная мастерская показалась довольно сумрачной, но вскоре глаза обвыклись. Справа, под раструбом-вытяжкой, краснели в горне угли. Напротив, у стены, были деревянные полки с тускло поблескивающими, подернутыми зеленью бронзовыми статуэтками. Каждая изображала человека вполне определенной профессии: крестьянку с мотыгой, охотника, натягивающего лук, рыболова на лодке…
Не надо было обладать профессиональным видением, чтобы уразуметь — тут старался до седьмого пота талантливый мастер. Я выбрал небольшую отливку охотника, и мы быстро сошлись в цене.
— Может, еще что желаете? — спросил литейщик, видя, как я медлю и не собираюсь уходить.
— Мне бы бронзового флейтиста.
Что за штука такая? Впервой о ней слышу. Вам бы лучше в музей наш по такому делу сходить.
— Да был я там…
В местный национальный музей я наведался вскоре после приезда в Нигерию, задолго до встречи с Эджиофором, о чьем существовании, разумеется, тогда ничего не знал. В это серое двухэтажное здание в небольшом зеленом парке, рядом с ипподромом, меня привело журналистское любопытство. Очень уж хотелось поскорее взглянуть на древние изделия, о которых я немало наслышался.
В музее было тихо и сумрачно. Меня провели по залам, вдоль пустых застекленных витрин. Хотя музей существовал с 1957 года, для него, как мне объяснили, все еще не могли раздобыть экспонаты…
— Знаете что, повидайтесь-ка с одним человеком! Он быстрее поможет, — сказал литейщик, выслушав мой невеселый рассказ о музее. Акпан Иро достал из левого кармана шортов визитную карточку, оставленную ему на всякий случай одним из посетителей мастерской.
…Снова поездка по стране — уже более целеустремленная, с надеждой, пусть пока призрачной, на успех. На сей раз с Макети Зуру. Это к нему направил меня Акпан Иро.
Разговор с Макети Зуру при встрече был коротким. Узнав, что я интересуюсь бронзовым флейтистом, он, не сказав ничего определенного, предложил побывать с ним на днях кое в каких местах. В одном из них, вероятнее всего, и может оказаться загадочный «музыкант».
В дороге мы мало-мальски познакомились. Макети Зуру, получив диплом местного института африканских исследований, уже несколько лет работает в федеральном департаменте древнего искусства. Департамент намерен расширить поиски старинных скульптур для музея в Лагосе, и Макети Зуру поручили заняться их подбором. Он вел машину довольно уверенно. Сдерживал ее перед мостами и перекрестками, стремительно, как стрелу из лука, выпускал на прямые отрезки дороги, взбивая шлейф красноватой пыли. Макети Зуру выбрал маршрут в обход крупных городов, рассудив, что лучше сделать небольшой крюк, чем мучиться там в автомобильных пробках. Мы придерживались северовосточного направления. Довольно быстро выбрались в саванну с редкими деревьями. Селения с круглыми хижинами, на которые нахлобучили соломенные или камышовые крыши, выглядели безлюдными: местные жители от мала до велика убирали на своих наделах маис и хлопок.
Перед вечером мы проехали, не останавливаясь, Локоджу — небольшой город на правом берегу Нигера, напротив его слияния с притоком Бенуэ, и заспешили в Джамату. Дорога шла у подножия плоскогорья. Каждый раз, когда машина взбиралась на холм, справа открывалась голубая гладь реки, и ее свежее дыхание чувствовалось в кабине. В Джамате сразу же направились к паромной пристани. На другом берегу, в большом селении Котон-Карифи, нас ждал ночлег в рест-хаузе — доме для приезжих. Скопище автомашин у берега поколебало нашу надежду на скорую переправу. Выяснилось, что самоходный паром застрял у Котон-Карифи: разрядился аккумулятор, нового не было, а без него не могли запустить двигатель.
Макети Зуру нашел выход. Снял аккумулятор со своей автомашины и попросил одного из лодочников, прохлаждавшихся на берегу, отвезти его на паром. Вскоре переправочное судно подошло к причалу, и другие водители любезно позволили нам въехать первыми (за находчивость) на дощатый настил…
Утром мы снова были в пути. Макети Зуру все глубже стал вдавливать педаль газа. Тряская грунтовая дорога поползла вверх. Мы въехали на плато Джос. Кругом громоздились рыжие скалы, склоны плоских у вершин невысоких хребтов поросли густым кустарником. Внизу, в долинах, змеились, поблескивая, быстрые горные речушки.
Наглотавшись пыли, мы наконец остановились у заброшенного карьера, который походил на древний греческий театр, размытыми уступами уходя вниз. От края карьера до «сцены» было рукой подать — метров двадцать. Но между этими метрами, как я вскоре узнал, пролегли еще многие века.
Распугивая пестрых ленивых ящериц, сомлевших на солнцепеке, Макети Зуру стал спускаться на дно карьера. Цепляясь за жесткую траву, я неуклюже последовал за ним. Внизу было душно, сюда не проникало ни одно дуновение ветерка. Расхаживая среди невысоких, похожих на муравейники кучек красной глины, Макети Зуру, как заправский геолог, рассматривал уступы карьера, подбирал и отбрасывал камни, растирал на ладони комочки земли.
Минут через десять мы выбрались к автомашине, присели.
— А ведь когда-то на этом месте селились люди, — Макети Зуру кивнул на карьер. — Современный мир узнал о них в тысяча девятьсот сорок четвертом году. Жили же они двадцать пять — тридцать веков назад…
В 1943 году горнякам, добывавшим открытым способом неподалеку отсюда касситерит (оловянную руду), все чаще и чаще стали попадаться изделия из терракоты (обожженной неглазурованной глины) — горшки для варки пищи, черепки, обломки статуэток. Смутно догадываясь, что натолкнулись на глубокое прошлое Нигерии, рабочие переправили находки английскому этнографу Бернарду Фэггу, находившемуся тогда в Джосе (есть тут такой поблизости город). Образцы весьма заинтересовали Фэгга. К этому времени он располагал терракотовой головкой, которую один из местных крестьян использовал как пугало на своем огороде, и еще несколькими древними предметами, найденными ранее на плато в разных местах и переданными ему.
Нужно было весомое доказательство принадлежности разрозненных образцов к одной древней культуре. Бернард Фэгг решил не откладывать поиски в долгий ящик.
Для раскопок были выбраны окрестности деревушки Нок — Макети Зуру указал на островерхие соломенные крыши хижин — место, у которого мы теперь находились. Осторожно снимая слой за слоем, археолог и его помощники на небольшой в общем-то глубине обнаружили несколько терракотовых изделий — человеческие головы, слепки рук и ног. Бернарду Фэггу было достаточно одного взгляда, чтобы определить: предметы — творения древних мастеров. Радиокарбонный анализ позволил уточнить время их изготовления: V век до нашей эры — 11 век нашей эры. Находка придала новые силы. Поиски неведомой до этого «культуры Нок», как она была названа Фэггом по месту первых раскопок, охватили огромный район в центральной части страны. Результаты превзошли самые смелые предположения. На всем примерно 200-километровом участке, от местечка Кагоро на северо-западе до Кацина-Ала на юго-востоке, шириной в сто километров были найдены терракотовые головки в натуральную или почти натуральную величину, изображения животных, каменные топоры, инструменты для обработки дерева.
Что заставляло древних людей заниматься изготовлением терракотовых скульптур — культовые, прикладные или эстетические побуждения? Археологи не могут пока сказать на этот счет ничего определенного. Не позволяют старинные предметы составить представление и о социальном строе, религиозных верованиях людей того времени. Тем не менее стилистическое сходство, особенно скульптур из терракоты, дало возможность ученым сделать вывод о существовании в центральной части нынешней Нигерии древней цивилизации.
Макети Зуру извлек из дорожной сумки альбом со снимками. Перелистывая страницу за страницей, показал фотографии. На меня с лукавинкой, свойственной прекрасной половине рода человеческого, смотрели женские лица. Высоко подняв бровь, словно удивляясь, вызывающе уставились мужчины. Головки с их четкими линиями были просты и в то же время привлекательны.
— Обрати внимание на общую характерную черту всех скульптур, — сказал Макети Зуру. — Это способ изображения глаз: верхнее веко почти прямое, то, что под ним, — две одинаковые линии, сходящиеся внизу. Все три вместе образуют равнобедренный треугольник. Зрачки — высверленные отверстия в глазнице. Брови — тонкая выпуклая овальная линия. Там, где должны быть уши, — вдавленные углубления. На женских головках волосы собраны в жгутики. А ведь такие прически и сегодня предпочитают делать некоторые наши модницы.
Все человеческие головки выполнены в реалистической манере, — продолжал Макети Зуру свой монолог, — а сами изделия культуры Нок являются древнейшими из известных памятников, что обнаружены пока в Тропической Африке. Раз Фэгг нашел здесь терракоту, почему бы и нашим археологам не попробовать. Глядишь, им тоже удастся что-то раскопать для Лагосского музея, — Макети Зуру положил альбом в сумку.
— А где же флейтист? — не удержался я.
— Дойдет черед и до него.
…Обратно возвращались той же дорогой. Только теперь Макети Зуру не газовал, машина катила под уклон, и ее приходилось то и дело сдерживать.
Перед Котон-Карифи, за крутым поворотом, Макети Зуру изо всей силы нажал на тормозную педаль.
— Полюбуйся на этого красавца!
Посреди дороги, метрах в двадцати по ходу, стоял широкоплечий лохматый бабуин. Я невольно вжался в сидение (вспомнилось полчище «варваров» в Отесеге). Мои страхи были напрасны. Бабуин не проявлял никакой агрессивности, его заботило что-то другое. Как заправский постовой-регулировщик, он, выставив в нашу сторону грудь колесом, повелевал остановиться. Убедившись, что машина не двигается, издал командный рык. Тут же из кустов на дорогу выскочили резвые бабуины-младыши, за ними вразвалочку гуськом потянулись самки с повисшими на них детенышами. Вожак вел себя прямо-таки по-рыцарски: не сдвинулся пока последний бабуин из его стада не пересек дорогу.
Ифе, куда мы въехали, внешне, пожалуй, мало чем отличается от тех городов, что попадались на пути. Чистые улицы с зелеными двориками перед домами. У двухэтажных зданий — навесы-козырьки над нижними окнами: непременный элемент архитектурного стиля городов йоруба.
На одной из улиц нашу машину оттеснила на обочину большая толпа. Впереди под дробь оркестровых тамтамов выделывали замысловатые па танцоры в масках. За ними на ходулях шагали фигуры, задрапированные в пестрые ткани. Были тут люди и без масок, размалевавшие свои лица белилами и охрой. Диковинная процессия, пояснил Макети Зуру, — обычное явление в повседневной жизни Ифе: Город считается религиозным центром у йоруба — почитателей местных традиционных культов.
Многие из них до сего времени твердо верят в мифическую легенду, что именно в Ифе появились первые земляне. По этой легенде, в незапамятную пору, когда вся наша планета была якобы в воде, всемогущий владыка Вселенной Олорун решил устроить на ней пристанище для людей. Он послал на планету Одудуву, который спустился с небес по железной цепи, имея при себе горсть волшебного песка и петуха. Одудува бросил в воду песок, и тут же вырос бугорок. Выпущенный петух раскидал его в разные стороны; так возникла земля. У Одудувы появилось шестнадцать сыновей, от них пошли другие люди. Сыновья стали они — правителями древних городов-государств, а на том месте, где песок попал в воду, Одудува основал Ифе, определив его в качестве «центра земли» и колыбели народности йоруба.
В легенде достоверны лишь сведения об Ифе как о древнем очаге йорубской культуры и государственности. Подтверждено это археологическими раскопками. Само же сошествие Одудувы с небес по цепи и создание земли смахивает на чистый вымысел. Местные жрецы тем не менее подогревают у йоруба веру в мифическую легенду. Не без их усилий в городе устроено место поклонения Одудуве — «праотцу» всех йоруба. И не только ему. В Ифе есть еще десятки святилищ для почитания разных богов, которых тут насчитывается 401. В городе поэтому не бывает и дня без каких-либо ритуальных шествий.
Ифе сделали известным все же не местные культовые обычаи…
Между тем шумная процессия миновала, и улица снова освободилась для движения. Вскоре мы были у небольшого одноэтажного дома на пригорке. Макети Зуру распахнул стеклянную входную дверь и широким хозяйским жестом предложил войти в дом. Переступив порог, я оказался лицом к лицу с позеленевшими от времени бронзовыми фигурами, установленными на высоких пилонах. Красота этих, таких земных и в то же время таинственно одухотворенных изваяний была неотразима, настолько велика, что я застыл на месте.
— Это наш музей древнего искусства Ифе, — сказал Макети Зуру, довольный произведенным эффектом.
Он оставил меня с Укомо Садипо, спокойным, учтивым смотрителем музея, а сам ушел по своим делам.
Музей жил своей обычной жизнью. Сюда степенно заходили стайки мальчишек и девчонок, около экспонатов теснились взрослые посетители. Я же не обращал никакого внимания на людей, целиком поглощенный рассказом Укомо Садипо. Перво-наперво он подвел меня к бронзовой голове, изображающей, если верить табличке на пилоне, бога моря и изобилия Олокуна. Сделал это Укомо Садипо не потому, как оказалось, чтобы выделить его религиозную значимость, а для того, чтобы подчеркнуть художественные достоинства скульптуры.
Бронзовое изваяние отличалось точностью реалистического воспроизведения черт лица, было проработано с такой тщательностью, что подумалось, не течет ли внутри настоящая кровь. Голову скульптуры венчала позолоченная корона с конусообразным кольцом над высоким лбом. От кольца поднимался небольшой витой штырь с грушевидным набалдашником. Овальное лицо выражало решительность и волю. Прекрасной формы нос, выпуклые, характерные для негроидной расы губы, раскосые глаза без зрачков, как в греческих скульптурах, — все доказывало высокое мастерство древнего литейщика. Положенные параллельными бороздками на лице линии татуировки, идущие сверху вниз, придавали поразительную жизненность.
Рядом с изображением Олокуна была другая, похожая на него изящная скульптура, тоже с короной и позолоченным кольцом — маска одного из древних правителей Ифе.
Не менее впечатляюще выглядела и бронзовая голова без всяких украшений. Над верхней и нижней припухшими губами были сделаны в два ряда отверстия, предназначенные, видимо, для украшения маски усами и бородой.
Рассказывая об экспонатах музея, Укомо Садипо перешел к пилону с фигурой высотой примерно сантиметров сорок пять. Отливка изображала они в полный рост в царском одеянии, держащего в полусогнутых руках символы власти — короткие рога буйвола из металла. Правда, пропорции фигуры были явно не соблюдены, что характерно для африканской скульптуры: непомерно большая голова составляла четверть всего изваяния.
От бронзовых скульптур Укомо Садипо потянул меня к терракотовым песочного цвета изделиям — различным женским и мужским головам. Они были выполнены в той же реалистической манере, что и маски из металла, — с тонким воссозданием мельчайших черт лица.
— Интересно, откуда в вашем музее такие памятники древности?
— Из наших краев! — с гордостью ответил Укомо Садипо. …Открытие бронзовых и терракотовых скульптур Ифе связано с именем немецкого этнографа Лео Фробениуса. Путешествуя по Нигерии, в 1910 году он попал в Ифе. Ученого крайне заинтересовали легенды о происхождении города, различные святилища, культовые шествия. Лео Фробениус решил заняться раскопками и сразу же, как говорится, напал на золотую жилу. В священной роще, которую йоруба считают обителью Олокуна, он обнаружил при раскопках гончарню, глазурованные черепки, тигли для плавки стекла, бусы, а на глубине пяти с половиной метров — девять терракотовых скульптур и бронзовую голову удивительной красоты.
Лео Фробениус сразу же оценил ее художественные достоинства, решив, что это не иначе, как изображение Олокуна. Археолог уже провел исследования в некоторых африканских странах, да и в самой Нигерии, и нигде не встречал ничего подобного. Бронзовая голова и терракотовые изделия свидетельствовали, несомненно, о высоком уровне древней культуры. Хотя голова Олокуна имела линии татуировки, Укомо Садипо кивнул на маску, с которой начал показывать экспонаты музея. Лео Фробениус был далек от мысли, что ее сделал чернокожий литейщик, обладавший зорким глазом и гениальным дарованием. Ученый выдвинул наделавшую много шума гипотезу, что легендарная Атлантида находилась некогда не в Средиземноморье или каком-либо другом месте, а на побережье Гвинейского залива и он наткнулся в Ифе на ее следы. Находка Лео Фробениуса оказалась не единственной. В последующие годы в разных местах Ифе было обнаружено еще немало терракотовых и бронзовых масок, ставших украшением здешнего музея. В руки ученых попали не только древние статуэтки, но и различные предметы обихода, позволившие воссоздать некоторые черты культуры и быта прежнего Ифе.
Бронзовые и терракотовые скульптуры изображают главным образом различного рода богов, правителей, членов их семей, придворных и делались, вероятнее всего, для поклонения при культовых обрядах. У всех масок негроидные черты лица, на многих имеются племенные знаки йоруба — продольные насечки на щеках. У скульптур — типично африканские пропорции: значительно увеличенная голова и укороченное туловище. Все это позволяет говорить о принадлежности древнего искусства Ифе к одной художественной школе, существовавшей, как полагают, в XII XIV веках, о чисто африканских ее истоках.
В те времена Ифе представлял собой довольно значительный город, не уступавший по размерам нынешнему, обнесенный земляным валом, перед которым с внешней стороны был ров с водой. В этой своеобразной крепости жили ткачи, мастера бронзовых дел, земледельцы, охотники, да и мало ли еще кто…
Наследник древних мастеров бронзовых дел
Мы закончили осмотр музея. Теперь было самое время спросить о бронзовом флейтисте. Я обвел зал глазами. Стоило пристально всмотреться в какую-либо литую или терракотовую статуэтку, казалось, что она будто меняет выражение, следит за тобой, порывается обратиться с речью.
Я, наверное, что-то пропустил? — Укомо Садипо перехватил мой взгляд.
Говорят, есть довольно занятная отливка — бронзовый флейтист. Надеялся у вас ее увидеть, только этим «музыкантом» тут и не пахнет. Может, в запасник уложили? Такой статуэтки не имеем ни в музее, ни в запаснике, — Укомо Садипо пожал плечами.
К нам подошел Макети Зуру.
— Чем недоволен? — спросил он без обиняков, уловив на моем лице растерянность.
Укомо Садипо пересказал наш разговор о бронзовом флейтисте.
Жаль, конечно, да что поделаешь. На примете есть еще одно место; свет не клином сошелся…
На юго-восток от Ифе лежит лесной край. Густые заросли по сторонам дороги, плантации лопушистых бананов, речки с черной водой — все это шло чередом, словно мчались мы не по прямой, а по кругу.
Машина обогнула зеленый холм, и перед нами открылся удивительный город. Он привлекал внимание не высокими изящными зданиями, не броскими рекламными щитами на тонких мачтах, которые из кожи лезли, чтобы перещеголять друг друга. Живописный колорит ему придавали приземистые, в стороне от новых построек дома с поблескивающими белыми крышами. Со склона холма они казались кусками пиленого сахара, положенными плашмя на землю длинными ровными рядами.
Я посчитал, что раз мы не пустились в объезд, все равно тут не задержимся. Так случалось во время поездки в других местах. Макети Зуру имел, однако, свои виды на этот город. На одной из площадей, выбрав место для стоянки автомашины, он повел меня к глиняной постройке. Она вытянулась метров на шестьдесят вдоль площади. На фасаде проступали размытые дождями барельефы, изображающие людей, эпизоды баталий, сцены охоты. Мы миновали узкий проем в стене, заменяющий дверь, и оказались в большом дворе. Внутри этого двора были квадратной формы глиняные дома, обрамленные открытыми галереями и окруженные невысокими стенами. По двору расхаживали важного вида мужчины в белых агбадах, перебирая на груди коралловые ожерелья. Тут же резвились двое мальчишек в трусиках, с золотыми кольцами на ногах.
Макети Зуру подошел к одному из мужчин и о чем-то попросил. Тот молча его выслушал и ушел вразвалочку. Мы на время остались предосталенными самим себе.
— А ты знаешь, где мы сейчас находимся?
— Понятия не имею, — не стал я гадать. Во дворце самого обы (царя) Бенина!
Царский дворец в моем представлении, и не только, наверное, в моем, должен иметь сказочный вид, необычную, оригинальную архитектуру, блистать богатством и великолепием. Здесь же не было никакого намека на роскошь, какой обычно окружают себя столь высокие особы.
И это ты называешь дворцом? — кивнул я не без иронии на неказистые глиняные постройки. Не один я, все так считают!
В таком случае, кто эти люди — мужчины с коралловыми ожерельями и мальчишки?
Придворные и царские дети. Раньше, конечно, здесь посолиднее все было…
Бенин входит в ряд городов, что отсчитали свое тысячелетие. Его появление относят к началу IX века. Нынешние царские палаты находятся на том самом месте, где поставил свои хоромы первый оба. Менялись времена, менялись правители, и каждый из них — вот завидное постоянство — перебирался в те же апартаменты, где жил его предшественник. Правда, царские палаты время от времени подновлялись: строители использовали кирпичи из необожженной глины, весьма восприимчивой к воздействию дождей и ветра.
Дворцовый комплекс, где жили оба с женами, жрецы и вельможи, служил центром Бенина, представлявшего собой.
по замыслам древних зодчих, единый архитектурный ансамбль. Перед дворцом была площадь, от которой в разные стороны расходились прямые широкие улицы с построенными в большом порядке глинобитными домами под пологими крышами из пальмовых ветвей. Иностранцы, посетившие Бенин в XV веке, уже тогда отмечали его четкую планировку, восхищались проспектами, каких не имели тогдашние столицы европейских стран.
Бенин был не просто городом, а столицей одного из могущественных государств Западной Африки, с довольно развитыми по тем временам земледелием, ремеслами, с обширными торговыми связями. Первым из европейцев — в 1472 году — в Бенине побывал португальский мореплаватель Рюи де Секвейра. Город стал затем своеобразными воротами в Нигерию для иноземцев, вывозивших через него пряности, слоновую кость, рабов, пальмовое масло…
Возведенный однажды в ранг столицы, Бенин так ею и остался. Теперь он главный город штата Бендел с населением около 200 тысяч человек. За последние годы тут появились кварталы новых домов, административные здания, различные промышленные предприятия. При всем этом город зримо несет на себе отпечаток древней планировки и во многом ее придерживается.
Жизнь царей Бенина проходила под покровом таинственности. У людей поддерживалась вера, что оба, дескать, имеет сверхъестественную силу. Он считал зазорным принимать пищу при подданных, дабы не разрушить у них иллюзию, что может обходиться без еды. Простые смертные могли видеть своего повелителя лишь несколько раз в году, во время церемоний, посвященных предкам, или религиозных обрядов, когда он якобы приобретал власть над потусторонними силами. В сопровождении придворных, жрецов, стражи и музыкантов оба выезжал в пышных одеждах из своей резиденции верхом на лошади. Показавшись, монарх снова надолго возвращался во дворец.
Нынешний оба уже не обладает той властью, какую имели его предшественники, нет у него и обширных владений, что были у древнего бенинского государства. Его обязанности сводятся в основном к разрешению в качестве судьи различных гражданских споров. Но, как и прежние цари, следуя традиционным канонам, он ведет затворнический образ жизни и лишь изредка выходит из дворца к жителям города в дни тех же культовых праздников.
— Какое отношение имеет все это к нашей поездке? — не вытерпел я, прервав рассказ Макети Зуру.
— Самое прямое, скоро в этом убедишься! Возвратился грузноватый придворный, которого, как оказалось, звали Нгале Агвара.
— Его величество принять вас не может. Однако показать то, о чем вы просили, разрешил. — Нгале Агвара повел нас к глиняному строению без окон в глубине двора, похожему на сарай.
Придворный распахнул дверь, прошел внутрь строения, зажег, чиркнув Спичкой, светильник на пальмовом масле — металлическую плошку с фитилем и лишь после этого зазвал нас к себе. Мы ступили за порог и словно попали в сказочную сокровищницу. На деревянных полках тускло поблескивали не прикрытые никакими предохранительными стеклянными колпаками бронзовые отливки с плешинами зеленоватого налета. Любой музей, несомненно, захотел бы стать обладателем этой коллекции старинных скульптур.
— Фотографировать не разрешается, трогать маски тоже нельзя, — предупредил Нгале Агвара. — Что надо, я объясню…
— Изящная женская головка — это изображение принцессы, — повел нас от полки к полке придворный. — На голове — типичный африканский убор высокая на конус шапочка с кисточками около ушей. Все это, разумеется, сделано из бронзы.
Две большие головы — маски царей. Одну венчает плоская плетеная шапочка, вокруг шеи коралловые бусы — рядов двадцать. На другой — шапочка островерхая; шея, как шарфом, тоже обмотана бусами.
Оба в окружении сановников (барельеф, бронза Бенина)
Рядом на бронзовом барельефе — оба с двумя сановниками в длинных одеяниях, охраняемые стражей. В правой руке царь держит короткий церемониальный меч — символ власти. На груди у обы, как и у сановников, коралловые бусы — знак отличия, благородного происхождения.
Всадник на коне — это один из вельмож, которые обычно сопровождали царя во время выезда из дворца.
Отливки леопардов хранятся тут не случайно. Животные символизируют благородство, силу и храбрость. У царей были зверинцы с ручными леопардами, они считались незаменимыми на охоте…
Бронзового флейтиста пока не было, но во мне росла уверенность, что он где-то здесь и скоро я его увижу.
Негроидные черты лица у масок, племенные насечки, непропорциональные фигуры царей на барельефах — большая голова на укороченном туловище, удивительная точность воспроизведения мельчайших деталей одежды, оружия, утвари напоминали бронзу Ифе, впечатления о которой были еще свежи в памяти. Я сказал об этом Нгале Агвара.
— Иначе и быть не может. Бенинцев бронзовому делу научил мастер из Ифе. Даже имя его известно — Игве-Ига. Литейщика что-то году в 1280-м прислали к нам по просьбе обы Огуолы…
Профессия литейщика, кузнеца — людей, умеющих обращаться с металлом, — никогда не была в Африке, как и в других местах, распространенной. В древнем Бенине бронзовых дел мастера и вовсе попали в обособленный разряд. Они жили в отведенном для них городском квартале, неподалеку от дворца обы, и работали под присмотром одного из царских вельмож — эгаево. Приемы изготовления бронзовых скульптур держались в секрете, и за их разглашение литейщики платили головой.
— А как сейчас они работают, все так же замкнуто? — я вспомнил, как Акпан Иро прикрыл бачок при моем приходе в мастерскую в Лагосе. Мне подумалось тогда, что литейщик не намерен выдавать свои тайны.
— Приемы литья ныне ни для кого не секрет. Сами в этом можете убедиться. В Бенине улица есть — Игун. Там целые династии литейщиков осели. Правда, процесс изготовления отливки — дело кропотливое, не одного дня, требует большого терпения и тонкого мастерства. Сейчас он широко известен и называется «метод потерянного воска»…
То, что я сумел понять из рассказа Нгале Агвара, в общих чертах выглядит так.
Сначала мастер лепит из глины, разумеется имея под рукой необходимые инструменты и материалы, модель задуманного или заказанного предмета. Затем несколько дней она сушится на солнце, пока не затвердеет. На эту заготовку наносится размягченный воск толщиной около сантиметра, после чего следует самая ответственная операция. Нагретым ножом литейщик выводит на воске необходимые рисунки и линии. Восковое изображение обмазывают толстым слоем глины, оставляя кое-где отверстия. Когда этот внешний слой станет сухим (снова несколько дней ожидания), заготовку нагревают и вытапливают воск. В образовавшуюся между внутренним и внешним слоями глины полость заливают расплавленный металл. Через некоторое время обе «кольчуги» разбивают и приступают к чистовой отделке маски.
При таком способе создается лишь одна скульптура. Конечно, изготовить другое подобное изделие можно, но оно будет схоже с первым лишь в общих чертах, а не в деталях, поэтому каждая маска уникальна, неповторима.
Бенинцы оказались смышлеными учениками. Они не были вольны делать то, что хотели, и все же не только научились быстро ваять портретные отливки, но и пошли дальше своего учителя: взялись за изготовление барельефов со сложными композициями.
У человека всегда была естественная потребность обозначить каким-то образом свое пребывание на Земле. В Бенине до появления миссионеров не знали письменности. Все деяния правителей хранили в своей памяти специально выделенные на то люди. Но человеческая память, как известно, ненадежна: можно что-то забыть или напутать. Бронза стала материалом для фиксации тех или иных событий. Смерть царя, коронация его преемника, победа или поражение в военном сражении, сюжеты из жизни обы, вельмож, обряды в память предков, танцы, приезд неведомых белых людей (длиннобородых европейских купцов) — все это переносилось на металл и становилось вещественным доказательством устных преданий о древнем Бенине. По бронзовым скульптурам, как по книге-летописи, можно было бы проследить его историю, многие стороны жизни.
— Однако маловата ваша коллекция, вряд ли по ней что-либо поймешь, — сказал Макети Зуру.
— Часть масок его величество подарил здешнему музею. А вообще, наша коллекция — лишь верхушка айсберга, жалкие остатки прежнего богатства, — вздохнул Нгале Агвара. — Бронзовых изделий, что имели цари Бенина, хватило бы не на один музей.
— Куда же унесло основную часть «айсберга»? — спросил я.
— Было дело…
В конце XIX века Бенин начал утрачивать свое могущество. От империи одна за другой стали отделяться и ближние, и дальние провинции. К внутренним бедам добавилась внешняя угроза. Англичане, которые к тому времени захватили немало районов в южной части Нигерии, решили сломить там последний очаг сопротивления колонизации — Бенин.
В феврале 1897 года английский экспедиционный отряд подверг осаде город. Его жители упорно защищались, но не смогли устоять перед карателями, имевшими лучшее оружие. Англичане подожгли Бенин, ворвались во дворец обы и начали грабить сокровища: сорвали со стен бронзовые барельефы, из алтарей похитили ритуальные маски усопших царей, изделия из слоновой кости… В руки колонизаторов попало более двух с половиной тысяч художественных реликвий, которые были переправлены затем в Европу. — Да еще каких! — насупился Нгале Агвара. — Один бронзовый флейтист чего стоит. На аукционе в Лондоне его продали за сто восемьдесят тысяч фунтов стерлингов… До самых последних слов Нгале Агвара во мне теплилась надежда, что еще шаг-другой — и мы наконец подойдем к полке с «музыкантом». Вот тебе и «свет не клином сошелся». Макети Зуру развел руками, вздохнул, сочувствуя мне… Все же я увидел бронзового флейтиста. Месяцев через пять Макети Зуру заехал ко мне домой. Напустив на себя таинственный вид, он предложил заглянуть в одно интересное место в Лагосе. Я согласился, и минут через десять мы вошли в… национальный музей. Это был тот и не тот музей. То же серое двухэтажное здание в парке, те же застекленные витрины. И одновременно — все иное. В экспозиционных залах полно людей, в витринах — терракотовые маски «культуры Нок», бронза Ифе, Бенина…
— Как вам удалось заполучить все эти шедевры? Ведь тут раньше ничего не было, хоть шаром покати.
— Собирали по крупицам. Кое-что раздобыли у себя: часть экспонатов из своих фондов выделили музеи Джоса и Ифе. С ними легко было договориться. Загвоздка получилась с Бенином. С них чего спросишь: все равно что кусок хлеба у нищего из рук вырывать. Решили обратиться к западным музеям. Попросили вернуть хотя бы часть бенинских масок, что были вывезены из страны. Кстати, флейтист наш нашелся.
— Разве? Я уже потерял всякую надежду его увидеть.
— Нашелся! — повторил Макети Зуру. — В Париже, в Музее человека. Как он туда попал, не знаем. Может, меценат какой подарил.
Макети Зуру протянул мне толстый каталог с закладкой, который все это время не выпускал из рук. Я раскрыл отмеченную страницу с фотографией.
Безымянный ваятель (литейщикам при дворе обы запрещалось ставить на отливке свое имя) создавал скульптуру, несомненно, в порыве вдохновения. Видимо, наскучило работать по указке эгаево. Первое, что бросилось в глаза, — это ее исключительная красота, невероятное совершенство. Выполненный в рост, бронзовый флейтист как бы сжался, однако казалось, что в нем пробуждается желание свободно вытянуться, распрямиться в пространстве. В великолепной, расшитой узорами одежде, с двумя нитками коралловых бус на шее, музыкант держал у припухших губ флейту. Волшебство изображения было настолько захватывающим, что чудилось: еще мгновение — и зал наполнится нежной мелодией.
Не без сожаления я вернул каталог Макети Зуру. — Западные музеи наотрез отказались вернуть Нигерии ее же шедевры, — продолжил он свой рассказ. — При этом стали перепевать старую песню на новый лад, дескать, нигерийцы не могли сами создать такие совершенные скульптуры. А из этого следовало, что вывезенные из Нигерии бронзовые маски ей не принадлежат и никаких прав на них мы не имеем. Тогда пошли другим путем: купили часть своих отливок на западных аукционах. Словом, наши древние изделия обрели второе рождение…
Долгое время считалось, что Нигерия развивается чуть ли не на голом месте — особенно в ходу была эта мысль на Западе — и что у нее нет своей истории, культуры, своего искусства. Бронза Бенина, попавшая в Европу, казалось бы, должна была опровергнуть это представление. Но тут же нашлись «специалисты», которые в один голос заговорили, что древние творения Бенина — совсем не дело рук талантливого нигерийского народа. «Секреты» изготовления масок заимствованы по воле случая извне, их, дескать, завезли в Африку португальцы.
Затем появились бронзовые ваяния Ифе. Они были старше изделий Бенина и могли бы расширить представление о прошлом Нигерии. И снова в Европе не захотели примириться с мыслью, что нигерийские литейщики были способны на такие свершения. Ссылались на того же Фробениуса, на его гипотезу об африканской Атлантиде. Затем искусству Ифе стали приписывать этрусское происхождение, влияние Древнего Египта, Греции, Персии, Индии. Приверженцы расистских теорий считали бронзовые изделия Ифе чьими угодно, но только не нигерийскими. Признать это — рухнула бы вся надуманная концепция об извечной отсталости Африки. Пришлось бы согласиться тогда, что в Ифе, Бенине и соседних с ними провинциях существовало искусство, значительно превосходившее по художественному уровню и мастерству искусство Европы того времени, и что именно цивилизованный Запад изничтожил его в результате опустошения Нигерии работорговлей, колониальным грабежом, разрухой и насилием.
С открытием «культуры Нок» Нигерия обрела биографию. Но опять-таки находка не получила должного признания. О ней предпочитали умалчивать, а для самого слова «Нок» не находилось места в печатных изданиях.
Нигерийские народы были ограблены не только в отношении древних шедевров. Нигерийцев лишили памяти, которая, без сомнения, помогла бы им лучше познать самих себя и лучше быть понятыми другими.
Внешний мир познакомился с древним искусством Нигерии в перевернутой последовательности: бронза Бенина — бронза Ифе — терракота Нок. Разбросанные к тому же по разным местам, творения нигерийских мастеров не давали целостного представления о многовековой истории страны. В национальном музее все стало на свои места: терракота Нок — бронза Ифе — бронза Бенина…
Страницы ранней биографии Нигерии заполнены еще не все: не найдены промежуточные звенья между «культурой Нок» и бронзой Ифе (разрыв по времени достигает тысячи лет). Но за этим дело не станет. В последние годы были обнаружены бронзовые предметы в Игбо-Укву, которые относят к IX веку, терракотовые скульптуры Ово XV века… Нигерийская земля продолжает открывать свои тайны, и новые находки, несомненно, позволят расширить представление о далеком прошлом страны.
«Марокканская кожа»
Над холмом лился чарующий наигрыш. Казалось, поблизости веселится скворец: фью-у-у, фью-у-у… Но то был не скворец (да и откуда ему взяться в Африке в эту пору, когда в наших краях еще держится сносная погода) или какая-то другая певчая птаха.
Играл пастушок, сидевший на сером валуне. Пастушок придерживал перед собой алгайту — самодельную свирель и упоенно раскачивался в такт сочиненной, видимо, самим нехитрой мелодии. Со всех сторон холм обступила саванна с островками колючего кустарника и одинокими цветущими акациями, похожими на огромные букеты ярко-красных гвоздик. Наигрыш словно растекался по зеленому склону, и в него вслушивалось все окружающее. Приостановилось у румяной щеки солнца легкое облачко. Не волнилась трава, нежная после дождей, но уже слегка подрумяненная у корней. Подняли головы большерогие степенные зебу и обычно непоседливые козы, пасшиеся на полянах по склону холма.
Чего бы проще, без всяких выкрутасов подойти к пастушку. Но я этого не делал, а крался, как охотник к распевающему во время весеннего тока тетереву.
Вспомнить охотничьи навыки вынудили меня другие встречи с нигерийскими пастухами. Собственно, и встреч-то таких, чтобы можно поговорить, не было. При моем приближении, едва завидев, пастухи прятались в буш или убегали в саванну, увлекая за собой стадо. После нескольких безуспешных попыток я догадался, что отшельники-скотоводы опасаются не лично меня, по виду обычного белого туриста, а вообще пришлого человека.
А встреча была крайне необходима…
Несколькими месяцами ранее я побывал в соседнем Того. Там, на городском рынке в Ломе, меня заманил в свою лавчонку вертлявый торговец. Африканские торговцы, насколько я их знаю, одного склада. Глаз у них наметанный, и в пестрой рыночной толкучке они безошибочно выделяют «свежего» покупателя, стараясь с профессиональной назойливой любезностью всучить ему свой товар. Не был исключением и этот средних лет хитрец, одетый в дешевый светло-серый европейский костюм. Хотя мы виделись впервые, он встретил меня чуть ли не с распростертыми объятиями, будто я был его старый знакомый.
— О мой друг! Есть очень подходящая вещь! Специально для тебя придержал, — сказал он развязно, снизойдя на полушепот.
Я решил посмотреть на товар, не столько надеясь приобрести какую-либо экзотичную вещицу, сколько таким образом отвязаться от назойливого «купца». В полутемной лавчонке, сделанной из кузова старого автофургона, разумеется, ничего «подходящего» не проглядывалось. На стенах в хаотичном беспорядке были развешаны косынки, стеклянные бусы, зонты, галстуки, на полу свалены в кучки сандалеты, ботинки, сумки.
Все же я обманулся. Торговец вытянул из-под прилавка красную сафьяновую обложку для книги средних размеров, подал мне. Мягкая кожа лоснилась, была бархатистой на ощупь, скользила меж пальцев, как шелк.
— Марокэн! — пояснил «купец» и принялся на все лады Расхваливать свой товар.
Такую же обложку, правда потускневшую от времени, мне довелось видеть в одном из этнографических музеев. Пояснительная табличка гласила: изделие из Марокко, выполнено неизвестным ремесленником в XVI веке. Кстати, по названию этой африканской страны стал именоваться сафьян самого лучшего качества — по-французски «марокэн», по-английски «мэрокоу».
В Нигерии я не встречал «мэрокоу» или, может, просто изделия из него не попадались на глаза. Возвратившись в Лагос, я не без гордости показал своим нигерийским коллегам-журналистам покупку. К моему удивлению, никто из них не проявил особого интереса к обложке, вернее, к материалу, из которого она была сделана.
— А ты уверен, что «мэрокоу» поступает именно из Марокко? — охладил мой восторг Реми Илори, круглолицый крепыш, пользующийся в местных журналистских кругах репутацией эрудита.
Что я только не говорил, что не доказывал! Марокканский сафьян уже кои века считается первостатейным в мире. Подтверждение тому я находил и у известного русского писателя Мельникова-Печерского, признанного знатока народных ремесел. Я был готов биться об заклад.
— Считай, что проспорил, — усмехнулся Реми Илори. — Выделкой «марокканской кожи» занимаются не в Марокко, а у нас в Нигерии. Я бы мог рассказать об этом подробнее, но раз ты упорствуешь… Ищи сам! Хотя… для начала наведайся при случае в наш северный штат Сокото.
…В поездку не отпускали разные неотложные дела. Все же однажды, прервав каждодневные хлопоты, я отправился в путь. Да и как было не поехать, если Эджиофор тоже говорил о «марокканской коже»?
Скот в Нигерии разводят преимущественно в северной ее части, где огромные пространства занимает саванна. В это пастбищное царство и вывела меня многокилометровая дорога.
Именно здесь следовало искать людей, имеющих прямое отношение к выделке кожи и продаже изделий из нее: пастухов, кожевников и торговцев. Я заранее рассчитал, что быстро пройду по этой цепочке. Но с первых же шагов встретил, чего никак не ожидал, непредвиденное препятствие: упорное нежелание пастухов встретиться со мной.
После нескольких таких неудачных подходов, увидев на склонах одного из холмов в полукилометре от дороги еще одно стадо, я стал пробираться к нему, путаясь в высокой саванной траве. Где-то в глубине души теплилась надежда, что, может, на этот раз попытка будет удачной.
Саванна пьянила медовым запахом трав, была наполнена треском цикад, щебетаньем птиц, но мой слух настроился лишь на мелодию алгайты. Пастушок играл упоенно, на него, видать, нашла лирическая минута. Чем меньше шагов оставалось до подростка, тем осторожнее я подбирался. Он прекращал играть, и я замирал — иногда на одной ноге — в том положении, в каком застала меня пауза. Еще с десяток метров, и можно его окликнуть. Пастушок, несомненно, на какой-то миг замешкается, и этого будет вполне достаточно, чтобы как-то успокоить его и не дать улизнуть.
Неожиданно подросток резко развернулся в мою сторону. Не иначе шестое чувство подсказало ему присутствие постороннего человека. Плавная мелодия прервалась, и пастушок взял пронзительно-резкую ноту, похожую на разбойничий свист. Тут же зебу и козы с необыкновенной прытью словно их разом хлестнули бичом — бросились в буш так, что сучья затрещали. Сам пастушок шмыгнул по другую сторону валуна, будто это был не наждачно шершавый камень, а ледяная горка. В мгновение исчезли и человек и стадо. Если бы не длинный посох, в спешке оставленный подростком у валуна, могло показаться, что тут никого не было и в помине.
Пространство вокруг камня хорошо просматривалось, и беглец, как бы того ни хотел, не мог скрыться незамеченным. Я подошел поближе, так оно и есть: пастушок, присев на корточки, уставился на меня карими глазами, безмолвно вопрошая: «Друг ты или враг? Какими ветрами занесло тебя, батуре (белый человек), в наши края?» Пристальный взгляд скользнул по моему лицу, одежде. Чувствовалось, что при одном неосторожном движении, неточном слове пастушок, как ящерица, юркнет в буш.
Обычаи предписывают нигерийским скотоводам гостеприимство, предоставление крова, помощи тому, кто об этом попросит. Отправляясь в поездку, я вызубрил, сколько мог, слов на местном диалекте, и теперь эти познания пригодились.
Санну да рана! (Добрый день!) — приветствовал я пастушка.
— Санну да рана!
— Кауво ми ни рауво? (Вода у тебя есть?) — я улыбнулся, облизнул сухие губы. Меня впрямь мучила жажда: термос, наполенный утром в придорожной ночлежке, был уже давно пуст.
Подросток привстал, но все еще молчал, насторожившись.
На первый взгляд я бы дал ему лет пятнадцать, хотя мужественность и суровость во всем облике делали его взрослее года на три-четыре. Подросток был строен, тонкие нос и губы придавали мягкость, я бы даже сказал, некоторую античность его чертам, его вытянутому, опаленному солнцем и отполированному ветрами красноватому лицу, впитавшему, казалось, цвет местной бурой земли. У глаз — сетка не по годам ранних морщин от постоянного пастушеского прищура, из-под плоской вязаной шапочки курчавились волосы, не знавшие гребешка. Гибкое, жилистое тело прикрывала до колен коричневая рига — свободная одежда, представляющая симбиоз рубашки и халата. Босые ноги, привыкшие к длинным переходам, были в ссадинах, запекшихся порезах. Передо мной, несомненно, был фульбе — представитель одной из больших народностей, обитающей в северной части Нигерии и за ее пределами. Я повторил просьбу.
Пастушок кивнул в знак согласия и, не выпуская из правой руки алгайту, зашагал к островку жирно-густой травы у подножия холма, где, видимо, бил родник…
Непохожесть фульбе на другие негроидные народы вызывала в свое время немало споров об их происхождении. Некоторые антропологи считали фульбе весьма таинственной расой, чуть ли не космическими пришельцами. Другие исследователи принимали этих людей за изгнанных Тамерланом потомков цыган, осевших в Африке предков римских легионеров, басков и даже выходцев с Малайского полуострова. Теперь уже доказано типично африканское происхождение «таинственной расы». Эта народность относится к особой этнической группе, родственной эфиопской расе. На территорию, которую занимает нынешняя Нигерия, фульбе проникли в XIII веке, перемешались с живущими здесь хаусанцами, переняв их язык, ремесла, культуру. Правда, ассимилировались в основном фульбе, осевшие в городах. А боророджи — кочевники-скотоводы — во многом сохранили патриархальный уклад и все еще придерживаются обычаев и традиций, унаследованных от предков.
…Возвратился пастушок с глиняным кувшином и подал мне:
— Гэши! (Держи!)
Я напился живительной родниковой воды, опустошив кувшин почти наполовину. Слово за слово мы разговорились. Мой новый знакомый Шеху Тамид как радушный хозяин предложил присесть на валун, за которым недавно прятался.
— А ты, видать, испугался!
— Не-е. Мы, боророджи, не любим показывать во время пастьбы свое стадо незнакомому человеку. У него, по нашим приметам, дурной глаз может быть. Не дай аллах, еще зебу и коз возьмется считать. Всему стаду тогда хана — изведется. Это вы меня врасплох малость застали — заигрался, а то бы я со своими зебу и козами такого стрекача задал… Они любому моему слову, любому жесту послушны, — сказал Шеху, судя по всему окончательно осмелев и проникшись ко мне доверием.
— Так уж и послушны!
Шеху, ни слова не говоря, отыграл на алгайте плавную мелодию. Из буша на поляну высыпали зебу и козы, начали пощипывать траву. Пронзительно-резкая нота — стадо будто ветром сдуло. Снова плавная мелодия — зебу и козы, как ни в чем не бывало, вышли на пастбище.
— Юсеф! Юсеф! — позвал Шеху.
От стада отделился серый красавец бык. Подошел к пастушку, ткнулся розовыми мокрыми губами в ладонь. Шеху погладил его по шее, наподдал шлепка. Бык гордо вскинул голову, возвратился на поляну. Подросток поочередно называл клички — зебу, козы тут же послушно, как маленькие дети, подходили к нему. Он предстал передо мной в новом качестве: оказался дрессировщиком, наделенным какой-то магической силой, и с помощью ее управлял стадом.
— Долго этому учился?
— Чему?
Я рассказал Шеху, как мог, о дрессировщиках, выступающих в цирке со своими животными.
— Э-э, у нас все иначе…
Шеху, намолчавшись в одиночестве, охотно вспоминал свою пастушескую жизнь.
У фульбе, как и других африканских народов, занимающихся скотоводством, бытует пословица: кроме семи кругов ада есть еще и восьмой, страшнее всех остальных. Этот круг — кочевье, и проходить его вынуждает суровая необходимость.
Благополучие каждой семьи полностью зависит от в общем-то небольшого стада (десять-пятнадцать зебу и несколько десятков овец и коз). Оно — единственный источник существования семейного клана и его доходов, мерило всех ценностей и взаимоотношений с внешним миром. Но стаду потребны корм и вода. Поиски их — дело непростое, если учесть, что только в Нигерии насчитывается несколько сот тысяч семей боророджи.
Кочуют они в основном в меридиональном направлении — с юга на север и с севера на юг. Эти передвижения диктуются сезонными условиями. В октябре приходит сухой сезон, и вскоре наваливается из Сахары харматтан — свирепый ветер, схожий с бухарским суховеем, но в несколько крат сильней его. Мелкой пылью, как муслином, харматтан окутывает саванну, превращая ее, подобно прожорливому огню, в унылое серое пепелище. С наступлением сухого сезона боророджи, не медля, гонят стада в долины больших рек. Но даже там скудеют в это время пастбища, и пастухам приходится совершать вокруг стойбища переходы в несколько десятков километров.
В мае июне начинается сезон дождей. Жить бы кочевникам в долинах рек да радоваться: травы и воды для скота вдоволь. Но… Чем выше поднимается трава, тем сумрачнее становятся пастухи. В раздольных лугах с быстротою саранчи начинает плодиться злейший враг человека и домашних животных — ауро — муха цеце. Ее боророджи боятся пуще харматтана, и, едва распустятся первые бутоны цветов, уходят со своими стадами в глубь саванны.
Передвигаются боророджи семьями или небольшими родственными кланами, используя для выпаса скота пастбища — те, по которым ходили со своими стадами их деды и прадеды. Да и живут скотоводы так же, как жили их предки. Прежде чем разбить руга — временное стойбище, они разводят костер и наблюдают за дымом. Если он клубится или по земле стелется, можно без опаски располагаться на новом месте; если же дым столбом уходит в небо, значит, тут обитает бори — злой дух и надо уносить отсюда подальше ноги.
Каждый раз на новом месте кочевники ставят хижины-времянки. Для этого на земле посохом очерчивается круг диаметром в пять-шесть метров, и по нему через равные промежутки втыкают тонкие жерди. Концы их, став на спину зебу, связывают в пучок веревкой или жгутом из травы, и каркас хижины готов. Стены ладят из тростника, стеблей сорго, а то и просто травы что есть под рукой; землю внутри хижины устилают шкурами, затем циновками. Вход в такое жилище всегда смотрит на закат. Боророджи твердо верят, что, будь «дверь» с другой стороны, семье не миновать болезней, а скоту падежа.
В каждой семье испокон веков существует твердое распределение обязанностей. Ее глава — старший по возрасту мужчина — занимается, так сказать, «интеллектуальной работой» — определяет маршруты перегонов скота; выясняет у окрестных жителей места, не пораженные аурой; решает, как долго оставаться на одном пастбище. Женщины ведут хозяйство, готовят пищу. Особых кулинарных навыков не требуется, ибо меню, как правило, однообразно. Из мадары — молока зебу боророджи делают ноно — творог и мэй — сыр. Эти же продукты, как и мясо (сами его боророджи едят мало, разве что в дни ритуальных праздников), а также шерсть, шкуры отвозят на ближайший к руге рынок и покупают на вырученные деньги соль, зерно, овощи, различные бытовые товары. На сыновей взвалена самая тяжелая ноша — забота о стаде (в семьях, где их нет, этим занимаются отцы).
В пастухи, точнее, в подпаски Шеху определили в семь лет — у боророджи заведено приобщать детей к труду сызмала, — и первое время он ходил за семейным стадом с отцом. Иначе и быть не могло. Это на первый взгляд пастушеское дело в Африке кажется простым. Уход за стадом — целая наука, уходящая корнями в глубь веков. Пастух обязан разбираться в пастбищах, всевозможных травах, приметах. Он должен обладать выносливостью марафонца и навыками следопыта. По едва уловимым ориентирам — складкам местности, разрозненным купам деревьев, а то и просто по солнцу — безошибочно выводить зебу и коз к водопою и хорошему выпасу.
Боророджи не делают загонов для скота: ведь стадо все время в движении, все время на ходу. За ним нужен постоянный пригляд. Прозеваешь, зебу и козы в поисках корма, особенно в сухой сезон, разбредутся — за день не соберешь. Единственный выход — установить со стадом с помощью жестов и звуковых сигналов незримую связь, подчинить, где лаской, где и посохом, зебу и коз своей воле. Целые месяцы Длится эта своеобразная дрессировка животных. Случается, пастух уводит стадо подальше от колодца или реки, а потом, зазывая его игрой на алгайте, ведет к водопою. Едва дав смочить губы, снова гонит в саванну, оттуда — опять к воде. И так — бессчетное число раз. Бывает и по-другому: пастух гоняет зебу и коз до изнеможения, потом приносит обессиленным животным охапки травы, кормит, ласково разговаривает, приучая к пониманию своей речи. Жестоко. Но эта жестокость, считают боророджи, оправдана всем укладом их суровой жизни.
Начали мы с Шеху считать, выходило, человеку, чтобы стать шофером, гораздо меньше приходится ломать голову. Права на вождение автомобиля можно получить после шестимесячного обучения на курсах шоферов. Пастушеские секреты постигаются не так быстро. Лишь через два года пребывания в подпасках отец вручил Шеху отполированный посох — своеобразный сертификат, дающий право быть пастухом.
Выбрав момент, когда Шеху приумолк, я показал ему захваченную с собой сафьяновую обложку.
Подросток раскрыл ее, как книгу:
— Видел такие! Наши маджеми — дубильщики делают.
— Ошибаешься! Марокканского ремесленника работа, есть такая страна Марокко. Потому и кожа так называется — «мэрокоу», — возразил я.
— Мне-то уж не говорите. У любого маджеми в том же Сокото — город тут неподалеку — этого «мэрокоу» сколько угодно (сам того не ведая, пастух подсказал мне очередное место поисков). И знаете, из чего ее делают? — Шеху повернулся к бушу, оперся на свой посох. — Кумба! Дадо! — позвал он.
К нам подбежали две козочки с колючками на шерсти, заблеяли, выпрашивая подачку, шаловливо затыкали своими острыми рожками в ноги пастуха.
— Вот она, «марокканская кожа»! — горделиво произнес Шеху.
Кумба и Дадо совсем не походили на наших коз средней полосы — белых, черно-пестрых. Короткая шерсть у них была бурой, словно их кунали в чан с отваром из луковичной шелухи.
— Эти замарашки? Кожа да кости!
— Пусть гак… кости. Зато кожа у наших коз не хуже, чем у носорога: хоть и тонкая, но прочная. Хороший козел стоит дороже большого биджими — быка. Козы этой породы называются… — неожиданно Шеху умолк, поднес к губам алгайту.
Саванна по-прежнему стрекотала, насвистывала, шелестела. В этой разноголосице звуков я не улавливал ничего тревожного. Шеху, наоборот, еще больше насторожился, вытягивая, как кобра, худую шею.
И тут из-за гребня холма вышли подросток с посохом, свирелью, в такой же, как у Шеху, одежде и следом за ним худощавый молодой африканец в легком потертом костюме с небольшой кожаной сумкой в правой руке.
Сосед пожаловал! — заулыбался Шеху, опустив алгайту.
Сосед Шеху — Дико, как я и предположил, тоже был пастух, а его спутник Ангулу Фари оказался важным, по местным понятиям, лицом — разъездным ветеринаром. Ангулу Фари нет еще и тридцати. Он окончил факультет животноводства университета в городе Зариа, год проработал в министерстве сельского хозяйства штата Сокото. Но дал о себе знать «зов крови» (предки Ангулу Фари были боророджи, а родители перебрались в город), и он взялся помогать кочевникам уберегать скот от болезней, неделями отмеряя десятки миль по саванне.
Из Шеху, видимо, получился хороший пастух: осмотр стада закончился быстро, а его результатами, судя по приятному разговору, остались довольны и хозяин, и ветеринар. Они подошли к валуну, где был я. Ангулу Фари присел рядом.
— Ты так и не сказал, как называются ваши козы, — напомнил я Шеху.
— Коз этой породы называют «красный сокото», — ответил за него Фари. Не иначе, пастух уже передал ему содержание нашего разговора. — Откуда они взялись, пока неизвестно. Предполагают, что привели с собой фульбе. Важно, пожалуй, другое. Порода эта прижилась в основном тут, в Северо-Западной Нигерии. Люди издавна подметили, что только выделанная кожа из «красных сокото» и только из этих мест получается самого высшего качества. Пробовали «красных сокото» разводить в соседних провинциях Нигерии и даже в других странах, где климат помягче: нет пятидесятиградусной жары, харматтана, пыльных бурь, где в достатке трава, вода. Козы прижились, расплодились, но вот кожа у них не та, с местной не идет ни в какое сравнение. Наверное, все дело в здешних условиях — сухой в общем-то климат, своеобразный травостой, наличие в траве и воде определенных микроэлементов…
Выяснив, что мне надо попасть в Сокото, Ангулу Фари попросился в попутчики: ему необходимо было побывать в министерстве. Я охотно согласился. Вдвоем веселей коротать дорогу, да и новый человек что-нибудь расскажет.
Мы проезжали километр за километром, и всюду простиралась слегка всхолмленная, пугающая своей глубиной саванна. Изредка вдали кружились одинокие акации, рощицы деревьев, казавшиеся островками в безбрежном зеленом море. В саванне паслись стада, горбились, как копны сена на лугу, хижины кочевников.
Много у вас в Нигерии «красных сокото»? — спросил я.
Порядочно! В одном только штате Сокото миллиона два, и все на попечении подростков.
Вот уж кому достается. Нелегкая ноша на слабых юношеских плечах, — сказал я, вспомнив Шеху и его соседа-пастушка.
— Слабых? Видели бы вы, как эти подростки, отнюдь не могучего сложения, с биджими управляются…
Раз в год, перед началом сухого сезона, прежде чем откочевать в долины рек, боророджи собираются родовыми кланами на свой праздник. Все, от мала до велика, наряжаются в традиционные одежды. Каждая семья не скупится — готовит мясные блюда. С утра до вечера в стойбище звучит музыка, не прекращаются танцы. На этих же праздниках парни выбирают себе невест (у кочевников-скотоводов браки разрешены только внутри своего клана). И все же главное событие гаута увасан — игры молодежи, чем-то напоминающие родео, во время которых юноши показывают свою силу и ловкость. Гаута увасан устраиваются на небольшой площадке, размером с волейбольную, ничем не огороженной. На нее выводят матерого быка с крутыми рогами, спутывают ему веревками передние и задние ноги. Концы веревок метрах в пяти-шести от зебу крепко держат мужчины, не давая ему сдвинуться с места. Затем на площадку выходит старый пастух и предлагает подросткам вступить в единоборство с быком. Смельчак, как правило, находится. Он становится перед зебу на колени в пределах досягаемости грозных рогов и начинает дразнить его щипками за ноздри. Бык, не привыкший к такому обхождению, взъяривается и пытается поддеть обидчика на рога-ятаганы. Но это не удается: пастушок, изгибая туловище во все стороны, увертывается, да и мужчины начеку — не позволяют животному передвигаться. Доведя зебу до белого каления, подросток забегает сбоку, вскакивает на шею, хватается за рога. Разом отпускаются веревки, и тут-то начинается захватывающее дух зрелище.
Бык, налитый неукротимой силой, словно дикий мустанг, бросается из стороны в сторону, неистово брыкается, вертится волчком, яростно мотает головой, стараясь сбросить седока. Он разметал бы толпу кричащих людей, обступивших со всех сторон площадку. Но гнев его и ярость направлены сейчас на дерзкого обидчика. Так проходит минут десять, и все это время пастушка, точно кузнечика на самом верху былинки, раскачиваемой сильным ветром, трясет и швыряет. Нужны колоссальное напряжение сил и чрезвычайная ловкость, чтобы справиться с беснующимся зебу.
Постепенно силы покидают быка. Почувствовав слабость биджими, подросток, используя рога, как рычаги, начинает крутить ему шею. Видимо, в это время у зебу наступает удушье или же он теряет ориентировку. Во всяком случае, движения его слабеют, и наконец под восторженные крики болельщиков он, словно обессилевший путник, опускается на землю.
Зрители расступаются, зебу, вскочив, тяжело трусит в саванну. На площадку выводят свежего быка, и в противоборство вступает новый пастух. Случается, что подросток сам оказывается сброшенным на землю. Ну, а победителем считается тот, кто быстрее других уложит быка «на лопатки».
…Сокото поразил меня обилием деревьев. Купами и в одиночку, они были всюду — на улицах, площадях, во дворах. Впрочем, как вскоре выяснилось, необычного тут ничего нет: своей северной окраиной Сокото упирается в реку.
Я хотел поскорее попасть к маджеми, но Ангулу Фари придержал меня. Жизнь Сокото во многом определяется особенностями здешнего климата. Город рано пробуждается и поздно засыпает, а в полуденные часы (мы приехали в такое время) замирает. Закрываются государственные учреждения, магазины, лавки, мастерские ремесленников: люди прячутся по домам, пережидая зной. Догадавшись, наверное, что меня не удастся сразу затащить в местный кондиционированный отель, Ангулу Фари решил показать свой город, которой в его повествовании сбросил тусклый налет обыденности.
Сокото, основанный каким-то аборигеном и унаследовавший его имя, ведет свое летосчисление с XII века. В скромной деревеньке, открытой ветрам, долгое время было десятка два круглых хижин, куда изредка наведывались кочевники для обмена своих продуктов на продукты земледелия. И все же история Сокото больше связана с именем другого человека.
После осторожной езды по лабиринту улочек, направляемый Ангулу Фари, я вывел автомашину на большой пустырь. В центре его за трехметровой стеной, выставившей в разные стороны свои четыре клинообразных угла, проглядывало круглое строение. Рядом разрослись деревья, положив ветви на плоскую крышу. Это был кубба — мавзолей, построенный над могилой Османа дан Фодио.
С именем этого человека связана одна из ярких страниц в истории Нигерии. Осман, родившийся в 1744 году, пошел по стопам отца («дан» на диалекте фульбе означает «сын», Фодио — «ученый»), который был маламом, то есть учителем, проповедником. После окончания коранической школы он настолько преуспел, что был приглашен царем Гобира, одного из государств, существовавших ранее на территории нынешней Нигерии, для воспитания своего сына Юнфы. Осман дан Фодио принадлежал к родовой верхушке фульбе, но ему не были чужды чаяния и страдания простого народа, угнетаемого феодалами. Пылкий, прямой, он публично обвинил царя в попустительстве местным правителям, непомерно обиравшим крестьян и ремесленников. Разгневанный царь, опасаясь в открытую расправиться с «возмутителем спокойствия», пустился на хитрость: пригласил его однажды якобы для беседы в одну из комнат, где в полу был сделан глубокий колодец, прикрытый ковром. Осман дан Фодио по счастливой случайности обошел ловушку. В другой раз в него стреляли, но мушкет разорвался в руках убийцы.
Осман дан Фодио не стал искушать судьбу и перебрался из Гобира в Дегел к сородичам. Здесь его застала весть о том, что царь внезапно умер и трон занял Юнфа. Осман дан Фодио направил гонца к своему недавнему ученику с письмом, в котором просил его снизойти до нужд простого народа. Как говорят в Нигерии, манговый плод недалеко падает от дерева. Юнфа оказался таким же деспотом, как и отец. Он не внял просьбе учителя, сеятеля доброты и справедливости, и решил покончить с ним, отправившись во главе своей армии к Дегелу.
Узнав об этом решении, Осман дан Фодио объявил Юнфе и другим «языческим» царям хауса джихад — священную войну. Под знамена малама, которого люди провозгласили шейхом и саркин мусулми — вождем правоверных, стали горожане, ремесленники, боророджи, недовольные феодалами. В первом же сражении легкая конница и лучники восставших разбили неповоротливую армию Юнфы, облаченную в лифиди — ватные стеганые доспехи. Осман дан Фодио оказался искусным полководцем. Один за другим его войска захватили Зарию, Кацину, Кано… В 1808 году война, длившаяся около четырех лет, закончилась полным разгромом «языческих» царей.
После окончания джихада Осман дан Фодио заложил столицу нового государства в Сокото, бывшем во время войны опорным пунктом восставших. Здесь он и жил до последнего своего дня, сочиняя поэмы.
Из разрозненных феодальных княжеств и эмиратов образовалось единое сильное государство. Гнет новых правителей не уменьшился. Но в памяти нигерийцев Осман дан Фодио сохранился как национальный герой, борец за права простых людей, и его гробница остается по-прежнему местом почитания и паломничества людей.
С захватом в начале этого столетия Нигерии англичанами Сокото утратил свое величие. Единственной достопримечательностью в нем был кубба Османа дан Фодио, да славился он еще изделиями местных кожевников и гончаров. Ныне Сокото — столица штата с таким же названием. Его население перевалило за сто тысяч человек. Здесь есть цементный завод, кожевенная и ткацкая фабрики, построены школы, больницы, кинотеатры, открыты магазины. Вечером на улицах и площадях вспыхивают гирлянды электрических огней, вызывая до сих пор восхищение стариков, помнящих времена, когда Сокото жил при коптилках и свечах.
Солнце повернуло на закат, повеяло прохладой.
— Теперь можно и к маджеми! — сказал Ангулу Фари.
Город нехотя приходил в себя после полуденного оцепенения. Раскаленные улицы были еще сонны, лишь изредка на них появлялись прохожие да проскакивали автомашины. Мы остановились под тенистым деревом.
— Вот мы и приехали! — Ангулу Фари распахнул дверцу. Если бы не стоявший в воздухе резкий, тошнотворный запах гниющих кож, квартал маджеми ничем не отличался от других кварталов Сокото. Справа тянулась глухая глинобитная ограда высотой примерно в два человеческих роста, и на первый взгляд могло показаться, что это стена одного большого жилища. Однако занквайе — тонкие, похожие на прямые слоновые бивни выступы на плоских крышах, разделяющие соро (дома), как межевые столбы, — и двери говорили о том, что перед нами отдельные строения, сомкнувшиеся друг с другом своими наружными без окон стенами.
Пригнув голову, вслед за Фари я шагнул в проход в стене, из-за которой доносился ритмичный звук, словно кто-то тер белье на стиральной доске. Мы оказались в зауре — небольшой комнате вроде прихожей. Как объяснил мой спутник, отсюда можно войти в соро только с разрешения хозяев.
Ангулу Фари громко кашлянул. Стало тихо, и к нам вышел невысокий хаусанец в фартуке, надетом прямо на обнаженное по пояс тело. Тыльной стороной правой ладони он смахнул пот, обильно выступивший на открытом, настороженном лице, вытер о фартук руки. После приветствий хозяин дома Умару Суле, немного поколебавшись, пригласил нас пройти в дом.
Слева от зауре во дворе Умару Суле устроил мастерскую по выделке кож. Вдоль стены на веревке, как белье, сохли на солнце шкуры. Неподалеку стояли две железные бочки с водой. Тут же была прилажена широкая наклонная доска — главный «станок» в дубильне маджеми. Один конец ее лежал на чурбаке высотой со стол, другой у самой земли упирался в колышек. На доске распласталась козья шкура, а к чурбаку был прислонен железный скребок с двумя деревянными рукоятками. Рядом в двух круглых ямах мокли, вспучившись, шкуры. В четырех бачках, каждый ведер на пять, хранились какие-то специи.
От зауре утоптанная дорожка вела через двор к самому дому — трем подслеповатым глиняным коробкам: в центре — жилище хозяина (по хаусанским обычаям, он располагается отдельно от семьи), справа — жены и детей, слева — хранилище для кож. Умару Суле кивнул на стоявшие у стены чурбаки (мол, располагайтесь) и стал подробно рассказывать о секретах своей профессии.
Маджеми он потомственный. Дубильщиками были его отец, дед… Правда, дед жил в городе Кано, потом перебрался в Сокото, куда боророджи свозят шкуры для продажи. В Нигерии сейчас есть кожевенные фабрики. Но по-прежнему большим спросом пользуются и изделия ремесленников. Как и в прошлом, выделка кож остается предельно простой. Однако эта простота, предупредил Умару Суле, обманчива: стоит передержать шкуры на солнце или в яме с водой, снять скребком лишний слой кожи (попробуй его замерь!) — и все пойдет насмарку. Кожа потеряет свой естественный рисунок, станет ломкой.
У маджеми отработан, если можно так сказать о его примитивной мастерской, законченный цикл. Сначала развешанные на веревке сырые шкуры прожариваются на солнце. Затем, как это ни странно, их закладывают на ночь в бочку с водой. Утром мокрые заготовки натирают с обеих сторон порошкообразной смесью из древесной золы и катси — индигоносного тропического растения и выдерживают в течение двух дней. Потом Умару Суле снимает скребком на доске ставший податливый шерстяной покров (чем он и занимался, когда мы подъехали к его дому) и тщательно промывает шкуры. На этом первичная обработка заканчивается.
Шкуры затем закладывают на сутки для дубления в яму, наполненную водным раствором стручков местной акации. Только после этого следует чистовая обработка скребком, и снова шкуры погружают в ту же яму еще на сутки. Потом следуют еще довольно деликатные операции: полоскание, сушка на солнце, натирка арахисовым маслом, многократное прополаскивание в бочке с водой. Это заключительное дубление обычно затягивается дней на десять. Остается дело за малым — придать коже нужную окраску.
По традиции африканские покупатели предпочитают красные, желтые, зеленые цвета. Такую краску Умару Суле с усердием средневекового алхимика готовит сам. В деревянную ступу он кладет кожицу от початков маиса, добавляет туда стебли растения, называемого баба (индиго), золу, толчет все тяжелым пестом до превращения в мельчайший порошок, который засыпает в яму с водой. Туда закладывает затем кожи, через два-три дня они обретают красный цвет. Убедившись, что они впитали краску, Умару Суле промывает их, поочередно натягивает на доске и постукивает деревянной колотушкой, делая тем самым кожи мягкими, эластичными. После этого сушит их в тени.
Желтую краску маджеми получает из корней кустарника куруди и хлопкового семени. Зеленую — фабричного производства — обычно покупает в магазине, однако добавляет в нее растертые хлопковые семена.
Рассказав о процессе дубления и окраски, Умару Суле подвел нас к хранилищу, предложил заглянуть внутрь: в полутемной кладовке «дозревали» на веревках, натянутых от стены к стене, выделанные кожи.
— Отвисятся, сколько надо, и на рынок? — спросил я.
— Э-э, нет! Это еще не товар. За них много не возьмешь. — Умару Суле вошел в хранилище и вынес оттуда охапку кожевенных изделий, которые бережно разложил на земле. Чего тут только не было! Красные, зеленые, желтые сумки, расшитые причудливыми орнаментами, подушки, пояса, обложки для книг, кошельки.
Умару Суле не изучал политэкономию, в чем я нисколько не сомневался, но до ее азов — готовый товар имеет большую цену, нежели сырье, — дошел собственным разумением. Научившись еще и ремеслу бадуку — кожевника (здесь он пошел дальше отца и деда, которые были только маджеми), имея лишь острый нож, набор ниток разных цветов, он ладит все те изделия, что показал. Причем, накопив партию товара, сам везет его на рынок…
Не один я теперь так делаю, а все наши ремесленники, — Умару Суле собрал свои изделия, отнес их в кладовку. Возвратился с обрезком красного сафьяна размером с носовой платок.
— Это вам! Возьмите на память. Первый раз у меня батуре в гостях.
Сафьян был свеж, как обмытый дождем лист. Под зернистой отполированной поверхностью причудливыми узорами разбегались белые паутинные прожилки.
— Мэрокоу! — в голосе Умару Суле прозвучали такие же горделивые нотки, как у пастуха Шеху Тамида.
-Как же так: козы нигерийские, маджеми тоже нигерийские, а кожа марокканская?
— Долго рассказывать, а работа стоит. Если хотите узнать досконально, езжайте в Кано. Оттуда все пошло…
Кано ба дама
На другой день после ночлега в отеле я выехал в Кано, прихватив по дороге Ангулу Фари. Мой попутчик не походил на того измученного скитальца, которого я встретил в саванне. Он был бодр, чисто выбрит, белая свежая сорочка под галстук оттеняла его овальное лицо. Ангулу Фари расправил лацканы своего коричневого с иголочки костюма, небрежно бросил на заднее сиденье автомашины легкий дорожный саквояж. В Кано ветеринара послали на региональный семинар животноводов.
На восток от Сокото саванна была такой же нетронутой, как и южнее его. Она раскинулась просторно, широко, и трудно было определить расстояние до горизонта — зыбкой черты, где сходились земля и небо. Если бы не асфальтовая дорога, автомашины, эта нигерийская сторона выглядела такой же древней, как и в далекие времена. Ангулу Фари, расслабившись, рассказывал мне о своем крае.
Мы ехали по земле хауса, одного из больших нигерийских народов, о котором до нас дошла древняя, с элементами героики легенда. Как каждое сказание, она, в устах рассказчика, меняет словесную окраску, сохраняя при всем этом свою суть.
Некогда в одном из здешних городов жила царевна Даура. Слава о ее красоте достигла далеких земель, и сыновья правителей и эмиров домогались ее руки. Но сердце царевны оставалось «закрытым на замок». Однажды перед ней предстал стройный красавец в дорогом одеянии и тоже получил отказ. Разгневавшись, а это был волшебник-оборотень, он превратился в огромного змея, который засел в единственном в городе колодце. К этому источнику змей допускал людей только раз в неделю. Много богатырей бились с чудищем, но не могли его одолеть.
Как-то у колодца остановился чужеземец Баво, приехавший свататься к Дауре. Прежде чем направиться во дворец, он решил стряхнуть дорожную пыль, напоить коня. Но тоже остался без воды. Тогда Баво вызвал змея на поединок. Бой продолжался весь день, и только под вечер Баво, изловчившись, поверг его ударом меча. Победитель пришел затем во дворец и бросил к ногам царевны голову чудища. Сердце красавицы на этот раз не устояло, и Баво стал ее мужем.
У Дауры и Баво родилось семь сыновей, которые, став взрослыми, основали названные их именами города-государства и поделили между собой обязанности. Кано и Рано, наладив изготовление и окраску тканей, объявили себя «царями индиго». Даура и Кацина вызвались быть «царями рынка». Гобир — «царь войны» взялся защищать от врагов всех своих братьев. Зегзег (Зария) — «царь рабов» добывал для них рабочую силу. Бирам обеспечивал их съестными припасами. Эти семь сыновей Дауры и Баво, утверждает легенда, стали родоначальниками всех хауса.
Как бы то ни было, эти города действительно были основаны в VIII-X веках. По легенде каждый из них имел «специализацию». В жизни все выглядело иначе. С VIII по XVII век города находились в вассальной зависимости от государств Канем, Сонгаи и Борну. Эти могучие соседи опустошали хаусанские земли, обложив население непомерной данью. С падением Сонгаи среди хаусанских городов началась междоусобица, борьба за власть. Долгое время шли распри между Кано и Кациной, закончившиеся победой «царя индиго».
Джихад, поднятый Османом дан Фодио, привел к созданию сильного феодального государства, на которое нападать уже никто не осмеливался. Однако сила сломила силу: в начале XX века султанат, залив кровью, захватили английские колониальные войска. Затем здесь была образована так называемая Северная область, поделенная впоследствии на несколько штатов.
Теперь край пребывает в XX веке. Но время оказалось не властно над сохранившимся почти неизменным укладом жизни людей. У хауса, пожалуй, больше, чем у других народов Тропической Африки, наблюдается четко выраженная сословная чересполосица. Человек едва появляется на свет, а ему уже начертан жизненный путь. Родился в семье простолюдина — его сразу же причисляют к униженной касте бедняков талакава, назначение которых заниматься физическим трудом, быть в подчинении у феодалов. Родился человек в семье эмира — быть ему богатым, сильным господином. По традиционным божественно-мистическим канонам хауса, потомки сарки (эмира и ему подобных) никогда не станут такалава, они обладают такой же властью, как и он сам. Исключительность положения пронизывает быт, одежду, поведение эмиров…
Между тем в саванне появились островки обработанной земли: мы въехали в земледельческий пояс. Вдоль дороги замелькали крошечные поля с арахисом, стеблями и листьями похожим на наш клевер, стройным и таким же густым, как подлесок, маисом, сахарным тростником.
Ангулу Фари попросил остановиться у небольшого поля, по закрайке которого тянулся прогон для скота, обсаженный с двух сторон колючими кактусами. Мы вышли из автомашины. На поле торчали редкие кустики с распустившимися коробочками ослепительно белого хлопка. Между рядками ходили пять босых худеньких женщин в легких платьицах. На левом боку по самодельной торбе — цветастый платок, перевязанный через правое плечо и за пояс.
Женщины неторопливо сщипывали белые пушистые шарики, набивали ими торбы и сносили собранный хлопок в кучу рядом с дорогой. Здесь и завязался наш разговор. Ангулу Фари расспрашивал женщин, не проходили ли тут со своими стадами боророджи. Мне же хотелось узнать о житье-бытье сборщиц хлопка.
Каждой из них нет еще и двадцати пяти, есть семья, дети. От деревенской общины имеют наделы, но они малы. Участки побольше не под силу обрабатывать мотыгой, донимает еще засуха. Чтобы как-то свести концы с концами, подались в кабалу к местному эмиру — работают на его землях.
Неслышно подкатил широкий «кадиллак» с флажком на радиаторе, остановился неподалеку от нашей автомашины. Увидев «кадиллак», женщины быстро разошлись по полю, начали проворно собирать хлопок. Мне подумалось, что пожаловал какой-то посол — любитель «ознакомительных поездок» по стране.
Передние дверцы лимузина распахнулись. Из одной пулей выскочил щофер, из другой — в синем европейском костюме служитель с какой-то матерчатой трубкой под мышкой. Оба стали по бокам задней левой дверцы. Шофер открыл ее плавным движением. Из «кадиллака» высунулся мужчина с гофрированным подбородком. Служитель, подав руку, помог ему выйти из автомашины. Мужчина был средних лет, невысок, толстоват. С плеч свободно ниспадала белая агбада, расшитая узорами, на голове пышный роуни — тюрбан. Солнце еще не достигло зенита, было не жарко, в общем-то терпимо. Служитель поднял вертикально матерчатый рулон, щелкнул запор, и над головой толстяка раскрылся зонт чуть ли не с парашют.
Женщины, искоса наблюдая за этой церемонией, с возгласами «заки!» «заки» («господин!») бухнулись на колени, склонили до земли головы.
— Эмир пожаловал! — Ангулу Фари отвернулся, носком ботинка стал всковыривать придорожную траву.
Сарки, не отходя от «кадиллака», осмотрел поле, не удостоив взгляда сборщиц хлопка. Дал какие-то указания служителю. Затем эмира с почестями усадили в лимузин…
В Северной Нигерии, объяснил по дороге Ангулу Фари, проживает около пятидесяти эмиров. Тридцать из них, наиболее могущественные и влиятельные, — особы «первого класса». На самом верху этой пирамиды стоит эмир Сокото Абубакар III, генеалогическое древо которого ведется от Османа дан Фодио. В представлении простых нигерийцев эти люди — потомки аллаха, олицетворение его божественной силы, и к ним нужно, как повелевает Коран, относиться с уважением, оказывать подобающие их высокому сану почести. Нынешние эмиры, как и их предки, живут безбедно: имеют дворцы, гаремы, сохранили за собой значительную часть земель, занимают большие должности в правительственных учреждениях, назначаются послами. Рядом с сарки жиреют визири, военачальники, секретари, евнухи, «хранители уздечки коня эмира», «главные коневоды», «смотрители крыши старшей жены эмира» и другие придворные трутни. Единственная обязанность обладателей этих должностей — регулярно получать жалованье. Чем не синекура?
Это пирамиды не египетские, а нигерийские — из арахиса
О богатствах сарки ходят легенды. И все же они меркнут в сравнении с тугой мошной аттаджирай — местных воротил, представителей народившейся буржуазии.
Несколько веков назад в Кано, куда лежал наш путь, время от времени на площадь перед дворцом эмира выезжал на белом верблюде фанфарист и начинал трубить в какаки — длинную серебряную трубу. Он извещал жителей города о приходе очередного торгового каравана. Сейчас караваны в Кано не ходят, но обычай сохранился. Теперь фанфарист играет в местном международном аэропорту во время прибытия в Нигерию важных иностранных гостей.
Встречал он как-то, к удивлению многих людей, и грузовой лайнер. Когда самолет приземлился и подрулил к зданию аэровокзала, из небольшого салона для пассажиров спустился по трапу лишь один человек — местный бизнесмен. Затем из грузового отсека выкатили блестящий «роллс-ройс». Таможенники заломили за автомобиль неслыханную пошлину — семьдесят пять тысяч долларов! Бизнесмен, глазом не моргнув, уплатил эту сумму наличными.
Большой город, еще и не на виду, дает знать о себе заранее. На дороге стало больше автомашин — легковых и грузовых, велосипедистов, всадников на рвущих поводья горячих скакунах. По обочинам навстречу нам и попутно шли люди, тащились повозки с мешками, связками сахарного тростника, лениво переступали тонкими ножками ослики, едва приметные из-под навьюченных на них тюков с хлопком.
Этот движущийся поток вынес нас в город.
У первого газетного киоска Ангулу Фари попросил остановиться. Вернулся с буклетом «Путеводитель по Кано».
— Теперь эта книжица будет твоим гидом! — сказал мой попутчик, прощаясь.
Мое знакомство с Кано началось у Кофар мата (ворота женщин) — высокого прямоугольного проема в толстой стене. Когда-то эта стена была гладкой, неприступной, но потом во многих местах обвалилась, обнажив под обмазкой чури — кладку бурых кирпичей. Мне нужен был старый Рынок, и прежде чем отправиться на его поиски, я решил осмотреться. Карабкаясь с уступа на уступ, я поднялся на полуразрушенную стену неподалеку от ворот. Отсюда, как с крыши пятиэтажного дома, передо мной предстал Кано ба дама (Несравненный Кано).
Окраины города едва угадывались. Все же можно было определить, что очертаниями он схож с огромной бабочкой, распластавшей на земле вправо и влево от меня, если стать лицом на север, крылья неимоверной окраски. Справа зеленел пустырь, который параллельно стене пересекала железнодорожная ветка. Неподалеку от нее серебрилась в траве речушка Гогау. А дальше на пустырь надвигался новый Кано: большие дома, школы, колледжи, отели, здания с рекламными щитами на крышах — конторы компаний, банков. Уставилась в небо ажурная вышка радиотелецентра. У окраин дымили трубы заводов и фабрик. Новый Кано слегка чадил, скрежетал тормозами, ревел моторами…
Слева взору открылся совершенно иной Кано — тихий, словно заснувший. Такие же, как в Сокото, приземистые дома из красно-коричневой глины слепились в разделенные кривыми улочками хаотично расположенные кварталы. Вблизи строения четко выделялись, а уже к окраинам сливались в бесформенное нагромождение коробок. Крыши некоторых домов сияли свежей побелкой и походили на простыни, разостланные для сушки. Километрах в двух на северо-запад над домами выступал круглый, с плоской вершиной холм Далла. Южнее его, на краю большой площади сияла во всем своем великолепии сложенная из белого камня мечеть со сферическим куполом, закинув в облака два минарета.
Легенда о «семи хауса» — легендой, а у города есть своя история. Если верить одному из сказаний, почерпнутому из путеводителя, своим рождением он обязан кузнецу Кано, который нашел на склонах холма Далла железную руду и поставил рядом с ним свою мастерскую. Точный отсчет своего возраста город ведет с 999 года, когда его царем стал Багауда. Желая себя увековечить, он собрал при дворе людей, копивших сведения о его правлении. Эти и другие устные рассказы, тщательно сохранявшие всю официальную информацию и передаваемые от поколения к поколению, с распространением здесь в XVII веке арабской письменности вошли в дошедшие до нас хроники хауса.
Город рос не по дням, а по часам. К середине XII века он уже был настолько известен, что арабский географ и путешественник Идриси, живший в то время, отметил его на своей знаменитой карте, сделанной в виде серебряного плоскошария, где был изображен «весь мир» — от Индии до Исландии, от Нубии до Финляндии. В XV веке при царе Мухаммаду Рамфе для защиты от врагов Кано опоясала двадцатикилометровая стена с тринадцатью воротами, зорко охранявшимися днем и ночью. Иноземец мог войти в город, лишь уплатив главному стражнику сто ракушек каури, заменявших тогда деньги.
Со временем Кано стало тесно в каменном мешке, и он выбрался за ограду в саванну.
Между старым и новым городом, который вырос за последние десятилетия и который насчитывает уже около миллиона жителей, — около километра. Но их разделяют еще и века.
Я спустился со стены и пошел к тому месту, что сделало неприметное поселение знаменитым Кано, способствовало его росту и расцвету, — рынку Курми.
Ступив в старый город, я шагнул, словно перенесенный фантастической «машиной времени», в прошлое.
Большая площадь неподалеку от Кофар мата, а ее предстояло пересечь прежде всего, была в круглых карофи — красильных ямах, наполненных темной жидкостью. Вырытые хаотично, где попало, они стояли поперек пути, никак не давали идти прямо. Около ям сидели полуобнаженные хаусанцы. Это были знаменитые красильщики, наследники тех ремесленников, которые снискали в свое время Кано репутацию «царя индиго». Одни красильщики, не торопясь, опускали в ямы куски сухой белой ткани, сотканной вручную из хлопкового волокна, и бамбуковыми палками размешивали раствор. Другие такими же плавными движениями, не напрягая рук, вытаскивали из своих ям окрашенную материю. Рядом лежали плетенные из прутьев колпаки-корзины; на ночь ими накрывают красильные ямы, чтобы туда не попадали мусор и песок, а днем на них сушат ткани.
«Красильный цех» в Кано
На краю «красильного цеха» удалось познакомиться с одним из ремесленников, худым старцем в легком без рукавов халате, забрызганном синей краской.
— Глубокая? — спросил я, кивнув на карофи. Фарба Букар привстал, вытянул над головой руку.
— Метра три! Такой дед ее выкопал, такой мне от отца Досталась. Тут все они по наследию…
Сооружение карофи требует определенного мастерства и сноровки. Ее стараются сделать круглой, достаточно глубокой. Стены, чтобы раствор не просачивался в грунт, обмазывают мешаниной из золы, коровьего навоза, листьев и конского волоса. Ткань обычно выдерживается в карофи дней семь. После крашения ремесленники ведрами вычерпывают раствор, осматривают яму, заделывают трещины, если они появились.
В Нигерии немало текстильных фабрик, и все же столь мощных конкурентов красильщики не опасаются. Ткань их бедна по расцветке и рисунку — обычно она черная или синяя. Но имеет свойства, какие не могут придать материи современные текстильные производства, использующие химические красители. До полного обветшания она не выгорает на солнце, не линяет при стирке и от тропических ливней. Ткань в Кано охотно покупают боророджи, обитатели пустыни — туареги, люди со скромным достатком.
Краску ремесленники извлекают из известных только им индигоносных растений и строго хранят секреты ее приготовления, передаваемые от поколения к поколению.
— Мы еще за себя постоим! — сказал Фарба Букар, приступая к работе…
Вблизи старый Кано не был таким тихим и сонным, каким казался со стены. На пути встречались группами и в одиночку его жители, закутанные с головы до пят в длинные одежды. По улочкам медленно двигались одноосные повозки с поклажей, и погонщики зычно покрикивали на осликов и верблюдов. Босоногие мальчишки играли в футбол, не обращая никакого внимания на прохожих и не думая о том, что могут угодить под колеса повозок или под копыта верблюдов. Кое-где в соро урчали кондиционеры, гремели радиоприемники, магнитофоны. Новое соседствовало тут со старым.
Старый Кано
Некоторые улочки были настолько узки, что приходилось прижиматься к стене, когда навстречу попадались три идущих рядом горожанина. Эти улочки-туннели и вывели меня к рынку. Он расположился почти в центре старого Кано и отхватил у него, если верить путеводителю, более пятидесяти гектаров. На хауса курми означает «чащоба», «заросли». Неизвестный человек, первым назвавший так рынок, тонко подметил его сходство по размеру и плотности с лесными дебрями.
Как и на опушке, где редки еще деревья и где едва пробивается молодая поросль, здесь вначале можно свободно, не боясь затеряться, лавировать меж одиночных лавок, соломенных циновок, на которых разложены початки маиса, кучки орехов кола, арахиса, жгучего красного перца, разная снедь. От «опушки», будто просеки, в разные стороны протянулись, образуя сплошные ряды, лавки с сувенирами — масками из красного и черного дерева, калебасами, луками и стрелами, дротиками, гарпунами, чучелами зверюшек и птиц, кожаными амулетами, пятнистыми шкурами питонов, леопардов, диких кошек.
В «салоне красоты»
За сувенирными рядами, привлекательными более всего для иностранных туристов, потянулись улочки портных. Накручивая ручки швейных машинок, выставленных у входа в мастерские, эти мастера индпошива, которым люди, как сказал поэт, «обязаны половиной всех красот», могут в считанные минуты облачить человека, стоит ему пожелать, в новую одежду. Расшить цветными шелковыми нитками его халат, рубашку или тюрбан, а то и просто наложить латку на поношенный костюм.
Позади портновских рядов было уже не так вольготно. Тут приходилось ступать с оглядкой на каждом шагу. Рыночные проходы сузились, «магазины» из ржавого железа бок о бок соседствовали со строениями из стеблей сорго, маиса, навесами, крытыми тростником или пальмовыми листьями. Проходы пересекались, заводили в тупик, образовав гигантский лабиринт, где не мудрено и заблудиться. И всюду были сделанные на скорую руку примитивные лавчонки. В этих лавках, не имеющих никаких удобств, их владельцы принимают покупателей, здесь и живут — проводят дни, недели, всю жизнь…
Бедный интерьер таких «магазинов» никак не вязался с обилием и разнообразием товаров, выставленных в них. В лавках, попадавшихся на пути, распевали на разные голоса транзисторы и магнитофоны последних моделей, неслышно перескакивали цифры на электронных часах, радугой отливали вазы и фужеры, поблескивали никелем велосипеды, швейные машинки. Что ни «магазин» — новые товары. Как портьеры, свешивались ткани неимоверной расцветки, плотной стопкой лежали одеяла, просились в руки эмалированные кастрюли и миски. В некоторых лавках были лишь изделия местных ремесленников — седла, попоны, уздечки, кожаные сумки, циновки, огромные блюла и подносы, покрытые затейливым орнаментом. У рядов с жареной и сушеной рыбой, орехами кола, помидорами, перцем, бананами и ананасами устоялся вызывающий слюну сладковато-терпкий запах.
Это был огромнейший под открытым небом универсальный магазин, и здесь можно купить любую вещь — от швейной иголки до телевизора или мотоцикла.
За последние годы в новом Кано появился свой рынок с добротными магазинами, где и просторней, и лучше сервис. Но по-прежнему, как и ранее, бурлит Курми, притягивает к себе людей. Одновременно тут, утверждает путеводитель, собирается до пятидесяти тысяч покупателей. Этому нельзя не верить.
Рынки и базары приводят людей в восторг, в возбуждение. Поддавшись общему настроению, посетители Курми суетились, торговались до хрипоты, перехватывали друг у друга вещицу, не стоящую и гроша. В некоторых кварталах людская толчея подхватывала и несла меня, как быстрый речной поток, бросала из стороны в сторону. Эстрадная музыка, грохот тамтамов, зазывные возгласы торговцев, шумный говор покупателей, в котором, наверное, слились все языки Европы, Африки и Азии, рождали неимоверный рыночный шум.
Пока я не подходил к лавкам и не присматривался к товарам, на меня не обращали внимания. Стоило задержаться у одного из «магазинов», как я оказался в окружении рыночных постояльцев. Мне стали навязывать разные безделушки, «патентованное средство от любых болезней» — истолченную в порошок кожу крокодила, а бородач — настойчиво предлагать составленный за умеренную плату гороскоп… В другой раз я, наверное, застрял бы тут надолго и обошел все рыночные закоулки. Но сейчас мне нужно было другое.
После недолгих расспросов и поисков я выбрался к западной окраине Курми. Рыночный гомон сюда едва доходил, казался размеренным, монотонным. На автомобильной стоянке притихли грузовики, автофургоны, легковые автомашины. Рядом с этим колесным транспортом на вытоптанной, без единой травинки площадке расположились погонщики со своими поджарыми дромадерами — одногорбыми верблюдами. Около них лежали набитые товаром кожаные мешки. Погонщики — молодые и седовласые хаусанцы в синих и белых халатах — не торопились нести свою поклажу на рынок, кого-то поджидали. Люди они оказались приветливые, словоохотливые.
Как у ремесленников — мастеров по выделке кож и тканей — профессия у них наследственная. Сидя по-турецки на земле, они с сожалением говорили о том, что надобность в погонщиках и верблюжьем транспорте отпадает и что им уже не оказывают того почета и уважения, какими пользовались их деды…
Хотя Кано и не было написано на роду стать торговым центром, он им все же стал. Кузнецы, оружейники, ткачи, красильщики тканей, портные, осевшие в самом городе и его ближайших окрестностях, образовали мощный клан ремесленников, отточивших за многие поколения свое мастерство до совершенства. Артистически сработанные ими вещи превосходили изделия ремесленников других нигерийских городов, а Курми, куда их свозили на распродажу, превратился в притягательный центр и для обычных покупателей, и для оптовых торговцев. Словом, стал осью, вокруг которой закручивалась деловая жизнь Кано и прилегающих селений.
Со временем на рынке появился избыток товаров, и местные предприимчивые купцы начали торить дороги в другие края и земли. От пилигримов и арабских путешественников до хаусанцев доходили вести о богатых городах Средиземноморья. Тогда не знали морского пути в обход западного побережья Африки. Единственная дорога в средиземноморские города лежала прежде через Сахару. Первый караван из Кано пробился туда через пески в начале XIII века. Некоторое время торговля с арабскими государствами велась ни шатко ни валко. Но уже в конце XV столетия правивший в то время король Мухаммаду Рамфа, осознав важность для хаусанцев общения с другими народами, наладил регулярные торговые контакты со средиземноморскими городами.
Испытанным, проверенным транспортным средством считались тогда верблюды. Только дромадерам, неприхотливым, выносливым животным по силам были изнурительные переходы через раскаленную пустыню.
Мои собеседники набрали палочек, камешков, построили на земле карту.
— Вот это Кано, — указал на кругляш один из погонщиков. — Севернее — Агадес, влево от него и выше — Инсалах. От этого города прямой путь в марокканские оазисы Дра и Тафилалет. От Агадеса, если пойти вправо, тропа ведет в Чат, далее — в Мурзук, потом в Триполи.
Погонщики не бравировали. Караванные тропы через Сахару, судя по их рассказам, им так же хорошо знакомы, как москвичам — Арбат, а ленинградцам — Невский проспект.
Когда-то Сахару сравнивали с океаном, «берегами» которого были страны Магриба на севере и Сахеля на юге, а торговые города — «портами». В VIII-XVI веках по своему значению и протяженности транссахарский торговый путь конкурировал с «шелковым трактом» через Европу и Азию, а несколько позже и с трансатлантической торговой артерией, соединившей Европу и Америку.
Долго, очень долго — шесть-семь месяцев — шли караваны по Сахаре. Нестерпимый зной, постоянная жажда, пыльные ураганы, отсутствие каких-либо ориентиров делали каждое путешествие неимоверно тяжелым и опасным. Караван вел, как правило, самый опытный из погонщиков. От него во многом зависело, дойдут ли купцы со своим товаром до цели или погибнут в пути. Он должен был находить тропу по солнцу и звездам, определять характер песчаных дюн, где каждый неосторожный шаг мог привести к гибели человека или навьюченных верблюдов: зыбучие пески засасывают, как топкое болото.
С трудом добирались хаусанские купцы до Тафилалета или Дра, где их перехватывали местные перекупщики. Обессиленные, изнуренные долгим «плаванием» хаусанцы особо не торговались, хотя и знали, что свой товар, прежде всего изделия из сафьяна, они могли бы продать с большей выгодой в Фесе или Маракеше. Перекупщикам это было на руку. Из Тафилалета и Дра они везли нигерийский сафьян к морю — в портовые города, оттуда он расходился по всему свету, но уже под другим названием — «марокэн»…
— Сейчас дошли бы до Марокко? — спросил я.
— Сходили бы, чего тут особенного! — твердо ответил пожилой хаусанец. — Да не стоит. Конкурентов у нас много…
К погонщикам подъехал крытый грузовик. Они разом прервали разговор, засуетились, развязывая мешки.
Из кабины выбрался холеный хаусанец, расправил добротный серый костюм. Закурил, щелкнув золотой зажигалкой. Это был местный бизнесмен.
Погонщики стали наперебой предлагать привезенные ими от маджеми изделия из «марокканской кожи». Купля-продажа закончилась быстро. Пока два проворных помощника бизнесмена укладывали товар в грузовик, я разговорился с ним.
У Алекана Шира дело поставлено на широкую ногу. Во многих крупных городах Западной Африки у него есть компаньоны, которым он поставляет из Кано «мэрокоу» на рейсовых самолетах. Накладно? Нисколько! Товар из «мэрокоу» в рекламе не нуждается, его с руками рвут, платят большие деньги…
Вернувшись в Лагос, я встретился с Реми Илори.
— Ты вроде собирался спорить, — сказал он, прищурившись.
Я молча показал Реми Илори сувенир — кусок «мэрокоу», тот, что дал мне в Сокото маджеми Умару Суле.
Сверкающее сердце «Гирин герен»
С наступлением темноты вдоль Марины — набережной улицы Лагоса зажигаются прямоугольные фонари, на серых глыбах небоскребов вспыхивают разноцветные огни неоновой рекламы. Ритм жизни города в это время меняется. Люди уже не спешат по-дневному, а прогуливаются, рассматривая ярко освещенные витрины магазинов, или любуются гаванью, откуда налетает свежий бриз.
Было время, когда Марина, как и вся нигерийская столица, не знала электричества и с заходом солнца погружалась в темноту, становилась безлюдной. Однажды по Лагосу растеклась новость: в трехэтажном белокаменном доме на Марине, где жил английский генерал-губернатор, вспыхнет невиданный свет. Нигерийцы, до этого обходившие стороной резиденцию колониального правителя, не выдержали, снедаемые любопытством, поддались искушению. Перед домом и в ближайших переулках кокосу негде было упасть.
В назначенный сумеречный час в здании неподалеку от резиденции, словно тамтам, застучал движок. И диво! Тьма раздвинулась: в доме и над зеленым, подстриженным под бобрик газоном зажглись стеклянные пузыри — электрические лампочки.
По случаю столь важного события правитель произнес спич. Смысл выспренней речи сводился к тому, что 1896 год, когда в Нигерии появилось электричество, навсегда войдет в ее историю: новый свет принесет нигерийцам «благоденствие и процветание».
Затем лагосцам разрешили осмотреть электростанцию. В кирпичном здании пыхтела немыслимого вида машина Она уперлась массивными, как у слона, чугунными ногами в кафельный пол, скрывающий фундамент, и была оплетена желтыми латунными трубками. Пояснения давал белобрысый англичанин-механик. Электрический ток образуется вот в этом бочонке — генераторе. Его крутит работающий на мазуте двигатель внутреннего сгорания мощностью в сто лошадиных сил.
Показ был недолгим. Генерал-губернатор, желая отметить «историческое событие», устраивал прием, и чернь попросили удалиться.
У колониальных властей имелось предостаточно времени, чтобы подкрепить свое обещание о «благоденствии и процветании» нигерийцев делами. Но этого не последовало. Электростанция подавала ток лишь в резиденцию английского правителя и в дома колониальных чиновников, а трудовая Нигерия еще немало лет прозябала при свечах и коптилках на пальмовом масле.
Об этой электростанции, которую можно увидеть теперь только на фотографиях (со временем она была списана по старости), я вспомнил на плотине Каинджи ГЭС, остановившей вольный бег Нигера в среднем течении. На торце гуляет ветер, парусит одежду. По одну сторону бетонный откос круто, как горное ущелье, уходит вниз к отделанному светлой керамикой зданию электростанции. По другую — метрах в двухстах от него, у левого края плотины, если стать лицом по течению реки, — из-под четырех ворот-створов с ревом вырываются потоки воды. Название «Каинджи» электростанция получила от скалистого острова. Северная его часть ушла под воду, на южной врос машинный зал. В гиды мне определили Суле Когуна, подвижного худощавого инженера-электрика средних лет. Он выпускник одного из национальных университетов. Работает тут вместе с другими 120 нигерийскими инженерами и техниками, прошедшими курсы электриков, уже несколько лет. Суле Когуна стоит на «замерах»: под его присмотром пульты с десятками различных приборов, помогающих следить за работой гидроузла. Мой гид рассказывал о Каинджи, и я мысленно сопоставлял два сооружения — то, что было когда-то на Марине, и это, действующее на реке Нигер. Лагосская электростанция явно уступала Каинджи ГЭС. Не только потому, что она была карликовой, а эта — гигант по сравнению с ней. Разница по существу в другом — предназначении…
На площадку перед машинным залом вышел кто-то из операторов, стал призывно махать. Суле Когуна оставил меня на время одного.
По другую сторону на плотину лениво накатывался укрощенный Нигер. Вдали, за черными точками — лодками рыбаков, синяя гладь неуловимо для глаза переходила в небесную лазурь: водохранилище разлилось километров на двадцать в ширину и более ста — в длину.
Я перебирал факты, вычитанные в разное время из книг. На Нигере каждое место напоминает о каком-либо событии…
До берега еще далеко (на озере Чад)
В полусотне километров от электростанции воды искусственного моря навсегда поглотили небольшой город Буса. Легенда толкует, что несколько столетий назад к правому берегу Нигера после долгих скитаний вышел пилигрим Уору. Там он произнес слово мабуса, что на диалекте его племени означало: «Я устал и нуждаюсь в отдыхе». Уору построил жилище, а со временем там возник городок, названный для краткости Буса.
О Бусе, наверное, никто бы не упоминал. Но городку суждено было обрести историческую известность: он стал местом, где сошлись пути-дороги людей, стремившихся разгадать тайну Нигера.
Это сейчас известно, что река, называемая у истока Джолибой, берет начало на склонах Леоно-Либерийской возвышенности. Оттуда она течет на северо-восток, от Тимбукту делает поворот на восток и затем скатывается в юго-восточном направлении. На географической карте Африки Нигер очертаниями напоминает гору. Сравнение с горой не случайно. Проследить весь его путь было так же сложно и трудно, как покорить какой-либо заоблачный пик.
Одна из великих рек Африки оставалась «белым пятном» на ее картах вплоть до начала XIX века. Ранее от негоциантов и некоторых европейских путешественников доходили сведения, что южнее Сахары есть большая река. В конце XV века от португальских купцов стало известно об устье какой-то реки, которое они обследовали. Позднее разыскали исток. Но никто не мог предположить, что два отстоящих на многие тысячи километров друг от друга места — начало и конец Нигера, ни, тем более, — соединить их в единую водную систему.
Отдельные смельчаки пробовали достичь таинственной реки от западного побережья Африки, а также из Египта. Попытки ни к чему не привели, а некоторые из них, как тогда говорили, «пали жертвами климата».
Дождь, по народным приметам, — к удаче. В такой день, 20 июля 1785 года с купеческого судна «Индевэр», в устье реки Гамбия высадился на берег высокий человек — 24-летний шотландский врач Мунго Парк. Он уже наведывался на Суматру, где получил представление о пребывании в тропиках. На сей раз Мунго Парк вынашивал честолюбивый замысел: хотел разгадать тайну Нигера. Пять месяцев он безвылазно жил на одной из английских факторий, изучая язык племени мандинго. Затем с африканцем, который согласился быть проводником, направился от устья Гамбии в глубь континента в северо-восточном направлении.
После тяжелых скитаний шотландец вышел у города Сегу к плесу мощной реки. Дословно я его запись в дневнике не помню, но она выглядит примерно так: «К моей безграничной радости я увидел наконец главную цель своего дерзания — долго искомый Нигер, который, будучи таким же широким, как Темза у Вестминстера, спокойно нес воды на восток». Мунго Парк определил лишь направление Нигера у Сегу. Добраться до устья он не осмелился: валила с ног лихорадка, отнимая последние силы, от одежды остались одни лохмотья…
Второе путешествие Мунго Парка на Нигер через десять лет совсем не походило на первое. Экспедиция имела все необходимое: английские власти, осознав важность исследования реки и глубинных районов континента для экономических интересов своей страны, взяли на себя ее финансирование. Мунго Парка к тому же охраняли 35 солдат-европейцев. С большими трудностями отряд достиг Бамако. Там путешественники построили небольшую шхуну «Джолиба» и на ней двинулись по течению Нигера.
Плавание сопровождал аккомпанемент тамтамов. Не прошла шхуна и нескольких миль, как забухали эти сигнальные барабаны. Казалось, стучат не они, а бьются, пульсируют на берегу в унисон сердца всех африканцев. От селения к селению тамтамы сообщали тревожную весть: по реке Плывет «бешеный белый».
Мунго Парк не стремился заводить дружбу с жителями приречья. Не думал он и обменивать какие-либо свои товары на местные продукты питания, а забирал их силой. При малейшем недовольстве африканцев солдаты начинали стрелять в них из ружей, демонстрируя силу европейского «цивилизованного человека».
Жестокими поступками Мунго Парк предопределил свою судьбу. Чем ниже по течению сплавлялось судно, тем сильней от стычек с африканцами, которые стали мстить за смерть соплеменников, редел его экипаж. От Бамако, преодолев более двух тысяч километров, «Джолиба» вышла к Бусе. Мунго Парк подробно описал этот участок реки и наказал одному из матросов шхуны несколькими днями раньше доставить дневники и письма в Лондон. Река, отличавшаяся необузданным нравом у Бусы, где было немало порогов, кипела, подводные скалы рвали потоки воды, закручивали в буруны.
«Джолибу» заметили, на берегу всполошились люди. Кричали, что впереди опасность — пороги, что через них не пройти, единственный путь — обход по суше. К тому времени на судне осталось шесть человек — Мунго Парк и пять солдат. Путешественники, не питавшие добрых чувств к африканцам, видимо, ждали такого же враждебного отношения к себе с их стороны и приняли крики и жесты встревоженных людей за угрозы. Бравируя, они направили «Джолибу» к порогам. Судно ударилось о подводную скалу, повалилось на бок, стало разламываться на куски. В кипящих бурунах мелькнула чья-то голова, взметнулась рука. Больше кого-либо из малочисленной экспедиции не видели… Году в 1815 на берегах Нигера опять застучали тамтамы, сообщая о новом чужестранце. Для него это была всего лишь россыпь непонятных отрывистых звуков. Между тем барабаны «говорили», что за человек пришел на нигерийскую землю, какое впечатление он произвел и как его встречать. Что ж, впечатление складывалось явно в пользу чужестранца.
Его путь в Нигерию начался в средиземноморском городе Тараблисе (Триполи). Чужестранец почти напрямую пересек «сахру» — великую африканскую пустыню Сахара, достиг Кацины (город на севере Нигерии). Уже то, что он преодолел огромное пространство через раскаленные пески, не могло не вызвать у местных жителей восхищения его смелостью и мужеством. Путешественник пробыл в стране месяца три. За это время, передвигаясь где пешком, где на верблюде, он посетил многие северные провинции, входившие тогда в султанат Сокото, заглянул даже на крупнейший левый приток Нигера — Бенуэ. И везде его принимали как друга. Он не чуждался входить в дом бедняка, был общителен, приветлив.
Этим чужестранцем, известным под именем Варги, был торговый человек из Кизляра — города, входившего в те времена в состав Астраханской губернии. Варги не стремился добыть лавры первооткрывателя и отправился в Африку на свой страх и риск. Купец средней руки, он, естественно, хотел узнать обычаи народов, ремесла, посмотреть их изделия. Без этого грешно думать о взаимном наваре в торговле.
Нигерия — не единственная страна на пути его пятилетнего странствования по Африке. Где-то севернее Бусы Варги переправился через Нигер и вышел на землю нынешней Республики Буркина Фасо. Потом добирался по Мали до города Тимбукту — одного из известнейших тогда в Африке торговых центров. Из Тимбукту Варги направился прямо на юг и попал наконец в государство Ашанти (сейчас Республика Гана). Там, в городе Кейп Кост, его опросил английский консульский чиновник. Варги и его неразлучный проводник-хаусанец за время долгих скитаний научились словесно понимать друг друга. Это в какой-то мере помогло при опросе, поскольку в Кейп Косте нашелся человек, знавший хауса и английский. Рассказ Варги в качестве сенсации преподнесла своим читателям местная «Королевская газета Золотого Берега», потом его перепечатали другие издания в Европе.
Варги оказался весьма наблюдательным. Его сообщения о тех местах, где он побывал, подтвердили позднее Барт, Кайе и другие исследователи Африки. На достоверность рассказа кизлярского купца ссылался Гордон Лэнг, соотечественник Мунго Парка, тоже хотевший разгадать тайну Нигера и погибший затем неподалеку от Тимбукту. Прежде чем отправиться в путешествие, он изучил все доступные ему документы и, конечно, запись опроса Варги. В своих письмах из Африки шотландец, в частности, отмечал, что Варги довольно точно определил направление стока Нигера. Интерес к «таинственной реке» не ослабевал. В 1825 году от Бадагри (город на западном побережье Нигерии) в Бусу пришел еще один шотландский любитель приключений, Хью Клаппертон. Он узнал там о гибели Мунго Парка и хотел дальше проследить путь Нигера, но вскоре умер от дизентерии. Его молодой слуга Ричард Лендер, испытав немало лишений, вернулся в Бадагри, а оттуда на попутном судне — в Англию. Через пять лет с младшим братом Джоном он тем же маршрутом Клаппертона достиг Бусы, затем, уговорив нескольких местных жителей, добрался с ними на большой лодке до устья реки.
После того как были развеяны последние сомнения географов о Нигере, туда зачастили другие путешественники. Одним из них был Уильям Бейки. Ему дали пароход «Дэй-спринг», специально построенный в Англии для плавания по Нигеру и имевший на форштевне резное изображение голубя с оливковой ветвью в клюве (чем не ханжество!). При осадке примерно 1,7 метра и водоизмещении 77 тонн судно могло преодолевать мелководные участки реки.
На этом пароходике-недомерке Уильям Бейки отправился в экспедицию от устья вверх по Нигеру. У Джеббы (город километрах в ста от Каинджи ГЭС ниже по течению) «Дэй-спринг» стал огибать крутобокий остров. Неожиданно скорость упала. Пароходик напрягся, астматически запыхтел, прополз с десяток метров и… ни с места, будто уперся в невидимую стену. Потом его потащило к острову. Там выступы подводной скалы вспороли днище, и пароходик пошел ко дну. О неудачном вояже суденышка напоминают его обломки, извлеченные позднее из реки и выставленные напоказ около железнодорожной платформы в Джеббе. Путешественников спасли рыбаки, которые поведали, что остров посреди реки является обителью Кетсы — богини Нигера. Кетса терпеть не может пурпурный цвет — в одежду таких тонов был одет Уильям Бейки — и поэтому сурово наказала ослушника. Путешественник не поверил рыбакам. Он уговорил приятеля, Джона Гловера, и на другом однотипном пароходике «Санбим» было решено проскочить мимо опасного острова. Бейки и Гловер намеренно вырядились в кумачовые костюмы. И что ж? «Санбим» затонул там, где и «Дэйспринг».
Догадка о причинах гибели пароходиков осенила лишенных предрассудков Бейки и Гловера позднее: суденышкам было не по зубам течение реки, сжатой у Джеббы берегами и островом.
Немалые жертвы были принесены Нигеру за разгадку тайны. Но еще больше пострадали от этого открытия нигерийский и другие африканские народы. Река оставалась единственным в то время путем, ведущим в глубинные районы континента. Полные отваги британские путешественники, умиравшие от тропических миазмов, не подозревали, что прокладывают дорогу в Африку колонизаторам — для насилия, наживы, опустошения земли и попрания элементарной человечности.
В дневниках и письмах исследователи «таинственной реки» писали о необузданной роскошной природе, щедрой земле, приносящей почти без всякого труда несколько урожаев в год, о хлопке, черном дереве, пальмовом масле, слоновой кости, о выходах к поверхности земли месторождений медной и оловянной руды… Эти вести очевидцев, которым нельзя было не верить, воспламеняли воображение, разжигали страсти у государственных правителей, фабрикантов, коммерсантов и просто любителей легкой наживы.
Нигерия всерьез овладела умами англичан. Как тут не вспомнить миссис Джеллиби из романа Ч. Диккенса «Холодный дом»? «Теперь все мое время занято африканским проектом… Мы надеемся, что уже через год от полутораста до двухсот здоровых семейств будут у нас заняты выращиванием кофе и обучением туземцев в Бариобула-Гха на левом берегу Нигера», — восклицала перед гостями сия особа с необычайно сильным характером, всецело посвятившая себя общественной деятельности.
Совсем иные планы были у не вымышленных людей.
Процветавшая ранее торговля рабами, за счет которой Англия, потеснив на вторые роли конкурентов, жила и обогащалась, пошла на убыль. В европейских странах расправлял плечи и набирался сил «деловой парнишка» — капитализм. Промышленная революция привела к росту фабрик, заводов, рудников, шахт. Это, в свою очередь, вызвало резкое увеличение выпуска потребительских товаров, которые рынок европейских стран не мог поглотить. Нужны были новые места сбыта производимых в неимоверных количествах этих товаров. В то же время фабрики и заводы просили все больше и больше сырья, которого не хватало ни в Англии, ни в других европейских странах. Рабочих — недавних крестьян, оторванных от земли, — надо было кормить. Колонизация нигерийских и прочих африканских территорий устраивала «делового парнишку» Англии во всех отношениях. Там можно было бы открыть рынки для продажи промышленных товаров, получать в уплату за них сырье и сельхозпродукты.
По берегам Нигера с непостижимой быстротой стали вырастать торговые станции. Английские предприниматели разворачивались без опасения. Они хорошо помнили слова одного из своих компаньонов, Макгрегора Лэрда, которые обошли лондонские газеты. «Прием, оказанный нам, ничем не стесняемая свобода действий, — утверждал он, вернувшись из экспедиции по Нигеру, — достаточно хорошо говорят о миролюбивом и дружелюбном характере местных жителей».
Цепь английских торговых факторий протянулась от устья Нигера до слияния его с притоком Бенуэ. Европейские товары ткани, соль, порох, ружья, табак, бусы, джин — отпускались в кредит. Взамен торговцы хотели получить и получали пальмовое масло, орехи, хлопок, слоновую кость, леопардовые шкуры, да мало ли что… Хотя и говорят, что иногда правая рука не знает, что делает левая, в данном случае руки торговцев работали согласованно. Одной они отпускали товар, а другой подсчитывали барыши. За баррель (около 89 килограммов) того же пальмового масла купцы отпускали нигерийцам залежалых товаров на 18 фунтов стерлингов. А в Англии перепродавали его уже чуть ли не втридорога.
Пользуясь тем, что местные жители не имели понятия о расчетных операциях, британские коммерсанты втягивали их в долговую кабалу, сбивали цены на приобретаемые у них товары и завышали на свои. Погоня за наживой привела к тому, что купцы обзавелись вооруженными отрядами, которые рыскали по деревням и отбирали у нигерийцев пальмовое масло, шкуры, слоновую кость независимо от того, брали они в кредит заморские товары или нет.
От торговой экспансии Англия перешла к установлению колониального господства, закабалению нигерийцев на их собственной земле. В то время в дельте, как и на всей территории нынешней Нигерии, были раздробленные города-государства, объединявшие разные племена. Против этих городов-государств и был направлен удар. Под предлогом пресечения работорговли у дельты Нигера появилась Африканская эскадра. Не изваяние голубя с оливковой ветвью в клюве, а жерла пушек военных кораблей грозно смотрели на берег.
Для развертывания наступления нужен был опорный пункт. Им стал захваченный англичанами Лагос. Затем разрушительному огню Африканской эскадры подверглись жители Бонни — ключевого торгового центра в Восточной Дельте. Под дулами орудий англичане склонили правителя Бонни Уильяма Пёпля подписать неравноправный договор. Но король Пёпль не сдался. По его распоряжению сорок три военных каноэ блокировали торговые фактории англичан, находившиеся на территории Бонни. В ответ британский консул Джон Бикрофт ворвался с солдатами во дворец правителя. Уильям Пёпль был схвачен и затем сослан на один из английских островов.
Англичане полагали, что пушками они легко расчистят себе дорогу, но забыли о другом. Действие рождает противодействие. Чем сильнее были удары колониальных войск и флота, тем упорнее сражались нигерийские племена. Место павших воинов занимали другие, борьба против колонизаторов разгоралась с новой силой.
Другой твердыней на пути англичан стало государство Опобо, созданное вождем Джа-Джа на северо-востоке от Бонни. Это был энергичный, решительный правитель. За несколько лет он укрепил и расширил Опобо, взял под защиту многие соседние племена. Джа-Джа закрыл все границы государства для британских торговцев и властей. Его действия явно противоречили планам англичан по колонизации нигерийских территорий. Корабли Африканской эскадры обложили город Опобо. Захватчики пошли на хитрость: заманили Джа-Джа на канонерку якобы для «переговоров», обещав ему безопасность. Как только король ступил на палубу, корабль снялся с якоря. Джа-Джа был отправлен в Золотой Берег, а оттуда сослан в Вест-Индию, где и умер. На Опобо обрушились снаряды Африканской эскадры, карательные отряды довершили разгром государства.
Бронзовая отливка из местечка Тага
Сломив сопротивление Опобо, англичане вслед за тем превратили в груду развалин опорный город в Западной Дельте — Брохеми и расширили захват территорий. Наступление в глубь страны велось в трех направлениях: западном из Варри и Сапеле на Бенин, центральном — из Бонни и Опобо на города народа игбо, восточном — из Калабара к бассейнам рек Кросс и Ква. При малейшем сопротивлении колониальные войска обстреливали и сжигали города, окрестные селения. Они залили кровью Бенин, разграбили его уникальные изделия из бронзы. Используя Нигер и его притоки для продвижения, англичане проникли в северные эмираты, один за другим захватили главные города Кадуну, Кано, Сокото. «Белая саранча», как нигерийцы называли захватчиков, расползлась по всей стране.
Маска одного из царей (бронза Бенина)
Колониальная администрация ввела повсеместно систему косвенного управления. При таком порядке непосредственная власть возлагалась на местных эмиров и вождей. Но и они были не вольны в своих действиях. В провинциях и округах засели английские чиновники в качестве надсмотрщиков.
Потребовались годы упорной борьбы, чтобы выдворить колонизаторов из страны и заставить «реку рек» служить народу…
Из машинного зала вышел Суле Когуна и стал подниматься на плотину.
Суле Когуна живет в Бусе. Я не оговорился. В десяти километрах к западу от электростанции на пологих холмах разместился город — Новая Буса. К нему отсюда ведет асфальтовое шоссе. Город, где я побывал до приезда на Каинджи ГЭС, сверкает рифлеными крышами из белой жести. Около светло-серых блочных домов мирно беседуют в тени деревьев почтенные старцы, по улицам носятся (вот уж кому жара нипочем) босоногие мальчишки.
Архитекторы удачно соединили современные материалы — металл, бетон, пластик — со старыми формами мусульманских строений. Каждый дом с двориком обнесен высокими стенами, через отдушины под потолком в комнаты нагоняет прохладу. Из металла, бетона и пластика построены и «достопримечательности» Новой Бусы — мечеть, минарет, дворец, где царствует местный эмир. Подошел Суле Когуна.
— Трудно, наверное, поверить, что тут когда-то ничего из всего этого не было? — выразительным хозяйским жестом он описал перед собой широкое полукружье, охватыва машинный зал, плотину, другие сооружения.
— Конечно.
— Мы и сами сомневались: сможем ли поднять такую махину. Но, как говорится, лиха беда — начало, — и Суле Когуна продолжил прерванный рассказ…
Первый колышек на месте будущей ГЭС вбили в феврале 1964 года. Страна, лишь недавно ставшая независимой, приступила к строительству, какого не знала ранее. Из-за нехватки средств для осуществления грандиозного проекта нигерийцам пришлось обратиться к иностранным займам и кредитам. Словно угадав в строителях соперников, нещадно палило солнце. Мощные паводки в дождливый сезон не раз угрожали затопить котлован, где поднимался машинный зал. С силами природы как бы объединились силы социальные — в июле 1967 года в стране началась гражданская война.
Несмотря на тяжелое экономическое положение, разбушевавшуюся стихию, внутренний кризис, работы на Каинджи не прекращались ни днем, ни ночью. 15-тысячная армия нигерийских строителей возвела машинный зал, бетонную плотину, двухкамерный шлюз для проводки судов, отсыпала 14-километровую земляную дамбу. Из зоны будущего водохранилища в новые дома переселились жители более ста деревень, городов Буса и Елва. И наступил наконец день пуска — 22 декабря 1968 года. На притихшую стройку опустились сумерки. Не сотни, как это было в свое время на Марине, тысячи людей собрались на берегах Нигера, чтобы стать очевидцами волнующего, важнейшего для страны события.
Поворот рукоятки на пульте, вода укрощенной реки ударила в лопасти турбины. Машина начала стремительно набирать обороты. На приборе вздрогнула стрелка, показывая напряжение. Поворот-другой рукоятки, и над машинным залом, плотиной, шлюзами засверкали гирлянды электрических лампочек.
У Нигера появилось сверкающее сердце — Каинджи ГЭС. Ток по проводам пошел в Лагос, Ибадан, Кадуну, многие селения — для всей страны.
Мы спустились в светлый машинный зал, пошли вдоль прикрытых сферическими кожухами, монотонно гудящих электрогенераторов.
— Вот эти, — Суле Когуна указал на четыре крайние машины, — мощностью по восемьдесят тысяч киловатт каждая, работают со времени пуска станции. Потом подключили еще восемь агрегатов. Они уже посильнее первых На двадцать тысяч киловатт. И Каинджи достигла проектной мощности.
…Прежде чем покинуть гидроузел, я снова поднялся на бетонный торец. После машинного зала, пропахшего маслом и краской, дышалось легко и свободно. Невелика плотина Каинджи ГЭС, но отсюда хорошо видно, какую высоту набирает независимая Нигерия.
С приходом колонизаторов страна была ориентирована на первичную обработку сельскохозяйственной продукции и минерального сырья для экспорта. Английские колониальные власти делали все возможное, чтобы свести на нет местную промышленность. В результате пришли в упадок Кано, Сокото и другие старинные центры, известные ранее своими изделиями — тканями, кожей. Они не выдержали конкуренции товаров европейского машинного производства. В наследие молодому государству досталось хилое, иначе не назовешь, хозяйство, не имевшее практически крупных промышленных предприятий.
Теперь в Нигерии насчитывается свыше двух тысяч фабрик, заводов, рудников, нефтепромыслов. С каждым годом их становится все больше и больше. Усилия народа направляются при этом на создание предприятий общенационального значения.
Многие из фабрик, рудников, заводов питает электрическим током Каинджи ГЭС. А недавно у нее появились и помощники — крупные тепловые электростанции в Экет, Афаме, Варри и Сапеле.
В Нигерии нет таких супергигантов энергетики, как наши Братская, Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС… Но не следует забывать: мы начинали с электростанций на Волхове и Днепре, независимая Нигерия — с Каинджи. Ныне нигерийские специалисты намечают создание мощных гидроузлов на Нигере — у Джеббы и на его притоках, вынашивают идею строительства в одной из северных провинций, где мало водных источников, атомной электростанции. Все они со временем образуют единую энергетическую систему, ядром которой будет Каинджи ГЭС.
Символом Нигерии становятся яркие электрические огни в городах, деревнях, на предприятиях, стройках, зажженные Каинджи ГЭС. Ее строили в ту пору, когда страна делала первые робкие шаги по пути независимости. Теперь Нигерия окрепла, и Каинджи ее первый промышленный гигант породила у народа уверенность, что ему по плечу другие большие свершения.
Маяк в джунглях
Странный предмет у дороги я заприметил еще издали. Он притягивал к себе взгляд, как магнит притягивает железо. Будто вырос на обочине невиданный синий колокольчик и склонился к земле.
Машина шла на хорошей скорости, и не успел я оглянуться, как был около «цветка». Остановился. Удивлению моему не было предела. Колокольчик оказался девчушкой лет этак десяти-двенадцати. Она вытянула в стороны свои смуглые ручонки и кружилась на месте, от чего ее синее платьице разлеталось, словно сарафан. При всем этом девчонка удерживала на голове коричневый школьный ранец.
Всякое приходилось видеть на нигерийских дорогах: разбитые вдребезги легковушки и грузовики, завалившиеся на асфальт деревья, обезьян… Но вот девочку, одну-одинешеньку поодаль от жилых мест (минут десять назад я проехал чистый, опрятный городок Икене, и за ним по обе Стороны дороги тянулся хмурый лес) — такого еще не было.
«Танцовщица» тем не менее вела себя беззаботно и не проявляла никакой тревоги. И все же ее одиночество не могло не вызвать смутное беспокойство.
— Сударыня, вы случайно не заблудились? Может, куда подбросить? — спросил я участливо.
— Та… pa… pa… pa… та… та… — где-то в лесу, во всяком случае мне так показалось, раздались удары барабана.
Девочка не ответила, однако перестала кружиться.
— Скоро ты? Чего там копаешься? — сморщила она свой носик, повернувшись к лесу.
— Я мигом! — раздался в ответ слабый писк. Из придорожных кустов выбрался мальчуган. В левой руке у него был такой же ранец, что и у девочки, а в правой он держал темного жука, нервно водившего длинными усами.
— Во! Посмотри, что я поймал!
— Спасибо! Мы уж сами… — девочка повела худеньким плечиком, наконец-то ответив на мой вопрос.
— И все же, как вы сюда попали?
— А-а… просто. Живем здесь неподалеку в деревне, сейчас в илеве (школу) идем. Напрямик, по тропке через лес, нам сподручнее.
— Та… pa… pa… pa… та… та… — напомнил о себе барабан.
— Слышите? На урок нас приглашают.
Сельских школ в Нигерии немало. Как и везде, малышей на урок там созывают звонком. В здешней илеве, судя по всему, используют традиционное народное средство коммуникации — африканский барабан. Уже от одного этого повеяло заманчивой экзотикой.
— Как мне проехать в вашу илеве? — я и не подумывал сразу же после этой встречи сходить с ранее намеченного маршрута: ждали журналистские дела в другом месте. Заехать в илеве я твердо решил на обратном пути, потому и спросил о дороге заранее.
…Школу я представлял себе не иначе, как в виде приличных размеров здания в два-три этажа, пусть даже в один, но обязательно солидной. Увы! Вскоре в этом пришлось разувериться.
Справа и слева от дороги, за банановыми деревьями и кустарником были невысокие, с незастекленными окнами продолговатые строения, аккуратные домики с побеленными стенами. Если бы не щит с надписью «Школа „Мейфлауэр“» на обочине, который служил указателем и от которого я ранее свернул сюда с шоссе, могло показаться, что дорога завела меня в какую-то опустевшую ненадолго деревню. Чуть дальше проглядывал окруженный высокими деревьями двухэтажный дом. Около него я и остановил машину. Услышав шум мотора, из дома вышел хозяин. В нем не было ничего особенного: невысок ростом, худощав, с чисто выбритым лицом, в легком сером костюме. Глаза смотрели ласково и доверчиво.
Мне бы вашего директора!
— Он перед вами…
Мы познакомились. Конечно, имя и фамилию этого человека — Тай Соларин — я встречал в нигерийских газетах. Он размышлял о судьбах страны, молодого поколения, подчас довольно резко высказывал свое мнение о работе местных гражданских служб, обличал внешних и внутренних врагов независимой Африки… Мне думалось, что «Тай Соларин» — псевдоним какого-нибудь бойкого на перо столичного публициста.
Увидеть же Тая Соларина воочию поодаль от Лагоса, да еще в качестве директора школы — этого я, признаться, никак не ожидал. Как бы то ни было, между нами с первых минут установились теплые отношения и откровенность, что позволило говорить о чем угодно, как старым друзьям, которые давно не виделись и встретились после долгой разлуки.
Тай Соларин стал расспрашивать о новостях столичной жизни, посетовал на задержку свежих газет. Затем посмотрел на свои наручные часы и заспешил в дом, бросив на ходу, что скоро будет. Вернулся с небольшим тамтамом. Придерживая его левой рукой у пояса, начал ударять по тугой мембране барабана короткой деревянной палочкой.
— Pa… pa… pa… та… та… — понеслись знакомые звуки. «Деревня», выглядевшая до этого безлюдной и тихой, зазвенела детскими голосами. Около продолговатых строений, которые, как оказалось, были классными помещениями, забегали выскочившие на перемену мальчишки и девчонки.
Минут через пять тамтам властно позвал ребят на урок.
— Здорово у вас получается! — я кивнул на необычный «школьный звонок». — Впечатление такое, будто все время барабанщиком были.
— Да нет…
Не знал я тогда, что мои слова невольно разволновали Тая Соларина (он признался в этом в конце нашей встречи), заставили пройти по всему жизненному пути.
Тай Соларин рос в многодетной семье, каких немало в Нигерии, и его родителям приходилось нелегко добывать насущный хлеб. Но они не жаловались на свою судьбу. Была лишь у них заветная мечта: определить детей в школу, вывести их в люди, поскольку самим не довелось получить образование. Всех отправить в школу было не по карману. Выбор пал на Тая, как самого смышленого из братьев и сестер. Подметили родители и еще одну черту: он был заводилой во всех мальчишеских проказах, целый день мог пестовать сверстников — соседских малышей, которые не чаяли в нем души. «Быть тебе учителем!» — сказал отец Таю. Соларин-младший последовал этому совету. В 1941 году он уже заканчивал педагогическое училише. Приближался день выпуска, после чего Тай стал бы обладателем учительского свидетельства и получил бы право преподавать в младших классах начальной школы.
Но в школу суждено ему было войти не скоро. Полыхала вторая мировая война, которая самым непосредственным образом сказалась и на Нигерии. Войска метрополии на разных фронтах несли потери. Чтобы каким-то образом их восполнить, Лондон объявил набор жителей своих колониальных территорий в английскую армию.
Тай Соларин, один из немногих грамотных нигерийцев-призывников (учебу его бесцеремонно прервали), был направлен в летную школу. После ускоренной подготовки он стал вторым пилотом на «Ланкастере» — четырехмоторном английском бомбардировщике. Экипаж оказался в самой гуще сражений в Европе. Вылет следовал за вылетом. Однажды во время бомбежки гитлеровских объектов в самолет попал зенитный снаряд. «Ланкастер» подбросило, словно мячик. Соларин ударился головой о штурвал, потерял сознание. Очнулся от свиста и грохота, бросил беглый взгляд на командира. Тот бессильно обвис на штурвале. Соларин позвал борт-механика, вдвоем стащили командира с сиденья.
Было не до раздумий. Один из правых моторов дымил, прыгали на приборах стрелки. «Ланкастер», надрывно завывая и заваливаясь на крыло, стремительно, как подраненная птица, несся к земле.
Соларин потянул штурвал на себя, выровнял машину. И все же «Ланкастер» вел себя не так, как хотелось пилоту:
рыскал из стороны в сторону, клевал носом, терял скорость. С трудом удерживая самолет, Соларин решил садиться за линией фронта при первой возможности, Плюхнулись на лесной поляне. Вслед за пилотом из кабины выбрались уцелевшие борт-механик и радист, стали хлопать по плечу своего спасителя, сумевшего посадить на грунт тяжелую подбитую машину.
Соларин шагнул к опушке, устало присел, опершись спиной о дерево, стянул с головы взмокший шлем. Вокруг вновь защебетали притихшие, напуганные гулом моторов птицы, с безоблачного неба ярко светило июньское солнце, рядом с деревом, в траве, пилот разглядел незнакомый цветок. На тонком стебельке между двумя сердцевидными листочками улыбалась гроздь белых крохотных колокольчиков. Нижние малютки-звездочки уже распустились, а самые верхние еще спали.
Подошел радист. — Не ранен, случаем?
— Посмотри на эту прелесть! — Соларин протянул руку к цветку.
— Мейфлауэр[2] это, — пояснил радист. — Удивительное растение. Не поверишь: вся полянка от одного корневища-ползуна. К тому же страсть, как живуч! Ни одна трава, даже мох, не может вытеснить его с облюбованного места. Да, вот что. Радировали с базы: подмогу нам выслали.
Через неделю «Ланкастер» поднялся в воздух.
Сколько еще было у Соларина таких опасных для жизни полетов… Когда война окончилась, Соларину предложили неплохую работу: механиком на одном из английских заводов. Но у бывшего пилота были другие планы. Он решил, чего бы ему ни стоило, поступить в университет. В министерстве колоний Соларину цинично сказали, что университетский диплом для него не обязателен. Категоричный отказ не остановил Тая. Единственный пальмовый плод в костре не затеряется. Пусть он и будет этим самым единственным члодом. Соларин не отступался, и ему в конце концов как участнику войны разрешили учиться в Манчестерском университете. Позже он перевелся в Лондонский университет.
Годы учебы пролетели быстрее, чем предполагал бывший летчик. Он просиживал за учебниками, в редкие свободные часы бывал в музеях, театрах. В 1951 году, после окончания университета, друзья предлагали Таю задержаться в Лондоне на месяц-другой, отдохнуть от напряженной учебы, вкусить прелести столичной жизни. «Среди дворцов и удовольствий нет все же родины милей», — напевал Соларин в таких случаях слова из оперы Клари «Миланская девушка». Получив диплом, он через несколько дней выехал в Нигерию.
Две подружки — «А я чего знаю!»
…После туманного, промозглого Лондона в Лагосе в первое время казалось душно. В остальном Соларин не чувствовал различия. Если бы не пышная тропическая зелень, смуглая кожа соотечественников, могло показаться, что он и не уезжал с Британских островов. Все здесь, особенно в центре города, было на английский манер: богатые магазины, отели, банки, конторы страховых компаний, реклама Даже автомобилям, как на английских дорогах, предписывалось соблюдать левостороннее движение. Лагос казался огромной витриной — витриной западного образа жизни, тенью Великобритании.
Эта «тень» встречалась Соларину на каждом шагу, неотступно следовала за ним. Под видом альтруизма, под предлогом приобщения к современной цивилизации нигерийцам повсюду, где это было возможно, внушали: все, что не английское, — плохое, что лучше английского нет ничего на свете. Хочешь иметь вещь — покупай английскую, потому что с ней ничто не сравнимо. Одеваться лучше всего «а ля Бритиш». Говорить тоже надо по-английски, и чем лучше человек знает английский, тем быстрее он добьется признания в обществе. Нигерийкам и не следовало помышлять об агого, ауйойо, ипако эледе и других традиционных элегантных прическах (прически, состоящие из многих рядов косичек с проборами между ними. — Ю. Д.). Местные женщины должны походить на англичанок: распрямлять свои кудряшки или носить парики из прямых волос. К тому же заставляли стыдиться своей кожи — сочно-черной, считающейся у африканцев символом здоровья и жизнеспособности. Ну а цвет кожи изменить просто: на вездесущей рекламе, предлагающей какой-то крем, трижды появлялось лицо нигерийской женщины, каждый раз все светлее и светлее.
Прозрение наступило быстро, будто кто сдернул с его глаз радужную пелену. Жизнь на родине раскрывала перед ним все новые свои стороны. Он узнавал не только фасад Нигерии, но и ее изнанку.
Стоило хотя бы отойти чуть в сторону от роскошного центра Лагоса, и взору открывалась совсем иная картина: скопище невзрачных сооружений из обрезков досок, фанеры, ржавого железа, мало похожих на жилье. Рядом мастерские ремесленников, лавочки с неброским дешевым товаром, ребятишки с коростой на голове, очереди у колонок за питьевой водой…
Соларин все больше убеждался воочию, что сущность деяний иноземных хозяев в стране не в альтруизме и приобщении ее жителей к современной цивилизации, а в интересах наживы и жестоком угнетении.
В годы недавней войны Нигерия была одним из главных поставщиков Великобритании. Каучук, олово, колумбит, вольфрам, пальмовое масло, хлопок, земляной орех и многое другое вывозилось в Англию. Миновали тяжелые времена, и у нигерийцев появилась надежда: теперь они, дескать, смогут использовать свои товары для собственных нужд. Не тут-то было. Поток сырья и продовольствия в Англию нисколько не ослабел. Соотечественникам Соларина доставались лишь крохи с господского стола. Видимо, не без намека появилась в Африке притча о том, как лев «благородно» делился с кроликом обедом, полученным ими в дар от доброго духа джунглей. «Поделим обед по-братски! предложил лев кролику. — Ты откусишь кусок, я — кусок, снова — ты, за тобой — я. И так до конца».
Пожалуй, одним из самых порочных последствий английского господства была изоляция нигерийских народов друг от друга. Заморские правители разделили страну на три области. Причем, Северная область, где правили консервативные по натуре эмиры, противившиеся каким-либо малейшим преобразованиям, в несколько раз превосходила по территории две другие области, вместе взятые. Местные жители не смели и помышлять о переезде в другую провинцию, поскольку их посчитали бы там «чужаками». Каждая из областей была отделена от других перегородками, как ствол бамбука.
Нигерийцам насильственно навязывали чуждую культуру, лишили права писать, создавать литературу на родных языках, соблюдать свои обычаи и традиции. Верна, видимо, пословица: «Возьми человека за обе руки, и куда Денется его сила». Заморские правители крепко держали страну за обе руки.
Эту хватку Тай Соларин вскоре испытал на себе.
Он шел в школу, куда его определили, с радужными надеждами. Наконец-то сбылась мечта. Он учитель! Надежды обернулись глубоким разочарованием. Уже одно расписание уроков повергло его в уныние: «История Великобритании», «Литература Великобритании», «География Великобритании»… Детям следовало внушать мысль, что у Нигерии нет своего прошлого, своей культуры. История страны началась якобы с того времени, когда шотландский исследователь Мунго Парк добрался до порогов Каинджи на Нигере, а до этого все было погружено во мрак. Школьники знакомились с историей Европы, Англии, изучали войны Алой и Белой Розы, династий Тюдоров и Стюартов и не имели никакого представления о «культуре Нок», древних Ифе и Бенине.
Раньше, когда Соларин сам был школяром и его заставляли зубрить предметы, касающиеся истории и жизни метрополии, он по своей детской наивности принимал все за чистую монету. Теперь было иначе. Он понимал, что в Нигерии и не помышляют об истинном просвещении масс. Не приобщение нигерийцев к современным знаниям, а их духовное закабаление под видом «морального воспитания» _ вот что стало важнейшим принципом колониальной политики. Учебные программы школ всех ступеней включали преимущественно гуманитарные предметы. Система образования была приспособлена для нужд метрополии, а не для потребностей Нигерии. На просвещение выделялись ничтожные средства для подготовки из местного населения лишь «белых воротничков» — клерков и прочих мелких служащих, необходимых колониальным властям. Заморские правители предопределили судьбу не только отдельного нигерийца, но и судьбу всей страны.
Вольный, дерзкий в своих суждениях Тай Соларин пробовал на уроках рассказывать детям о Нигерии, ее истории, богатом культурном наследии. Но его тут же приструнивали. Он все чаще ощущал на себе прилипчивый взгляд и видел чужое любопытствующее не в меру ухо.
Университетский диплом, как волшебная палочка-выручалочка, позволял жить безбедно. Можно было бы застегнуть душу на все пуговицы, ничего не замечать, ничем не волноваться, не испытывать никаких тревог и забот.
Поступок рождается не только разумом, но и сердцем. Сейчас Тай Соларин не может сказать, когда ему впервые пришла мысль создать «свою» школу, наверное, после очередной нахлобучки за рассказ о Нигерии. Она давала бы ученикам современные знания, приобщала к культуре, а главное — развивала бы у детей тягу к самостоятельному труду, готовила к жизни, к продолжению своего образования. Это был стихийный порыв, но он со временем обрел высокую социальную значимость.
Соларин понимал, что колониальные власти не позволят ему и заикнуться о такой школе. Надо все создавать самому, а для разбега нужны были деньги. Вскоре новый педагог прослыл в школе, где он работал и где учились будущие «белые воротнички», скрягой. И мало кто из учителей догадывался, что их коллега трясется над каждым шиллингом, ограничивает себя во всем не ради скопидомства. В свободные от уроков дни он выезжал в окрестности Лагоса, искал место для «своей» школы. Так продолжалось четыре года. А потом Соларина не стало в Лагосе. Людской телеграф работает в деревне, как и в городе, безотказно. В окрестностях Икене прошел слух: в джунглях объявился чудик… Робкий стук в дверь (к этому времени мы перебрались в полукруглую гостиную) прервал нашу беседу.
— Не иначе очередной проситель. Заходите! Дверь не заперта! — Соларин привстал со своего потертого шезлонга.
На пороге, подталкивая перед собой мальчишку, появился озабоченный средних лет человек. Ни слова не говоря, оба поклонились, затем пали к ногам директора.
— Это что еще придумали! — его голос зазвенел от возмущения.
Мужчина и мальчишка поднялись с пола.
— Что у вас? — Соларин заходил по комнате.
— Да вот… сына привел, хотел бы к вам в школу.
— Сами-то откуда?
— Из Аго мы.
— Далековато.
— Ваша школа, хоть и в джунглях, а свет от нее, как от маяка, далеко виден, оживился мужчина.
Тоже мне… А что, разве своей школы в Аго нет?
Есть, но мой сын ни в какую не хочет там учиться. У вас, как говорят, учение с практикой связано. Пока будет в «Мейфлауэр», глядишь, профессию какую-то получит. После школы работать сможет. Все семье подмога.
Так-то оно так, вздохнул Соларин. — Мест вот только в «Мейфлауэр» нет.
Вот уж не поверю! У вас почти тыща учеников. Одним меньше, одним больше, — упрашивал человек.
— Ладно, так и быть, — директор поднял руки, сдаюсь, мол. Отец и сын ушли.
— Вот бы раньше так, — Соларин снова уселся в шезлонг, — когда селяне сомневались: отдавать своих детей в «Мейфлауэр» или нет…
Нелегко было начинать на новом месте. С трудом верилось, что на этом участке земли в джунглях, купленном на собственные деньги, можно построить школу. Но ведь за тем и перебрался. С темна до темна Тай Соларин, как заправский лесоруб, валил деревья, корчевал пни. Помогала Шейла — жена, друг и единомышленник во всех начинаниях и делах. Тоненькая, она после переезда в джунгли стала еще тоньше. Спали здесь же, в лесу, на подвешенном между двумя деревьями гамаке. Первое время гудели с непривычки руки и ноги.
«В лесу раздавался топор дровосека»
Однажды на участок ввалилась толпа крутоплечих селян. Они поковыряли палками землю, потом подступили с расспросами: что собирается выращивать хозяин на своей плантации, не даст ли на развод семян.
— Семян пока нет, но скоро будут, — улыбнулся Соларин.
— А с урожая?
— Урожай долго придется ждать: лет восемь-десять.
Что же это за растение такое? Не иначе — заморское.
— Нет, местное.
— Школа здесь будет — «Мейфлауэр», — вступила в разговор Шейла, укоризненно взглянув на мужа, решившего разыграть крестьян.
— Больно уж мудреное название, — буркнул кто-то.
— Цветок есть такой… Соларин поведал селянам о майнике, увиденном им впервые во время войны на лесной поляне.
Ты хочешь сказать, что и школа твоя будет, как и мейфлауэр, живучей и крепкой?
— Хотелось бы!
— Неужели здесь дети будут учиться? Если это сделаешь, мы тебе памятник отгрохаем.
— Зачем он мне. Вы бы лучше помогли!
— Это можно! — заулыбались крестьяне.
Через несколько месяцев в джунглях выросла школа (Соларин нанял на стороне плотников). Пусть пока маленькая — на три класса, где были установлены новенькие, пахнущие свежей краской парты (тоже пришлось раскошелиться). Радоваться бы, глядя на все это. Но чем меньше дней оставалось до первого урока, тем неспокойнее чувствовал себя учитель. Казалось, все взвесил, предусмотрел, а как детей в школу созывать — не подумал. Ходить по ижинам — это сколько ж надо времени. Выручил Укома Олу — один из первых помощников в асчистке участка под школу: принес небольшой тамтам — ронзительный каннанго. — Это то, что тебе нужно! — сказал Укома Олу. — Ударишь в каннанго, все услышат и тут же соберутся. А стучать на барабане я тебя быстро научу.
Получилось так, как посоветовал Укома Олу. Не все, правда, крестьяне привели своих детей в «Мейфлауэр». Все еще, видимо, не могли уразуметь, что неподалеку от деревень откроют илеве, о чем они и не смели мечтать. Или, может, боялись пока отдавать детей не просто в школу, а в школу-интернат. И все же это был первый успех, придавший Соларину силы и уверенность.
А они так были нужны. На первых порах приходилось разрываться на части: совмещать в одном лице обязанности учителя, директора, архитектора, прораба, завхоза, бухгалтера…
Иные доброхоты не верили в искренность бескорыстного поступка Соларина. Находились даже такие люди, которые предсказывали «Мейфлауэр» быстрое увядание. Не оставляли в покое строптивого учителя колониальные чиновники. Устраивали одну проверку за другой. Придирались по каждому поводу: «Почему в расписании не значится закон божий, нет предметов, что есть в других школах?» Они полагали, что дети должны только учиться, а их работа на школьной плантации противоречит системе образования.
Тай Соларин отбивал наскоки ретивых чиновников своими доводами. Доказывал, что для детей получить всю необходимую сумму знаний, навыки какой-то профессии куда важнее, нежели заниматься гелертерством (схоластикой) и прочими бесполезными предметами.
Колониальные власти не давали «Мейфлауэр» ни цента. Школа держалась на пожертвованиях немногих благотворителей, энтузиазме самого Тая и его жены, их единомышленников, не получавших, как и Соларины, зарплаты. И все же деньги были нужны. На общественные дела шли сбережения, гонорары, которые Тай Соларин получал за статьи в местных газетах. Он покупал учебники, тетради, ручки… Многим детям давал школьную форму. Ученики брали ее, Думая, что это подарок школы.
Выручали угодья фермы при «Мейфлауэр», созданной учителем. Жильем долго был гамак под тростниковой крышей.
Положение изменилось после того, как Нигерия стала независимой, да и то не сразу — спустя несколько лет. Федеральные власти построили новое здание школы (со временем пришлось все же возводить уже самим новые помещения для занятий), выделили средства на жалованье директору и учителям.
Не все давалось Соларину легко и просто. Были неудачи, сомнения, разочарования. Через все это пройдено, за все плачено дорогой ценой.
Взрослели первые ученики. Как майник, попав на новое место, дает от одного корневища-ползуна жизнь новым побегам, новым поколениям цветов, так и «Мейфлауэр» набирала силу. День за днем возводил Соларин свое детище, складывал по кусочкам, словно мозаику, пока задумка не обрела реальные очертания.
— Какие? — спросил я.
Директор не ответил.
…Через час, как отгремел последний «звонок» (к этому времени ребята успели побывать в столовой и сменить школьную форму на рабочую одежду), он предложил осмотреть школу. Здесь меня ждал еще один сюрприз. Впрочем, все по порядку.
Оказалось, «Мейфлауэр» — не просто классы, учительские, актовый зал, библиотека, столовая, то есть все то, что входит в обычное понятие «школа». Это своеобразный комплекс, где дети вдобавок к знаниям получают еще другие навыки, столь необходимые в жизни, — трудовые. Возможностей для этого здесь предостаточно.
У «Мейфлауэр» свои плантации кокосовых и масличных пальм, ананасов, цитрусовых, большие участки под огородами, ямсом, маниокой, бататом, маисом. Есть индюшатник, крольчатник, молочная и свиная фермы. Кстати, все это хозяйство обеспечивает в достатке собственными продуктами учеников, преподавателей, обслуживающий персонал, словом, на нем держится весь интернат.
«Мейфлауэр» походила на огромный муравейник, разумеется, не разворошенный, где мечутся в беспорядке встревоженные мураши. А на обычный, будничный, где каждый его обитатель знает «свой маневр».
Молочницы
На птичнике самые маленькие раздавали корм пушистым индюшатам. На плантациях ямса, батата, маниоки занимались вторые и третьи классы. Ребята постарше возились с кроликами, работали на молочной ферме, мыли повизгивающих поросят, собирали в саду фрукты. Школьники повзрослее плели под навесом корзины.
Около недостроенного дома, где крепкие ребята замешивали в большом чану раствор и затаскивали наверх на носилках по деревянным мосткам кирпичи для кладки стен, Соларин пояснил:
— Это наша четвертая сводная еще одно помещение под кабинет физики возводит.
И тут же потянул за рукав. Не будем им, дескать, мешать: сами, без посторонней помощи управляются. Показал мне директор и машинный двор: гараж ребята построили сами, техника — несколько автомобилей и тракторов — постоянно на ходу, в любое время может быть выведена на работу. Здесь нам повстречалась еще одна группа старшеклассников — человек десять. С мотками алюминиевой проволоки через плечо, с лопатами.
— Третья сводная, — сказал директор. — В соседнюю деревню поедут электролинию чинить. Бурей столбы там поваляло.
«Сводные бригады». Ведь они что-то напоминают…
— Школу Макаренко! — подсказал Соларин, угадав мои мысли.
…Создавая «Мейфлауэр», он подумывал о том, чтобы дети уже с первого класса начали осознавать необходимость и важность труда, ибо труд имеет самое непосредственное отношение к формированию человека, к становлению его как личности. Учитель шел методом проб и ошибок. А потом, в 1968 году, была поездка в Советский Союз, в Ташкент, на конференцию писателей Азии и Африки. Там и услышал Соларин от советских коллег о замечательном педагоге.
Соларин убежден, что методы Макаренко, прежде всего трудового воспитания, безотказны не только в колониях с «криминальными» детьми и детских домах, но и в обычных школах.
С утра в «Мейфлауэр», как и везде, уроки. После занятий и по субботам ее воспитанники без вызова, нудных приказов идут на свои плантации, фермы, в мастерские. От первых работ на птичнике, ученик, шагая из класса в класс, идет одновременно по «трудовой лесенке»: работает затем на плантациях, в саду, на ферме, на школьных стройках, на машинах — тракторах и автомобилях. Работают классами — коллективно, по принципу: научись сам, потом научи товарища. У ребят высокая ответственность за конечные результаты труда. Им есть где развернуться, показать, на что они способны.
На уроке арифметики в школе «Мейфлауэр»
Ну, а на случай неотложных дел создаются сводные бригады. Руководят ими ребята, те, у кого побольше опыта и организаторских способностей. Эти же бригады следят за школьными плантациями, ухаживают за животными во время каникул. Учителя работают в них с учениками на равных. И после окончания работы, когда на линейке подводятся итоги, одинаково звучат имена и школьников, и педагогов. Такой стиль — спокойный и деловитый — идет от Соларина, его сподвижников-учителей, которых в «Мейфлауэр» уже около тридцати. Они помогают ребятам налаживать дружную работу и игру, дружную жизнь, учат товариществу.
В «Мейфлауэр» все построено на доверии. Ученикам доверяют современные машины, школьную землю, доверяют ставить на участках опыты. И часто они собирают урожай, о каком и не слыхивали в округе. Тут же получают задание: сделать так и дома — на семейной плантации.
На деревенском празднике
Все, что появилось в школе за последние годы — новые помещения под классы, жилые дома, большой зал для вечеров и собраний, стадион, — создано руками учеников. Ребята живут в школе, именно живут (воскресенья они могут проводить дома с тем расчетом, чтобы на другой день быть на занятиях). Это большая, интересная, насыщенная жизнь. Уроки, труд, спорт, игры, концерты, танцы, праздники, на которые приглашается окрестный стар и млад, все чередуется. И все, кроме уроков, — главный принцип Соларина — на началах самостоятельности.
За время пребывания в «Мейфлауэр» дети развивают душу и тело, мозг и мускулы, здоровье и совесть — обретают те качества, которые так необходимы человеку. Соларин на практике показывает, как в Нигерии можно готовить нового гражданина, столь необходимого обществу. Не случайно качество подготовки школьников в «Мейфлауэр» намного выше, чем в однотипных учебных заведениях страны. Они без всяких натаскиваний успешно сдают экзамены и поступают в институты и университеты, куда не могут пробиться выпускники привилегированных школ с их тепличными условиями. Те, кто по каким-то причинам не попал в вуз, нашли себе работу по плечу: ко времени окончания «Мейфлауэр» они успевают освоить четыре-пять профессий.
После осмотра школы мы вернулись в полукруглую гостиную. Директор достал из письменного стола альбом с фотографиями учеников.
Поиски нового нефтяного «родника» в дельте Нигера
Летчик, врач, агроном, механик, учитель, нефтяник… Кого только нет! — начал вспоминать он воспитанников «Мейфлауэр». Выяснилось: неудачников нет, каждый твердо встал на ноги.
— Сила, прочность государства измеряются не только запасами руды, угля, нефти, количеством заводов и фабрик, — стал размышлять вслух Соларин. — Но и численностью специалистов, образованных людей. Перед независимостью в Нигерии было мизерное число школ. Расходы на образование одного нигерийца составляли за год около полутора долларов. Из каждых десяти детей учился только один. Инженер-нигериец считался большей редкостью, чем белый слон — альбинос. Теперь все иначе. За годы независимости в Нигерии открыты тысячи школ, введено бесплатное начальное обучение. Раньше в стране не было ни одного университета, а теперь их больше двадцати. Образование доступно сейчас для миллионов моих сограждан — больших и маленьких. Это ключ, который откроет им дверь к лучшему будущему…
Нигерийский нефтяник
Уезжал я из «Мейфлауэр» под вечер. Мне подумалось: побольше бы таких школ в Нигерии. Людям нужен и важен каждый источник, каждый луч света. И он есть! «Мейфлауэр» словно поднялась над джунглями и видна теперь отовсюду. Она сегодня только маяк. Но маяк действующий, который освещает нигерийцам дорогу к жизни осмысленной, трудовой, чистой.
Новое течение «масляной реки»
Речной катер резво вспарывает форштевнем встречную волну. Протока довольно широка, и все же здесь не разбежишься: в разных направлениях снуют рыбацкие лодки. Катер обходит их то правым бортом, то левым, выписывает зигзаги и держит курс к острову Бонни. Протока местами сужается, и тогда по берегам видны мангровые заросли, выставившие из воды свои белые корни-ходули. Такими протоками исполосована вся обширная дельта Нигера. Будто кто-то водил по ней гигантским плугом.
На катере нас трое: моторист, служащий министерства информации штата Риверс рассудительный Лоренс Оладжола и я. Лоренс Оладжола ранее работал газетным корреспондентом, и, видимо, не угасшая журналистская солидарность, или, как говорят, корпоративность, подтолкнула его помочь мне увидеть «масляную реку».
— Это только у проток мангру вольготно, — говорит Оладжола, кивая на берег. — А дальше, на земле, его сдерживает масличная пальма. Она хозяйка здешних мест…
Утро в рыбацкой деревне
Восточная часть дельты и прилегающие к ней с северной стороны провинции издавна известны как край масличной пальмы. Она прочно вошла в быт людей, живущих здесь. Из нее делают хижины (стены — из стволов, которые не поддаются гниению, крышу — из листьев), из волокон плетут шляпы, веревки, циновки… Однако самым ценным продуктом из тех, что дает пальма, считается масло. Его получают из оранжево-красных орехов, сросшихся в гроздья, и употребляют для приготовления пищи, используют в светильниках…
В Англию пальмовое масло впервые попало в 1588 году. Правда, тогда в Европе еще не знали, что с ним делать, и несколько бочек этого продукта, привезенных из дельты капитаном Уэлшем, удалось сбыть с превеликим трудом.
Другой товар стал привлекательнее в ту пору для алчных «охотников за счастьем» — «черная кость». Так на своем жаргоне они называли вывозимых из Африки рабов. Дельта превратилась в один из главных районов охоты за «черной костью» «Невольничьего берега», который тянулся на сотни километров по западному побережью континента. Участники разбоя считали ее своеобразным ярмарочным «столбом с призом»: достаточно было добраться до его вершины, чтобы стать богатым. А то, что при этом африканцы подвергались глумлению, жестокости, страданиям, не имело значения.
Последствия работорговли для дельты, как и для всего континента, оказались довольно тяжелыми. Опустели обширные провинции, приостановилось развитие местных народов, пришли в упадок экономика, ремесла, культура…
Железнодорожный мост через Нигер у Джеббы
О пальмовом масле быстрее всех в Европе, в начале XIX века, вспомнили в Англии. Оно оказалось незаменимым сырьем для производства мыла, стеариновых свечей, ему нашли широкое применение в качестве смазочного материала на железнодорожном транспорте, на фабриках и заводах. Те же английские купцы, занимавшиеся ранее торговлей рабами на своих «Энтепрайзах», «Джонах», «Сан-Аугустинах», стали заполнять их трюмы пальмовым маслом и еще больше наживаться на этом товаре.
В конце 30-х годов прошлого века из дельты и прилегающих к ней районов было вывезено свыше 14 тысяч тонн пальмового масла. С того времени низовье Нигера и начали называть «ойл ривер» — «масляная река».
— Дельта и ее окрестности по-прежнему остаются крупным поставщиком пальмового масла, — продолжает свой рассказ Оладжола. — Случается, в иной год отсюда экспортируется до двухсот тысяч тонн этого ценного продукта. Но первую скрипку здесь уже играет не «масляная индустрия», да и в название «ойл ривер» смысл вкладывается иной. …Окрестный пейзаж меняется. В мангровых зарослях замелькали буровые вышки, циклопические круглые хранилища. Нынешняя дельта прежде всего — крупнейший район Нигерии по добыче нефти. Из многих скважин почти трехсот месторождений нефть по трубам-ручейкам стекается к станциям перекачки, образуя мощный поток. «Ойл» по-английски — и «масло», и «нефть». Так вот, «ойл ривер» означает теперь «нефтяная река».
Дельта, может быть, не Кувейт или Саудовская Аравия, но в последние годы она уверенно вошла в число основных мировых источников нефти. В ее недрах разведано около трех миллиардов тонн «черного золота» и с триллион кубометров природного газа. Поиски нефти продолжаются, и довольно часто геологи находят ее новые «родники».
Лоренс Оладжола хорошо знаком с состоянием дел в нигерийской нефтяной промышленности.
О наличии нефти в дельте было известно давно. С незапамятных времен люди считали выходящую на поверхность в некоторых местах черную жидкость со странным запахом «соком земли» и использовали ее для лечения телесных ран по-иному посмотрели на это явление природы побывавшие в дельте специалисты синдиката «Шелл-Бритиш петролеум», созданного англо-голландским консорциумом «Ройал Датч-Шелл» и английской компанией «Бритиш петролеум» для поисков и добычи нефти в Нигерии. Они обратили внимание на сходство дельты Нигера с дельтой американской реки Миссисипи. Поскольку там были обнаружены богатейшие запасы «черного золота», возникло предположение, что и нигерская дельта может иметь нефть. Предположение подтвердила геологическая съемка, и в 1937 году «Шелл-Бритиш петролеум» начал в дельте широкую разведку на нефть.
Заправил синдиката не страшили миллионные издержки на проведение изыскательских и буровых работ. Им, как и прежним искателям наживы, виделся все тот же ярмарочный призовой столб. В период второй мировой войны поиски нефти были приостановлены. К концу 1946 года после их возобновления «Шелл-Бритиш петролеум» уже не сомневался в наличии крупных месторождений нефти в дельте и мог бы наладить ее добычу. Но этого не последовало. Более того, официально объявлялось о «трудностях» затеянного предприятия, о бесперспективности разработки обнаруженных залежей из-за «мизерного наличия нефти». Между тем одновременно велась крупная закулисная игра. Пользуясь покровительством британских колониальных властей, синдикат захватывал все новые и новые концессии. Все делалось для того, чтобы поставить грабеж нигерийской нефти на широкую ногу и ограничить к ней доступ конкурентов — других иностранных монополий.
Промышленная добыча нефти в дельте началась в 1958 году. Восемь лет спустя местные скважины дали двадцать с половиной миллионов тонн нефти, а уже в 1973 году Нигерия перешагнула стомиллионный рубеж…
Наш катер между тем причалил к небольшому каменному пирсу, и мы выбрались на берег, где когда-то были владения «Шелл-Бритиш петролеум». Остров Бонни, южный берег которого вдается в Атлантику, отделен от материка широкой протокой. Учитывая его удобное расположение, консорциум в свое время построил здесь один из своих нефтесборочных пунктов. На огромной площадке, окруженной с трех сторон буйными зарослями, торчали круглые серебристые резервуары, рядом с которыми двухэтажное здание контрольной станции казалось игрушечным. От каждого из них к эстакаде, уходящей метров на триста в океан, пролегли трубопроводы. В конце эстакады, заполняя нефтью свое чрево, замер махина танкер.
Неподалеку от причала расположился город с тем же названием, что и остров, куда мы добрались по пыльной дороге. Бонни увяз в песке, жилища сплошь и рядом деревянные под пальмовыми листьями, изредку покрытые жестью. На площади Икугба единственные на весь город два «небоскреба» двухэтажные дома местных вождей.
Это был тот самый Бонни, ставший уже в XVI веке пристанищем для европейских мореплавателей. Долгие годы он видел слезы и страдания африканцев, увозимых в рабство. Здесь король Уильям Пёпль поднял свой народ на борьбу с колонизаторами. А потом, вплоть да начала нынешнего столетия, Бонни оставался главным перевалочным центром в Западной Африке по отправке из дельты в Европу пальмового масла.
Я пытался отыскать в городе хоть какие-то черты современности. Тщетно. Стрелка часов Бонни замерла на циферблате истории против отметки «XIX век».
На главной улице Кейбл-роуд нам повстречался местный горожанин. На его непокрытой голове пробивались завитушки седых волос. Он, видно, собрался рыбачить — через правое плечо была перекинута сухая сеть.
Чуку Сегун — коренной житель Бонни. В 40-х годах попал в поисковую партию к геологам «Шелл-Бритиш петролеум». Облазил с ними дельту вдоль и поперек. Когда на острове построили нефтесборочный пункт, Чуку Сегуна определили сторожем, а в 1970 году прогнали.
— Как это?
— Очень просто. Вызвал управляющий, показал железные трубки со стеклянными глазами и говорит: «Они теперь будут вместо сторожей». С того времени рыбалкой промышляю, тем и кормлюсь, — нахмурился Чуку Сегун.
Да что я? Остров оказался в зоне концессий «Шелла». Нефть пошла, думали, жизнь у нас изменится к лучшему. При нефти, говорят, много производств разных развивается. Да напрасно надеялись. Был построен нефтесборочный пункт, и потекло наше счастье неведомо куда…
После недолгого молчания спросил, когда мы будем на материке.
— Часа через два возвращаемся.
Может, встретите где Адафе Сегуна, сына моего. Он в государственной компании буровиком работает. Передайте, чтоб домой при случае заскочил, давно не виделись…
В тот же день, пересев с катера на мою автомашину, мы были далеко от Бонни. До места, куда направлялись, вело гладкое асфальтовое шоссе. Я удивился.
— Жалуются, что в дельте плохие дороги, а тут, оказывается…
— Правильно жалуются. Дорог понастроено нефтяными компаниями немало. Только куда по ним уедешь? Как ни крути, все равно попадешь на нефтепромыслы.
Вскоре мы были у буровой. С вышки, на которую поднялись, было видно, как то там, то здесь над лесом вырывались розовые столбы пламени. Они колыхались на ветру и чадили, как заводские трубы.
Красивое зрелище? — спросили меня буровики, когда мы спустились на землю. — Да больно смотреть, как днем и ночью сгорает попусту наш природный газ.
С открытием нефти появилась было надежда на его использование, — пояснил Лоренс Оладжола. — Но иностранные компании наотрез отказались заниматься газом. В результате каждые сутки мы лишаемся почти двух миллиардов кубических футов газа. Словом, по вине компаний выбрасываются на ветер в буквальном смысле слова богатства нигерийских недр. Да что там газ…
Были у нас еще встречи с другими нигерийскими нефтяниками. И ни у кого не нашлось доброго слова о чужеземных компаниях.
Открытие и начало добычи нефти породили у нигерийцев немало радужных надежд. Но вскоре они убедились, что «Шелл-Бритиш петролеум» и иже с ним пекутся лишь о собственной выгоде и их вклад в социально-экономическое развитие страны ничтожно мал, далеко не такой, каким его расписывали подголоски компаний. Синдикат и другие фирмы присвоили себе исключительное право на разработку нигерийских нефтяных богатств, беспрепятственное создание всей инфраструктуры в своих корыстных интересах. Используя отсутствие у Нигерии опыта, местных кадров, западные компании скрывали данные нефтеразведки, монополизировали транспортировку, переработку и сбыт нефти.
Добыче «черного золота», как правило, должны сопутствовать развитие нефтеперегонной и газовой промышленности, создание комплексов по производству химических продуктов, минеральных удобрений, строительство предприятий по обеспечению нефтепромыслов различным оборудованием. Ничего подобного западные монополии в Нигерии не делали, выдвигая аргумент, что, дескать, сфера их деятельности — «только добыча нефти». Они наотрез отказывались выполнять требования правительства о содействии с их стороны в подготовке местных кадров нефтяников и постепенной передаче нигерийцам руководящих постов в нефтедобывающей промышленности. Все делалось для того, чтобы помешать молодому государству самостоятельно наладить добычу нефти. Нигерии были навязаны грабительские концессионные соглашения. В результате в ее казну поступало что-то около 80 центов из 11 долларов, составлявших в 50-60 годы среднюю цену одной тонны нефти. «Масляная река» долгое время текла по сути только в одном — западном направлении.
…По пути в Порт-Харкорт к нам в машину напросился парень. Он как-то неожиданно выскочил на шоссе, метрах в пятидесяти из придорожного буша, ничуть не думая, насколько это опасно для жизни, и стал махать пальмовой ветвью, которую держал в правой руке. Я резко затормозил. Парень, тяжело дыша, подошел к высунувшемуся из окна автомашины Лоренсу Оладжоле. Я уже заранее приготовился к тому, что мой попутчик всыплет сейчас наглецу по первое число. Не тут-то было. Лоренс Оладжола не стал ничего выговаривать парню, наоборот, участливо спросил, что ему нужно. Парень взволнованно начал рассказывать…
— Все ясно! — оборвал его Оладжола на полуслове и, повернувшись ко мне, сказал:
— Беда в деревне: гусеница на плантации лезет. Одни никак не могут ее одолеть. Соседнее селение на помощь зовут. Оно километрах в двух по ходу. Подбросим, а? У людей каждая минута дорога…
Мы высадили парня у развилки дорог, и он побежал, не выпуская из руки пальмовую ветвь.
— Это сейчас с пальмовой ветвью, как с веером, разгуливают. А было время, когда человека, имевшего ее в руках, без всяких церемоний в тюрьму засаживали, — сказал Оладжола. Ему хотелось показать, что он знает не только сегодняшний, но и вчерашний день Нигерии…
Нигерийский народ никогда не мирился с тяжелой участью, уготованной ему чужеземными поработителями, и вел упорную борьбу за свое освобождение. Выступления против колонизаторов вспыхивали повсеместно. Горожане требовали вернуть им земельные участки, отторгнутые колониальными чиновниками. Крестьяне настаивали на снижении непомерных налогов, повышении закупочных цен на свои продукты.
Эхо выстрела «Авроры» быстро докатилось и до Нигерии. Неграмотные, придавленные колониальным гнетом нигерийские рабочие и крестьяне своим классовым чутьем поняли и приветствовали Октябрьскую революцию. Колонизаторы пытались любыми средствами ограничить доступ в страну информации о Советской России. Они запретили не только сообщать о ней что-либо в местной печати, но и даже упоминать само название нового государства. Но правду невозможно скрыть. По различным каналам в Нигерию стали проникать сведения о далекой стране, и каждое собрание, митинг, демонстрация начинались с рассказа о ее делах.
Под влиянием Октябрьской революции пробудилось самосознание нигерийцев. В стране появились первые политические партии, профсоюзные объединения. На сходках все громче зазвучали требования о свободе и социальной справедливости. Напуганные массовыми выступлениями, колониальные власти обрушили репрессии в первую очередь против тех нигерийцев, кто говорил правду о Советском Союзе. Однако сопротивление нигерийского народа нарастало. В разных городах и провинциях участились вооруженные столкновения.
Одно из таких восстаний в конце 20-х годов охватило всю юго-восточную часть дельты. Возмущенные поборами, местные жители направили колониальным властям петицию, в которой просили уменьшить размер налога. Те отмахнулись от петиции, более того, приказали полицейским забирать у крестьян скот, птицу, домашнюю утварь, взимать деньги не только с мужчин, как это делалось ранее, но и с женщин.
Одной из первых отказалась платить налог Нваньерува, жительница селения Олоко, выставившая за дверь двух колониальных чиновников. Нваньерува понимала, что одной ей не устоять, чиновники могут вернуться с карателями. Она отобрала несколько девушек и наказала им известить жителей окрестных городов и деревень о необходимости совместных действий. Каждой из них была вручена ому — пальмовая ветвь, означавшая просьбу о помощи. Полицейские ищейки, узнав о значении ому, бросились наперехват, но девушки уходили от погони. Вскоре против колонизаторов поднялась вся округа…
Знаменательная победа Советского Союза над фашизмом послужила могучим стимулом для освободительной борьбы угнетенных народов. В качественно новых условиях выступления нигерийцев стали приобретать антиколониальный характер. 22 июня 1945 года в стране началась первая в ее истории всеобщая забастовка. По распоряжению генерал-губернатора было введено чрезвычайное положение. Власти запретили выпуск газет, поддерживавших бастующих. Полиция хватала руководителей и простых участников стачки. Тем нe менее колонизаторы не могли сломить сопротивление. На место выбывших борцов становились все новые и новые рабочие промышленных предприятий и строек, железнодорожники, служащие почт и телеграфа.
1 августа колониальные власти пошли на попятную: увеличили рабочим и служащим зарплату, как того требовали стачечники. Этот успех вызвал в стране очередной подъем антиколониального движения. Однако победы давались нелегко. Как и ранее, аресты следовали за арестами, один нигерийский народ натравливался на другой. При малейших выступлениях против колонизаторов в восставших летели пули.
В пятницу 18 ноября 1949 года полиция устроила расправу над бастовавшими горняками шахты Ива Велли на окраине Энугу. Было убито 18 человек и свыше 30 ранено. Расстрел шахтеров преследовал цель запугать рабочий класс, подавить его борьбу в защиту своих интересов и прав. Но колонизаторы просчитались. Гонцы передали ому жителям многих нигерийских городов и селений. «Кровавая пятница» в Энугу вызвала небывалое негодование правлением колонизаторов. В стране беспрерывно стали проходить забастовки железнодорожников, горняков Энугу и Джоса, рабочих лесопильных предприятий в Сапеле. Движение против иноземного гнета выплеснулось за рамки этнических границ и стало делом всего народа.
Не все нигерийцы дожили до счастливого дня. Но там, где ступили первые борцы, осталась тропинка. По ней пошли другие люди и проложили дорогу к свободе.
…Вечером я был в порт-харкортовском кинотеатре. Вначале, как обычно, запустили кинохронику. Не за горами был День независимости, и к этому национальному празднику подобрали соответствующую киноленту.
С первых кадров мы, сидящие в зале зрители, почувствовали себя как бы участниками памятного для каждого нигерийца события.
Ночной Лагос
Кинооператор запечатлел на пленке ипподром, что в центре Лагоса, в полночь за несколько минут до наступления 1 октября 1960 года. Слепящие лучи прожекторов, скользя по трибунам, выхватывают из темноты радостные лица горожан и гостей. Изредка столб света набегает на мачту посреди ипподрома с обвисшим английским флагом. Часы начинают отсчитывать последние секунды 30 сентября. Неожиданно разом гаснет свет, ипподром погружается в кромешную тьму. Приумолкли на трибунах люди. Чуткая техника донесла скрип колесиков: это с мачты спускали английский флаг. Небольшая пауза, и колесики весело заверещали. В этот момент мачту залил свет. Луч прожектора, похожий на блестящий меч, отсек прошлое столетнее колониальное рабство, высветил дорогу в будущее. На мачте затрепетал зелено-бело-зеленый флаг нового независимого государства Африки. Оркестр заиграл национальный гимн, тысячи людей дружно заскандировали: «Да здравствует независимая Нигерия!». Ввысь помчались, как сказочные жар-птицы, ракеты, разбрасывая в темном небе фонтаны искр праздничного фейерверка…
У селения Орлу нет такого исторического родословия, как у Бонни. Да и лежит оно в стороне, километрах в двадцати, справа от бойкой дороги Оверри — Онича. Поначалу непонятным было намерение Лоренса Оладжолы наведаться туда.
К тому же он не стал вдаваться в подробности — дескать, в свое время узнаешь, что к чему.
Километрах в двух перед Орлу он попросил остановить автомашину и повел в лес. Под зеленым пологом было сумрачно. Застоявшаяся банная духота отдавала гнилью, удушливыми испарениями. Порывы верхового ветра изредка размыкали кроны деревьев. Тут же в просветы врывались золотые снопы солнечного света, и тогда казалось, будто кто-то кверху шарит карманным фонариком, выхватывая в полумраке лианы, мелких зверюшек, ползающих по стволам красных муравьев и черных жуков. Спотыкаясь почти на каждом шагу, продираясь сквозь колючие заросли, мы вскоре вышли на небольшую захламленную площадку, судя по всему, расчищенную когда-то для постройки жилища.
Это был отнюдь не дом в нашем понимании, хотя и развалившийся. На семи столбах покоились бамбуковые жерди. Они служили опорой для крыши из пальмовых листьев, остаток которой в виде небольшого настила сохранился лишь в одном месте. Стены заменяли густые заросли.
— Когда-то тут было последнее прибежище Одумегву Оджукву, — сказал Лоренс Оладжола. — Все это — жалкие остатки его «империи»… Одумегву Оджукву — довольно одиозная фигура среди политических деятелей Нигерии. Деньги отца, который был одним из крупнейших бизнесменов страны, распахнули перед ним двери привилегированного колледжа Линкольна при Оксфордском университете в Англии. После его окончания Оджукву некоторое время работал гражданским чиновником. Но вскоре бросил это занятие и поступил на военную службу. Здесь-то не без помощи родительских банкнот он быстро сделал головокружительную карьеру, дослужившись на пять лет от лейтенанта до подполковника. Оджукву отличался высокомерием, амбициозностью, умел маскироваться, считал себя незаменимым. Эти черты характера оказались семенами, из которых пышным чертополохом проросли эгоизм и мания величия. Не желание служить народу и быть ему полезным, а заставить народ служить себе вот что возобладало в мыслях Оджукву. Тем более что обстановка в Нигерии в тот период была ему на руку.
Английские колонизаторы любили говорить, что они оставили Нигерию после своего правления эдакой «витриной западного мира», «образцом стабильности и процветания», «страной демократии и порядка». На самом деле под фундамент ее будущего суверенного развития заложили мину замедленного действия огромной разрушительной силы.
Лагос: небоскребы наступают
Еще задолго до того, как Нигерия стала независимой, Лондон разработал для нее конституцию, которая во многом повторяла свод законов Великобритании. Согласно конституции, принятой в 1947 году, Нигерия была размежевана на три области — Северную, Западную, Восточную и федеральную территорию Лагос. Границы Северной области охватили район, равный примерно 2/3 территории страны, где проживало более половины всего населения (в основном хауса). Она была менее развита экономически, чем другие районы, и находилась во власти эмиров и традиционных вождей, опасавшихся каких-либо радикальных перемен и радевших за сохранение старых порядков. К Западной области отошли провинции, населенные главным образом йоруба, к Восточной — игбо. Тем самым была создана серьезная преграда на пути к сплочению нигерийских народов, поскольку каждое из указанных племен, придерживаясь пагубных националистических тенденций, претендовало на ведущую роль в стране.
В 1963 году в Нигерии вступила в силу новая конституция. Но она представляла собой по сути прежний трактат, лишь слегка подлакированный. По этой конституции, за счет разукрупнения Западной области власти создали еще один административный район — Среднезападную область. Таким образом, Нигерия стала федерацией, состоящей из четырех районов. Однако и эта мера, направленная на то, чтобы хоть как-то исключить возможность доминирования жителей какого-либо региона над всей страной, не сгладила межплеменных противоречий. Нигерию лихорадило от бесконечных политических скандалов и социальных потрясений. Положение усугубляли старые язвы — взяточничество, коррупция, казнокрадство. Политические партии, созданные на этнической основе и выступавшие ранее сообща, единым фронтом на решающем этапе национально-освободительной борьбы, что позволило Нигерии обрести независимость, погрязли в междоусобных распрях.
С кризисной ситуацией взялась покончить армия. В январе 1966 года был совершен государственный переворот, и власть захватил генерал А. Иронси. Он отменил конституцию, распустил гражданские органы управления, запретил всякую политическую деятельность. Решив одним ударом разрубить узел этнических и региональных проблем, генерал подписал декрет № 34 об унитарной форме правления, то есть о ликвидации четырех федеративных областей и установлении централизованной власти. Территория страны была поделена на ряд провинций. Они, в свою очередь, объединялись в группы, в каждой из которых всеми делами заправлял военный губернатор, назначаемый центральным правительством. Одним из них губернатором восточной группы провинций, иначе называемой Восточной Нигерией, — стал Оджукву.
Перед 33-летним подполковником открылось широкое иоле деятельности. Нигерия лишь недавно вступила на путь независимости. Нужно было строить заводы и фабрики, школы и больницы, дома, прокладывать дороги, кормить, учить людей… Но Оджукву меньше всего думал об этом. Он занялся прежде всего наращиванием «мускулов» — начал создавать собственную армию и полицию. В его выступлениях все чаще стали проскальзывать слова о необходимости «самоопределения» игбо.
Умудренные опытом чиновники понимали, что декрет № 34 мало что менял (группы провинций были созданы таким образом, что их границы совпадали с границами прежних областей). Северяне же расценили его как посягательство на свою автономию. Утратив прежнее преобладающее влияние, эмиры, вожди, партийные функционеры, смещенные государственные служащие усмотрели в этом намерение игбо, представителями которого были А. Иронси и его окружение, навязать стране свою гегемонию. Недовольство вызывало и то, что на лучшие посты в армии, государственных учреждениях, на дипломатической службе назначались в основном восточнонигерийцы. В стране участились кровавые столкновения между племенами, обострилась обстановка.
В этих условиях в июле 1966 года произошел второй военный переворот. Правительство Якубу Говона попыталось сбить накал страстей. Было объявлено о возвращении Нигерии к федеральной системе управления, для чего власти образовали комитет по подготовке новой системы административного устройства. Вместо четырех групп провинций предполагалось создать определенное, возможно большее, число штатов. Эта мера, с одной стороны, позволяла покончить с доминированием того или иного района; с другой — в какой-то степени учитывала интересы меньшинств.
Но Оджукву и слышать не хотел о предстоящей реформе. Он в открытую отвергал идею создания штатов, навязывал превращение Нигерии в конфедерацию, разделение армии по племенному признаку, фактически вел дело к расколу страны.
27 мая 1967 года федеральное правительство обнародовало декрет о создании федерации из 12 штатов. Оджукву не был обойден вниманием: стал губернатором Восточно-Центрального штата. Однако спустя три дня, 30 мая, он заявил об отделении Восточной Нигерии, на территории которой было теперь три штата, от федерации и создании независимой республики Биафра. Обуреваемый имперскими замашками, Оджукву надеялся со временем утвердиться в качестве правителя всей Нигерии, ну а потом… Его настольной книгой стала «Майн кампф» Гитлера.
Уже первые шаги Оджукву показали, что его намерение добиться «самоопределения» Биафры — лишь дымовая завеса, чтобы скрыть истинный замысел. Сепаратисты силой пытались подчинить себе население соседних штатов, наметили взять Лагос, то есть их политика была нацелена на то, чтобы захватить власть во всей стране.
Лояльность или, наоборот, скрываемая неприязнь — лучший барометр отношения народа к планам нового режима. На двенадцать с половиной миллионов жителей Восточной Нигерии пять с половиной миллионов приходилось в то время на эфик, экои, иджо, ибибио и другие племена. Эти меньшинства не поддержали идею создания отдельного государства. Под знамена сепаратизма стали лишь игбо — соплеменники Оджукву, одурманенные националистической пропагандой.
Сил все же явно не хватало, и новоявленный «император» развернул вербовку наемников. В Биафру слетелись южноафриканские головорезы и «псы войны», пытавшиеся ранее задушить по указке Запада национально-освободительное движение в Бельгийском Конго (ныне Заир). Оджукву сформировал из них под командованием бывшего гитлеровского фельдфебеля Штайнера, которому присвоил звание «полковник», четвертую диверсионно-десантную бригаду. Эмблемой трех тысяч наемных убийц, входивших в бригаду, стала эмблема СС — череп со скрещенными костями.
События в Нигерии заострили проблему ее единства и единства всей Африки. Оказалось, что у сепаратистов есть сторонники — прежние поработители африканских народов. Империалистические круги Запада подхватили идею Оджукву о том, что «самоопределиться» в Нигерии может любое племя, сколько бы их ни было. Тезис этот полностью устраивал всех тех, кто мечтал о расколе Африки. В случае, если бы Биафра стала живым примером успешного отделения, на континенте, где национальный (или племенной) вопрос очень болезнен, началась бы цепная реакция. Различные этнические группы увидели бы в балканизации быстрый и «модный» путь к самоопределению. В итоге революционные силы Африки были бы вовлечены во внутренние междоусобицы, оставив в стороне борьбу за национальное освобождение от неоколониализма, за социальный прогресс и африканское единство. Эта хаотическая цепная реакция служила бы интересам только империалистов, но никак не народов Африки. Раскол как внутри отдельных стран, так и в масштабе континента был бы равнозначен новому его разделу и созданию на месте бывших колониальных империй сфер влияния империалистических монополий.
«Солдаты мира» — памятник в Лагосе борцам за единство Нигерии
Именно поэтому западные державы отказались продавать оружие федеральному правительству, используя в то же время любые незаконные средства, чтобы вооружить раскольническую армию Оджукву.
На защиту единства и территориальной целостности Нигерии встало федеральное правительство. В стране началась гражданская война.
Как ни уповал Оджукву на «псов войны», его армия терпела одно поражение за другим. Правительственные войска все плотнее сжимали кольцо окружения, в котором оказались сепаратисты. К середине 1969 года Биафра удерживала под своим контролем лишь десятую часть бывшей Восточной Нигерии. Оджукву нашел себе укрытие неподалеку от Орлу. 11 января 1970 года он бежал оттуда с семьей и несколькими ближайшими сообщниками за границу на самолете, который держали для него наготове в условленном месте.
Внутренний кризис отозвался тяжелой болью для нигерийского народа. В ходе войны погибло свыше миллиона людей. Были выведены из строя многие промышленные предприятия, нефтепромыслы, разрушены десятки городов и деревень, повреждены шоссейные дороги, мосты. Материальный ущерб, причиненный гражданской войной, достиг миллиарда долларов. Немалая сумма для Нигерии, если к тому же учесть, что она составляла почти треть ее тогдашнего национального продукта.
Масштабы внутреннего кризиса, жертвы, разрушения, вызванные им, были бы гораздо меньшими, если бы не закулисная игра нефтяных монополий.
Территория Биафры охватывала дельту и часть провинций, где «Шелл-Бритиш петролеум», завладевший большей частью нефтеносных площадей, все шире разворачивал добычу «черного золота». Конкуренты — американские компании «Мобил», «Галф», «Тексако», французская САФРАП, итальянская АДЖИП и другие, оказавшись обделенными, спали и видели, как бы обставить синдикат. В движении сепаратистов «акулы» нефтяного бизнеса усмотрели реальную возможность передела «сфер влияния». На счета Оджукву потекли деньги, по разным каналам ему начали переправлять оружие. Расчет был таков — Биафра закрепит свое отделение и тогда не синдикат, а ее «союзники» начнут контролировать один из крупнейших источников нефти.
Народам разных стран известно немало трагедий, когда ради обладания источниками нефти империалисты приносили и приносят в жертву жизни миллионов людей. Не случайно поэтому появилась горькая, но вполне определенно раскрывающая смысл их деяний фраза «капля нефти стоит капли крови». Гражданская война в Нигерии — еще одно тому подтверждение.
Мы пробыли в лесу под Орлу ровно столько, сколько длился рассказ Лоренса Оладжолы о Биафре и ее лидере. Уже собрались уходить, как налетел сильный ветер. Заходили стволы деревьев, сцепились ветвями кроны. От раскачки обвалился чудом уцелевший кусок крыши жилища, построенного так же непрочно, как и замешанная на гнилой закваске национализма «империя» Оджукву.
С прекращением существования Биафры рухнули и планы врагов Нигерии. Они рассчитывали, что после кризиса страна будет ослаблена и вряд ли сможет противостоять неоколониалистскому натиску. Нигерия, однако, вышла из серьезного испытания не надломленной, а полной веры в свои силы. В историю же деяний нефтяных компаний была вписана еще одна черная страница.
В тот же день я был в Алеса-Элеме, километрах в пятнадцати к юго-востоку от Порт-Харкорта. От города туда минут десять хода на машине. Уже при выезде из Порт-Харкорта, впереди на плоской равнине с редкими пальмами, замаячили блестящие металлические колонны и похожие на огромные кастрюли резервуары. По мере приближения они вырастали на глазах до неимоверных размеров. Это местный нефтеперегонный завод. Я подъехал к административному зданию с вывеской «Нигерийская нефтеперерабатывающая компания».
Меня принимал в своем рабочем кабинете инженер Фаволе Эке. Кабинет как кабинет: письменный стол, на котором два открытых ящичка — для «in» («входящих») и «out» («исходящих») документов, вертящийся стул, где восседал хозяин, два кресла для посетителей.
Фаволе Эке — из новой плеяды молодых нигерийцев, выпускников местных университетов. Таким, как он, федеральные власти, делающие ставку на национальные кадры, все более передают бразды правления в промышленности. Хозяин кабинета, видимо, не раз имел дело с журналистами и сразу же после знакомства и обычных в таких случаях взаимных любезностей стал рассказывать о заводе.
Вопрос о строительстве предприятия возник сразу же после 1960 года, когда Нигерия добилась независимости. «Шелл-Бритиш петролеум» скрепя сердце был вынужден согласиться с требованием правительства о сооружении на территории страны завода, как только добыча нефти синдикатом превысит 500 тысяч тонн. Выбор пал на местечко Алеса-Элеме: оно находится неподалеку от нефтепромыслов, автомобильных и железной дорог, а также морского порта. Завод вступил в строй в конце 1965 года и перерабатывал полтора миллиона тонн сырой нефти в год.
С его пуском Нигерия несколько сократила затраты на импорт нефтепродуктов. Однако полностью проблема снабжения топливом не была решена. Четырнадцать лет, до ввода в число действующих более мощного завода в городе Варри, Нигерии приходилось закупать на внешних рынках бензин, керосин, расходуя ежегодно изрядные средства. И это при собственной нефти! Какой горький парадокс.
В войну с сепаратистами предприятие сильно пострадало, но уже в мае 1970 года, спустя пять месяцев после ее окончания, было полностью восстановлено, реконструировано и стало выдавать продукции в два раза больше своей первоначальной мощности. Заводом немало лет распоряжался синдикат.
— Потом правительство отказалось от его услуг. Оборудование и агрегаты взялись обслуживать местные специалисты. Мы тем самым подрубили ярмарочный «столб с призом» и направили «масляную реку» в новое русло, — Фа-воле Эке закурил. — Не только в Алеса-Элеме…
В апреле 1971 года правительство создало Национальную нефтяную корпорацию. Иностранные бизнесмены и иже с ними тут же окрестили ее «мальчиком, который не скоро вырастет из коротких штанишек». Но «мальчик» оказался акселератом, вопреки предсказаниям, быстро вытянулся из «одежек» и стал, как ему и следовало, серьезным конкурентом западных монополий.
Создание корпорации вызвано всем ходом послевоенного развития молодого государства. С окончанием гражданской войны Нигерия вступила в не менее трудный этап — борьбу за экономическую самостоятельность. На этом этапе со всей остротой стоит проблема утверждения законного права распоряжаться собственными природными ресурсами, и прежде всего главным природным источником богатства — нефтью — в интересах нации.
Корпорация рассматривается федеральным правительством в качестве инструмента государства, призванного вытеснить иностранные монополии из нефтедобывающей промышленности. Ей поручено заниматься разведкой, добычей, сбытом и переработкой нефти, кроме того — строительством нефте- и газопроводов. Она имеет возможность отчуждать на территории страны собственность любой иностранной компании, заключать соглашения с любыми фирмами о совместной деятельности. Корпорации были переданы все ранее не сданные в аренду нефтеносные участки.
Первым важным шагом «мальчика» после рождения стало 35-процентное долевое участие в добыче и экспорте нефти с французской компанией САФРАП, итальянской АДЖИП. Затем последовали более решительные меры: в апреле 1974 года корпорация стала обладательницей контрольного пакета акций основных иностранных компаний, добывающих нефть в Нигерии, в том числе «Шелл-Бритиш петролеум», на долю которого приходилось две трети извлекаемого сырья. Это был смелый вызов западным монополиям: синдикат и другие компании лишились возможности быть безраздельными хозяевами нигерийской нефти. В июле 1979 года на нефтяном небосклоне окончательно закатилась и звезда «Шелл-Бритиш петролеум»: местные власти национализировали его английскую часть.
Нигерия сумела добиться от монополий повышения так называемой справочной цены на нефть, на основе которой ведется отчисление доходов с каждого добытого барреля «черного золота». Она вступила в Организацию стран — экспортеров нефти и вместе с другими нефтедобывающими государствами последовательно отстаивает свои интересы. Перелом в отношениях с иностранными компаниями, перестройка нефтяного сектора позволили Нигерии резко увеличить доходы от нефти — с 240 миллионов долларов в 1970 году до 27 миллиардов долларов в 1980-м. Изменившая по воле нигерийского народа свое течение «масляная река» стала работать для блага молодого государства.
Возросшие поступления от нефти позволили стране окрепнуть после гражданской войны, за короткое время справиться с вызванной ею разрухой. Нигерию охватил экономический бум. В разных местах один за другим закладывались заводы и фабрики. Скоростные автострады связали многие города. Развернулось строительство школ, колледжей, университетов, больниц. Расходы не смущали. Предполагалось, что хлынувший «золотой дождь» станет еще обильнее: «масляная река» скоро начнет приносить 40 миллиардов долларов в год. Временное богатство породило иллюзию, что «госпожа», как уважительно здесь начали называть нефть, «может все». Появился даже честолюбивый замысел: в сравнительно короткий срок, за двадцать лет, превратить Нигерию в высокоразвитую страну с мощной национальной промышленностью и современным сельским хозяйством.
При «золотом дожде» редко кто вспоминал, что экономика и финансы страны фактически полностью зависят от экспорта нефти и что ставка на одну «госпожу» — ненадежный выбор. Спад, охвативший мировое капиталистическое хозяйство, к которому привязана Нигерия, показал уязвимость ее экономики от внешних воздействий. А их она никак не может контролировать. В мире резко сократился спрос на жидкое топливо, и, как следствие этого, произошло падение на него цен, спровоцированное западными монополиями. Молодое государство оказалось не в состоянии эффективно снизить свою зависимость от нефти, как основного источника доходов. Добыча «черного золота» в стране, ранее составлявшая 120 миллионов тонн в год, сократилась почти вдвое, а с ней уменьшились и валютные поступления. Вместо «золотого дождя» обрушился ледяной ливень. «Масляная река» замедлила, но не остановила свой бег по новому руслу. В целях оздоровления экономики власти решили прибегнуть к более широкому использованию местных ресурсов, оживить традиционный сектор — сельское хозяйство, увеличить производство товаров, за которые прежде приходилось расплачиваться валютой… Не сбрасывается со счетов и нефть. И здесь предстоит сказать свое слово Национальной нефтяной корпорации. Она намерена наряду с жидким топливом экспортировать природный газ, расширить самостоятельную добычу нефти. Усилия корпорации в этом направлении долгое время сдерживались нехваткой собственных кадров. Однако уже наметились серьезные перемены. С помощью Советского Союза в городе Варри создан институт, выпускающий ежегодно по пятьсот специалистов-нефтяников. Какой мизерной по сравнению с этим количеством выглядит цифра 340 — всего лишь столько местных нефтяников подготовил «Шелл-Бритиш петролеум» за долгие годы своей деятельности в Нигерии.
Борьба нигерийского народа за нефть неразрывно связана с другими мерами, направленными на ослабление влияния иностранных монополий, на широкое участие национального капитала в сфере производства, транспорта, торговли.
Важным элементом экономической политики страны за последние годы стало формирование и укрепление государственного сектора. Включая в него все новые предприятия, правительство создает плацдарм для окончательного освобождения Нигерии от засилья западных монополий, пустивших глубокие корни в ее экономику при колониальном правлении.
…С сыном рыбака с Бонни я где-то разминулся. Но у меня была другая встреча, о которой нельзя не упомянуть, — с нигерийским инженером Огбона Бисалла на нефтепромысле близ Огуты, где Национальная нефтяная корпорация начала разработку одного из открытых ей самой месторождений.
Время от времени дверь дома-вагончика на колесах отворялась — заходили за советом, и тогда врывался скрежет громыхающей буровой. Инженер в промасленной спецовке, деловито отдавая указания нигерийцам-буровикам, держался по-хозяйски. Накоротке разговорились.
— Сейчас много говорят о судьбе дельты и всей Нигерии, — сказал Огбона Бисалла. — «Ойл ривер» пережила эру рабов, эру пальмового масла, эру «Шелл-Бритиш петролеум». Но то были времена разрушения, а не созидания. Теперь началась новая эра — эра независимой Нигерии. Наш народ строит новую жизнь и возвращает себе то, что принадлежит ему по праву…
«Золотая гусыня»
Узкая дорога ведет сквозь джунгли. Впрочем, название это не очень вяжется со здешним прореженным лесом. В просветах видны плантации маиса, ананасов, ямса, каучуконосной гевеи. От дороги, как ручейки, растекаются к плантациям тропинки. И все же от прежнего девственного леса кое-что осталось — гибкие лианы оплели стволы деревьев, на дорогу свешиваются полотнища банановых листьев, местами попадаются кущи бамбука.
Дорога сужается. Лианы и кустарник начинают царапать глиняные кувшины, которые я несу, цепляться за одежду. Впереди меня вышагивает рослый парень. У него тоже по кувшину в каждой руке. Через правое плечо переброшен широкий пояс и моток веревки. Слева за ремень серых шортов заткнут мачете — похожий на меч широкий нож.
Моего попутчика зовут Акин.
Пока мы идем, я немного расскажу о нигерийских именах. Как и в других странах Западной Африки, в Нигерии еще до прихода европейцев сложилась довольно самобытная система имен. На протяжении веков в этой системе отбиралось лучшее и передавалось следующим поколениям. Даже появление европейских миссионеров, вторжение колонизаторов не поколебали устоявшуюся традицию.
А ведь чего только ни делали иноземцы: внушали местным народам чувство стыда за «языческое происхождение», заставляли выбирать себе библейские или католические имена, рассматривая обряд крещения как первый шаг приобщения африканцев к колониальным порядкам. И все это для того, чтобы задушить национальное самосознание африканцев, вылепить из них безропотных исполнителей чужой воли.
Конечно, кое-кого удалось сломить. Тем не менее в Нигерии сохранились многие древние имена, не претерпел изменений и сам обрял выбора имени для ребенка.
Обычно мальчиков нарекают через девять дней после рождения, девочек — через семь. Близнецы получают имена на восьмой день. На церемонии выбора имени бывает обычно людно: приглашаются сородичи матери и отца, родственники, друзья. Каждый, разумеется, имеет свою «домашнюю заготовку», памятуя, что нельзя лишь предлагать имя, которое есть у кого-либо из членов семьи новорожденного.
Согласно обычаю, первой высказывается бабушка. Затем слово отцу, потом — матери. Вслед за ними — очередь родственников и друзей. После горячих споров и обсуждений выбирается имя, которому суждено отныне быть именем ребенка.
Имя для здешних людей — не «звук пустой», а своего рода визитная карточка. Оно не только выделяет человека среди соплеменников, но и содержит определенный смысл, имеет свой перевод. Назовется человек, и уже другой, даже совсем незнакомый, безошибочно скажет, будто получил данные от электронно-счетной машины, какой подтекст заложен в имени. Связано оно со временем или местом рождения собеседника, чувствами, которые испытывали при этом родители, или — с традиционными религиозными верованиями.
Так, у йоруба Абиодун — это соплеменник, родившийся во время одного из традиционных праздников. Окон у народности эфик — ночью. Иниэконг у ибибио значит, что мальчик появился на свет, когда была война или межплеменная распря.
При рождении близнецов в семье йоруба одного называют Тайво — тот, кто первый попробовал мир на вкус. Он как бы становится глашатаем, извещающим о приближении другого ребенка, которому дают имя Кехинде. По такому же принципу называют близнецов у хауса: Хасан (старшего), Хусайни (младшего). Если вслед за двойней в семье появляется еще ребенок, то его нарекают Идову, а Идогбе или Алаба — того, кто родился после Идову. Абион, Абиона у йоруба — роды застали мать в дороге или на чужбине. Тоже самое значит имя Узома у игбо. Усунг-Уруа у ибибио — мать родила ребенка по пути на рынок. Дога у кочевников фульбе, обитающих, в северной части страны, — ребенок родился под деревом, где семья расположилась на ночлег.
Реакцию на прибавление семьи выражают по-разному. Огбона — сын похож на отца, который доволен таким сходством. Ахамефуна — чтобы мое имя не исчезло из общины. Другими словами, появился первенец мужского рода, и родители надеются, что он останется в своей семье и не уйдет, как уходят дочери, в чужую. Амоке — знать ее — лелеять ее. Аканке — повстречавшись с ней, нельзя ее не приласкать. Озоемена — пусть подобное не случится. Родители тем самым хотят показать, что прежние дети рано умирали или что в семье случались другие беды и они не хотели бы таких повторений.
До сего времени некоторые местные народы и племена поклоняются своим богам и божествам. И нередко семья, выражая почтение «всевышним», называет их именами детей. Олорун, Олокун, Одудуа, Шанго — у йоруба, Экпо, Идионгу, Ндеме — у эфик и ибибио, Нджоку, Чуку, Офо — у игбо…
Бывает еще проще. Родители, чтобы не утруждать себя, нарекают малышей по дням недели. Выходит, известный английский писатель Даниель Дефо, давший одному из своих героев имя «Пятница», — не пионер в этом деле. Так вот, Акин на диалекте йоруба означает «сила». Он и впрямь силен, этот парень: тугой затылок, атлетического сложения, под плотно облегающей рубашкой бугрятся мускулы. Акин не оглядывается, лишь на ходу коротко предупреждает: «Осторожно — яма!» или «Берегись — сломанный сук!». Не до разговоров: мы задержались в деревне, и Акин торопится успеть ко времени сбора тумбо.
На небольшой поляне, окруженной пальмами-рафиями, останавливаемся. Деревья взметнулись вверх метров на пятнадцать-двадцать, их кроны похожи на метелки трубочистов. На некоторых рафиях у самых макушек под листьями привязаны кувшины: Акин подвесил их накануне вечером. Теперь эти кувшины надо снять и заменить пустыми — теми, что мы принесли.
Конечно, взобраться на одно дерево для Акина — пустяк, легкая разминка. Но ему придется не раз повторить этот акробатический трюк. Потому и прихватил пояс.
У ближайшей рафии Акин поставил кувшины на землю, расправил пояс. Обметнул его вокруг ствола, закрепил в пряжке свободный конец. Уперся ногами в ствол, откинулся под углом, так, чтобы пояс оказался на уровне плеч, и, поддергивая его вверх примерно на фут и одновременно переставляя ноги, «пошел» по пальме. Вскоре он был у макушки. Отвязал кувшин с тумбо и спустил на веревке. Еще в деревне Акин пояснил мне, как действовать при сборе тумбо. Поэтому, не мешкая, — каково висеть парню между небом и землей! — я поменял наполненный кувшин на порожний, и он быстро поплыл вверх. Акин привязал сосуд к стволу, надрубил новое соцветие и вставил бамбуковую палочку одним концом в надрез, другим в горлышко кувшина. Еще минута, и «акробат» стоял рядом со мной.
Мы направились к другой пальме. Акин снова «пошел» по стволу, спустил мне кувшин с тумбо. Я привязал пустой, но, наверное, в спешке слабо затянул узел. Кувшин был уже у макушки, когда Акин крикнул: Берегись! Я едва успел отскочить в сторону. Кувшин ударился рядом о землю и развалился на куски. Мне подумалось, что Акин огорчится. Не тут-то было. Он заразительно рассмеялся.
Я смотрел на Акина и не узнавал его: деловит, весел, резвится, как ребенок, от прежней грустной озабоченности не осталось и следа.
…Знакомство наше состоялось задолго до этого. После поездки по стране я возвращался в Лагос. Километрах в тридцати за Ибаданом у перекрестка поднял руку парень. «Голосующих» нигерийцев можно видеть на дорогах довольно часто, особенно если они замечают за рулем автомашины айинбо — белого человека. В отличие от местных водителей айинбо считают зазорным говорить о плате за проезд. Нигерийцы об этом хорошо знают и при случае напрашиваются в машину белого человека. Мне и раньше приходилось подвозить пешеходов. Они обычно словоохотливы и рассказывают немало интересного о своих житейских делах.
Я остановил машину. Парень попросил, если это удобно, подвезти его и груз — полиэтиленовый мешок с минеральными удобрениями до дому. Заодно объяснил, что деревня находится по пути. Как обычно, я ждал, что завяжется разговор, но попутчик оказался молчуном. Сказал только, что его имя Акин и что он ездил в Ибадан за удобрениями. Правда, один раз Акин все-таки оживился. Мы проезжали в это время мимо придорожной лавчонки с корзинами фруктов, овощей и куриных яиц.
— И как это люди не понимают? — осуждающе сказал он.
— Чего?
— Сколько добра понапрасну переводят: яйца едят. Ведь из яйца получится цыпленок, а из цыпленка — курица. Так лучше съесть большую курицу, чем маленькое яйцо.
Я покосился: парень блеснул белыми крепкими зубами, и было непонятно, шутит ли он или говорит всерьез.
Мы проехали километров пятнадцать по шоссе и еще пять по пыльному проселку. В деревне Акина было с тридцать-сорок одинаковых прямоугольных домов из красной глины, крытых пальмовыми листьями. Усадьбы вокруг хижин обнесены невысокими глиняными стенами. Неподалеку от площади выделялся гбам-гбам — дом местного вождя под железной крышей.
На усадьбе Акина в тени четырех пальм прятались две небольшие хижины: по местным обычаям, Мужчины и женщины живут здесь в «отдельных квартирах». Акин вытащил из багажника мешок с удобрениями, принес из дома надколотый кокос, гроздь бананов. Предложил отдохнуть с дороги, подкрепиться.
Как выяснилось, Акин живет с матерью и четырьмя сестрами. Отец недавно умер от укуса эджоу — змеи. На двадцатипятилетнего Акина, единственного мужчину в семье, свалились заботы о матери и сестрах. С грустью в голосе он поведал, что уже давно хотел бы жениться, но… за невесту полагается отдавать выкуп, а оуво — денег нет. Быть же притчей во языцех надоело. В Нигерии нет такого обычая, что существовал, например, в Древней Греции, в Афинах. В особо установленный день в году замужние женщины под улюлюканье вели молодых холостяков через весь город к месту экзекуции. И там-то отводили душу: хлестали розгами за то, что они «потомством своим не хотят служить республике, украшать отечество». Здесь проще: парень, который долго не женится, становится предметом насмешек. Каково это вынести? Слово пуще стрелы ранит.
— Получается, что жених за деньги приобретает невесту? Обычная купля-продажа, — уточнил я.
— Ничего подобного, — возразил Акин. — Выкуп — не совсем удачное название, просто к этому слову привыкли. На самом деле выкуп — компенсация семье невесты за уход из родительского дома помощницы, да и гарантия того, что намерения жениха вполне серьезны. Выкуп доказывает, кроме того, что жених достаточно силен, трудолюбив, что ему можно вверить судьбу дочери.
— Вот оно что. А как велик выкуп?
— Да найр семьдесят-восемьдесят.
— Что же мешало собрать оуво?
Не ответив, Акин предложил осмотреть плантацию.
По тропинке, огибающей участки зеленого маиса, кассавы, ямса, мы вышли к островку пальм. Едва ступили под их сень, показалось, что день померк: лучи солнца не пробивали плотного шатра из широких листьев. Под ними прятались «шоколадницы» — низкорослые деревца какао со свисающими кое-где с веток и стволов вытянутыми, похожими на баклажаны плодами. Так в южных районах нашего Поволжья, где много солнца и мало влаги, выращивают огурцы: окружают грядки кулисами — подсолнечником или другими высокими растениями. Здесь же кулисами являются пальмы, предохраняющие нежные деревца от палящего солнца.
Акин неторопливо переходил от одной «шоколадницы» к другой, рассматривал плоды, сокрушался, что их мало уродилось.
— А еще говорят: «золотая гусыня»! — нахмурился он. Какая «гусыня»?
— Да земля наша…
Плантация, куда мы пришли, занимает около двух акров и во многом схожа с тысячами наделов других нигерийских крестьян. Подобные крохотные участки-лоскуты и образуют в основном сельскохозяйственные угодья страны. Они неодинаковы по своему предназначению, поскольку находятся в разных экологических зонах. Так, южный пояс Нигерии, простирающийся от побережья на 100-150 километров, благоприятен для выращивания какао-бобов, масличной пальмы, каучуконосов, риса, ямса, маниоки, сахарного тростника, тропических фруктов. В переходной зоне и саванне хорошие возможности для возделывания сорго, проса, пшеницы, хлопчатника. В северной части страны есть немало пастбищ для крупного и мелкого рогатого скота.
Естественные благоприятные условия, позволяющие получать при хорошей погоде, соблюдении агрономических приемов два, а то и три урожая в год, дали нигерийцам основание говорить о своей земле, как о «золотой гусыне», способной нести «золотые яйца».
Колониальное вмешательство нарушило исторически сложившуюся структуру нигерийского, как и всего африканского, земледелия. Местным крестьянам была навязана система выращивания какой-нибудь одной сельскохозяйственной культуры, так называемой монокультуры, предназначенной исключительно для вывоза в Англию. Юго-восточная часть Нигерии была отведена для каучуконосов, юго-западная — для какао-бобов, северная — для арахиса. Под экспортные культуры английские плантаторы захватили самые плодородные земли. Весь урожай направлялся в метрополию и там после переработки втридорога шел в продажу на мировом рынке в виде готовой продукции. Нигерийская «золотая гусыня» несла «золотые яйца» для заморских толстосумов, а местные крестьяне их никогда не видели.
Став свободной, Нигерия все еще не может избавиться от ранее созданной колонизаторами «сельскохозяйственной специализации». Слишком часто монокультура является важнейшим, а иногда и единственным для крестьянина источником денежных поступлений. А надежда на «золотые яйца» остается пока несбыточной мечтой. Причин немало: примитивные методы обработки земли и возделывания различных культур, унаследованные еще от предков, нехватка техники, удобрений, ядохимикатов…
Джунгли настойчиво стремятся поглотить плантацию, и Акину непрестанно приходится отбивать их наступление мотыгой и мачете — своими единственными орудиями труда. Два раза в год он собирает плоды, коричневые зерна после просушки сдает закупочной компании. Парень и понятия не имеет, что происходит с ними дальше. Он никогда не пробовал шоколада, который вырабатывается на кондитерских фабриках из Какао. Акину помогают сестры, но они больше заняты на ближнем участке, где выращивают для пропитания семьи овощи, маис, ямс. В среднем от продажи какао-бобов набегает в год 100-150 найр. При таких более чем скромных доходах и такой семье попробуй собери оуво для выкупа и свадьбы…
После моего отъезда Акин изредка напоминал о себе — присылал с оказией свежие фрукты. И вот недавно удивил: пригласил на свадьбу.
В назначенный день, промчавшись часа два с ветерком по пустынному ранним утром шоссе, я въехал в знакомую деревню. Акин около хижины перебирал пустые кувшины. Он долго тряс мою руку, позвал мать, сестер. Из второй хижины вышли невысокая женщина и четыре худеньких девочки-подростка. Поздоровались.
Акин, жестикулируя, стал пространно рассказывать о нашем знакомстве. Потом, когда мать и сестры оставили нас вдвоем, перешел к собственным делам, которые в последнее время изменились к лучшему. Правительство выделило крестьянам большую ссуду. Он купил ядохимикаты, несколько мешков удобрений; как советуют специалисты-консультанты, тщательно обработал плантацию и два раза подряд получил отменный урожай. Да и продал какао-бобы с немалой выгодой: власти повысили на них закупочную цену.
— Выходит, «золотая гусыня» может нести «золотые яйца»?
— Еще как! Хватило на все семейные расходы, кое-что еще осталось. Раз деньги водятся, можно было подумать и о женитьбе.
Тут Акин спохватился: уже девять утра — время собирать тумбо.
— А почему сам? Ты как-никак жених! Попросил бы кого-нибудь.
— У нас так не принято, — твердо сказал Акин. — Жених сам должен о тумбо позаботиться. Какой же он мужчина, если на пальму не может взобраться? Родственники жены обязательно спросят, кто готовил тумбо. На свадьбу вся деревня придет: мужчине с крепкой рукой, как у нас говорят, полагается приглашать много гостей. Они тоже поинтересуются, сам ли жених лазил за тумбо. Вообще-то односельчане не очень тянутся к вину. Бражничать считается у нас срамным, греховным занятием.
— Даже на свадьбе? — сыронизировал я, указывая на приготовленные кувшины.
— Какое это вино! Называем лишь так. А тумбо-то всего-навсего — легкий, нежный пальмовый сок. Бодрит, веселит! Что еще надо? Хоть бочку выдуй, если осилишь, а пьян не будешь. Можешь убедиться…
Вспомнив этот разговор, пока Акин находился на пальме, я присел перед одним из наполненных кувшинов. Сок бродил, белая пена переваливалась через край. Я провел по горлышку пальцем, поднес его к губам. Сок был сладковато-терпкий, напоминал по вкусу сидр.
Мы возвращались из леса в полдень, наступая на собственную тень. Время от времени останавливались передохнуть.
На усадьбе Акин отнес кувшины в хижину, вышел с двумя орехами кола на блюдечке — ими, согласно обычаю, угощают гостя. Усадил меня на скамейку, что стояла под пальмой, а сам вернулся в хижину.
Я расковырял податливую коричневую кожуру. Внутри были мелкие взбадривающие орешки с пунцовыми ядрышками. Занимаясь орешками, я осмотрелся. Двор, ранее пустынный, преобразился. Везде, где было свободное место, женщины устроили очаги: между двумя кирпичами из необожженной глины пылали костры. В котлах булькало какое-то варево. Здесь же босоногие мальчишки толкли в деревянных ступах ямс, кололи для костров чурки. Мать Акина переходила от жаровни к жаровне, длинной поварежкой пробовала варево, что-то говорила женщинам. Те согласно кивали, добавляли в котлы перца, пучки каких-то трав.
Вернулся Акин в элегантном сером костюме, белой сорочке, блестящих ботинках. Сел рядом на скамейку, взял с блюдечка орех. Во двор гурьбой ввалились деревенские парни — приятели Акина. Начали восхищенно его оглядывать, хлопать по плечу.
— Тебя не узнать!
— Министр, да и только! Вот это жених!
Неожиданно парни притихли: к Акину подошла девушка. Приталенное платье из синей с отливом материи подчеркивало стройность ее фигуры. Девушка легко, пружинисто ступала, прямо неся голову. Пышные волосы были стянуты в пучок. Она неотрывно смотрела на Акина, застенчиво улыбаясь.
— Познакомьтесь! Моя невеста! Девушка протянула мне руку:
— Айока.
Акин и Айока отошли в сторону о чем-то поговорить. Минут через пять, когда Айока ушла, один из парней шутливо спросил:
— И где ты только нашел такую красавицу?
Акин улыбнулся и, наверное, в сотый раз начал рассказывать о своей избраннице, явно предназначая повествование не столько для приятелей, сколько для меня…
Он возвращался с плантации. От деревьев на тропинку легли длинные тени. На опушке леса Акин увидел тоненькую девушку. Она пыталась поднять на голову вязанку хвороста, но не могла: перестаралась, собрала слишком много. Акин остановился: «Чья это? Почему раньше не примечал?». И тут же сообразил: целыми днями он торчит на плантации, а вечером хватает дел дома. Где тут уследить, как в деревне подрастают красавицы.
— Давай помогу! — предложил Акин.
— Помочь хочешь, а сам даже не знаешь, как меня зовут.
— Знаю! Тебя звать Айока — та, кто источает радость.
— Надо же! — удивилась девушка.
Акин ухватился за веревку, стягивающую хворост, легко вскинул вязанку себе на плечо. А потом так и повелось — Акин возвращается с плантации, Айока поджидает его с вязанкой хвороста на опушке.
Другие парни пробовали подступиться к девушке, завести дружбу, но Айока их как бы не замечала, отмалчивалась.
От материнских глаз не укрылась появившаяся у дочери привычка вертеться перед зеркалом, прихорашиваться. Конечно, дошли слухи, что она встречается с Акином. Мать не противилась встречам. Парень видный, работящий. Лучшего мужа для дочери, она перебрала всех деревенских парней, не сыскать. Не ровен час, свататься придет, надо готовить дочь.
Неожиданно Айока исчезла. Неделя проходит, вторая, а ее нет.
— Куда же она делась? — спросил я.
И я так подумал, — ответил Акин. — Потом вспомнил о нашем обычае — «откармливании невесты» перед свадьбой.
…Айоку поместили в отдельную комнату в той хижине, где располагалась ее мать. Там стояли кровать и небольшой стол у окна. В комнату никому не разрешалось входить, кроме матери. Пять раз в день она приносила большую миску с вкусным фуфу и плошку с пальмовым маслом. Случалось, к этому меню добавляла мясное блюдо и фрукты. Хоть Айоке не нравилось такое однообразное, скучное заточение, но пришлось смириться.
Невесту у йоруба, как и у некоторых других народов Нигерии, откармливают не ради того, чтобы она выглядела гладкой. Со временем после свадьбы ей предстоит стать матерью. Считается, что крепкая, полная женщина может родить ребенка, которому не страшна никакая хворь.
Через месяц, когда состоялась встреча, Акин не узнал Айоку: она и не она. Была тонкая, как тростинка, казалось, гнулась от легкого дуновения ветерка. А теперь располнела, и эта полнота делала ее еще привлекательнее.
Как-то вечером Акин пригласил на совет дядю и трех взрослых двоюродных братьев. Поскольку отца у Акина уже не было, полагалось поведать о своем намерении жениться старшему мужчине среди ближайших родственников. Об оуво для выкупа не спрашивали: знали, что Акин выгодно продал какао-бобы. Родственники одобрили выбор. Тут же на семейном совете поручили хитроватому Нтиме, одному из двоюродных братьев Акина, разузнать подробности об Айоке и ее семье. Требовалось выяснить, не враждовали ли когда-либо семьи Айоки и Акина, характер девушки, ее умение вести домашнее хозяйство. Нтиме наказали также выведать отношение родственников Айоки к ее возможному замужеству.
Девушка росла у всей деревни на виду. И Акин, и его родственники хорошо знали достоинства Айоки и ее семьи. Но устраивать «расследование» требовал обычай, и его следовало соблюсти.
Через неделю родственники снова собрались на семейный совет. Ничего нового к тому, что они знали об Айоке, Нтима добавить не мог. Сказал лишь, что девушка несколько месяцев обучалась у местной портнихи и довольно прилично строчит на швейной машинке. Отец и мать считают, что Айока и Акин вполне подходящая пара, и ждут сватов.
В назначенный вечер Акин и его родственники, все в агбадах, были в доме Айоки. Акин принес кувшин тумбо, флакон духов, блок сигарет, коробку конфет: подарки для невесты, ее отца и матери. Гостей встретил отец, крепкий на вид мужчина, такой же как и они, крестьянин, приветливо поздоровался, рассадил, предложил орехи кола. Мать Айоки принесла на дощечке стаканы. Акин разлил тумбо. Как заведено, первый стакан поднес своему дяде, второй — отцу невесты, затем — всем остальным.
Гости говорили о чем угодно, только не о цели своею прихода: видах на урожай, погоде, набегах обезьян на плантации в соседней деревне… Наконец, набравшись смелости, Акин изложил цель визита.
Пригласили Айоку. Девушка успела принарядиться: новое платье, на груди — яркие бусы, запястья украшали серебряные браслеты. Она поздоровалась, внешне сохраняя, однако, как бы незаинтересованный вид. Девушке подали стакан тумбо. Наступила напряженная минута. Встречи — встречами, а кто знает, как поведет сейчас себя Айока. Решать все же будет она.
Третьего дня парень из соседней деревни приходил свататься к Айоке. Сватовство без предварительного знакомства с девушкой случается довольно часто. И его и родню приняли как подобает. Но когда Айоке предложили тумбо, она протянула стакан отцу. Это означало, что девушка отвергает жениха. На том дело и кончилось.
Теперь Айока едва коснулась губами тумбо. Гости затаили дыхание. Улыбнувшись, девушка предложила стакан Акину: этот жест означал, что она давала согласие быть его женой. Напряжение мгновенно спало, все разом заговорили, оживленно жестикулируя. Отец громко сказал, что они кончили дела. Тут же в комнату вошла мать Айоки с миской фуфу и поджаренной цесаркой. Отец достал кувшин тумбо, и мужчины подняли стаканы за благополучный исход помолвки.
— Посватали, договорились о выкупе, и потом свадьба? — поинтересовался я.
— У нас так быстро не делается…
Через два месяца после этого события в доме Айоки готовились к встрече жениха. Накануне Акин отдал большую часть выкупа, и ему следовало угостить тумбо всех родственников невесты. У дома избранницы поставили котлы, разложили костры. Отец Айоки забил самую жирную козу. И из нее готовили кушанье для гостей.
Акин с дядей и другими родственниками пришли к вечеру.
Юный танцор: «Пока присматриваюсь»
Гости уселись на разложенные во дворе циновки против родителей и родственников невесты. В праздничных одеждах появились Айока, ее мать и несколько женщин. Обошли гостей, поздоровались за руку. Затем они вернулись в хижину, а отец девушки щедро оделил присутствующих орехами кола. За орехами последовало тумбо. Чуть позже были поданы фуфу и вареная козлятина со специями.
Пир продолжался допоздна.
Когда гости собрались уходить, отец позвал Айоку и велел ей отнести пустой кувшин в дом Акина: невесте полагалось пробыть несколько дней у родни жениха.
Деревенский рынок
Айоку поместили в женской хижине. Наутро мать Акина дала девушке найру и попросила купить для обеденного супа овощей и разных специй. Та взяла корзину и, весело напевая, отправилась на деревенский рынок. Акин волновался, хотя внешне оставался невозмутим: Айоке предстояло новое серьезное испытание. Если истратит все деньги, ее сочтут расточительной, и родственники жениха могут потребовать расторжения помолвки. Однако все закончилось наилучшим образом. Девушка принесла полную корзину отборных овощей и вернула матери Акина несколько монет. Пока Айока жила у жениха, она помогала женщинам по хозяйству, работала на плантации. Прежде чем отпустить домой, девушке надавали подарков, с ней же передали для отца коробку сигар, для матери — отрез на платье.
Прошло еще два месяца. Был отдан остаток выкупа. Тут и назначили день свадьбы, вернее, день окончательного перехода невесты в дом жениха.
…Полуденный зной начал спадать. Женщины, сняв котлы с очагов, кончиками фартуков отерли мокрые лица. Казалось, все этого только и ждали: Акин ушел в хижину, оставив меня на попечение рослого Нтимы, а в усадьбу потянулись нарядные односельчане, друзья и родственники жениха — в одиночку, парами, группами. Пришли со своими звонкими бочонками-тамтамами барабанщики. Вслед за ними, стараясь придать своей толстой фигуре величавую осанку, важно прошествовал местный вождь.
Так мы умеем танцевать
Но вот в сопровождении родственников из хижины вышел Акин в белой агбаде, надетой поверх костюма, и шапочке, слегка примятой справа в дань моде. Жениха приветствовали радостными возгласами.
Внезапно со стороны площади послышались глухие удары тамтама. Все устремили туда свои взоры. Это медленно приближалась свадебная процессия: в центре Айока в длинном белом платье с розой на груди, за ней — родители, родственники, подруги. Они несли узлы, корзины с приданым. Впереди шли барабанщики, изо всей силы ударяя деревянными колотушками по тамтамам. Вокруг носились курчавые мальчишки.
Время от времени процессия останавливалась. Мальчишки подбегали к Акину, испуганно говорили, что на пути встретилась река и лодочник отказывается перевезти невесту или что дорогу невесте перегородило упавшее бревно, а мужчины не могут сдвинуть его в сторону… Препятствия, разумеется, были воображаемые. Акин давал мальчишкам несколько монет, и они, довольные, возвращались обратно. После этого свадебный кортеж двигался дальше.
— А вдруг жених не даст денег, что тогда? — поинтересовался я.
— Девушка обратно не повернет, но всем будет ясно, что жених — скряга или не очень-то жаждет принять в свой дом невесту. Случается и такое. Однако наш Акин не оплошает, — пояснил Нтима.
Айока подошла к Акину. Он подал невесте руку, подвел ее к столу, приготовленному для молодых. После этого начали рассаживаться родственники и гости. На столах, стоявших во дворе в шесть рядов, было тесно от мисок с супом, фуфу и каким-то кушаньем, похожим на плов и сильно приправленным перцем. Все поглядывали на еду, но никто пока не притрагивался к блюдам.
Но вот встал вождь.
— Мы знали, что в нашей деревне есть две реки, одна — сильная, бурливая; другая — красивая, спокойная, — начал вождь свою витиеватую речь. — Они текли порознь. Сегодня мы видим, как они слились и образовали новую реку — новую семью. Пусть новая семья будет такой же сильной, как жених, и красивой, как невеста!
Затем вождь наказал Акину и Айоке жить дружно, не забывать о «золотой гусыне» — земле-кормилице, отвечать на ее щедроты неустанной заботой. Он передохнул и громко, торжественно объявил Акина и Айоку мужем и женой…
Пока это только репетиция
В Лагосе мне приходилось видеть регистрацию браков. Молодожены ставили свои подписи в регистрационной книге, и им выдавали сертификат. Тут церемония бракосочетания совершалась по тем же правилам, что и в давние времена. Деревенские жители верят словесному обязательству больше, чем росписи в регистрационной книге, и считают, что оно лучше чернил скрепляет семейные узы.
К молодоженам стали подходить родственники и гости. Подносили подарки, поздравляли. Потом к столу, где были Акин и Айока, протиснулись семеро парней, затянули песню. Они желали своим друзьям счастья, иметь много детей, никогда не ссориться.
Свадьба разгоралась, шум стоял такой, что я с трудом слышал ораторов даже за своим столом.
Стемнело. На пальмы подвесили керосиновые фонари, они тускло осветили веселые, эбеновой черноты лица. И почти сразу на площади вспыхнули факелы в деревянных треножниках. Гости и хозяева гурьбой повалили туда. Желтое пламя раскланивалось на ветру, словно приглашая людей на танцы.
Музыканты с набором разноголосых тамтамов, флейт, бубнов, кастаньет расположились перед двумя факелами. Флейтист бросил в ночную темноту несколько отрывистых звуков, и тут же его партнеры подхватили мелодию.
На площадку хороводом ворвались девушки в коротеньких платьицах, громко звеня браслетами на руках и ногах в такт музыке. Хоровод рисовал замысловатые фигуры, все убыстряя темп.
Деревенские музыканты
…Музыка оборвалась на самой бешеной ноте. Гости расступились: в круг вошла Айока. Полилась нежная, плавная мелодия. Круг снова раздался: парни внесли на руках Акина, опустили на землю. Молодожены начали свой свадебный танец.
Музыканты заиграли быстрее. Танец Айоки и Акина зажег всех людей, и вскоре площадь от края до края колыхалась в едином ритме…
Сокровище Аджамы
Гром ударил так, что дождевые струйки, стекавшие с крыши, вздрогнули, изогнулись. Небо беспрестанно рычало, грохотало. Казалось, будто поблизости стала на якорь эскадра линейных кораблей, и они оглушающе палили своим главным калибром.
Тучи цеплялись за склоненные ветром макушки деревьев. Из-под туч, словно огненные дротики, вылетали молнии.
А в хижине без окон — обычной деревенской лачуге, крытой пальмовыми листьями и приспособленной для хранения всякой рухляди, было сухо. Земляной пол устилали тростниковые циновки, вдоль стен стояли пустые корзины. Единственными предметами мебели были две низенькие скамейки. На одной сидел я, на другой — хозяин в серой рубашке с закатанными до локтя рукавами. Левой рукой он придерживал на коленях мачете, в правой держал точильный брусок. Рядом валялись две мотыги с отполированными рукоятками и еще один затупленный мачете.
Коричневый матерчатый полог, заменяющий дверь, был откинут, и через проем в хижину влетали крупные капли дождя.
— Надо ж, какое место. В соседней деревне даже самый сильный ливень без грозы обходится. А у нас тучи, как сойдутся, давай молнии в землю вгонять. Все в одно место, — хозяин со скрежетом стал водить по мачете бруском.
— С чего бы такая напасть?
Снова небо и землю потряс громовой раскат. Хозяин не ответил, наверное, не услышав из-за грохота мои слова.
В хижину меня загнала гроза. От Локоджи, городка у слияния Нигера с притоком Бенуэ, до Окене километров шестьдесят. Я рассчитывал проскочить их без задержки. Но где-то уже перед самым Окене разверзлись хляби небесные, и хлынул тропический ливень, один из тех, без которых в дождливый сезон в Нигерии не обходится и дня.
К грозам мне не привыкать. Как-то в детстве возвращался я из лесу с лукошком пахучей земляники. И надо же такому случиться. На полевой дороге меня настигла гроза. От бывалых людей я уже слыхивал, что одинокий человек в поле якобы притягивает молнию. Я сжался в комочек над лукошком, прикрывая ягоду от дождя. Было страшно — что, да саданет. Однако пронесло, вымок лишь до нитки. Молнии обходили меня стороной, а может, родился я в рубашке. С тех пор я перестал бояться гроз, где бы они меня ни прихватывали — в лесу, на речке, в поле…
Не робел я и тут, хотя гроз на своем нигерийском веку повидал немало.
На этот раз было иначе. Ураганный ветер ломал ветви деревьев. Временами при вспышках молний возникало ощущение, что машина не хочет слушаться руля, что вихрь подбрасывает ее, как мячик, и она несется вприпрыжку по скользкой дороге. Это была стихия. Тропическая стихия во всей своей свирепой удали. На меня напала оторопь. Я притормозил, стал посматривать на обочины в поисках какого-нибудь укрытия. Впереди что-то зачернело, и вскоре я разглядел сквозь белесую пелену хижину. В дверном проеме выросла человеческая фигура, призывно замахала рукой. Не раздумывая, я выскочил из машины…
Слова хозяина хижины о том, что молнии бьют в одно место, удивили меня. Я подвинул скамейку поближе к дверному проему и стал всматриваться вдаль. Ливень скрадывал расстояние, но все же можно было определить, что молнии и впрямь слетались в одно и то же место где-то неподалеку. За огненными дротиками вскоре следовал громовой раскат.
— С чего бы это в одно место? — вновь спросил я.
— Богатырь сокровище людям указывает.
— Богатырь?
— Ну да! Легенда тут о нем ходит.
Вот что поведал гостеприимный хозяин.
В давние времена в здешних местах жил богатырь. Он никого не боялся, перешагивал самые широкие реки, а оружием его на охоте вместо стрел были молнии. Однажды в эти края пришли иноземцы, и богатырь, как ни был силен, не мог устоять перед ними. Прежде чем уйти, он спрятал сокровище, которое имел и которым гордился. Сокровище то особое — людей силой наделяет. Не хотел богатырь, чтобы оно досталось иноземцам. Да и унести не мог, слишком тяжелое было. «Сокровище со временем откроется бескорыстным людям, — наказал богатырь. — Будет это тогда, когда человек на здешней земле освободится от власти иноземцев…».
Хозяин умолк и опять занялся мачете.
Дождь хлестал по-прежнему, и молнии били в одно место.
Что же это за сокровище? Может, как раз то, о котором говорил Эджиофор? Не его ли с завидным упорством искали и другие люди, о которых мне рассказывали их друзья?..
В ноябре, вслед за тропическими ливнями, наступает черед Сахары показывать свой норов. День за днем, не слабея, — откуда только силы берутся! — гонит она в сторону экватора обжигающий харматтан.
Харматтан подхватывает микроскопические песчинки, и эта пыль обволакивает все окружающее, проникает внутрь домов, как бы плотно ни были закрыты окна и двери. Чем ближе к пустыне, тем сильнее зной. Небо подернуто мутной дымкой, а солнце — какое-то расплывчатое, смазанное по краям, зловеще багровое — едва проглядывает. На деревьях, опаленные, жухнут листья, в саванне скручивается трава. У людей от пыльного ветра першит в горле, слезятся воспаленные глаза, трескается кожа на лице и руках.
В такую-то пору и приехали Иван Романов и Вадим Карельский в Кадуну, город в северной части Нигерии. Ранее здесь было небольшое селение, принадлежавшее одному из местных эмиров. В начале нынешнего века Северную Нигерию захватили британские колониальные войска. Как-то в селение заехал губернатор колонии лорд Лугард. Лежавшее у полноводной реки на перекрестке караванных дорог, это место приглянулось ему, и он решил основать тут столицу Северной области Нигерии. Свое название «Кадуна» город получил от реки, где водились рептилии (на языке хауса кадуна означает «крокодилы», «крокодильи места»).
После завоевания Нигерией независимости Кадуна разрослась, ее население перевалило за сто пятьдесят тысяч человек. Город стал административным центром штата с таким же названием. Геологическая же служба Нигерии избрала его своей постоянной резиденцией.
Кадуна, несмотря на громкое название столицы штата, — город отнюдь не столичный, на Лагос не похожий. В Лагосе на улицах — орды ревущих автомашин, плотные толпы народа. Здесь об автопробках еще не имеют понятия, а горожане предпочитают всем видам транспорта самый надежный — собственные ноги. Да и одежда иная. В Лагосе в моде европейские костюмы, мини-юбки. В Кадуне черную кожу мужчин оттеняют тобе — широкие белые рубахи и шаровары. Тот, кто побогаче, щеголяет в ригу — длинном, наподобие халата, одеянии с вышивкой у ворота и разрезами по бокам. На головах тагия — круглые, плоские, как памирские тюбетейки, шапочки. У женщин наряд стандартнее — широкие куски ткани, обвивающие стан.
День приезда, как принято, отводится для отдыха после долгого изнурительного пути. Однако Романов и Карельский решили с этим делом повременить. Освежились под краном в двухэтажном доме, где жили советские специалисты, и тут же попросили проводить их в местный минералогический музей. Обязанности гида взял на себя «старожил» Борис Подбелов, прибывший в Кадуну несколько раньше.
Все трое — Романов, Карельский и Подбелов — до этого не знали друг друга. Они приехали в Нигерию из разных городов Советского Союза. Геофизик Подбелов — из Ленинграда, геолог по железу Романов — из Белгорода, специалист по углям Карельский — из Воркуты. В минералогический музей геологов влекло не просто любопытство. Им предстояло искать в нигерийской земле сырье для металлургической промышленности, прежде всего железную руду и коксующийся уголь. О пригодных для разработки запасах этих полезных ископаемых у нигерийцев практически не было никакой геологической информации.
Промышленные державы Запада неохотно оказывали помощь молодому государству в разведке и разработке его минеральных ресурсов. Не упускавшие возможности заработать на нигерийской нефти, они не были заинтересованы в производстве здесь стали. Их эксперты уверяли, что промышленных запасов железной руды и коксующегося угля на территории Нигерии нет и что для строительства металлургических заводов еще не пришло время Расходы окажутся слишком большими, и для их создания и эксплуатации у страны не хватит квалифицированных кадров.
Взамен советовали: раз уж Нигерия хочет иметь собственные металлургические комплексы, пусть ввозит чугунные чушки и кокс (хотя бы из Англии) и на месте выплавляет сталь. В подтверждение приводили доводы — «помогают» же Нигерии западные фирмы строить фабрики, заводы. Правда, при этом забывали сказать, что такие предприятия не имеют законченного цикла производства: полностью зависят от поставок заморских узлов и деталей.
Заманчивое на первый взгляд предложение нигерийцы отвергли. Поступить так, как советуют, значит оставаться на привязи у прежней метрополии, то есть быть своего рода прицепным вагоном, полностью зависимым от заморского локомотива. И сделали смелый шаг — пригласили группу советских геологов.
Вот и хотелось Романову, Карельскому и Подбелову поскорее узнать хотя бы в музее по сопутствующим железной руде и углю породам — они могли навести пусть на малый, едва уловимый, но все-таки след, — есть ли какая зацепка. Геологи знали, что в Нигерии немало различных минералов и руд (вычитали перед командировкой в книгах), и сейчас воочию могли убедиться, насколько богата здешняя земля. Пояснительные надписи на застекленных ящиках не читали: наметанным глазом безошибочно определяли образцы.
Кусочки красно-коричневого камня. Так и есть — бокситы. Колбочки с жидкостью коричневого цвета светло-зеленоватого оттенка нефть. Черно-серая полоска — цинковая рула, рядом поблескивает свинцовая друза. А этот набор крупных темно-бурых кристаллов — не иначе как касситерит, рудный минерал для получения олова. Стенды с образцами асбеста, графита, огнеупорной глины, известняка, мрамора.
поваренной соли, фосфоритов. Рядом желтело самородное золото, подмигивал, будто маленький маяк, своими гранями алмаз. Переливались металлическим блеском руды вольфрама и молибдена…
Трое посетителей не спеша переходили от стенда к стенду. Плотного сложения Подбелов и Карельский иногда увлекались, оттирали хлипкого Романова. Тот молча протискивался к стенду, не гоже, мол, обижать товарища.
Из минералогического музея вышли молча, размышляя, видимо, каждый о своем.
Хорошая коллекция! — нарушил молчание Подбелов.
— Хороша-то хороша, — сказал Карельский, — только не за что нам с Иваном зацепиться.
— Это верно. Одна надежда теперь на разведку в поле, — вздохнул Романов.
К поискам готовились основательно. Отлаживали самоходные буровые установки, попросту СБУ, подбирали долота, инвентарь, настраивали различные измерительные приборы. В предвечерние часы, когда становилось прохладнее, обучали буровому делу нигерийцев.
Был определен район вероятного залегания месторождений железной руды. На геологической карте он выглядел прямоугольником с лист писчей бумаги. В действительности там без затруднения нашлось бы место Австрии, Бельгии, Дании, Швейцарии, вместе взятым. Этот район предстояло прежде всего обследовать с воздуха чуткими приборами — магнитометрами, которые могли бы указать наличие аномальных зон.
В разных странах приходилось летать Борису Подбелову, пилоту Владимиру Морозову, штурману Рудольфу Краснову, но в такой переплет попали впервые. Начало аэромагнитных съемок совпало с сезоном дождей. С утра до вечера над землей висели плотные облака, начиненные грозовыми разрядами. Кончились дожди, из Сахары налетел харматтан. Нал саванной, унося в небо высохшую траву, затанцевали крутящиеся столбы смерчей. Но краснокрылый Ил-14 вылетал в любую погоду: и в «окна» между грозами, и в харматтан «трясся» он на небесных ухабах, день за днем прочесывая обширный район в западной части Нигерии, строго выдерживая при этом необходимую высоту и курс.
На геологическую карту легли первые штрихи, и в небо взмыл «малыш» — АН-2. Другая группа поисковиков — геофизик Валентин Голубков, пилот Василий Шляхтин и штурман Владимир Суров — подключилась к детальному обследованию выявленных аномальных зон. А потом настал черед геологов.
Бирнин-Гвари крошечное селение километрах в ста к северо-западу от Кадуны. Вокруг него, куда ни глянь, до горизонта простирается плоская саванна с островками кустарника, покрытая пожухлой пепельно-серой травой. Неподалеку от Бирнин-Гвари, на левом берегу почти выпитой харматтаном речки Марига, геологи разбили свой первый лагерь.
Геологи народ сдержанный на эмоции. Все же и они не могли скрыть своего волнения: по прогнозам геофизиков и магнитометристов, у Мариги на небольшой глубине залегает железная руда.
За дело взялись не медля. Романов оконтурил месторождение, поставив в саванне вешки, колышки. Рабочие дружно налегли на лопаты, застучали кирками. Весело запели моторы СБУ. К подземной кладовой стали пробивать шурфы.
Зной не спадал. К Мариге на водопой настороженно выходили стада антилоп, завидев людей, нехотя поворачивали в саванну. Кругом — ни деревца, где можно было бы укрыться в тени от палящего солнца. Раскаленные камни обжигали руки. От первых взмахов кирками на рабочих взмокали от пота рубашки. Перебрасываясь шутками, не уходили с поля до темноты. С рассветом, едва красный диск солнца выползал из-за мутного горизонта, снова шли в саванну. На скорую отдачу не рассчитывали. Наперед знали, что окончательный результат обозначится, когда вдоль и поперек аномальной зоны будут отрыты многие километры канав, пробурены на всю ее глубину в разных точках десятки скважин, отобраны отовсюду пробы. Поисковая партия метр за метром упрямо вгрызалась в неподатливый каменистый грунт.
Под напором южных ветров, принесших дожди и с ними желанную прохладу, незаметно отступила жара. Марига набухла, расплескивалась. Антилопы уже не приходили на водопой, а паслись где-то в зеленом саванном море. Но чем ближе поисковая партия подбиралась к конечным отметкам, тем сумрачней становились рабочие, буровики, геологи. Романов, державший в руках все нити поисковых работ, еще не сказал последнего слова. Однако и без него все догадывались, что месторождение Бирнин-Гвари, как в это не хотелось верить, не оправдало надежд.
В конце концов пришлось объявить, что дальнейшая разведка в этом районе бесполезна. Мощность пластов небольшая — до метра. По содержанию железная руда тощая, труднообогатимая, запасы, если исходить из геологических мерок, пустячные — едва наберется двадцать миллионов тонн.
Сворачивались молча. Романов подбадривал товарищей: не нашли в этом месте, повезет в другом.
…Геологов иногда сравнивают с шахматистами. Тем и другим приходится «считать» варианты. Но шахматисты находятся в более благоприятном положении. Прежде чем передвинуть на доске пешку или фигуру, они выбирают из многих ходов один, лучший, по их мнению, и к концу партии убеждаются в правильности или ошибочности своих решений. У наших геологов такого выбора в Нигерии не было. Им приходилось считать все варианты — до конца обследовать каждую аномальную зону. Здесь уже требовались не часы и не дни, а месяцы. И все это время нужно поддерживать жизненный тонус, не опускать руки при неудачах, не поддаваться усталости.
Первый шаг в геологической разведке — аэромагнитная съемка, которая позволяет обнаружить залежи железных руд. Но по показаниям приборов нельзя еще сказать, какие они — богатые или бедные. Ответ дает лишь детальная проработка каждой аномалии. Для этого нужно провести наземную съемку, рассечь место поисков канавами, заложить шурфы, пробурить скважины, сделать пробы… Требуется масса времени, усилия десятков людей. Оставить же необработанной какую-либо аномальную зону тоже нельзя: любая на поверку может оказаться подходящей для добычи руды.
Разведка месторождений этим не ограничивается. По мере накопления материала о залежи его подвергают на полевой базе камеральной обработке — «камералке», как говорят геологи, то есть анализируют полученные результаты, изучают образцы, заполняют дневники, наносят на карту новые данные, пишут отчеты.
Такие отчеты Романов регулярно пересылал в геологическую службу. Двузначными цифрами указывал в них, сколько сделано геолого-поисковых маршрутов, пройдено канав, заложено шурфов, пробурено погонных метров скважин. Обследованы аномальные зоны в окрестностях Кадуны, Фарин Рува, Аябы…
Проверен выход углей на участках Афуджи, Окоба, Экугу-Охяма, сообщал Карельский…
Геологи переходили от залежи к залежи, но результаты поисков не радовали.
Как-то после нескольких недель, проведенных в поле, Романов занимался камералкой. Он сидел у стола, заваленного темными восьмигранниками магнетита, пакетиками с геологическими пробами, рассматривал образцы минералов, делал записи в дневнике. Настежь распахнутая дверь передвижною вагончика раскачивалась на петлях, жалобно скрипела. Опять стояла такая жара, что воздух казался густым, тягучим, и ветер, влетавший в вагончик, не освежал, а обжигал.
На лесенке послышались чьи-то легкие шаги.
— Изучателя земли Романова, то бишь геолога, могу видеть? — хрипловато спросил вошедший.
Романов обернулся.
На пороге стоял Карельский. Загорелый, с впалыми щеками, облупившимся носом, но, как всегда, веселый, неунывающий.
— Вадим, дружище! Какими ветрами тебя занесло? — похлопывая товарища по плечу, приветствовал его Романов. Он засуетился, налил из сифона шипучей газировки.
— На-ка, освежись с дороги!
Карельский взял протянутый стакан, сделал несколько глубоких глотков, потом стал пить воду медленно, смакуя. Сел, осмотрелся.
Всюду — под кроватью, стульями, на полках — лежали сероватые образцы минералов. На столе из-за камней и пакетиков проглядывала вырезанная из журнала цветная картинка — березовая опушка в зимнем убранстве. От нее повеяло воспоминаниями о родных местах, показалось, что в вагончике на какой-то миг стало прохладней. Скрип двери прервал воспоминания. Карельский кивнул на образцы:
— Есть что-нибудь стоящее?
— Какое! Куда ни придем — пяток, десяток миллионов тонн. И все вразброс. У вас-то как?
— Кое-что вырисовывается.
— Это хорошо! А к нам зачем пожаловал? Если что нужно из снаряжения — поделимся.
— Нет, я по другому делу. Мы тут неподалеку от вас расположились. Парнишка местный к нашей партии пристал. Вначале вроде бы ничего работал, потом загрустил. Спрашиваю, в чем дело. А он мне: «Неинтересно с углем возиться». Словом, случай тут особый: мечтает парень руду искать. Возьми в свою партию, не пожалеешь! Смышленый, старательный. К тому ж он такое знает! Говорит, в Нигерии есть место, где в давние времена какой-то богатырь спрятал сокровище. Молнии там часто бьют. Алаба! — Карельский повернулся к двери вагончика. — Заходи, покажись!
В вагончик робко поднялся угловатый паренек. Романов подвинул свободный стул, предложил газировки.
— Повтори-ка еще раз, что мне о богатыре рассказывал! — попросил Карельский паренька и стал переводить.
Романов слушал не перебивая.
— Интересно! А место он знает? Или это просто легенда? — спросил геолог, когда Алаба закончил рассказ.
— О богатыре он слышал от стариков, они тоже не знают место.
— Жаль. Во всякой легенде, даже самой невероятной, есть, видимо, капля правды. А она может стать ключом к разгадке тайны. Поисками сокровища богатыря, пожалуй, стоит заняться всерьез: не иначе это мощное рудное тело. Оно и притягивает молнии, — Романов задумался. После недолгой паузы спросил Алабу:
— Хочешь, значит, с нами работать? Паренек кивнул.
— Пока в рабочих походишь, потом подучишься, в буровики определим. Вместе руду в новом районе поищем.
— Это где? — заинтересовался Карельский.
Романов разложил карту, осторожно карандашом нарисовал овал.
— Перед отъездом домой Подбелов советовал получше здесь покопаться. Приборы показали мощную аномалию.
Его коллега Голубков уже давно те места обхаживает.
— А если опять впустую?
Спокойное лицо Романова стало суровым. На широком лбу сбежались к переносице морщины.
— Может и такое случиться, не исключаю. Тогда… У русских исследователей было доброе правило: если поищешь, то и откроешь сокровище. Пойдем в другое место, где-то руда должна быть. Впрочем, хватит о делах. Сейчас чаю сообразим, — Романов сложил карту, сдвинул на столе камни, пакетики…
Колонна автомашин медленно вползала в селение. Романов ехал в головном грузовике. Одинокие мазанки тянулись вдоль дороги, каждая посреди своего огородика, окруженного плетеной изгородью. Таких деревень проехали уже с десяток, и нигде не останавливались. Без задержки проскочили бы и это селение. Но оно было последним на длинном пути, и от него до места, куда предстояло добраться, рукой подать — всего несколько километров.
На площади колонна остановилась. Геологов встречали всей деревней. Впереди мужчины — рослые, стройные, как на подбор. Девочки-малышки пугливо рассматривали незнакомых людей, прячась в складках одежды матерей. Голоногие мальчишки, наоборот, держались смело, выбегали к машинам. Жителям деревни не приходилось видеть ранее такого скопления грузовиков и белых людей, и они радостно восклицали:
— Яйа ка кейи! Барка дазува! (Приветствуем вас! Добро пожаловать!)
В знак дружеского расположения геологам преподнесли на блюдечке орехи кола.
Романов распорядился устроить стоянку за деревней, а сам, пока солнце было высоко над горизонтом, решил осмотреть новую аномальную зону, чтобы с утра можно было сразу приниматься за работу. На машине добрался почти до места и велел шоферу возвратиться часа через три. Размашисто зашагал к белеющей в высокой траве палатке. Возле нее Романова встретил Голубков, высокий худощавый ленинградец средних лет в желтой ковбойке. Добродушное лицо расплылось в улыбке. Поздоровались, крепко пожав огрубевшие руки.
— Показывай, Валентин Сергеевич, свои владения!
— Так сразу? Отдохнул бы.
— Успеется.
Голубков сунул в рюкзак термос с водой, прицепил к ремню полевую сумку, взял геологический молоток.
После плоской, просторной саванны буш показался дремучим, непролазным. Шли медленно, обходя низкорослые деревья, ветви которых то и дело норовили уцепиться за одежду. Из-под ног разбегались ящерицы, где-то кричали обезьяны, из кустов вылетали фазаны в ярком оперении. В другое время Романов с удовольствием приехал бы сюда поохотиться, а то и просто побродить по этому девственному бушу, насладиться тишиной. Но сейчас было не до развлечений и отдыха. Впереди вырастала мохнатая гряда, и чем ближе подходили к ней геологи, тем круче она была.
На вершине перевели дух. Романов осмотрелся. Дали распахнулись, вокруг был порыжевший буш, прорезанный этой единственной грядой, понижавшейся с востока на запад. Казалось, что тут поработали на огромных бульдозерах, которые сдвинули землю в гигантский вал.
Когда вернулись к палатке, Голубков протянул Романову ключ, сделанный из проволоки.
— Тебе! От здешней кладовой. А если серьезно, то держи, — Голубков достал из полевой сумки карту, развернул. Гряда была обведена жирной линией, указывающей аномалию. Романов смотрел на карту, а думал о Голубкове. Вот он какой, оказывается. Мало того, что сделал свое дело — отлетал на «аннушке» десятки часов, он еще с ручным магнитометром облазил открытые аномальные зоны. И эту тоже. Уточнил ее положение и размеры на местности, составил карту для наземных работ, отобрал образцы. Романов стал делать на карте пометки: тут пройдут канавы, у подножий склонов заложим шурфы, пробурим скважины.
— Здорово ты нам помог, Сергеич!
— Чего уж там. Дело у нас общее. Гряда, кстати, сплошь из железистых кварцитов.
— То на виду. А я бы хотел знать, что еще там запрятано, — Романов улыбнулся, топнул по земле.
— Это уже ваша работа…
В поле, к гряде, поисковики выходили без того радостного порыва, который был вначале на Бирнин-Гвари. Неторопливо разбирали инструмент, почти не шутили. Случалось, подолгу курили, сидя у канав. Что из того, что здесь гряда? Ну, наберется в ней от силы миллионов двадцать, пусть тридцать. Все равно пустяк. Вечером, собравшись у костра, затягивали протяжные русские песни — тосковали по дому.
Надо как-то встряхнуть поисковиков, думал Романов. Он посоветовался с буровым мастером Николаем Ворониным. Решили ускорить буровые работы. Если на глубине окажется железная руда, за канавами и шурфами дело не станет. Рабочих потом с поля не вытащишь. В разных точках у подножия гряды поставили три буровые машины. Буш огласился гулом моторов, лязгом труб.
Несколько дней Романов был в отъезде — наведывался но делам в геологическую службу. Вернулся — сразу к Воронину. Мотор бурового станка натужно гудел, вытаскивая колонну труб. Буровая бригада привычно отсоединяла колена, аккуратно складывала их на деревянный помост. Из последней трубы Воронин бережно вынул керн — столбик породы, поднятой с глубины.
— Хорош пласт! К четвертому десятку метров подбираемся! — весело сказал мастер.
— Что на других буровых?
— У них не хуже. На богатую руду идем, Иван Ильич!
Романов сел на теплый валун. Платком вытер вспотевший лоб. Впервые за долгие месяцы пребывания в Нигерии геолог почувствовал себя вконец усталым и… безмерно счастливым.
Как-то у своего вагончика Романов застал плечистого незнакомого нигерийца. Тот засуетился, кивнул на корзину с бананами.
— Советским геологам принес.
— Бананы — это хорошо. Давно не пробовали. Ребята обрадуются. Сколько за корзину?
— Деньги не надо! Бадири даром принес, — нигериец отвел руки Романова с деньгами.
В Нигерии не принято отказываться, когда угощают: обидишь человека. Романов взял из корзины банан, очистил мягкую податливую кожуру. Подумал о других нигерийцах. Куда бы ни приходили геологи, местные жители предлагали им кров, еду, воду. Узнав, что они ищут железную руду, приносили обломки пород, старые копья, железные котлы, сделанные в давние времена.
— Добрались, выходит, до сокровища? — спросил нигериец.
— Это какого?
— Будто батуре не знает. Аджама, богатырь наш, его под этой грядой Итакпе-хилл спрятал.
Романов улыбнулся: вспомнил интригующий рассказ Алабы.
— Сокровище, говорят, людям силу придает. Мне бы кусочек, а? — попросил нигериец.
— Это можно! — сдерживая улыбку, Романов подал ему увесистый шершавый обломок…
На очередной отчет руководителя группы советских геологов Измаила Куртаевича Кусова в большой кабинет федерального министра промышленности пришли руководители департаментов, чиновники из управления стали, геологической службы. Многие уже знали Кусова. Нигерийцам он нравился: работать с ним приятно, хорошо разбирается в своем деле, обладает выдержкой, дипломатическим тактом. Под его началом советские геологи четко выполняют намеченную программу. Что скажет Кусов на этот раз?
Кусов начал отчет. Аэромагнитные съемки центральной и юго-западной части Нигерии проведены полностью на площади 194 тысячи квадратных километров. В ходе их определена 81 аномалия, из которых восемь, перспективных на железо, переданы для наземной проверки. Близ Окене разведано крупное месторождение Итакпе-хил, которое можно считать промышленным. По предварительным подсчетам, его запасы составляют более двухсот миллионов тонн. Руда залегает на небольшой глубине — 200-220 метров. В этом же районе выявлены аномалии Аджибоноко-хил и Чоко-Чоко с пригодными для разработки запасами руды. В окрестностях города Лафия открыты залежи коксующегося угля. Общие запасы оцениваются там в сто пятьдесят — сто семьдесят миллионов тонн…
После отчета Кусова встал министр:
Наши долгожданные надежды оправдались. Работа советских геологов в Нигерии заслуживает самой высокой опенки!
Отшумели дожди, отыгрались молниевые сполохи. Наступил новый сухой сезон. В один из жарких дней Романов и Карельский стояли на берегу Нигера у окраины тогда еще безызвестной деревушки Аджаокута. С реки тянуло прохладой, пахло тинной прелью. Вдалеке в дымчатом мареве колыхался левый берег. Вверх по течению полз желтогрудый буксир, волоча за собой пенный след.
Оба молчали. Наверное, вспоминали тяжелые маршруты, своих друзей — Бориса Подбелова, Николая Воронина, Виктора Чубанова, Александра Чумакова, Вадима Плюнгина, Нину Семенову, других советских геологов, летчиков. Все они, как альпинисты, шли в одной связке, и каждый подстраховывал товарища, выкладывался в полную силу, чтобы успешно был выполнен советско-нигерийский контракт.
— Скоро по домам, — Карельский поводил прутиком по воде.
— Да. Мы свое слово сказали, — согласился Романов. — Теперь черед за проектировщиками, строителями. Представляешь, что тут будет через несколько лет — завод, город!
Геологи, как никто из других специалистов, угадывают, определяют перспективу какого-либо края, района. В отличие, например, от горняков, строителей, дорожников они не поглощены сиюминутными заботами. Геологи работают на завтрашний день и первыми о нем начинают говорить. Там, где они находят месторождения, вырастают поселки, появляются рудники, шахты, прииски, промышленные предприятия. Если бы Романов и Карельский могли снова побывать тут, они увидели, как мечты одного из них обрели реальность.
Здесь, неподалеку от Аджаокуты, на правом берегу «реки рек» вырастает сейчас крупнейший в Тропической Африке металлургический завод с полным циклом. Это означает, что на предприятии будут получать чугун, варить сталь, выпускать прокат, то есть необходимую для нужд страны готовую продукцию.
Огромная стройка раскинулась на шесть километров вширь и четыре вглубь. И с каждым днем все четче вырисовываются контуры завода, сооружаемого при техническом содействии Советского Союза. Над строительной площадкой поднялся массивный «самовар» — доменная печь. Почти на километр вытянулись корпуса прокатных цехов. А неподалеку идет сборка коксохимических батарей, устанавливается оборудование на обогатительной фабрике, в кислородно-конверторном цехе, обозначился каркас энергетического сердца завода — мощной ТЭЦ…
В середине июля 1983 года, когда еще не набралось и трех лет с начала строительства, металлургический комплекс в Аджаокуте выдал первую готовую продукцию. С вводом в строй первой очереди он будет выплавлять 1,3 миллиона тонн стали в год. Вторая очередь позволит увеличить мощность завода вдвое. В дальнейшем он может быть расширен с тем, чтобы производство металла достигло 5 миллионов тонн. По окончании строительства Нигерия будет иметь комбинат, который станет в один ряд с подобными предприятиями в наиболее развитых в техническом отношении странах мира.
Металлургический комплекс в Аджаокуте — это не только цеха, машины, металл. Уже сейчас там думают и о том, кто будет работать на сложных агрегатах, для чего развернули с помощью советских специалистов широкую подготовку кадров металлургов.
Во все времена черный металл считался важнейшим металлом. Для Нигерии он необходим вдвойне. Национальная металлургия — это дорога к собственным машиностроительным заводам, это отечественные станки и оборудование и многое другое. Сталь Аджаокуты значительно прибавит молодому государству силы и мощи на пути к достижению экономической самостоятельности.
…Молния снова озарила хижину. Я ждал оглушающей пальбы, но вдали лишь глухо пророкотало.
Хозяин все еще усердно точил мачете. Только это был уже другой. Наточенный лежал у скамейки, рядом блестели лезвиями две мотыги.
— Как богатыря вашего звали, того, в легенде?
— Аджама.
Гроза затихла, я распрощался с хозяином и вырулил на захламленную дорогу. Над бушем выступала, как огромный длинный пирог, зеленая гряда, скрывающая сокровище Аджамы. Из-за облаков выглянуло солнце. На деревьях и в траве разноцветными огоньками засверкали дождевые капли. Неожиданно во влажной синеве неба изогнулась радуга. Одним своим концом она оперлась на зеленую гряду, другим изнемогла где-то вдали. Радуга для места, где она вспыхнула, говорят, к счастью.
Крепкие листья
Такое уж свойство африканского говорящего барабана — вблизи вроде бы и не громок. А вот, поди, хлесткие, четкие звуки разносятся окрест километров на десять-пятнадцать, а случается — и на все тридцать. Некоторые путешественники, побывавшие в Африке и имевшие дело с говорящим барабаном, или тамтамом, как его называют, утверждают, что столь необычную слышимость ему придает большая увлажненность воздуха, особенно в экваториальной части. Другие видят достоинства барабана в его своеобразном устройстве.
Как бы то ни было, говорящий барабан я уловил, когда вышел из автомашины у придорожной лавчонки, чтобы купить свежих фруктов. Вдалеке слышались удары тамтама, чем-то напоминающие азбуку Морзе.
Говорящие барабаны мне приходилось видеть на городских рынках, в мастерских ремесленников, у знакомых нигерийцев. Но все ранее виденные тамтамы не впечатляли: может, потому, что были безмолвны и выставлены лишь для декоративности. Если к ним и прикасались, то выстукивали ничего не значащую дробь. Звук терялся в стенах, и трудно было определить, насколько силен инструмент. А тот же Тай Соларин заменял тамтамом, во всяком случае при мне, школьный звонок. Здесь, хотя я не мог видеть африканский «телеграф», он, несомненно, использовался в прямом предназначении — для того, чтобы известить людей о чем-то важном.
Язык говорящего барабана понятен только африканцам. С помощью его в Африке, особенно в Западной, до сего времени оповещают о каком-либо событии, стихийном бедствии, деревенской свадьбе, зазывают, наконец, в гости. Даже сейчас, в век электроники, он считается быстрым и надежным средством передачи какой-либо новости. Жив, выходит, курилка, хотя и архаичен, по нашим представлениям!
Постук тамтама меня заинтересовал. Женщины, увы, изъяснялись только на своем непонятном мне языке и не могли сказать, какую весть разносит барабанщик.
К лавчонке на велосипеде подкатил рослый нигериец, босой, в шортах, серая рубашка затемнилась на лопатках. Он сказал что-то торговкам, повернулся ко мне и попросил на вполне сносном английском закурить. Я достал пачку сигарет.
Вдалеке по-прежнему гремел тамтам. Нигериец прислушался.
Не поможет ли он?
— О чем это барабанят? — я выбил пальцами чечетку на капоте автомашины.
— Русский доктор спас в Энугу нвоуке[3]. Долго уже передает. Хорошая весть — вот человек и радуется.
Откуда взяться нашему доктору в Энугу? Я знал, что советские врачи работают в других городах Нигерии. Может, кто-то из них оказался в Энугу случайно или проездом? Тоже маловероятно. Впрочем… Энугу был по пути. Я нажал на стартер.
Приближение к Энугу почувствовалось задолго. Вдоль дороги замелькали рекламные щиты, уговаривающие пользоваться супербензином, шинами «Данлоп», пить быстро-утоляющее жажду пиво «Стар».
Город раскинулся по холмам среди пальмовых и банановых рощ. Над ними кое-где выступают серые терриконы. Энугу известен в Нигерии своими угольными шахтами.
Город с прямыми улицами, обсаженными огненной акацией, мимозами и пальмами, встретил меня толчеей. На окраинах дома в один-два этажа, в центре — высокие здания различных учреждений, торговых фирм, банков, страховых компаний — от вывесок рябит в глазах. Многие дома недавней кладки, еще свежи на вид. Кое-где на старых зданиях сохранились выщерблины, продольные шрамы — следы гражданской войны.
В Энугу насчитывается тысяч сто жителей. По африканским понятиям, вполне приличный уровень. Искать в таком городе незнакомого человека — все равно, что иголку в стоге сена. Было, однако, велико желание встретиться с русским доктором, о котором «телеграфировал» тамтам.
Сработала догадка: врач — больница.
Нигерийцы — народ общительный, готовый помочь заезжему человеку, в случае надобности, во всем. В ближайшей клинике мне дали нужный адрес. Оказалось, что русский доктор хорошо известен в городе. Вскоре я подрулил к серому двухэтажному зданию больницы. В коридорах было полно посетителей, пахло специфическим запахом, знакомым всем нам по клиникам. Медсестра проводила меня до кабинета, перед которым с детьми толпились мамаши, с плеч до щиколоток обмотанные тканью, заменяющей им платье.
— Здесь!
Мне разрешили пройти к доктору, я открыл дверь. В небольшом кабинете было трое. Врач-нигериец, склонившись над курчавым мальчонкой, лежащим вверх животом на кушетке, выслушивал его стетоскопом. На стуле около двери сидела встревоженная мать.
Где же советский врач — русский доктор? Может, какая-то ошибка?
Врач ласково потрепал малыша по щеке и сказал матери:
— Ничего страшного. Приступ малярии, можете одевать. Пусть попьет таблетки!
Он выписал рецепт, отдал его женщине.
В дверь заглянули.
— Простите, вы из Советского Союза? — поглаживая ладонью высокий лоб, спросил врач. Был он строен, худощав. На руках рельефно выделялись вены.
— Да, — ответил я, недоумевая, откуда такая проницательность. Я не назывался, никому о себе, во всяком случае в Энугу, ничего не говорил и вообще впервые видел этого нигерийца.
— Рад был бы с вами поговорить, да ждут пациенты, — врач перешел на русский. — Вы надолго в Энугу?
— Дней несколько пробуду.
— Тогда в семь вечера жду у себя, — врач протянул визитку. «Чуди Ачуфуси, доктор», — было выведено на белой лощеной картонке, в левом уголке которой указывался адрес дома.
К назначенному часу я был у Чуди Ачуфуси. Одет он был свободно, по-домашнему: хлопковая рубашка с коротким рукавом, шорты, сандалеты на босу ногу. В доме Чуди Ачуфуси хозяйствовал один: жена с двумя маленькими дочками уехала навестить деревенских родственников. Предложив располагаться поудобнее в мягком кресле, хозяин отправился на кухню готовить ужин.
Без угощения у нигерийцев разговор — не разговор. Раз попал в дом, значит, гость, а гостя нужно перво-наперво, по местным обычаям, накормить: пустой желудок не располагает к приятной, задушевной беседе.
Пока Чуди Ачуфуси двигал на кухне плошки, я осматривал жилище. В комнате, где я находился, — судя по всему, гостиной, обстановка более чем скромная. Передо мной, около стены — мягкий диванчик, журнальный столик, еще два таких, как и мое, кресла с большими спинками. На стенах открытки с видами Москвы и Нигерии. Среди них в центре в отполированной рамке из красного дерева большая, человек на сто, групповая фотография. Я подошел поближе.
Участники торжества расположились ступеньками, словно для исполнения сообща величественной песни, с тем лишь различием, что самые уважаемые люди — преподаватели с задумчиво грустными лицами — сидели впереди на стульях. За преподавателями, на подставках — одна выше другой — находились улыбающиеся юноши и девушки. Каждая личность занимала не более двух квадратных сантиметров, и все же я быстро нашел хозяина дома — в середине второго ряда. В правом нижнем углу фотографии выделялась четкая надпись: «Москва. Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».
За отдернутым цветастым пологом была другая комната с письменным столом, заваленным папками, книгами. К столу впритык — во всю стену шкаф с книгами.
Чуди Ачуфуси потчевал меня шримсами — розовыми креветками, запеченными в масле, тушеным мясом, густо сдобренным перцем и другими специями, отчего во рту пылал пожар.
— Наверное, удивились, когда я спросил, что вы из Советского Союза?
— Еще бы!
— Говорят, что иностранец, проживший несколько лет в какой-либо стране, потом безошибочно, если у него, конечно, есть дар хоть малейшей наблюдательности, узнает при встрече в других местах ее граждан. Я этому не верил. А вот побыл в Москве, убедился, что это так. Советского человека при встрече узнаю сразу. Есть у вас в облике, манерах поведения такое, чего нет у других, — открытость, щедрость, коллективизм, внутренняя доброжелательность.
За распахнутым окном трещали цикады. Мы вспоминали Москву, ее проспекты, театры, музеи, студенческую жизнь. Расстались за полночь. Чуди Ачуфуси вызвался проводить меня до гостиницы. Энугу еще не угомонился. Кое-где, у тротуаров, несмотря на поздний час, светились огоньки — уличные торговки предлагали разную снедь запоздалым прохожим. У колонок с водой переговаривались и стучали ведрами женщины. Откуда-то лилась мелодия африканского танца «хайлайф».
Все дни, пока был в Энугу, я в свободное от других корреспондентских дел время встречался с Чуди Ачуфуси и каждый раз присматривался к нему. Не выставляет ли он себя напоказ, не рисуется ли? Одно дело Москва, другое — своя страна. Интересно было посмотреть на нигерийца, учившегося у нас, в окружении сограждан, в привычной для него обстановке. И чем больше узнавал я Чуди Ачуфуси, тем глубже убеждался, что все его поступки, действия, весь образ жизни — не показуха, а норма поведения. Годы, проведенные в университете, — это не только лекции, семинары и практические занятия. Это был период его становления как специалиста, пора нравственной закалки, формирования активной жизненной позиции…
Чуди Ачуфуси встречали всей деревней. В костюме под галстук, в башмаках он чувствовал себя несколько смущенно среди земляков в обшарпанных будничных одеждах. Деревенский вождь, вырядившийся по такому случаю в агбаду, не отходил ни на шаг. В родной безымянной деревеньке, затерянной в лесах, мало что изменилось. Те же четырехугольные, крытые пальмовыми листьями мазанки. Окна без стекол, вместо дверей — матерчатые пологи, полы земляные. Около хижин рылись в земле тощие куры, с плетеных изгородей свешивались тыквы.
Вспомнилось, как заставляли его поднять левую руку над головой и дотянуться до кончика правого уха, — значит, достаточно подрос и может учиться. В школе он узнал, что за деревней существует большой мир, который раньше был скрыт стеной тропического леса, и что, если выйдет на дорогу за лесом, ей нет конца. В последний школьный год все чаще стал задумываться о своем будущем. Дорога, на которую он вышел в детстве, влекла дальше. Где-то за океанами и морями, горами и лесами были другие неведомые страны и среди них — Советский Союз. Попасть бы туда! Такая возможность вскоре выпала. Чуди Ачуфуси, с блеском закончившему школу, предложили поехать для дальнейшей учебы в Советский Союз. Мысль, что он, Чуди, отправится в страну белых людей, рассердила соплеменников. Они твердо были убеждены, что незачем перенимать у белых несуразные обычаи.
— Я же в Советский Союз.
— Это к красным?
— Не к красным, а к хорошим людям.
— Учиться и жить на что будешь?
— Стипендию дают.
Он все же настоял на своем. И вот теперь те же люди радуются вместе с ним, что получил образование, стал ученым человеком.
На площади в центре деревеньки Чуди Ачуфуси сидел в кресле рядом с вождем — почет не каждому выпадет. Бесконечное число раз повторял односельчанам о своей жизни и учебе в Москве.
Во время трапезы вождь, подвинувшись поближе, доверительно спросил:
— Где думаешь работать?
— Да тут поблизости — в Энугу, больницу уже присмотрел. Берут.
— Значит, мы не ошиблись! Держи-ка, — вождь передал на брелоке два ключа. — Чего удивляешься, аль забыл наши обычаи? Дом в Энугу тебе сладили. Небольшой, правда, но жить можно.
Вот они какие, соплеменники! Собирали деньги по крохам, чтобы он мог учиться в школе. Дом построили — велик дух взаимопомощи. Чем сам-то отплатит за людскую доброту!
Потом была джоли-джоли — веселая вечеринка с зажигательными танцами вокруг костра.
В Энугу Чуди Ачуфуси в первый же день посадил около дома в маленьком дворике пальмочку. Пусть растет, все веселей жить, когда рядом набирает сил дерево.
Иной была встреча в больнице. Диплом с отличием, в котором говорилось, что «Чуди Ачуфуси присвоена квалификация врача по детским болезням», не произвел особого впечатления на некоторых коллег. При случае и без случая, желая, видимо, показать свое превосходство, эти эскулапы, щеголявшие в модных заморских костюмах, вставляли в разговоре словечки «Оксфорд», «Кембридж», «Гарвард». Держались обособленно, подчеркнуто вежливо.
Ему хотелось поскорее проявить себя в работе, показать коллегам, что не менее их сведущ во врачебном деле. Сделать это было не просто. Пациенты почему-то обходили кабинет молодого врача, вероятно, не питая к нему особого доверия, а может, и по какой другой причине. Он днями одиноко просиживал в кабинете, тоскливо постукивал по столу карандашом.
Когда не верят сильному, это вызывает в нем желание доказать свое умение. Наука побеждать начинается с выработки привычки преодолевать препятствия. Наверное, так поступал и Чуди Ачуфуси.
…Потрепанный больничный «додж», кренясь с боку на бок, пробирается по проселку, цепляет бортами за лианы, кустарник. Паркий воздух наполняет кабину, жарко, дышится тяжело. В машине нас четверо — шофер, белозубый с живыми глазами малый, сосущий для поддержания бодрости орехи кола, Чуди Ачуфуси, его коллега — такой же молодой врач — и я. Мы едем в глубинку: Чуди Ачуфуси пригласил меня съездить с ним на вакцинацию. Мы, как и шофер, набрали на дорогу орехов кола. Расковыривая толстую, податливую кожуру, которая скрывает пунцовое ядро, переговариваемся.
— Часто так разъезжаете?
— Каждый раз, когда выпадает свободное время.
— Собственно, выезды в глубинку — его затея, — вставляет молодой врач, дружелюбно толкая Чуди локтем в бок.
Лес расступается, светлеет, дорога жмется к плантации колких, похожих на ежей ананасов.
— В глубинку, допустим, не одни мы ездим. Теперь передвижные клиники туда тоже наведываются, — поясняет Чуди Ачуфуси явно для меня. — Правительство делает немало, чтобы скорее избавить страну от колониального прошлого. Сейчас в Нигерии строят новые больницы, развернута широкая подготовка медиков. Если сравнить прежнее положение, какое было до октября тысяча девятьсот шестидесятого года, то есть до завоевания страной независимости, с нынешним — дистанция огромного размера. И все же нерешенных проблем уйма. Среди них главная — кадры. По официальной статистике, в Нигерии на тридцать три тысячи жителей приходится всего один врач. В городах куда ни шло, можно как-то выкрутиться. Но ведь большая часть населения страны живет в деревнях. Особенно страдают дети. Слышали или читали, надеюсь, — дети в нежном возрасте умирают в Африке значительно чаще, чем в развитых странах? Я решил стать детским врачом, чтобы помогать маленьким соотечественникам. Врач делает всегда нечто реальное, ощутимое. Это добро в его самом ярком проявлении. Профессия врача — самая благородная, самый прямой путь, чтобы помогать людям. Причина высокой детской смертности? Дети находятся как бы в заколдованном круге: плохое питание — болезни — плохое питание. Чуть ребенок занемог, несут или ведут к деревенскому знахарю.
Заходит разговор о деревенских знахарях и колдунах. Врачу они — самый серьезный соперник. Знахари практически есть в каждом селенье. Необходимые знания, умение оперировать ядами, «волшебными» порошками, джу-джу — талисманами они получают от посвященных в тайны магии людей. В некоторых племенах должность знахаря наследственная — от отца к сыну или другим родственникам. Все знахари и колдуны — хорошие психологи, обладающие сильно развитым чувством собственного достоинства, превосходством над «толпой».
Нигерийцы, живущие вдали от городов, искренне верят такому чудодейству, а многие знахари и сами не сомневаются в своем всесилии.
Складывавшаяся веками система древних обрядов и культов до сих пор оказывает влияние на формирование личности нигерийца. Сейчас в стране немало сельских школ, а еще совсем .недавно — несколько десятилетий назад — нигерийские дети и знать не знали, что это такое. Единственным организованным «занятием» были вечерние «посиделки» у костра. На них сходились самые близкие родственники, или так называемая большая семья, членами которой иногда бывает целая деревня. Они слушали рассказы стариков, умещавших в них все племенные традиции. Так детей учили почитать культ отважных и мудрых предков, учили смеяться над трусами и презирать предателей.
Но той же самой дорогой в чрезвычайно восприимчивый чистый детский ум проникали суеверия, тайны магии. У них не было возможности сравнить мнение патриарха племени с каким-либо другим суждением. Способ мышления внуков почти не отличался от способа мышления дедов.
В пору инициации — посвящение нигерийца во взрослого гражданина — он получает еще большее представление о магических ритуалах. Инициация сопровождается заклинаниями и танцами колдунов, присягой на костях предков в полнолуние, знакомством со священными канонами племени, за нарушение которых грозит смерть. В этом ритуале в главной роли выступает местный колдун: он отдаляет или посылает смерть, напускает грозу или дождь, он может сделать все, что только захочет. Такой ритуал, несомненно, оставляет глубокий след в сознании.
Не случайно и поныне услугами колдуна или знахаря пользуются охотники, рыбаки, к ним обращаются за помощью студенты перед экзаменами, политические деятели перед митингом. Не обходят их парни, стремящиеся завоевать любовь девушки, мужья, пытающиеся вернуть былую благосклонность супруги.
Тысячам традиций, обычаев, неписаных законов следует в своей повседневной жизни деревня, и вывести ее на свет с темной дороги удастся, видимо, не скоро. У властей знахари и колдуны — бельмо на глазу. Но разве за всеми уследишь.
В случае надобности деревенскому магу и чародею ничего не стоит выступить в любой роли.
— Ты расскажи, как искупали колдуна, — говорит молодой врач.
— Было такое, — улыбается Чуди Ачуфуси.
У жителей селенья Уквулу, находящегося километрах в ста от Энугу, намечался очередной праздник ямса, правда, несколько ранее обычного. «Корешки» заставили: созрели на этот раз, когда еще не отошли совсем тропические ливни.
Главная забота устроителей праздника состояла в том, чтобы дождь не испортил торжества. Они, не раздумывая, решили обратиться к местному знахарю. Тот долго ломался, набивая себе цену, а согласившись обеспечить безоблачную погоду, выдвинул условие — пусть ему дадут кувшин тумбо, белого петуха, бананов, перца и другие необходимые для заклинания материалы. Все, что просил знахарь, было незамедлительно доставлено.
После жертвоприношения знахарь, театрально подняв руки к небу, твердо поклялся, что дождя в деревне не будет ровно два дня. Под бой тамтамов началось веселье. И тут-то в самый разгар праздника на головы селян обрушился ливень, не затихавший до вечера. Незадачливый заклинатель был наказан — с шутками и смехом его усадили на несколько часов в огромную лужу.
— Знахарь становится не тем, что был раньше. Изворотливей, что ли, — продолжает рассказ Чуди Ачуфуси. — У каждого своя клиентура, за счет которой они живут и кормятся, и, чтобы клиентура не отбилась, затягивают ее в паутину обмана, запугивают, пускаются на разные уловки. К травам и снадобьям «целители» добавляют теперь таблетки и порошки, которые тайком покупают в аптеках сами или через подставных лиц. Лекарства зачастую применяют невпопад. Такое врачевание приносит больше вреда, чем пользы. Как в тот раз…
Случилось это в ту пору, когда Чуди Ачуфуси одиноко просиживал в кабинете.
Однажды в дверь несмело постучали.
— Войдите!
В кабинет робко протиснулся худой мужчина в намокшей одежде, видимо, добирался издалека и попал под дождь. В руках он держал ребенка, закутанного в кусок домотканой материи.
— Спасите сына, доктор! Умоляю!
Ребенка положили на кушетку, распеленали. Мальчик с помутневшим взглядом едва заметно дышал.
Рубцы на теле знахарь уже приложил руку. Минутку, так и есть: острый аппендицит. Чуть бы пораньше. А теперь…
О неудаче не хотелось думать. Медицина еще не всесильна. От неудач, к сожалению, не застрахованы даже опытные врачи. Но у них за плечами — годы практики, жизнь. В Москве он оперировал, и не раз. Тут впервые, больной особый. Не его, доктора, вина, что болезнь запустили. За плохой исход операции вряд ли кто упрекнет. Слишком тяжелая ситуация. Направить к другому врачу? Тоже не выход, разнесут, что струсил, спасовал. Да и время не терпит. Если сам возьмется и не получится… Надо решаться.
— Будем оперировать! Срочно!
Отец ребенка остался в коридоре. Одежда начала источать каплю за каплей, и вскоре на полу образовалась небольшая лужица. Нигериец мял кусок материи, посматривал на часы — что-то медленно движутся стрелки. Он не заметил, как подсохла одежда, а на полу, где была лужица, осталось лишь расплывчатое пятно.
Медицинская сестра
Кто-то тронул за плечо, нигериец вздрогнул. Перед ним, вытирая платком испарину на лбу, стоял доктор, к которому он принес сына.
— Успокойтесь. Сын будет жить. Полежит только у нас. Тогда-то впервые и отстучали тамтамы, что в Энугу приехал новый доктор. Вначале Чуди Ачуфуси называли «доктор, который учился в России», а потом для краткости переиначили — «русский доктор».
О нем заговорили как о хорошо знающем свое дело специалисте. От пациентов не стало отбоя.
Вскоре выздоровевшего Демиана выписывали. Френсис Океку схватил сына на руки, прижал к груди.
— Спасибо, доктор! Спасибо! — придерживая сына, достал из кармана деньги. — Это вам.
Деньги врачу за лечение в Нигерии давать положено. Океку комкал ассигнации, Чуди Ачуфуси молчал. В нем боролись два чувства.
Все же он работал, делал операцию. Он спас мальчика. Его отец в порыве невыразимой признательности благодарит спасителя, предлагает деньги. Что тут особенного, может, не стоит ломать голову и взять? А односельчане, советские люди, дом, учеба, диплом — все бесплатно, все бескорыстно.
Океку-старший зашарил по карманам.
— Уберите, пригодятся еще. За сына не волнуйтесь. У меня для него небольшой подарок — «московская барышня», — доктор протянул мальчугану дарящую теплоту улыбки куклу-матрешку.
…На другой день после поездки в глубинку я был в больнице. Чуди Ачуфуси о чем-то спорил с рассудительным, спокойным профессором Фебианом Кудеку.
— Может, вас послушает? — сказал профессор, обращаясь ко мне. — Я ему втолковываю, что нужно двигаться вперед — поступать в аспирантуру.
— Простите, учитель, на месте не стою.
— Вот-вот.
— Успеется с аспирантурой, материала мало накопил. А сейчас, простите, я вас покину. Медсестры и фельдшера ждут — занятия у меня с ними.
Мы остались одни.
— Вот она, молодость. Жаль. Я ему даже рекомендательное письмо для аспирантуры составил. А он… Вероятно, и нам надо стать такими, как наш молодой коллега, — сказал профессор. — Больше для других старается, чем для себя. Из-за этого один врач ушел из больницы, здорово схлестнулись…
Разговор был тяжелым. Врач, назову его г-н Н., один из тех, кто щеголял в модном костюме заморского покроя, напирал на Чуди Ачуфуси:
— С тобой невмоготу стало работать.
— Как понимать?
— Пациентов отбиваешь.
— Сами идут.
— Сами, — скривился г-н Н. — Они на нас после тебя и не смотрят. Чудак, не тобой введено. Как у нас говорят, «человек, не имеющий денег, не может утверждать, что он мудр». На деньги, что дают за лечение, можно со временем купить автомашину, открыть свою клинику. Собственная практика — самый быстрый и короткий путь к богатству.
— В Нигерии есть и другая присказка.
— Интересно, какая?
…Как-то в лесу сошлись буйвол и поросенок. Каждый из них до этого бродил порознь и теперь был рад встрече. После знакомства порешили искать пропитание сообща. Сказано — сделано. Но согласие царило лишь до тех пор, пока друзья не добрались до развилки. И тут-то они стали спорить, по какой из двух дорог идти дальше.
Буйвол предложил ту, что была длиннее. Поросенок, наоборот, настаивал на короткой. Спорили долго, но так ни о чем и не договорились, еще больше рассорились. И тогда каждый выбрал дорогу по своему разумению. Буйвол пошел по длинной и, хотя намаялся, добрался целым и невредимым до намеченного места. Поросенок свернул на короткую, которая вывела его к болоту. Не желая возвращаться обратно, он двинул напрямик, завяз в трясине, да так там и остался.
— Что ты этим хочешь сказать? Что я поросенок?
— Нет! Самая короткая дорога часто никуда не ведет. Нельзя для себя одного жить. Есть люди совершенно иных жизненных устремлений.
— Каких?
— Тебе не понять…
Вечером я приехал к Чуди Ачуфуси домой. Он разговаривал с застенчивым юношей лет двадцати. Я узнал, что юноша интересуется, ехать ли ему учиться в Советский Союз. Вопросы были самые обычные. Они возникают, наверное, у каждого человека, у которого появляется возможность побывать в другой стране, — не замерзнет ли он в Москве, труден ли русский язык, где живут студенты-нигерийцы.
— Что тебе сказать? — Чуди Ачуфуси расхаживал по комнате. — Национальные кадры Нигерии очень нужны: без них хода вперед нет. О работе не беспокойся. Нам, нигерийцам, первым получившим образование в Советском Союзе, было трудно. Времена были не те. Работой приходилось взламывать стену недоверия к советскому диплому. Доказывать, что наши знания ничуть не хуже, чем у тех, кто получил образование на Западе, и даже лучше. Словом, не волнуйся! Отучишься — на мир по-иному смотреть будешь.
Юноша распрощался.
— Так каждый раз. Домой приходят, где ни появлюсь, сразу — что да как?
Чуди Ачуфуси прервал разговор, взял докторскую сумку. Извинившись, он оставил меня на некоторое время одного. Ему нужно было сходить к одному пациенту, чтобы сделать укол.
В Нигерии сейчас много говорят и пишут о нашей стране. Этот интерес отражает ломку старых взглядов о Советском Союзе. Знакомые нигерийцы рассказывали мне, как колониальная администрация в свое время пресекала малейшие попытки узнать правду о первой стране социализма. Тех, кто слушал радиопередачи из Москвы или читал книги о СССР, преследовали.
В период правления колонизаторов их пропаганда изображала все, что касалось Советского Союза, как «страшное зло». Нигерийцам внушали, что красный цвет таит в себе опасность и несет беду. И ни слова не говорили о том, что пролетариат поднял свои красные знамена на баррикадах, на демонстрациях в знак революционного протеста против гнета буржуазии и что красный флаг стал символом единения трудящихся разных стран, символом их борьбы за свободу и справедливость, за социализм. Искаженные представления об СССР создавали немало преград на пути сближения двух народов в первые годы самостоятельного развития молодого государства.
Гражданская война, в ходе которой решалось — быть или не быть Нигерии единой, открыла нигерийцам глаза на многое. Сепаратисты Биафры, поддерживаемые империализмом, развернули действия за выход из федеративной Нигерии, что грозило стране расколом. Традиционные западные «друзья» стали в позу выжидателей. В это трудное для нигерийского народа время Советский Союз решительно выступил за сохранение единства молодого государства. Ему была оказана моральная и материальная поддержка, явившаяся, по оценкам многих нигерийцев, существенным вкладом в дело победы патриотических сил над сепаратистами.
После войны нигерийский народ взялся за решение главной задачи — достижение страной экономической самостоятельности. Эти планы находят полное понимание у советских людей. Наши инженеры и рабочие участвуют в сооружении первенца нигерийской тяжелой индустрии — металлургического комбината в Аджаокуте, специалисты готовят для него кадры. Нефтяники помогают ставить новые буровые…
Возвратился Чуди Ачуфуси, предложил прогуляться.
Мы вышли из дома. В темном небе ярко горели звезды, от легких дуновений ветра листья пальмы шуршали по крыше.
— Жаль, береза в тропиках не приживается. Посадил бы тут рядом.
Чуди Ачуфуси подошел к пальме, притронулся к шершавому стволу.
— С какого дерева никогда не опадают листья?
— С манго! — ответил я наугад. — Нет.
— С авокадо!
— Нет. Листья не опадают с пальмы, даже если засохнут. Их не может сорвать самый буйный тропический ураган.
Я смотрел на Чуди Ачуфуси. Поймал себя на мысли, что в судьбе этого нигерийца обнаружилось и прорастает все то, что есть незримо во всех нас, советских людях.
Перед отъездом из Энугу я зашел в больницу попрощаться с Чуди Ачуфуси. Мне сказали, что доктор срочно отправился в какое-то селение к больному.
В Лагос вела знакомая бетонка.
Всюду рука человека укротила свирепые джунгли: Усики ямса обвились вокруг бамбука. Рощи бананов, плантации каучука тянутся Вдаль, уходя в бесконечность, — Вот она, Африка: надрезы на стройных стволах, Сбор нагретых на солнце душистых гроздьев банана, Борьба за свободу и счастье против столетий рабства, Тяжкие мысли о прошлом, которое не вернется, Радость надежды на завтра, радость собственной силы, —вспомнились стихи нигерийского поэта Кэйа Эпелле.
После тягуна — затяжного подъема — я свернул на обочину: перегрелся мотор. Выключил зажигание. Машина наполнилась шелестом деревьев, щебетанием птиц. Откуда-то из глубины тропического леса доносился веселый постук тамтама. Барабанщик передавал какую-то новость. Может, это был рассказ о деревенской свадьбе или удачной охоте. А может, барабанщик, подхватив эстафету, передавал новую весть о «русском докторе».
«Водяной слон»
После очередной поездки по стране, в общем-то непродолжительной, Лагос опять показался тесным и шумным. На улицах — орды урчащих автомашин, на тротуарах — толпы горожан в ярко-пестрых африканских одеждах. Оторопь от этой сумятицы, стоило проехать немного по городу, проходила сама собой: сказывалась привычка видеть его таким всегда — и в будни, и в праздники.
Сейчас в облике Лагоса появилось что-то новое, загадочное. Сначала я даже не понял, что именно. И лишь минут через тридцать, медленно пробираясь по забитым автомашинами улицам, сообразил, что неосознанно поразило меня: «Аргунгу», — кричали витрины супермаркетов; «Аргунгу», — напоминала неоновая реклама; «Аргунгу», — горланили с иерихонской силой динамики на площадях. Было похоже, что слово «Аргунгу» витает в воздухе, что оно у всех на устах и нет сейчас для Нигерии ничего важнее на свете, чем это слово. Все назойливо зазывало в Аргунгу на невиданную рыбалку, большой праздник рыбаков, или, как его тут называют, фестиваль.
Было чему удивиться. Почему именно у черта на куличках — где-то на севере страны, в опаленном Сахарой местечке, а не в низовьях того же Нигера, где вдоволь и воды и рыбы, — собираются самые искусные рыбаки? Подзадорил меня один мой знакомый нигериец. Он вытянул руку над головой: вот, мол, какие чудища водятся в тамошней речке. Рыбак везде одинаков и сродни охотнику: приврет и глазом не моргнет. Этот вроде бы не разыгрывал, в подтверждение своих слов показал сувенир из Аргунгу — кругляш рыбьей чешуи с перламутровым отблеском размером почти в пол-ладони.
— Если повезет, «водяного слона» там увидишь! — не унимался рыбак.
О таком чудище я еще не слыхивал и не встречал подобного названия ни в одном из описаний животного мира Африки. Можно было бы, конечно, пуститься в расспросы здесь, в Лагосе, но что это бы дало. К тому же намек рыбака о «водяном слоне» был ключиком к одной из загадок Эджиофора.
От Лагоса до Аргунгу километров эдак с тысячу. Чтобы попасть туда, нужно пересечь Нигерию из конца в конец — с юга на север. Снова предстояло побывать примерно в тех местах, где я искал «марокканскую кожу».
Наконец наступил долгожданный час, и я выехал затемно в Аргунгу.
К рассвету я был уже далеко за городом. Местами шоссе пролегало по холмам, и тогда казалось, что машина несется не по дороге, а по волнам, то проваливаясь в бездну, то взлетая навстречу заалевшему небу. Довольно часто встречались деревеньки с одинаковыми квадратными мазанками. За деревеньками начинались плантации маиса, ананасов, торчащих из земли, как пеньки, каучуконосной гевеи с кольцевыми надрезами на стволах — темно-зеленых деревьев, чем-то напоминающих нашу ольху.
Дорога просыпалась. Навстречу покатили легковушки, автобусы, грузовики, и все они спешили в Лагос.
Поездка на автомашине по Нигерии — не прогулка с ветерком и не беззаботное наслаждение экзотической природой. Садишься за руль, и нет никакой уверенности в том, что попадешь в намеченное место. Препятствий на пути сколько угодно.
Для нигерийских дорог еще не разработана инструкция по безопасности движения. А жаль! Когда рулишь, все время надо быть начеку, все время в напряжении. Местные шоферы ездят лихо, размашисто. Даже вид искореженных автомашин, выброшенных за обочину, не отрезвляет сорвиголов.
Водитель сейчас пошел грамотный, начитанный, дотошный до разных жизнеописаний монархов. А там говорится, что вседозволенность была привилегией королей. Они тем и отличались от простолюдинов, что для них не существовало общих норм и правил. Дурной пример заразителен. У многих нигерийских водителей поэтому велико желание почувствовать себя королем — хоть не на троне, так в автомашине. Ей подвластно все: скорость, дорога. Ну, а «король» на дороге — тот, у кого мощнее и массивнее автомашина…
Впереди возникает округлое темное пятно. Оно растет на глазах, заслоняет бетонку. Так и есть, навстречу катит «король». Я поспешно притормаживаю, прижимаю автомашину к обочине. Мимо, обдав гарью, проносится грузовик с длинным баком-цистерной — бензовоз. Такие «короли» не признают рядности, если пользоваться орудовской терминологией, а прут напролом посреди шоссе, неважно, узкое оно или широкое. И горе тому водителю, кто наивно понадеется, что встречный мастодонт уступит узкую полоску дороги, хоть на дюйм отвернет в сторону.
К исходу второго дня я приближался к Аргунгу. Горизонт распахнулся, ушло ввысь прозрачно-голубое небо. А от прежнего зеленого моря, которое я видел здесь раньше, не осталось и следа: совсем недавно на эти места обрушился харматтан. Правда, посланец Сахары пока лишь пробовал силы — нагонял прохладу проникшую сюда со стороны Средиземноморья, и не пылил. Но уже показал свой крутой норов: «поджарил» траву, сбил с редких приплюснутых деревьев листья, отполировал стволы.
Километров за тридцать до Аргунгу пришлось сбавить скорость: на дороге стало тесно, как на африканском базаре. Вместе со мной в одном направлении на ослах, верблюдах, тонконогих аргамаках, велосипедах, автомашинах ехали сотни людей. Весь этот поток, минуя Аргунгу, направлялся к поселку в километре от него, перед которым над дорогой была перекинута арка из жердей с надписью на синем полотне: «Добро пожаловать в фестивальную деревню!».
Комната, что мне отвели в мотеле, длинном, одноэтажном доме с плоской крышей, была обставлена, по местным понятиям, вполне роскошно. Слева от двери — застланная серым покрывалом узкая кровать. Рядом на тумбочке лежали две книги в черных дерматиновых переплетах — Коран и Библия. Около окна, задернутого цветастой шторой, небольшой стол и два стула. Справа от окна ободряюще урчал в стене кондиционер, нагоняя в комнату желанную прохладу. Впору было бы и отдохнуть с дороги, но как усидеть в номере, если рядом, за тонкой стеной мотеля, готовилось экзотическое празднество.
Я вышел на улицу и очутился в центре фестивальной деревни. Напротив находилась несколько необычная для этих мест постройка, похожая на большой барак, с вывеской «Ресторан» над входом. От нее в разные стороны разбегались асфальтовые дорожки к легким баракам поменьше, которые в Нигерии носят название рест-хаузов.
Бронзовый сосуд из Игбо-Укву
В фестивальной деревне было оживленно. По дорожкам не спеша прохаживались в одиночку и группами нигерийцы. Они о чем-то горячо спорили, весело смеялись, обнажая крепкие белые зубы. Преобладали мужчины. Многие из них были одеты в легкие хлопчатобумажные рубашки и шорты. В толпе выделялись важного вида нигерийцы в агбадах. Изредка мелькали белые лица заезжих туристов.
Я пересек большую — вполне можно в футбол играть — безлюдную площадь. На дальнем ее краю хлопал на ветру полотняный тент, укрывающий от жгучего солнца трибуну для почетных гостей. За деревней — всех ей не вместить — табором расположились главные участники предстоящего фестиваля. На вытоптанной траве пестрели циновки, коврики, лежала снасть — сетки, натянутые на деревянные полуобручи, и калебасы — круглые, как шары, полные сосуды из тыквы. Дымились костры, в небольших котлах булькало какое-то варево, и ветер разносил вокруг аппетитный запах. Атмосфера была довольно будничной. Съехавшиеся рыбаки, казалось, и не думали о завтрашнем соревновании. Одни хлопотали у костров, другие, собравшись в кружок, что-то с жаром обсуждали, третьи проверяли снасти.
— Из каких мест? — спросил я одного из них.
— Подержи-ка! — попросил он, не отвечая на мой вопрос. Рыбак накинул на себя сетку и, сидя под этим капроновым колпаком, стал тщательно осматривать ячейки. Я терпеливо ждал, пока он закончит это занятие.
Из Имогу, что на нижнем Нигере. Может, слышали? — наконец ответил он.
Самому рыбаку, как выяснилось из разговора, попасть на фестиваль было бы не по карману. При самых скромных расходах для этого нужно около ста пятидесяти найр, а ему и за два месяца столько не заработать. Но нигерийцы — народ отзывчивый, готовый, если нужно, отдать соплеменнику последнюю кроху. Моего собеседника, как самого достойного из деревенских рыбаков, выбрали на сходке и тут же пустили по кругу шапку, а точнее, калебас.
— Каждый штат, каждый приличный город прислали свою команду, с ними тягаться будет трудновато. Но и нас, одиночек, вон сколько, — рыбак указал на табор. — Повезет, так и моя деревня не будет обойдена почетом.
Вскоре сетка была осмотрена, где нужно — залатана, и я распрощался с рыбаком, пожелав ему удачи.
Тропинка в высохшей саванне вывела меня к Аргунгу. На окраине за мной увязались курчавые мальчишки, которые бегали вокруг и кричали: «Батуре! Батуре!». Они ничего не пытались выпросить. Просто сам белый человек был, видимо, для них в диковинку.
Аргунгу — городок низкий, приземистый, к тому же вязкий от песка. Я обошел, с трудом переставляя ноги, квартал-другой и, словно на сказочном ковре-самолете, перенесся в нашу старую Среднюю Азию. Только глинобитные дома с плоскими крышами и острыми выступами по углам прячутся здесь за кронами саванной пальмы дум и огненной акации. Каждый дом, как крепость, обнесен высокой стеной, скрывающей от постороннего глаза внутренний дворик. По улицам-расщелинам бродили козы, в пыли искали корм озабоченные куры. У встречного горожанина я разузнал, как пройти к дворцу местного эмира: хотелось хоть краем глаза взглянуть на эту единственную достопримечательность Аргунгу. Однако побывать там не успел. В Африке темнеет быстро.
Красный диск повисел над мутным маревом, а потом скатился за горизонт, будто сдернул его с неба тот самый гоголевский черт, который уволок месяц в ночь перед рождеством. Пришлось возвращаться. В фестивальной деревне светились электрические огни, звучала музыка. Там, где на окраине расположились рыбаки, полыхали костры, выбрасывая столбы искр в звездное небо. Табор чем-то походил на военный лагерь накануне сражения…
Утром, едва солнце показалось из-за горизонта, фестивальная деревня пришла в движение. Хлопали двери мотеля и рест-хаузов, к стоянкам подруливали красноватые от пыли автомашины. На дорожках было тесно. Шли в пестрых национальных одеждах приехавшие на праздник гости. А мимо, обгоняя их, спешили рыбаки с сетками и калебасами. Подобно носильщикам, протяжно покрикивали, прося освободить дорогу, барабанщики, придерживавшие сбоку бочонки-тамтамы. Спрашивать, как пройти к месту проведения состязания рыбаков, не было необходимости. Толпа сама неудержимо несла меня к западной окраине фестивальной деревни.
Остались позади последние дома, по ногам захлестала жесткая трава. Впереди открылась река Сокото. Она угадывалась по двум прерывистым полосам свеже-зеленого тальника, которые размежевали с севера на юг поблекшую саванну. Утренние росинки еще не высохли и вспыхивали радужными блестками на листьях.
У левого берега возвышалась еще одна трибуна. На деревянном помосте под тентом стояли плетеные кресла, к спинкам которых были пришпилены таблички с фамилиями местной знати. Напротив трибуны, почти у самого берегового откоса, находились весы — похожий на большой манометр диск с крюком, подвешенный на врытом в землю столбе. До другого берега было от силы метров семьдесят. Харматтан не обмелил, не выпил реку, которая, пополняемая родниками, мощно несла свои воды, не потревоженные ни единым рыбьим всплеском. Если идти на лодке вверх по течению, можно добраться до северной границы Нигерии, подступающей к окраинам Сахары. Напрямую же через саванну и пески до пустыни и того ближе: каких-то полтораста километров.
Народ все прибывал, растекаясь вдоль берега вправо и влево от трибуны. Часть зрителей лодочники стали переправлять на другой берег в остроносых челнах. В моем воображении по пути в Аргунгу река виделась широкой. А тут в некоторых местах при желании и подросток перебросит через нее камень. В душе зашевелился червь сомнения: может, зря я приехал в Аргунгу. Да, но где же тогда искать водяного слона? — Что с тобой, батуре?
Я обернулся. Сзади стоял дородный, с округлыми щеками нигериец. С досады, видимо, я слишком громко чертыхнулся, чем и привлек его внимание.
Думаю, есть ли в этой речке хотя бы малявки.
Брови у нигерийца поползли вверх.
— На фестивале впервые?
— Да.
— Понятно, — улыбнулся нигериец. — Не стоит сомневаться. Место это заповедное. После фестиваля на него накладывается табу до следующего праздника. Рыбы тут прорва, да еще какой! Наберитесь терпения… — Нигериец не договорил и, словно забыв обо мне, уставился куда-то в сторону. Взглянул туда и я — поднимая за собой шлейф пыли, к реке двигался кортеж всадников.
— Эмир! Эмир едет! — почтительно прокатилось по берегу. Так вот еще устроена Африка. В небе над Нигерией летают реактивные самолеты, по дорогам мчатся автомашины самых последних марок, в домах (не во всех, правда) надрываются транзисторы, светятся экраны телевизоров. А рядом соседствует средневековая старина! Время оказалось пока не властно над институтом эмиров. Они до нынешних дней сохранили свое прежнее могущество и влияние.
Кортеж приближался. Впереди с длинными медными трубами ехали трубачи, потом барабанщики. За барабанщиками — стража, палившая в воздух из старинных ружей. Перед трибуной кортеж разделился на две группы. Одна свернула вправо, другая — влево. И лишь единственный всадник в ослепительно белой роскошной одежде, который до этого находился в середине, направился прямо к трибуне. Его коня вели под уздцы четверо слуг — по двое с каждой стороны. То был Мухаммаду Мера — эмир Аргунгу. У помоста его, как хрупкую фарфоровую куклу, осторожно сняли с лошади, под руки — хотя старцем эмир отнюдь не выглядел — довели до кресла. Лишь после этого на свои места поднялась приезжая и местная знать.
А на берегу уже ждали его сигнала. Тысячи три рыбаков, встав в ряды, держали наготове свои снасти на уровне плеч и чем-то походили на огромных стрекоз, готовых спорхнуть с откоса.
Эмир не стал манерничать: произнес коротенькую речь, усиленную динамиками. Пожелал каждому участнику состязаний поймать большую рыбу и величественным жестом подал знак открыть фестиваль.
И сразу — будто раскат грома прокатился над рекой. Это одновременно ударили сотни тамтамов. Под оглушительный грохот барабанов, протяжное пение труб, ликующие крики зрителей в воду бросились рыбаки. С откоса покатилась лавина черных полуобнаженных тел, и казалось, что ей не будет конца. Река, только что отражавшая бирюзу безоблачного неба, мгновенно помутнела, а через несколько минут вышла из берегов от многих сотен тел, забивших русло. В воздухе замелькали сетки, на взбудораженной воде покачивались, словно поплавки, калебасы. Подбадриваемые толпой болельщиков рыбаки старались вовсю. «Мелкота» в два-три килограмма в расчет не бралась. Но ее не выбрасывали, а заталкивали в калебасы: пригодится на ужин, а то пойдет на продажу. Желающие купить найдутся. Многим из болельщиков захочется стать обладателями рыбы, пойманной во время фестиваля в Аргунгу.
И все же настоящая добыча, а цель состязания в том и состоит, чтобы поймать самую здоровенную рыбину, ускользала из рук. Обитатели реки, напуганные до смерти столь необычным нашествием людей, становились неимоверно проворными и хитрыми. Какому-нибудь рыбаку казалось, что готово загнал плутовку в сетку. Не тут-то было! В самый последний момент она изворачивалась и уходила. Рыба в воде следа не оставляет, попробуй, угадай, куда она подалась. К тому же в такой кутерьме снасть удачно не поставишь: соперников столько, что каждый, сам того не желая, мешал другим. Не плошали, однако, умельцы, поднаторевшие на рыбалке в своих местах. Все чаще над рекой начали разноситься восторженные вопли — в чью-то сетку заскочила порядочная рыба. Чем больше была добыча, тем громче ликовали зрители, тем оглушительнее били тамтамы. На берегу заключались пари, велись жаркие споры, чья команда, чьи рыбаки лучше.
Улов сносили к весам перед трибуной. Добыча тяжелела: восемнадцать килограммов, двадцать четыре, тридцать один… Узнав свой результат, рыбаку, а каждому казалось, что он уже поймал самую большую рыбу (да и как на глазок определишь ее вес), не оставалось ничего другого, как ждать. По правилам соревнования после взвешивания улова нельзя вторично лезть в Сокото за новой добычей. Впрочем, если бы и разрешали, вряд ли кто-либо еще раз это сделал: надежды на то, что в сетку при таком скоплении рыбаков попадет еще большая рыба, не было никакой.
В то время когда очередное взвешивание показало сорок пять килограммов, в реке неподалеку от трибуны, поднялась суматоха. Какой-то огромный и сильный обитатель здешних вод ускользал от рыбаков, сбивал их с ног. Некоторые из них не выдержали, бросили сетки и метнулись к берегу, истошно крича: «Крокодил! Крокодил!».
Лишь один здоровяк не спасовал. Наверное, рыбацкое чутье подсказало ему, куда поставить сетку. Он держал ее наготове и выжидал удобного момента. Вдруг рыбака качнуло в сторону. Было видно, как напрягся мускулистый торс. Но, увы, сил у него явно не хватало, чтобы вытащить отяжелевшую снасть. На помощь подоспели другие рыбаки. Нет, это был не крокодил: в сетке бунтовала, изворачивалась гигантская рыбина! Ее несколько раз пытались приподнять над водой: глотнет воздуха — приутихнет, сомлеет, — но безуспешно. Из воды показывался лишь растопыренный веером хвост, и тут же плутовка утаскивала снасть вниз. Но вцепились еще другие дюжие руки, и вся ватага медленно, шаг за шагом стала выбираться на мелководье. На берегу бьющуюся рыбину прижали к земле, с трудом закатали в сеть и потащили к трибуне.
Смолкли голоса, барабаны, трубы: все с нетерпением ждали результата взвешивания. Как только рыбину подвесили на крюк весов, стрелка на диске резко ушла вправо.
— Вес — шестьдесят четыре с половиной килограмма, длина — метр девяносто три сантиметра! Эту пока самую большую рыбу на нынешнем фестивале поймал житель Аргунгу Умару Феланду! — торжественно пробасили динамики.
— Джайвер рауво! Джайвер рауво! — раздались радостные возгласы.
— Что они кричат? — спросил я дородного нигерийца с округлыми щеками, которого, к счастью, не оттерла толпа после нашего первого разговора.
— Водяной слон! — указывая на подвешенную рыбину, пояснил он. — Так ее называют в здешних местах за неимоверные размеры, силу и буйный норов. Чем не слон, а? Подобных ей среди других видов рыб в пресных водоемах Африки, пожалуй, не сыскать. Ну, а по-ученому — это нильский окунь.
Умару Феланду все стоял около огромного нильского окуня и, поддерживая его руками за жабры, счастливо улыбался.
Это пока только «слонята»
Утихли страсти. Другие рыбаки потянулись к весам со своим уловом. Но это были лишь «слонята». Рыбака, удачливее Умару Феланду, так и не нашлось. Затем состоялась церемония награждения, во время которой эмир вручил ему чеканный кубок, велосипед и денежный приз. В честь победителя ударили тамтамы, запели трубы. Призы поскромнее получили еще тридцать рыбаков.
Между тем солнце, казалось, неподвижно застывшее в зените, так раскалило воздух и землю, что тепло чувствовалось даже через толстую подошву ботинок. При такой жаре только бы и отсиживаться в речке или, на худой конец, в прохладной комнате мотеля. Я подумал, что теперь, когда состязание рыбаков окончилось, и участники и зрители будут до вечера отдыхать. Не тут-то было! Праздник переместился на площадь фестивальной деревни. Туда с подобающими почестями доставили эмира и усадили на трибуне в окружении местной знати.
Опять взвыли трубы, забухали тамтамы. Народ столпился по краям площади. На дальнем ее конце гарцевали всадники. Эмир дал знак, и начались скачки. Их открыл наездник на белом скакуне, взяв с места в карьер. Тонконогий аргамак словно распластался в воздухе, едва прикасаясь копытами к земле, — столь стремителен и красив был его бег. Горячий конь мчался прямо на трибуну. Еще мгновение, и он врежется в людей. Но нет! В считанных метрах от толпы лихой наездник на всем скаку вздыбил лошадь так, что она чуть не села на хвост. Зрители восторженно загудели. Наездник удостоился одобрительного кивка эмира и, довольный, отъехал в сторону. А к трибуне на вороном аргамаке уже рванулся следующий всадник…
Скачки закончились часа через два. Площадь опустела, но ненадолго. После короткого перерыва на обед туда снова стал стекаться народ. Настала очередь танцоров показывать свое искусство.
Музыкальный ансамбль исполнителей на традиционных инструментах
Никто не брался считать в Нигерии традиционные танцы. Впрочем, затея эта представляется практически невыполнимой. В каждой деревне — города в расчет не берутся, ибо из всего населения страны в них живет едва ли четверть, — есть свои танцы. Причем многие из них дошли до наших дней из седой древности. На сей раз в фестивальной деревне собрался весь цвет нигерийских танцоров. Каждый штат прислал свои ансамбли, своих исполнителей.
Первыми на площадку перед трибуной выбежали стайкой стройные девушки в мини-платьицах, сшитых из пятнистой, как шкура леопарда, ткани. Их встретили приветственными возгласами, аплодисментами. Девушки начали исполнять знаменитый в Нигерии танец нвокоробо, иначе называемый «танец грапий», о котором есть романтическое предание.
Традиционный танец девушек
Когда-то охотник устроил в лесу засаду и поджидал добычу. Неожиданно на поляну перед ним вышел барабанщик и призывно застучал по тамтаму. Тут же из кустов выбежали красивые девушки — все, как одна, в коротких одеяниях из леопардовых шкур. Двигаясь гуськом, они образовали круг и в такт ударам барабана и погремушек, что были у них в руках, начали танцевать. Девушки то грациозно застывали на месте, то, подхваченные быстрым ритмом, вихрем носились по поляне.
Очарованный красотой танца охотник просидел в кустах до вечера, а когда лесные феи исчезли, поспешил домой. В деревне он рассказал жене и детям обо всем, что видел в лесу, и на другой день повел их к поляне, где снова танцевали грациозные девушки. На третий день с охотником отправились все его родственники. Девушки и барабанщик выглядели еще наряднее. Охотник понял, что на сей раз у неведомых танцовщиц фестиваль, а до этого они всего лишь репетировали.
После танца девушки и барабанщик принялись за трапезу, которую принесли с собой в корзинах. В это самое время на поляну выбежала антилопа. И вот тут охотник сплоховал: забыв обо всем, он схватил лук и спустил тетиву. Пораженная метко пущенной стрелой антилопа рухнула в траву. В тот же миг исчезли девушки-танцовщицы и барабанщик, в спешке оставив на поляне погремушки и тамтам. Охотник и его родственники подобрали их и вернулись в деревню. Затем мужчины попробовали наигрывать услышанный в лесу ритм, а девушки — имитировать движения граций. Так из безымянной деревеньки, затерявшейся в лесах провинции Оверри, где ранее никогда не знали танцев, вышел нвокоробо, ставший теперь прима-номером любого нигерийского фестиваля.
Танцовщица
До позднего вечера на площадь фестивальной деревни один за другим выходили танцоры, и зрители буквально стонали от восхищения каждым новым номером. Танцы продолжались и на другой день…
К концу праздника я уже валился с ног, успев посмотреть еще состязания борцов и боксеров, веселые гонки гребцов, которые с завязанными глазами пытались обогнать друг друга на лодках, побывать на выставке возделываемых фруктов и растений. Теперь не мешало бы и перекусить. В ресторане не сделал и двух шагов, как меня окликнули. Из-за ближайшего от входа столика поднялся нигериец в агбаде — тот самый, которого я встретил ранее на берегу Сокото.
— Прошу за мой столик! Надеюсь, не откажетесь? — пригласил он меня тоном хозяина.
— Как праздник? Понравился?
— Еще бы!
Нигериец хитро прищурился:
— И все же одну вещь вы упустили.
— Какую?
— Это мы исправим после ужина. А пока позвольте вас угостить?
— Я молча развел руками: такого гостеприимства не ожидал.
— Официант!
К столику подскочил худенький паренек в белой отутюженной форме. Мой знакомый сказал ему что-то на местном диалекте. Минуты через две перед каждым из нас стояло по тарелке с какой-то снедью. Пахло аппетитно, но все-таки что это было за блюдо? В тарелке было какое-то густое серое месиво из лапши, кусочков мяса, блеклых листочков, приправленное арахисовым маслом. Хотя мне приходилось бывать во многих нигерийских домах, но такого я еще не пробовалл.
— Это наше местное блюдо талия. Очень вкусное! Думаю, понравится…
Вилкой я подцепил самую малость необычного варева, смело отправил его в рот и тут же поперхнулся: это был настоящий раскаленный уголь. Нёбо, язык, десны — все горело. Как это мой новый знакомый ест эту талию? Однако на подвох с его стороны не похоже. Скорее всего решил, по простоте душевной, угостить батуре для полноты ощущения нигерийской жизни экзотическим национальным блюдом. Так что обижаться не следует. С видом, будто ел такое варево с детства, я принялся уплетать талию, с трудом сдерживая гримасу от жжения во рту. Да, теперь поездка в Аргунгу запомнится надолго.
Вскоре с едой было покончено, и мы вышли на улицу. С реки тянуло прохладой. Фестивальная деревня светилась, двигалась, смеялась, разговаривала, надрывалась музыкой. Среди хаоса звуков выделялась четкая дробь тамтама (он был неподалеку от нас, к тому же его ритм не походил на грохотанье барабана). Та-ра-рум-рат-бум! — неслась морзянка сухих, коротких звуков. Нигериец потянул меня за собой. Мы свернули за угол. У столба, освещенный электрической лампочкой, стоял посреди праздничной толпы барабанщик. В синем халате и шапочке, похожей на поварской колпак, только не белой, а цветастой, он выглядел как артист — исполнитель фольклорных мотивов, к которому в свете софитов обращены взгляды зрителей. В правой руке барабанщик держал деревянную колотушку, слегка изогнутую на конце, и быстро стучал ею по тугой мембране тамтама, выбрасывая в темноту ночи прерывистую дробь.
Опять новая заминка: я так и не понял язык говорящего барабана. Выручил мой новый знакомый, ставший бойко переводить вязь непонятных звуков в обычные слова.
Барабанщик рассказывал историю зарождения фестиваля в Аргунгу.
В давние времена рыбу в Сокото считали общей, и племена, жившие по ее берегам, выходили на лов где кому вздумается. Вроде бы так и должно быть. Да случались накладки. Племя из низовий, поддавшись слухам, срывалось на промысел к верховьям. А в это время другое племя с верховий отправлялось за рыбой в низовья. Всем хотелось наловить не просто рыбы, а поймать обязательно вкуснейшую из них — «водяного слона». При такой неразберихе, а может, и зависти — не всех щедро одаривала река, не всем попадался «водяной слон» — между племенами вспыхивали раздоры. Рыбаки вместо снастей вооружались копьями, луками, и тогда вода в реке окрашивалась кровью.
С распрями в 1934 году покончили султан из Сокото и местный эмир. Они уладили разногласия и установили, кому и где ловить рыбу. Заодно наказали племенам фулани и кебба жить в мире и добрососедстве. Рыбаки после столь мудрого решения бросились в реку, наловили рыбы и принесли ее владыкам в знак благодарности. На Сокото воцарился мир и порядок, а враждовавшие ранее племена начали собираться на общий праздник. Украшением таких праздников стало состязание рыбаков.
Барабанщик перечислил затем имена нигерийцев, которые в разные годы, выловив самую большую рыбу, то бишь «водяного слона», в здешней речке, были победителями. Не забыл он и Умару Феланду.
Долго еще стучал в ночи тамтам, повторяя раз за разом предание о зарождении фестиваля в Аргунгу. Эта россыпь звуков провожала меня до самого мотеля…
Немало повидала Сокото, немало воды утекло в ней. Да и соперничество рыбаков стало иным. С завоеванием Нигерией независимости фестиваль в Аргунгу превратился в праздник национального масштаба. Состязанию рыбаков сопутствует теперь развлекательная программа — скачки на лошадях, танцы, спортивные номера по боксу, борьбе, акробатике, мотокроссу… Причем это не только красочное зрелище, но и средство установления взаимных контактов, сближения больших и малых народов страны. В Аргунгу съезжаются ныне посланцы из всех уголков Нигерии. Они знакомят друг друга со своими танцами, музыкой, традициями и обычаями. Как родники питают здешнюю реку, так и искусство разных нигерийских племен, сливаясь в Аргунгу в общий поток, рождает новую общенациональную культуру, которая становится достоянием всего народа и служит делу укрепления национального единства.
Фестивальную деревню я покидал утром. На выезде было тесно. Переполненные легковушки, грузовики, автобусы неторопливо выбирались на дорогу. Нигерийцы улыбались, кому-то кричали, махали на прощанье. Они разъезжались, чтобы через год встретиться в Аргунгу снова…
Узелок на память
В облике подростка, сидящего под пальмой, не было ничего настораживающего. Машина медленно катила вдоль улицы по разбитой дороге, переваливаясь с боку на бок. Он бросил на меня быстрый взгляд и стал что-то перебирать в своей кожаной сумке, находившейся рядом. Стоило мне приблизиться, как подросток вскочил, словно ужаленный, и в мгновение ока оказался перед автомашиной. Будь скорость побольше — ошибки не миновать. Но мальчишка все рассчитал и, видимо, не раз использовал свой смертельный трюк. Я резко затормозил, хотел обрушить на него словесный поток негодования: нашел, дескать, место для забавы, что за охота так нагло лезть под колеса. Подросток, будто ничего не случилось, подошел к дверце автомашины и протянул мне с невинным видом пестрые кусочки материи, разноцветные ленточки.
Я привык к тому, что стоит в Лагосе задержаться перед светофором или застрять в дорожной «пробке», тут же около автомашины, как из-под земли, вырастает уличный торговец с набором бог знает каких товаров: тюбиками крема, галстуками, авторучками, часами, браслетами, очками с темными стеклами… Здесь был не Лагос — другой город, не такой суматошный. Встретить тут уличного торговца, выбегающего перед автомашиной на пустынной улице, — никак не ожидал. Да и товар у него был совсем иного свойства: лоскутки яркой материи и ленточки разных цветов. Тоже мне коробейник, нашел что предлагать…
— Вы, конечно, на Олумо пойдете? — спросил мальчишка.
— Куда ж еще!
— Тогда возьмите вот это, — коробейник подал оранжевую ленточку. — Каждый, кто там побывает, оставляет духу хранителю Олумо какой-то подарок. Чтобы он о вас не забыл.
— Ну, раз так… — я купил ленточку, совсем не думая, чтобы ублажить духа. От дерзкого мальчишки просто так, видимо, не отделаешься.
После столь неожиданной встряски я продолжал так же не спеша ехать по улице, поглядывая по сторонам. Жирная желтоватая пыль. Навесы-козырьки над окнами, как и в других городах йоруба. Босоногие мальчишки, бегающие около домов. Женщины с ведрами и тазами у колонок. Приветливые лица, безмятежные белозубые улыбки.
Много диковинного приходилось мне слышать об этом городе — Абеокуте, находящемся километрах в ста севернее Лагоса.
Говорят, городу, чтобы утвердиться, нужно два-три столетия. Абеокуте пока далеко до этого срока. Ее основателем считают Шодеке, который в 1830 году привел своих эгба (народ, родственный йоруба. — Ю. Д.) на место охотничьей стоянки на левом берегу реки Огун. Новое стойбище понравилось: кругом нетронутые леса с дичью, на пологих холмах — щедрая на урожай земля. В созданном Шодеке поселении нашли приют и кров крестьяне и охотники из окрестных деревушек. Их правнуков и сейчас немало в Абеокуте, и они так и наследуют образ жизни предков. Живут в городе, смотрят телевизор, разговаривают по телефону, ездят на велосипедах и автомашинах, а работают на плантациях в его окрестностях, занимаются охотой, рыбной ловлей.
Абеокута оказалась на исключительно важном переплетении различных путей. Это и предопределило ее дальнейшую судьбу как одного из связующих звеньев между Лагосом и глубинными провинциями народности йоруба.
При всем этом у Абеокуты, как у каждого города, есть еще своя особенность, своя «изюминка». Здесь в декабре 1859 года вышла «Иве Ирохин» — первая в Нигерии газета. Отсюда в 1898 году — опять-таки впервые в стране — началась прокладка железной дороги к морскому порту в Лагосе для вывоза хлопка и других товаров.
И все же не этим гордится Абеокута, а своей скалой Олумо, что поднялась на ее восточной окраине. Она является местом традиционных культов, от нее пошло и название города: Абеокута на диалекте йоруба означает «под скалой».
Об Олумо сложена легенда, и все местные жители передают ее из уст в уста от поколения к поколению. Они утверждают, что скала появилась в одно время с Ифе. Дескать, петух, тот, которого Одудува взял с собой, когда спускался с небес по железной цепи, раскидывая в разные стороны песок, отбросил попавшийся в нем камешек далеко в сторону. Из него-то и выросла Олумо.
К этой скале и лежал теперь мой путь.
Она долго оставалась для меня за семью печатями. Но тайна тем и хороша, что волнует воображение, обещает радость предстоящей отгадки.
Впрочем, после встречи с Эджиофором было не до скалы, с вершины которой «можно увидеть всю Нигерию». Нужно было вначале заняться его загадками, а уж потом рассчитывать на нечто большее. Не сразу открылось мне удивительное богатство и разнообразие Нигерии, не ко всем загадкам Эджиофора сумел я подступиться. И все же он при очередной встрече решил меня не мучить, не гонять до седьмого пота. Выслушав мой «отчет», Эджи-офор (это имя. как я теперь понял, дословно переводится «иду по пути правды») сказал, как найти дорогу к таинственной скале… Да и сам он оказался не из клана знахарей-прорицателей, к которому я его причислил, а учителем истории в одной из средних школ Лагоса.
Олумо искать долго не пришлось. Улица Шодеке вывела прямо к ее подножию. От того места, где я остановил машину, до скалы можно было добросить камень. Она представляла собой нагромождение двух овальной формы каменных глыб, меньшая из которых, как берет, слегка прикрывала другую, помассивнее, что была под нею. Омы: тая дождями, исхлестанная буйными ветрами, Олумо, словно колосс, величаво возвышалась над окрестными холмами и Абеокутой. Я стал пробираться к вершине.
По всему склону, почти у каждого валуна, под каждым кустом были мисочки, глиняные кувшины и тарелки с какой-то снедью — жертвоприношения духу скалы. На ветвях деревьев — перевязанные лоскутки материи, яркие ленты — «узелки на память». Своеобразное ему напоминание о собственной персоне.
Измученный каменной тропой, готовый свалиться от усталости, минут через тридцать я взобрался на «берет». Отсюда было далеко видно вокруг: отходящая на восток от Олумо каменная гряда, холмы, зеленые плантации, плоские крыши Абеокуты, поблескивающая лента реки.
Я уже не думал ни о какой тайне Олумо, не надеялся на чудо, что у меня появится способность охватить взором от края до края всю Нигерию. Но чудо все же случилось. Видимо, Эджиофор хорошо знал, какие чувства охватывают человека на вершине, когда он перед этим пристально приглядится к стране в разных ее местах. Произошла удивительная вещь: отдельные поездки, встречи с людьми, дорожные эпизоды, размышления слились в единую объемную картину Нигерии.
В древности тоже любили форсить. Голова женщины с модной прической (терракота культуры Нок)
Я как заново «увидел» страну, «увидел» людей, в ней обитающих. Всплыли в памяти застывшие фигурки из терракоты и бронзы — свидетели искусства древних мастеров, караваны верблюдов с «марокканской кожей», медленно идущие по раскаленной Сахаре. Рушились в прах, тонули в пучине веков древние царства на берегах «великой реки», а она продолжала нести свои воды к безбрежному океану, оставаясь кормилицей африканских племен, надеждой простых пастухов.
Девушка из племени фульбе
Долгое время белые люди ничего не знали о существовании могучих царств в Нигерии. Не ведали ничего и нигерийские царства о белых людях. Но потом их пути сошлись. Грохотом, дымом пожарищ, слезами женщин и детей наполнилась Нигерия. Пали могучие царства, кровь окропила ненадежные щиты из буйволовой кожи. Зазвенели цепи кандалов, трюмы кораблей наполнились чернокожими невольниками…
На смену одним грабителям пришли другие. Кто подсчитает, во что обошлось Нигерии британское господство?
Сколько нищих, больных, обездоленных людей оно породило? Колонизаторы принесли нигерийцам 300 лет духовного и умственного мрака, физического варварства и человеческой деградации в невиданных в Африке размерах. Они оторвали народы Нигерии от богатой самобытной культуры, обычаев и традиций, обрекли их на забвение.
Нигерия долго пробиралась в потемках, сбивалась с пути, набила себе немало шишек, пока не вышла на верную дорогу. 1 октября 1960 года на Центральной площади в Лагосе вспыхнул факел независимости. Десять лет спустя, в праздничную ночь, там же был зажжен факел единства страны, яркое пламя которого осветило нигерийскому народу путь в будущее.
Некогда поголовно неграмотные, без письменности, народы Нигерии выдвинули из своей среды ученых и писателей, врачей и артистов, художников и инженеров. Еще сравнительно недавно это казалось чудом, а теперь это — явление рядовое, повсеместное.
В разных местах выросли заводы, фабрики, рудники, электростанции, о которых раньше в стране не смели и мечтать. И все они управляются самими нигерийцами.
…Я снова осмотрелся. Внизу гудела, напоминая о реальной жизни, Абеокута. Вот и закончилось мое восхождение на «таинственную» скалу. Я стал спускаться. У подножия привязал на куст оранжевую ленточку, все ж оставил «узелок». Человек я не суеверный, мне не надо никаких милостей от мифического покровителя Олумо. Метку я сделал для себя, чтобы дольше помнить Нигерию — удивительную страну «гирин герен».
Академия наук СССР
Ордена Трудового Красного Знамени
Институт Востоковедения
Серия основана в 1957 году
Юрий Долетов
Страна «гирин герен»
«Наука»
Главная редакция восточной литературы
1989
ББК 26.89
Д 64
Редакционная коллегия
К. В. Малаховскии (председатель), Л. Б. Алаев, Л. М. Белоусов, А. Б. Давидсон, Н. Б. Зубков, Г. Г. Котовскии, Р. Г. Ланда, Н. А. Симония
Ответственный редактор Л. Н. Прибытковский
Рецензенты А. Б. Давидсон, Б. Г. Петрук
Утверждено к печати редколлегией серии «Рассказы о странах Востока»
Долетов Ю.
Страна «гирин герен». М.: «Наука». Главная редакция восточной литературы, 1989. — 184 с.: ил. — (Рассказы о странах Востока).
ISBN 5-02-016577-8
На географической карте нет страны с таким названием. Между тем предлагаемая книга — это непосредственные впечатления журналиста-международника о реально существующем государстве, где как бы в концентрированном виде «собрана» вся Африка с ее джунглями и саваннами, с великими реками, со всеми богатствами земли и вод. Там обитает множество народов и племен. Там, как в зеркале, отражены все проблемы, все беды, тревоги и надежды Африканского континента.
Д180530000-011 62-89
013(02)-89
Научное издание
Редактор Т. В. Дьяченко
Младший редактор Н. Д. Скачко
Художник С. С. Верховский
Художественный редактор Э. Л. Эрман
Технический редактор Л. Н. Кузьмина
Корректор П. С. Шин
ИБ № 16269
Сдано в набор 16.08.88. Подписано к печати 09.12.88
Формат 84×1081/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная
Иллюстрации отпечатаны по высокой печати на мелованной бумаге.
Усл. п. л. 9,66+1,27 вкл. Усл. кр.-отт. 14,07
Уч.-изд. л. 11,42. Тираж 30000 экз. Изд. № 6625
Зак. 872. Цена 1 р.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
3-я типография издательства «Наука» 107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
У человека всегда была естественная потребность обозначить каким-то образом свое пребывание на Земле. Древние народы Нигерии тоже сумели оставить «визитные карточки» — терракотовые изделия Нок, бронзу Ифе. Бенина… расширив наше представление о ее далеком прошлом. Силы нигерийских народов не иссякли в годы колониализма, когда все африканское не признавалось и было обречено на забвение. Как это бывает в истории культуры, люди, живущие сегодня, многое воспринимают от тех, кто жил раньше.
Примечания
1
Мифический дух, покровитель плодородия у здешней общины игбо.
(обратно)2
Майник — долголетнее лесное растение, похожее на ландыш.
(обратно)3
Нвоуке (игбо) — мальчик.
(обратно)


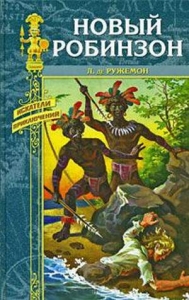
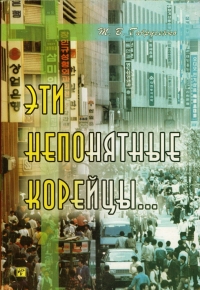
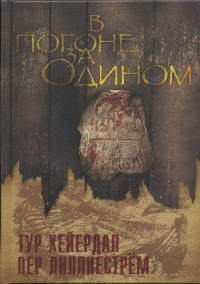
Комментарии к книге «Страна «гирин герен»», Юрий Константинович Долетов
Всего 0 комментариев