Пьер Бенуа Кенигсмарк
ПРЕДИСЛОВИЕ
Переиздавая русский перевод (1923 г.) романа «Кенигсмарк» (1918 г.) французского мастера авантюрного романа Пьера Бенуа (1886 — 1962), издательство «Logos» знакомит русскую публику с одним из крупнейших бестселлеров XX века.
«Кенигсмарк» — первый из серии сорока романов, написанных Бенуа, — вышел отдельным изданием в самый день перемирия и сразу принес его автору огромную славу. В нем изображается придворный быт немецких княжеств перед первой мировой войной. Французский наставник Рауль Виньерт, приехав в замок Лаутенбург-Детмольд для воспитания сына великого князя Фридриха-Августа, без памяти влюбляется в великую княгиню Аврору. Роясь в архиве библиотеки замка, Виньерт открывает страшную тайну. Увлекаясь страстью, он, вопреки всякой осторожности, подбирается к самому сердцу великой драмы.
Как и последующие романы Бенуа, «Кенигсмарк» обладает всеми ингредиентами авантюрного романа — живописной, воспроизведенной до малейшей подробности, обстановкой, загадочной и чарующей атмосферой, сложной, богатой перипетиями интригой, роковым столкновением между героем-идеалистом и фатальной женщиной. Два уровня повествования — реалистический и волшебный — развертываются каждый внутри другого, совершаются один через другой и в конце концов вполне сливаются, благодаря двусмысленной символике «Авроры». Вовлеченный в загадочный мир немецкого замка Рауль Виньерт переживает наяву волнующий кошмар, хватающий его за душу. Таинственность событий соткана из недомолвок и полуразрешенных вопросов. Путем ряда случайных столкновений с действительной жизнью, Бенуа мало-помалу открывает перед читателем бездны, лежащие в каждом отдельном существе, уверенно обходясь без заумных отвлеченностей. Здесь нет и следа германской туманности. Какая-то чарующая светотень распределяет светлые и теневые штрихи в пленительной ясности латинского ума. Так сказывается «волшебный» реализм Бенуа, его романтизм, рождающийся от слияния поэзии и бытовизма. Такой художник способен увлечь читателей всех стран, всех возрастов и всех эпох, ибо он придает жизни каждого из нас необходимое четвертое измерение, выход из самого себя за собственные пределы, предлагая путешествовать на край жизни и смерти.
В начале двадцатых годов романы Бенуа переводились в России и издавались, правда, незначительными тиражами, чтобы дать хлеб умелым, но нуждавшимся мастерам. Кроме «Кенигсмарка» их появилось всего шесть: «Атлантида» (1922), «За Дон-Карлоса» (1923), «Дорога гигантов» (1923), «Соленое озеро» (1924), «Владелица замка в Ливане» (1924), «Колодец Иакова» (1925).
После 1925 г. переводы прекратились, очевидно, по той причине, что романы Бенуа «отражали идеологическую близость автора к реакционным кругам французского общества того времени»и грешили «обычными недостатками буржуазного романа приключений, предназначенного для» легкого чтения «, — трафаретным изображением психологии действующих лиц, искусственной экзотикой, чисто декоративным» историческим» обрамлением событий» (Большая Советская Энциклопедия, 2 — ое изд. , 1950 г.).
Пусть новый русский читатель, уже освобожденный от всяких реальных или мнимых «трафаретов», сам определит свою личную оценку, хотя бы на основе «Кенигсмарка».
Leon NALLET
Пролог
Эти старые замки галантной Саксонии и курфюршества Ганноверского, эти готические дворцы, мрачные и безмолвные извне, феерические внутри, с обоями из парчи, с тяжёлыми ковровыми портьерами, — какое странное и фантастическое зрелище являют они нам! Трагедия там сливается с пасторалью: в каждую дверь стучится интрига; по полуосвещённым коридорам любовь ведёт сарабанду…
Блаз де Бюри«Я долго не решался вернуть к жизни эту рукопись, завещанную смертью. Но лейтенант Виньерт, — подумал я, — и та, которую он любил, сошли под вечные своды, и я решил, что нет теперь основания замалчивать трагические события, ареной которых в месяцы, непосредственно предшествовавшие великой войне, стал двор немецкого княжества Лаутенбург-Детмольд».
П. Б.— В ружьё!
Тёмная масса роты уже выстроилась по четыре человека в ряд. Это была привычка, предупреждающая и экономящая слова команды.
Ночь спускалась, унылая и холодная, пересечённая длинными мокрыми полосами. Дождь лил целый день. По середине прогалины лужи воды отражали ещё бледное, серовато-зелёное небо.
Раздался приказ: шагом марш! Маленький отряд тронулся. Я шёл впереди. На опушке леса стоял павильон, нечто вроде потешного дворца конца восемнадцатого века.
Два или три снаряда слегка повредили его крылья. Люстры зала в первом этаже, отражаясь в зеркалах, блестели сквозь высокие стёкла окон, и многочисленные отражения эти делали наступающую октябрьскую ночь ещё более зловещей и мрачной. Профили пяти или шести теней, в длинных плащах, обрисовались на фоне этого освещения.
— Какая рота, лейтенант?
— 24-я, 218-го полка, генерал.
— Вы назначены занять окопы в Блан-Саблоне?
— Да, генерал.
— Хорошо. Как только вы разместите людей, вы отправитесь за приказами в штаб. Ваш батальонный командир их уже получил. Желаю вам успеха.
— Благодарю вас, генерал.
Люди подвигались в темноте — причудливые силуэты каких-то горбунов, склонившихся над своими посохами, с тяжёлым грузом мешков на спинах. В этих мешках лежали вперемешку самые разнородные вещи. Ведь окопы тот же необитаемый остров; мало ли что может понадобиться в окопах? Солдаты забрали с собой всё, что только можно было взять.
Царила тишина, сосредоточенная и унылая, которую солдаты соблюдают, когда идут занимать новый сектор. Впрочем, Блан-Саблон пользовался дурной славой. Неприятельские окопы находились, правда, довольно далеко, на расстоянии 300 или 400 метров, — но природа местности не позволила вырыть сносные окопы; они беспрестанно обрушивались и лишь с трудом поддерживались при помощи подпорок. В довершение всего местность эта была лесистая, пересечённая оврагами; на расстоянии каких-нибудь шестидесяти метров уже ничего не было видно. А на войне ничто так не нервирует, как таинственность, создаваемая невозможностью видеть.
Чей-то голос произнёс:
— А что, свечку-то можно будет, по крайней мере, зажечь? Никто не знает?
Зажечь свечку это значит играть в карты. Это допускается, когда окопы достаточно глубоки и есть брезент, чтобы завесить вход.
Другой проворчал:
— А надолго мы застрянем в этой дыре?
Вопрос этот остался без ответа. В октябре 1914 г. административная сторона войны ещё не определилась; не были ещё установлены точные смены, не был решён вопрос об отпусках… Никто не мог знать, сколько дней придется оставаться в скверных окопах; исправлять их не решались. Вот уже месяц, как всё остановилось. Уж наверно до конца недели будет какое-нибудь движение.
Я нащупывал стеком лесную тропинку, которую освещал на три шага фонарик, спрятанный под шинелью у солдата. Ужасная вещь быть колонновожатым в лесу, в тёмную ночь, когда не знаешь дороги. Вслед за тобою люди, в том числе и начальники, подвигаются словно бараны, и думают только о том, как бы при внезапной остановке не удариться носом об ранец идущего впереди: его спина — весь ваш горизонт. Другие могли думать на ходу о смене, о картах, о доме, о чём угодно. Но у меня могла быть только одна забота: как бы не сбиться с пути с этой слепо следовавшей за мной толпой.
Кругом тишина, нарушаемая лишь глухим топотом извивающейся за мною людской змеи. Деревья осеняют нас тёмным куполом. От времени до времени, проходя через прогалину, мы поднимаем головы; но и небо так же темно, как древесные своды.
— Где лейтенант?
— Во главе отряда, лейтенант!
Чья-то рука легла мне на плечо. Это Виньерт. С тех пор, как после сражения при Кране, мы расстались с нашим капитаном, назначенным батальонным командиром в другой полк, командование ротой получил старший по службе, Рауль Виньерт, стройный, поразительно красивый двадцатипятилетний брюнет. Два месяца войны сблизили нас теснее, чем могли бы сблизить десять лет мира. До августа 1914 года мы не были знакомы, но тем не менее у нас было немало общих воспоминаний. Я был родом из Беарна, он из Ландови. Я готовился в Сорбонне к экзамену на звание преподавателя немецкой литературы, он на два года позже готовился там же на кафедре истории. То молчаливый, то весёлый, он при всяких обстоятельствах оказывался превосходным ротным командиром. Солдаты порой находили его несколько рассеянным, несколько не от мира сего, но они любили его за его спокойное мужество, за постоянную его заботу об их благополучии. Виньерт не спал, как я, вместе с солдатами. Он предпочитал устроиться отдельно. Но зато он всегда выбирал себе место наименее защищённое, наименее удобное, где соломы было поменьше. Солдаты всё это замечали. Будучи моложе меня на два года, Виньерт всячески заботился о том, чтобы я не чувствовал, что он мой начальник. Со своей стороны, я был в восторге, что мне довелось состоять под командой такого товарища. Кроме того, я был очень рад, что не на меня легла ответственность, которую в любую минуту несёт ротный командир. Составление штатов, обсуждение разных дел то с фельдфебелем, то с каптенармусом, отчётность, как ни проста она в походе. Всё это мало меня прельщало. А Виньерт, который во время отступления не спал и часу в ночь, который последним ушёл из объятого пламенем Гиза и первым вернулся в разрушенный до основания Виль-о-Буа — этот самый Виньерт методически и кропотливо входил в мельчайшие подробности военного хозяйства. Порою, при виде этого обаятельного и образованного человека, с головой уходившего в эти несносные мелочи, я думал: не ищет ли он забвения? Не ищет ли он отвлечения от каких-то одолевающих его чёрных мыслей? А он, словно
боясь, что я угадываю, что творится в его душе, подходил ко мне с каким-нибудь шутливым замечанием, и в этот день всему полку казалось, что не было человека более весёлого, более беспечного.
В этот вечер он был в сосредоточенном и важном настроении. Ничего удивительного. Ему ведь приходилось нести ответственность за двести пятьдесят человек, в новом секторе. А может быть, он получил какой-нибудь неизвестный мне приказ.
— Где мы находимся? — спросил он меня.
— Через десять минут мы придём в штаб командования. Ничего нового? — спросил я вполголоса.
— Одна рота нашего батальона должна будет, кажется, произвести какую-то операцию, но не наша рота.
— Я во всяком случае останусь в штабе. Вы произведёте смену без меня, а я через четверть часа возвращусь с приказом.
Это было действительно тоскливое место — этот Блан-Саблон. По спуску оврага — карликовый лес, разнесённый снарядами, с кое-где сохранившимися группами деревьев, чёрные какие-то провалы. Дальше — дорога, забаррикадированная ветвями, спускающаяся на протяжении нескольких сотен метров к деревне, занятой неприятелем.
Солдаты, до сих пор молчавшие, не могли удержаться от кратких замечаний.
— Да, нечего сказать! Хорошенькое местечко! Видно, уж нам так везёт.
— Смирно!
Смена напоминает какую-то фигуру котильона. Ротный командир, взводные, капралы, солдаты должны быстро найти себе подобных, которых они пришли сменить, и занять их места. Всё это надо проделать в пять минут, без шума, иначе неприятельская артиллерия успеет расстрелять скучившихся людей, из которых половина оказывается вне прикрытия.
Приходящих на смену сравнительно легко заставить соблюдать тишину, но с уходящими это не так просто. От радости, что их ожидает сон под крышей и несколько дней отдыха в тылу, они становятся болтливыми. Они начинают давать советы своим заместителям.
— А главное, не высовывай голову на этом месте, там напротив есть молодчик, который не любит меня. Я сегодня три раза стрелял в него, и если я его не подстрелил, он наверно захочет отомстить. А затем…
— Смирно! Вы!
Серьёзно, какой отвратительный сектор! Четыре или пять постов, двенадцать часовых, не считая патрулей. Эх, бедняги, немного вам удастся тут поспать.
— Прощайте, сударь.
— Прощайте. Спасибо за любезность. — Офицер смененной роты уходит. Шум шагов замирает в лесу.
Хорошо, что поспели: как раз показалась луна; печальная, окутанная жёлтым туманом, плывет она среди серых облаков, мелких, похожих на хлопья.
Своим белесоватым светом она освещает грустную картину, взрытое снарядами поле, изуродованные стволы деревьев. Людей не видно, они уже в окопах. Часовые наклоняют ружья к земле; не надо, чтобы штыки блестели. За нами виднеются маленькие плоские холмики, окружённые трогательными низенькими оградами из кривого леса.
Это могилы.
Солдаты ещё не успели их заметить. Тем лучше! Пусть они увидят эти могилы завтра, на рассвете, когда они освоятся и когда солнце прольёт на нашу землю относительную радость.
Находящиеся под моей командой пять постов и двенадцать часовых на своих местах. Остальные солдаты в своих норах, и половина из них уже храпит. С двумя добровольцами — всегда находятся не спящие и любознательные — я отправляюсь в обход.
— Вы скажете лейтенанту Виньерту, что я отправился установить связь с двадцать третьей ротой; пусть он подождёт меня в окопе, я возвращусь через четверть часа.
Мы идём вдоль заграждения. На одинаковом расстоянии один от другого, из немецких окопов показываются и тотчас же исчезает белесовато-голубые огоньки.
— Кто идёт?
— Массена.
— Мелен.
— Офицер 24 — ой роты идет для связи с 23 — й. У вас ничего нового?
— Ничего, лейтенант, если не считать того, что мы имели стычку с немецким патрулем. Вы, конечно, слышали только что выстрелы? Мы убили одного немца.
Действительно, на траве валяется мёртвое тело. Я наклоняюсь к нему и на эполете читаю: № 182.
— А где его бумаги?
— У капитана.
— Хорошо. Наш малый пост справа находится в ста метрах отсюда, в рощице. Через каждые два часа проходит патруль. Без фокусов, не так ли?
— Слушаю, лейтенант.
— Прощайте.
Возвратившись, я нахожу в моём окопе Виньерта. Он курит папиросу.
Я спрашиваю:
— Что нового?
— Ничего. По крайней мере, на сегодняшнюю ночь. У 22 — й роты, может быть, завяжется дело. Впереди этой роты лес образует выступ; у нас есть солидные основания предполагать, что неприятель роет там подкоп. Так вот, 22 — я рота отправится туда, проверит наши сведения и, если удастся, разрушит их работу. В шесть часов утра выступит один взвод, остальные пойдут в качестве прикрытия. Как только раздадутся взрывы, 23 — я рота откроет огонь по окопам напротив, чтобы приковать публику к месту. Что касается нас, мы не должны трогаться, разве только положение вещей резко ухудшится. Во всяком случае, 23 — я выходит на контратаку раньше нас, словом, спокойная ночь. А у вас ничего нового?
— Рота размещена, — ответил я. — Справа у меня связь установлена: там тоже ничего важного не случилось, если не считать стычки с немецким патрулём; одного немца они убили.
— А, знаю! Пехотинец, стрелок.
— Да, пехотинец. Прусская пехота, 182 — го полка.
— Любопытно, — сказал Виньерт, — откуда они, собственно, наши соседи напротив.
С этими словами он вынул из кармана маленький справочник Лавозелля.
— 160 — й… Познань — 180 — й, Альтона — 182, Липпе — 182, Лаутенбург… Лаутенбург…
— Что же дальше?
Он повторил:
— Лаутенбург.
Несколько изумлённый тоном его голоса, я спросил:
— Вам знакомо это — Лаутенбург?
— Да, — ответил он многозначительно. — А вы уверены в номере?
— Конечно, — сказал я с лёгкой досадой. — Да не всё ли равно, Лаутенбург или не Лаутенбург?
— Разумеется! — пробормотал он. — Конечно, всё равно.
Я смотрел на него. И мне тем легче было наблюдать за ним, что он, погружённый в свои мысли, не обращал на меня никакого внимания.
— В чём дело, Виньерт? Вам словно не по себе. Какое-нибудь неприятное известие?
Но он уже пришёл в себя и, пожимая плечами, ответил:
— Друг мой! Неприятное известие? От кого, скажите на милость? Ведь я один-одинёшенек на свете. Вы хорошо это знаете.
— Так или иначе, но вы весь вечер нервничаете. Мне хотелось бы, чтобы вы остались у меня в окопе. Ваш пост командира вы можете установить, где угодно.
— Да, вы правы, — прервал он меня, — я в самом деле немного нервничаю… Который час?
— Семь.
— Знаете что, сыграем в карты.
Это предложение было так неожиданно с его стороны, что два солдата, устроившиеся в окопе вместе со мною, в изумлении подняли головы: Виньерт ли это? Никто в роте никогда не видел в руках у Виньерта карт.
— Послушайте, Дамстоа и Энрике, нет ли у кого-нибудь из вас карт?
Чтобы у них да не было карт!
— Во что вы играете?
— В экарте, лейтенант.
— Ладно, давайте в экарте.
В какой-нибудь час Виньерт здорово проигрался. Оба солдата были очень смущены и не знали, чему больше удивляться: чести, которую им оказал лейтенант, или сумме — что-то около десяти франков, — которую они у него выиграли.
Я всё с большим и большим беспокойством смотрел на Виньерта. Он нервно бросил карты.
— Глупая игра! Уже восемь часов: я пойду посмотреть первую смену.
— И я пойду с вами.
Я никогда не забуду этой ночи. Небо мало-помалу очистилось от облачного руна. Луна, почти полная, блестела в холодной синеве. При свете её, в промежутках между тёмными группами деревьев, песок и окопы тянулись длинной белой лентой.
Было так светло, что ракет не пускали: в них не было надобности.
Царило полное безмолвие. Временами, с визгливым жужжанием, пролетала шальная пуля, а затем далеко в долине слышался ружейный выстрел.
Мы тихо обменивались словом-другим с часовыми. Одни из них плашмя лежали в воронках, вырытых снарядами, другие за кустами. Рота развернулась на большом протяжении, не менее пятисот метров, и обход занял у нас добрый час.
В конце линии Виньерт попросил меня указать ему последний пост 23 — й роты.
Мы отправились туда. Четверо солдат закапывали тело недавно убитого немца. Виньерт жестом отстранил их, склонился над могилой и начал разрывать песок, которым они засыпали труп.
— Да, — пробормотал он, — 182 — го. Это так.
Затем дрожащим голосом он произнёс:
— Вернёмся. Мне холодно.
Дамстоа и Энрике спали в землянке. Было тихо; слышно было лишь ровное дыхание людей, да порою раздавался тихий писк полевой мышки, привлечённой запахом соломы, в которой ещё сохранились колосья. Виньерт лежал рядом со мной, и хотя в темноте его не было видно, я чувствовал, что он ещё не спит.
Сквозь отверстие в двери видно было синее небо, на котором, словно слезинка, ярко блестела серебряная звезда.
Прошёл час или около этого. Виньерт лежал неподвижно. Видно, таинственный товарищ, посланный мне войной, наконец, уснул. Что так смутило его в этот вечер? Какое воспоминание осмелилось отвлечь его мысль от мелочей военного хозяйства? Ведь он так плотно приковал все свои мысли к этим мелочам, как будто с определённым умыслом — не дать им уноситься в запретные миры.
Вдруг я услышал глубокий вздох, и Виньерт схватил мою руку.
— Что с вами, друг мой?
В ответ на моё восклицание он ещё судорожнее сжал мою руку.
Я решил сжечь свои корабли.
— Друг мой, — сказал я, — дорогой друг, вы видите сами, как я беспокоюсь за вас, я вижу, как вы страдаете весь этот вечер. В чём дело? Если бы мы были с вами в другом месте, например, в Париже, я бы не позволил себе такой нескромности. При других обстоятельствах такая откровенность была бы, пожалуй, смешной, но здесь она священна. Завтра, Виньерт, быть может, мы будем уже в бою и четыре солдата выроют и нам яму в том же песке, где теперь вечным сном покоится тот немец. Неужели вы так-таки ничего мне не скажете?
Я почувствовал, как дрогнула и ослабела его рука.
— Долго нужно было бы рассказывать, мой бедный друг. И поймёте ли вы меня? Не сочтёте ли вы меня сумасшедшим?
— Я слушаю вас, — произнёс я таким тоном, словно бы я не просил, а приказывал.
— Пусть будет так. Я задыхаюсь от воспоминаний, и, действительно, было бы эгоистично, если бы я унёс их с собой в могилу. Но пеняйте на себя: в эту ночь вам не удастся уснуть…
И вот эта странная история, которую в тот вечер, 30 октября 1914 года, лейтенант Виньерт рассказал мне в местности, которую занимавшие её солдаты окрестили «Перекрёстком смерти».
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Вы состоите при университете, — начал он. — Вы не рассердитесь, если, в самом начале этого рассказа, услышите несколько горьких слов по адресу университета, к корпорации которого мне не довелось приобщиться. Впрочем, это ничем не оправдываемая горечь. Именно университету, не принявшему меня в своё лоно, я обязан воспоминаниями, которые я не отдал бы за кафедру в Сорбонне.
Я принадлежал к числу студентов, которые не лишены способностей, но не имеют никаких средств. Я был стипендиатом. Иначе говоря, я обязался сдавать ежегодно экзамены определённым образом, приобрести себе специальный образ мыслей и должен был, в конце концов, получить звание преподавателя и место в каком-нибудь провинциальном лицее.
Сначала я оправдывал надежды, которые возлагал на меня Генеральный Совет моего департамента. Моя стипендия в лицее Мон-де-Марсан последовала за мною и превратилась в стипендию для словесника при лицее Генриха IV. Вместе с группой «генриховцев», в 1912 году, я предстал перед экзаменационной комиссией для поступления в Высшую Нормальную Школу. Тридцать пять наших учеников были приняты. Я был классифицирован 37 — м. В утешение я снова получил стипендию, на этот раз кандидатскую, при филологическом факультете Бордоского университета.
Я выкинул тогда одну штуку, которая подверглась строгому осуждению со стороны немногих интересовавшихся мною лиц. Находясь в интернате в лицее Генриха IV, я видел Париж столько же, сколько видит природу сквозь решётчатое оконце своей камеры арестант. Помню, как-то в июне месяце, в день розыгрыша Большого приза, я, бедный лицеист, очутился на Елисейских полях в тот час, когда, блестящим потоком, со скачек возвращалась целая вереница автомобилей. Каждый из них стоил в десять раз больше, чем стоила вся моя особа со дня моего появления на свет. Автомобили увозили со скачек миллионеров. Это зрелище, на фоне восхитительного желтовато-лилового освещения, положительно ослепляло меня, но тем не менее мне и в голову не приходили мысли, которые создают из беспомощных — бунтарей. Я подумал только: «Неужели на мою долю никогда не выпадет такое счастье?» «Бальзак — замечательный реалист», поучал нас наш преподаватель словесности. Значит, даже на взгляд этого простоватого добряка, с натуры списаны приключения молодых провинциальных героев, которые, не удовлетворяясь посредственною ролью в своём родном углу, отправляются в Париж, завоёвывают его и превращают его в покорного слугу своих страстей. А меня, наоборот, хотят отправить назад в провинцию. Молотилка отбросила меня, как шелуху. Ну, мы ещё посмотрим!
Вот при каких обстоятельствах я отказался от стипендии и решил записаться в Сорбонну, чтобы там добиться диплома кандидата словесности.
Какой-то внутренний голос мне шептал: «Не вступай в университетскую коллегию, но не пренебрегай даваемыми университетом званиями… Они имеют значение только вне университетских стен; это великолепные ловушки для ничтожеств».
По истечении года я сдал кандидатский экзамен. Я пробавлялся всё время уроками, и эти занятия заставили меня ещё больше затосковать по свободе. В конце концов, я был побеждён и решился примириться с участью, которой я до этого пренебрегал.
Я выставил свою кандидатуру на стипендию для подготовления на звание преподавателя исторических наук и выбрал Бордо. Я сказал «прости» Парижу.
Консультативный совет при министерстве народного просвещения, который рассматривает такие кандидатуры, собирается обыкновенно в первых числах октября. Мне пришлось ждать два месяца, и я провёл их в Ландах, в деревне, расположенной на морском берегу, у одного старого священника, простите за трафарет, но это было именно так. Храня добрую память о моих родителях, с которыми он был знаком, священник предложил мне гостеприимство в своём скромном доме.
Здесь я провёл самые спокойные дни моей жизни. Пользуясь полной свободой, живя в своё удовольствие на лоне природы, среди лесов, читая впервые книги, которые не имели никакого отношения ни к экзаменам, ни к ожидавшему меня в конце года конкурсу, я всецело отдавался обаянию этого чуда: умирающего лета.
Церковный дом стоял у пруда, сообщавшегося с морем при посредстве узенького канала, сплошь заросшего водорослями. По утрам меня будил шум прилива, врывавшийся в открытые настежь окна моей комнаты; из них мне были видны под серо-розовым небом зелёные, постепенно нарастающие волны. Стайки чаек и буревестников с жалобными криками носились над водой… Ах, если бы остаться здесь навсегда! Созерцать, как в величавом спокойствии развертывается перед тобой вечная смена времён года; не знать ничего, не иметь никаких дел, ни с кем не видеться, шататься целые дни по прибрежным дюнам, где набегают одна за другой высокие волны, гонимые ветром, где на серебристой песчаной кайме лежат выброшенные морем медузы, похожие на огромные аметистовые серьги.
В одно октябрьское утро я получил два письма; первое было из Бордоской Академии, уведомлявшей меня, что «Совет не нашёл возможным удовлетворить моё прошение о назначении мне стипендии». Другое было за подписью Тьерри, профессора немецкого языка и немецкой литературы в Сорбонне. В течение года я занимался под руководством этого профессора, прекрасного человека и добросовестного учёного. Это он отредактировал представленную мною в июле кандидатскую диссертацию на тему «Клаузевиц и Франция». Я чувствовал, что он относился ко мне чересчур хорошо и, может быть, сам себя за это упрекал.
Он состоял членом Консультативного Совета. В письме своём он пытался оправдать его постановление. Он лично сделал всё, что мог. Но некоторые члены высказали сомнение относительно моего призвания к профессорской деятельности, и он признавался, что он не был достаточно уверен во мне, чтобы отстаивать меня и в этом пункте. Впрочем, писал он, это всё к лучшему. Ему не хотелось, чтобы я слушал лекции в провинции. «Возвращайтесь немедленно, — заканчивалось его письмо, — и мы, может быть, найдём способ устроить, чтобы вы остались в Париже».
Я расстался с моим милым священником, пообещав ему вернуться на январских каникулах, а через день я выходил уже из вагона на Орсейском вокзале.
Была уже зима. Сквозь оголённые деревья Люксембургского сада видны были его серые статуи. В маленькой квартире на улице Ройе-Коллар, в которой жил Тьерри, топился камин.
— Дорогой мой мальчик, — начал он, и за одно это ласковое обращение я, круглый сирота, был ему бесконечно признателен. — Не сердитесь на Совет. Мои коллеги обязаны строго отстаивать интересы университета, и вы сами должны сознаться, что во время ваших занятий вы частенько, как бы это выразиться, обнаруживали наклонность к фантазированию, да, да, к фантазированию; это должно было вызвать беспокойство у мужей столь… серьёзных. Я — другое дело, я вас хорошо знаю. Я знаю, что, если, при всей вашей склонности к фантазированию, дать вам надлежащее направление, из вас выработается нечто оригинальное, в хорошем смысле этого слова. Но сначала позвольте вам задать один вопрос: действительно ли вы чувствуете призвание к университетской карьере?
Что мне было ответить, если в кармане у меня болталось всего-навсего сто семь франков и несколько сантимов? Мне ничего не оставалось иного, как
энергично подтвердить, что я чувствую призвание к кафедре.
— Прекрасно, — заявил он. — Дело в шляпе. Стипендия дала бы вам самое большее 1200 франков. Я вас уже отрекомендовал моему старому другу, который заведует в Терне частным учебным заведением. Ему нужен преподаватель истории: шесть часов в неделю, плата 175 франков в месяц; возможен добавочный заработок за репетиторство. Вам, конечно, придётся здорово работать, чтобы параллельно с этим заниматься и в Сорбонне. Но, зная всё, я отвечаю за вас… Сегодня у нас вторник. Если вас это устраивает, вы приступите к работе в будущую пятницу.
Я чувствовал, что с этого момента я с головой залезаю в холодный университетский футляр.
Ах, Елисейские поля! Женщины в мехах, обдающие вас запахом восхитительных духов. Но как «это» могло меня не «устраивать»? Со ста семью франками и несколькими сантимами в кармане!
Я рассыпался в благодарностях.
Профессор потирал себе руки.
— Сегодня вечером я увижу Бертомье. Приходите завтра в десять часов, и я скажу вам, когда вам с ним повидаться.
Вторник, 21 октября 1913 года. Поздно вечером я встретился на улице Огюста-Конта с группой детей, выходивших из лицея Монтеня. Милые мои мальчики, маленькие стипендиаты! Изучайте математику, поступайте в Школу Искусств и Ремесел, садитесь за конторку или становитесь за прилавок, если вы не хотите стать в один прекрасный день бледной тенью, поворачивающей за угол Люксембурга и сворачивающей в улицу Ассас…
Опять эта фантазия, которой попрекал меня мой добряк профессор. Ах, бедная моя ты девочка! Доставлю я тебе последнее удовольствие: угощу тебя обедом на правом берегу Сены!
В этом месте Виньерт прервал своё повествование.
— Только что просвистела пуля как раз над нашими головами, — сказал он. — Подумали ли вы, что если бы в это мгновение вам пришла охота высунуть наружу нос, вы были бы убиты наповал? Ну, что вы скажете теперь о роли случая в жизни?
— Однажды, — ответил я, — одиннадцатый взвод был в сильном возбуждении. Никто не хотел идти за водой. Каждый заявлял, что это не его очередь. Все стали шуметь, и мне пришлось вмешаться; я послал первого подвернувшегося мне под руку, как раз того, кто громче всех выражал своё неудовольствие. Делать было нечего, он пошёл, брюзжа и протестуя против несправедливости. Шинель он оставил на своём месте. Когда он воротился, он её не нашёл: снаряд превратил в порошок и его шинель, и двенадцать его товарищей.
— Словом, вы со мной согласны, — сказал Виньерт. И он продолжал.
По вечерам я никогда не выходил за пределы Латинского квартала, довольствуясь его неприхотливыми развлечениями. Что заставило меня в этот вечер отправиться на ту сторону Сены? Помню, сначала я закатил себе одинокую оргию в кабачке. Затем мне захотелось выпить кофе на Веберовской террасе. С видом человека, который себе ни в чём не отказывает, я стал прогуливаться перед лампионами Олимпии, с твёрдым намерением взять себе, когда начнётся представление, билет в променуаре. Слегка возбуждённый выпитой мною бутылкой Барзака, я прохаживался, развязно разглядывая проходящих дам.
Было холодно. Я снова заглянул к Веберу; там успели уже зажечь огни, было много народа, и ко мне вернулась моя обычная робость. Я скромненько уселся в углу, с неловкостью в движениях, свойственной людям, не привыкшим к подобного рода местам и боящимся, как бы этой непривычности их не заметили окружающие. Против меня сидела шумная компания молодых людей. Их развязные манеры, костюмы и жизнерадостное настроение, словом, всё это недоступное мне счастье, возбудили во мне чувство глубокой зависти. Действительно, сколь мало создан для университета сей молодой человек, столь скептически взирающий на всякую премудрость и у которого один вид красиво скроенного жилета, артистически завязанного галстука, тонких носков, слегка выглядывающих из-под края панталон, вызывает нечто вроде сердцебиения.
Их было четверо — трое мужчин и одна дама, красавица, вся в мехах, слегка, быть может, подкрашенная, но это мне даже нравилось. Лицом ко мне, она сидела на банкетке рядом с красивым молодым человеком; двое других сидели спиной ко мне, но в зеркале я видел их лица, слегка раскрасневшиеся после хорошего обеда, подходившего к концу.
Принадлежать к числу людей, которые заходят в шикарный ресторан, чтобы выпить только чашку кофе! В этот вечер я впервые понял, какое это унижение. Лучше было бы остаться дома, кое-как пообедать и лечь в постель спать, спать и спать. Сон — это прибежище бедняков. Не следовало бы и заходить сюда.
И вдруг…
Я заметил, что один из этой компании, сидевший ко мне спиною, начал пристально разглядывать меня в зеркале; затем, поднявшись с места, он подошёл ко мне.
— Виньерт!
— Рибейр!
Я познакомился с этим Рибейром в высших классах лицея. Он тоже готовился в Нормальную Школу, но с беспечностью и ленцой, которую позволяют себе молодые люди, имеющие кое-какие средства и более обширный круг интересов.
— Что ты здесь делаешь?
— Как видишь, пью кофе, — смущённо ответил я. — А ты? Что новенького у тебя после лицея?
— Ах, милый мой, не напоминай мне про этот мусорный ящик! А ещё уверяют, будто лицей даёт молодёжи образование. Я проворонил бы всю свою жизнь, если бы я их слушал… Ну, а ты?
— Я поневоле должен был их слушать, и всё ещё слушаю, — ответил я с горечью. — А теперь что ты поделываешь? Я вижу, ты не скучаешь?
— Милый мой, мне повезло. Я был секретарём у одного депутата; через полгода он сделался министром иностранных дел, и я последовал за ним на Орсейскую набережную. Вот и всё. Пойдём, я познакомлю тебя с моими товарищами по министерству.
— Мой друг Виньерт! О, это труженик, господа, с дипломом. Учёная голова! Быть может, уже адъюнкт? Нет? Тем лучше для тебя. Он знает больше один, уверяю вас, чем мы трое, взятые вместе, не считая Клотильду.
Клотильда жеманно кивнула мне головой и взглянула на меня с иронией. Я был как на иголках: увы, этот панегирик очень подходил к моим брюкам, образовавшим мешки на коленках.
Это была, впрочем, очаровательная компания! Воспевая мою учёность, они, в сущности, хвалили свое собственное умение устраиваться в жизни.
Рибейр поднялся.
— До завтра, друзья! Моё почтение, Клотильда. Пойдём, Виньерт. Ты меня проводишь немного.
Мы вышли, и он взял меня под руку.
— Я опять на Орсейскую набережную; надо отправить несколько писем министра. Проводи меня.
Улица Рояль блистала огнями. Дамы, закутанные в длинные шёлковые манто, выходили из автомобилей перед дверьми ресторана. Эта роскошь, бившая мне в глаза, опьяняла меня, и я тут же решил сделать попытку использовать встречу с Рибейром. Я чувствовал, что ему хочется поразить меня своей удачей в жизни. Быть может, подумал я, мне удастся извлечь какую-нибудь пользу из его желания показать мне всю свою силу и значение. Чего, подумал я, нельзя извлечь из людского тщеславия? Меня самого охватило какое-то глупое тщеславие, когда мы стали подниматься в Министерство Иностранных Дел. Огромного роста лакей открыл нам лифт, другой встретил нас в первом этаже.
— Не звонили по телефону, Фабиан?
— Звонили, сударь: от министра торговли. Он будет обедать завтра с министром. Они встретятся в Палате. Я принял телефонограмму.
Через минуту мы вошли в очаровательный маленький кабинетик, отделанный серым с золотом. Рибейр постучал по столу.
— Это стол Верженя, — небрежно проговорил он. — Ты позволишь? — Он сел и начал распечатывать письма. Время от времени он делал на письме пометки красным карандашом.
— Не стесняйся, можешь говорить. Это мне нисколько не помешает работать. Рассказывай, что ты теперь поделываешь. Как у тебя обстоит с университетом.
Я рассказал ему всё — от ухода моего из лицея Генриха IV и кончая предстоящими мне занятиями у Бертомье. Он поднял голову:
— И ты взял эту работу?
— Что же мне было делать? — ответил я не без резкости. — Не умирать же с голоду!
Голод! Странно звучало это слово среди гобеленов, буля, севрских ваз…
Рибейр встал. У меня мелькнула мысль, что я спасён.
— Дорогой мой, брось Бертомье. Из этого не выйдет ничего путного. Я ведь тебя знаю. Клянусь тебе, ты не создан для университета. Вот что тебе нужно!
И рукой он обвёл всю ту роскошь, среди которой мы находились, и которая била в глаза, как символ власти, господства. Какой психолог был этот Рибейр!
— Слушай, — сказал он, присев на ручку моего кресла, — ты согласишься временно уехать из Франции? Я говорю «временно», потому что карьеры делаются, конечно, здесь, в Париже. Но ведь ты без гроша? Здесь, в Париже, такой молодец, как ты, может сделать карьеру лишь при условии, если у него есть достаточные средства, чтобы прожить год, не зарабатывая.
— В чём же дело? — спросил я, задыхаясь.
— Вот в чём. Ты мне окажешь услугу, а я тебя отблагодарю. Слушай, сегодня я завтракал в Германском посольстве с Марсе. Ты знаешь Марсе? Это наш посланник в Лаутенбурге. Ты знаешь, что такое Лаутенбург, ты, магистр географии?
— Это одно из немецких государств.
— Великое герцогство Лаутенбург-Детмольд. Владетельный князь — его высочество Фридрих-Август, — произнёс он лекторским тоном. — У этого высочества есть наследник, юноша лет пятнадцати, для которого он ищет наставника. Ты, конечно, знаешь, что французский язык играет первую роль при всех дворах мира.
— Да.
— Великолепно. Знаешь немецкий язык?
— Немного, сколько требуется для Сорбонны.
— Ничего! Они ведь все говорят по-французски. Так вот, великий герцог просил Марсе, перед его отъездом в Париж, найти ему учителя. Марсе очаровательный человек. Аристократ с головы до ног. Шарве делает ему галстуки по специальному заказу — уники. Сообразительностью он не блещет. Вчера он, совершенно случайно, поделился со мною своими затруднениями. Завтра он должен быть в Министерстве народного просвещения. Понимаешь, там ему не трудно будет найти учителя, в особенности на жалованье, которое предлагает герцог: десять тысяч марок в год.
— Десять тысяч марок? — повторил я, ошеломленный.
— Надо немедленно покончить с этим делом. Стой! я сейчас же напишу Марсе пневматичку.
Я покраснел, читая похвалы, которые мне расточал в письме Рибейр.
— Марсе получит это письмо завтра утром; он малый аккуратный, встаёт в девять часов; он сейчас же пошлёт за тобой. Кстати, твой адрес.
— 7, улица Кюжас.
— Смотри, попади сегодня в конце концов на твою улицу Кюжас. Жди от Марсе приглашения.
— Дай мне пневматичку, я сам опущу её.
Я горел, как в лихорадке; это, видимо, льстило Рибейру. Он самодовольно улыбался.
— Да, мой мальчик. Вместо того, чтобы хлебать суп у Бертомье, ты будешь наслаждаться жизнью в замке, во дворце. Лаутенбург, должно быть, чудная столица; по крайней мере, Марсе уже два года отказывается от дальнейшего повышения ради того, чтобы остаться там. Великий герцог — сама любезность. Великая герцогиня охотится на лисиц, как мужчина. Марсе рассказывал, что он загнал свою лучшую лошадь, чтобы не отстать от герцогини. Сумей поставить себя там, вот и всё.
Он бросил взгляд на мой жалкий костюм.
— Будь за меня покоен, — ответил я с уверенностью, которая, по-видимому, удивила его.
Он взглянул на меня и улыбнулся.
— Эге! Я вижу, я открыл тебе самого тебя. Держись там крепче, мой мальчик, и возвращайся к нам с несколькими тысячемарковыми билетами в кармане. Мой барин сидит здесь в министерстве прочно, а начнёт тонуть, так я раньше покину судно. Понимаешь, для того, чтобы люди оказали тебе хорошую услугу, надо, чтобы ты больше не нуждался в них. В этом отношении нет ничего лучше, чем министерские кабинеты. Но надо иметь возможность выждать, надо дожить до момента. А нет — бери место советника префектуры на две тысячи франков в год. На всём готовом ты можешь смело откладывать тысяч шесть в год. Оденься на эти деньги. Одеться — это всё равно, что поместить капитал на сто процентов. В этом отношении бери пример с Марсе. Если бы он не одевался с таким вкусом, он уже давно был бы за бортом.
Так поучал меня Этьен Рибейр. Он дал мне ещё целый ряд ценных советов. Я увидел, что посторонний человек может порою сделать больше, чем друг.
О, эта дивная октябрьская луна над Парижем! Сена текла, окутанная лиловою дымкой. На углу Палаты Депутатов я опустил письмо в ящик пневматической почты на улице Бургонь. Затем я зашагал, чувствуя потребность собраться с мыслями. Десять тысяч марок! Ведь это двенадцать с половиной тысяч франков! Говорят, не в деньгах счастье. А в чём же счастье, позвольте вас спросить? Что, кроме денег, может дать мне эту уверенную походку, эту веру в будущее, эту радость жизни?!..
Улица Варень, улица Барбэ-де-Жуи, бульвар Монпарнас, по которым я горделиво проходил, были свидетелями моей радости. Я не замечал прохожих, я был величествен. Сам не знаю как, возле Обсерватории, глаза мои остановились на какой-то тени, робко суетившейся под фонарем. Это была худенькая девушка с огромною копною светло-рыжих волос. Радость моя в этот вечер была слишком велика, чтобы я мог переживать её один. Но ни одной минуты я не думал, оставшись с девушкой, что её тело принадлежит именно ей. В нём совмещались для меня, в этом хрупком теле дамы с Елисейских полей, модницы от Максима, и все эти, без сомнения, ещё более прекрасные женщины, ожидающие меня там, далеко, при немецком дворе, где-нибудь на берегу вагнеровской реки и в ожидании тихо напевающие, чтобы заглушить своеёнетерпение, нежнейшие строфы «Intermezzo».
Десять часов утра — свидание с Тьерри, я чуть было не позабыл про него. Он читал, сидя у камина. При моём появлении он встал и пошёл мне навстречу с очаровательной улыбкой.
— Всё устроено, мой дорогой друг, Бертомье вас ждёт, вы поступаете к нему.
— Дорогой учитель, кажется, я напрасно вас побеспокоил.
И я рассказал ему всё, как было. Как ни старался я казаться спокойным, я не сумел скрыть от него свою радость; к огорчению моему, я заметил, что он её не разделяет. Он смотрел на меня с удивлением и даже, как мне показалось, с оттенком неодобрения. Профессора — все на один лад, подумал я. Они считают, что вне университета нет спасения. И, забыв сдержанность, с которою я до сих пор говорил, стараясь скрыть от него мою гордость и радость, я заговорил уже другим тоном:
— Наконец, судите сами, сколько мне надо будет преодолеть экзаменов и всяких конкурсных испытаний, сколько лет придётся мне прождать, прежде чем я добьюсь такого положения, какое мне предлагают теперь, сейчас же: десять тысяч марок в год!
— Разумеется, — пробормотал он рассеянно.
Он посмотрел на горящие угли камина, потом встал, подошёл к книжному шкафу и извлёк из него толстую книгу. Это был том в характерном полотняном яркого цвета переплёте, песочном и тиснёном золотом. Так бывают одеты английские или немецкие книги.
— Предложение было вам сделано от имени великого герцога Лаутенбург-Детмольдского? — спросил профессор.
— Да, от имени великого герцога Фридриха-Августа.
— Так. Вы, значит, будете учителем его единственного сына, герцога Иоахима.
Так я узнал имя моего будущего ученика. Старый профессор подумал ещё несколько минут и посмотрел опять на меня сквозь свои тусклые очки.
— Позвольте вас спросить, вы уже связаны формальным обязательством?
— Сказать по правде, пока ещё нет. Но решение моё окончательное, и я не уеду только в том случае, если мне предпочтут другого.
— Если так, не будем больше об этом говорить, — сказал Тьерри и поставил книгу на место.
Это замечание меня и заинтриговало, и несколько раздражило.
— Дорогой профессор, — сказал я, — почему вы не хотите говорить со мной откровенно? Я знаю, что вы горячо принимаете к сердцу мои интересы. Вы не отсоветовали бы мне принять столь блестящее предложение, если бы у вас не было для этого серьёзных соображений. Кроме того, я должен сказать, что, идя к вам сегодня утром, я рассчитывал получить от вас, так прекрасно знающего современную Германию, ценные сведения о Лаутенбург-Детмольдском дворе. И я вижу теперь, дорогой учитель, что все подробности вам известны даже лучше, чем я себе представлял. Сейчас я должен увидеться с Марсе, нашим посланником в Лаутенбурге. Мне неудобно будет его расспрашивать. Дипломат должен соблюдать известную сдержанность, а у вас, я думаю, нет для нее оснований, в особенности по отношению ко мне. Одним словом, позвольте мне задать вопрос, который резюмирует весь этот спор: если бы у вас был сын, позволили бы вы ему сделать тот шаг, который собираюсь сделать я?
— Ни за что!
Признаюсь, моё изумление начало сменяться некоторым беспокойством. Я ясно видел, что не какое-нибудь ребяческое раздражение руководило этим человеком, столь положительным, и не досада на меня за то, что я отказываюсь занять место, которое он мне нашёл.
— У вас, конечно, имеются очень серьёзные мотивы, дорогой учитель, —
продолжал я с некоторой дрожью в голосе. — Вы мне даёте отрицательный ответ в столь решительной форме…
— Да, у меня имеются мотивы, — ответил он.
— Не можете ли вы мне объяснить, что, собственно, вы только что искали в этой книге?
— Вы понимаете, мой дорогой, что в этом ежегоднике царствующих домов не может быть никаких деталей, которые оправдывали бы мои опасения за вашу участь там, в Лаутенбурге? Я хотел проверить одно имя, некоторые мои личные воспоминания, больше ничего. Правда, относительно Лаутенбург-Детмольдского дома у меня имеются и специальные сведения, которые позволительно и не знать посланнику Марсе. Даже если бы он обладал большою проницательностью. Впрочем, ведь он в Лаутенбурге не так давно: покойного великого герцога Рудольфа он не знал.
— Кто такой был великий герцог Рудольф?
— Вы не знаете даже этого! Это был старший брат теперешнего великого герцога. Он умер несколько лет назад, — два года, если не ошибаюсь.
— После его смерти вступил на престол великий герцог Фридрих-Август?
— Не непосредственно. В конституции княжества Лаутенбург-Детмольд имеются некоторые особенности. Салический закон там не применяется. После смерти великого герцога корона должна была перейти к его супруге, великой герцогине Авроре-Анне-Элеоноре.
— Так, значит, она вышла замуж за своего деверя?
— Именно. А так как великий герцог Рудольф не оставил после себя потомства, то ваш будущий ученик, герцог Иоахим, сын великого герцога Фридриха-Августа и одной немецкой графини, считается наследником престола княжества Лаутенбург-Детмольд. Он только в том случае перестал бы быть наследником, если бы брак его отца с великой герцогиней Авророй дал бы жизнь ребёнку, но это представляется довольно невероятным.
— Я что-то вспоминаю, — сказал я. — Не уехал ли какой-то немецкий принц, года два или три назад, с научной целью в Африку, если не ошибаюсь, в Конго, где он и умер?
— Совершенно верно, — ответил Тьерри. — Это был великий герцог Рудольф. Он всегда имел пристрастие к занятиям географией. Но путешествие его не было, впрочем, совсем лишено и государственных соображений. Принимая во внимание, что спустя несколько месяцев произошла история с Агадиром, фактическая потеря нами Конго, то я думаю, что великий герцог Лаутенбургский отправился туда для выполнения какой-то миссии, возложенной на него его августейшим кузеном, кайзером. Впрочем, ему не удалось как следует её выполнить; он скончался в Конго вскоре после своего прибытия туда. Было бы любопытно…
— Во всяком случае, дорогой учитель, — сказал я, перебив его, — я не вижу, что во всех этих историях могло бы оправдать высказанные вами на мой счёт опасения?
Моё замечание его, по-видимому, смутило.
— Мой милый юноша, — сказал он с усилием, — историк, само собою, обязан принимать за достоверное только то, что он должным образом проверил. С этой точки зрения, я действительно должен признать, что мне известны вещи довольно неопределённые и с трудом поддающиеся проверке. Некоторые слухи, некоторые намёки, наконец, кое-какие мелкие подробности, сообщённые мне в своё время одним моим другом, об имени которого я умолчу, — вот весь материал, которым я располагаю. Но я верю в пословицу, которая говорит, что дыма без огня не бывает.
— Не можете ли вы мне более точно сказать, что это за слухи?
— Вы обещаете мне свято хранить эту тайну?
— Даю моё честное слово.
— Ну, так вот что: есть основания думать, что при Лаутенбургском дворе не всегда умирают естественной смертью.
Моё любопытство дошло до крайних пределов.
— Как это понять? — спросил я.
— К несчастью или, скорее, к счастью, в точности ничего не известно. Но приходится констатировать, что на пути Фридриха-Августа к короне стояли два человека…
— Но ведь великий герцог Рудольф умер в Конго от солнечного удара; об этом сообщили все газеты.
— Верно. Эта смерть была естественная. Но, по-видимому, нельзя сказать того же о смерти графини Тепвиц, первой жены нынешнего великого герцога, матери наследного герцога Иоахима.
— Что же, эту смерть вменяют в вину великому герцогу?
— Великий герцог Фридрих-Август — личность довольно загадочная. Это человек умный, очень образованный, но чрезвычайно неискренний. В чью пользу он ведёт игру? В свою собственную? В пользу короля Вюртембергского, его непосредственного сюзерена? В пользу императора? Я изучал этот вопрос с точки зрения немецкой политики; он не так прост, этот вопрос. Фридрих-Август честолюбив. Я думаю, что он не останавливается ни перед какими средствами.
— Однако в своих расчётах он должен был считаться с великой герцогиней, — сказал я. — Он должен был всё-таки получить её согласие, чтобы жениться на ней.
На лице у Тьерри показалась улыбка.
— Они могли между собой столкнуться. Впрочем, с этой стороной вопроса я не знаком. Я ничего не знаю о великой герцогине, кроме того, сколько ей лет и как её зовут.
Он взял опять свою тисненую золотом книгу.
— Аврора-Анна-Элеонора; по происхождению она русская, урождённая княжна Тюменева. Тюменевы крупнейшие помещики. Возможно, что она действовала в полном согласии с теперешним великим герцогом. Вы, впрочем, знаете, что в основе многих брачных союзов лежат государственные интересы. Но, повторяю, о великой герцогине я ничего не знаю.
— Все это не очень ясно, — сказал я, несколько разочарованный услышанным, — в конце концов, я никак не пойму вот чего: каким образом скромный учитель может пострадать от всех этих интриг столь высоких особ?
— Вы рассуждаете правильно. Но можно ли знать, что ожидает вас, когда вы очутитесь в самом центре этих тёмных дел. Вы можете, сами того не подозревая, оказаться замешанным в цепь интриг, вы даже не знаете, чего, собственно, от вас там ждут. Я скажу вам, что я чувствую в глубине души. Вам, например, предлагают десять тысяч марок, не так ли? Я не могу не находить эту сумму чрезмерной. Ваш друг Бувале, окончивший Нормальную Школу, приват-доцент, получал у Саксонского короля всего только восемь тысяч.
Я ясно видел, что у старого профессора были определённые мотивы, заставлявшие его говорить со мной таким образом, и что боязнь скомпрометировать себя не позволяет ему быть откровеннее. Впрочем, я думаю, всё равно это было бы бесполезно: любопытство моё было задето, во мне пробудилась жажда приключений. И я решительно сказал ему:
— Благодарю вас, дорогой учитель, за сделанные мне предостережения, но принятое мною решение неизменно. Я сделаю всё возможное, чтобы держаться в стороне, я не буду выходить из рамок моей должности, и я уверен, что мне удастся избежать опасностей. Разрешите мне только высказать одну просьбу к вам.
— Говорите.
— Если мне что-нибудь там покажется подозрительным, позвольте вам об этом написать; я попрошу у вас совета, и тогда будет достаточно времени…
— Берегитесь! Не делайте этого, мой бедный друг! — воскликнул он. — Не забывайте, что там вы будете окружены шпионами. Никогда, никогда не пишите таких писем, которых не должен был бы читать великий герцог; можете быть уверены, что если у него явится желание с ними познакомиться, он не попросит у вас позволения. Как только вы очутитесь в Лаутенбурге, вы будете изолированы от всего мира. Я знаю герцогский дворец. Несмотря на всю его роскошь, он больше похож на крепость, чем на дворец.
— Но ведь там всегда будет Марсе.
Тьерри улыбнулся, и улыбка эта напомнила мне слова Рибейра: «сообразительностью он не блещет».
— Итак, я вижу, что ваше решение твёрдо. Впрочем, быть может, мои опасения действительно преувеличены. Наконец, вы молоды и одиноки, у вас есть и находчивость, и сила воли. Может быть, я не прав, когда журю вас за вашу жажду приключений, на этот счёт я пленник моих учёных привычек: тихая жизнь, библиотека. Кстати, в Лаутенбурге к вашим услугам будет одна из лучших библиотек в мире. Коллекция великого герцога славится. Там есть рукописи Эразма и большая часть рукописей Лютера. Поезжайте, мой дорогой мальчик. Но не забудьте прийти ко мне после свидания с Марсе. Может быть, я смогу дать вам кое-какие практические советы, как вам лучше держаться в роли преподавателя.
На квартире меня ожидала пневматичка, запечатанная изящной лилово-красной печатью: Марсе уведомлял меня, что он рад будет видеть меня у себя сегодня в три часа.
Я отправился на улицу Альфонса де Невилля, где жил французский посланник при Лаутенбургском дворе; по дороге я припоминал все подробности моей беседы с профессором Тьерри. Да, он несомненно знает больше, чем он решился мне сказать, думал я. «Не делаю ли я, в самом деле, большой глупости? Э! Да что! Увидим! Было бы ещё глупее упустить двадцати пяти лет от роду случай зарабатывать 12 тысяч франков в год и влачить в Париже жалкое существование, без всяких видов на будущее». И даже теперь, после всего того, что я пережил, мнение моё на этот счёт остаётся без перемены.
Когда меня ввели к полномочному министру, графу де Марсе, он находился в обществе симпатичной дамы лет сорока, которая делала ему маникюр.
Граф Матье де Марсе по внешности, выражению лица и представительности производил впечатление римского сенатора; при этом сдержанность, полная дипломатической недоговоренности и таинственности. Человек с такой внешностью может позволить себе роскошь иметь совершенно пустую голову.
— Не нахожу слов для извинений за бесцеремонность, с которой я позволяю себе принять вас в такой обстановке, господин Виньерт, — произнёс он самым галантным тоном. — Но время, особенно здесь, в Париже, — вы сами знаете, что за драгоценная для всех вещь время. Подумайте, как я должен экономить его здесь, в Париже, где я провожу всего-навсего две недели в году.
Он высыпал предо мною ещё с полдюжины подобных банальностей, разглядывая себя в зеркале и украдкой рассматривая меня. Мне показалось, что этот первый экзамен, столь важный в глазах человека с таким умственным кругозором, не был для меня неблагоприятен. Но в то же время я понял, что едва ли я внушил ему выгодное мнение насчёт манеры университетских людей одеваться.
Опустив руку в тепловатую розовую жидкость, он решил приступить к делу.
— Я не позволил бы себе, господин Виньерт, пригласить вас для того, чтобы подвергнуть вас своего рода экзамену; впрочем, я, собственно говоря, даже не совсем компетентен в этом. Мне уже известно, что вы обладаете в достаточной мере всеми необходимыми научными знаниями. Что же касается гарантий, так сказать, моральных и интеллектуальных, то мне незачем проверять их самому, раз я уже получил их от рекомендовавшего вас нашего общего друга Рибейра.
Я поклонился; он тоже поклонился. От своей речи он, видимо, был в восторге.
— Вы, без сомнения, желаете знать, в чём будет состоять ваша роль в Лаутенбурге? О, это не так серьёзно! Для занятий науками у герцога Иоахима уже имеется учитель. Обучение его военному делу возложено на майора Кесселя. Вы же будете преподавать ему французский и историю, всеобщую историю, само собою разумеется. Есть, впрочем, ещё одна вещь, которой великий герцог особенно интересуется.
«Мы подходим к самому главному», — подумал я, вспоминая подозрения профессора Тьерри.
— Хорошо ли вы читаете стихи?
Как ни прост был этот безобидный вопрос, но я опешил.
— Как вам сказать? Признаться, мне трудно…
— А между тем это самое существенное. Великий герцог сказал мне, чтобы я на это обратил особое внимание, и вот по какой причине. Великая герцогиня Аврора безумно любит французскую поэзию. Возможно, что время от времени вас будут приглашать к ней. Она беспрестанно жалуется, что в этом отношении Лаутенбург даёт ей очень мало, и вот его высочество хочет сделать герцогине сюрприз. «Мой дорогой граф, — сказал он мне, — я знаю, что вы человек начитанный и обладаете хорошим вкусом; я на вас полагаюсь». Прошу извинения, что в этом вопросе я действительно вынужден просить вас предоставить мне возможность самому убедиться.
И, указав мне своей, всё ещё влажной, рукой на стеклянный шкаф с книгами, он прибавил:
— Там вы найдёте прекрасных поэтов. Выберите любого и прочтите первое попавшееся стихотворение.
Сказать по правде, там оказались только устаревшие авторы. Я взял первый попавшийся томик стихотворений Казимира Делавиня, и, хорошо ли, плохо ли, прочёл превосходную его поэму «Преддверие рая».
— Восхитительно, прелестно, — тоном знатока воскликнул Марсе. — Не правда ли, мадам Мазра?
Маникюрша издала нечто вроде клохтанья, долженствовавшего выразить экстаз, в который её привело стихотворение. Немало я видел в своей жизни курьёзных сцен, но более курьёзной — никогда.
— Всё идёт как нельзя лучше, — сказал Марсе и встал. — Мне нечего говорить вам о том, что там, в Лаутенбурге, к вам будут относиться с отменной предупредительностью. Великий герцог — сама изысканность. Великая герцогиня… — он поднял глаза к небу, — русская; что касается её красоты, то этим всё сказано. Принц Иоахим очень послушный юноша, но особенно живым умом не отличается. Впрочем, нельзя же и требовать от немца той живости ума, которой отличаемся мы, французы. Наконец, должен вам сказать, что все мужчины там, при дворе, очаровательны, а дамы восхитительны. Ездите вы верхом? — Я отрицательно покачал головой.
— Научитесь. Вы будете ездить с Кесселем. Это кавалерист высшей марки… Вы придёте ко мне завтракать в миссию. Там у меня имеется одна фривольная вещица работы Пуаре; вы её увидите по моём возвращении туда, дней через десять: ведь вы уедете раньше меня. Вы должны поспешить туда как можно скорее, вас ждут. Если вы уедете послезавтра в десять часов вечера, вы прибудете в Лаутенбург в воскресенье утром в девять часов.
— Слушаю, — сказал я.
— Передайте мой почтительнейший поклон великому герцогу и сложите к ногам её высочества, великой герцогини, выражения моей благоговейной преданности. Ах, мой бог, какой я рассеянный! — Он встал, взял свой портфель и вынул оттуда запечатанный пакет.
— Главноуправляющий, г. Сольдау, просил меня передать вам это на дорожные расходы. Желаю вам успеха. До скорого свиданья. Прошу извинения, мадам Мазра. Теперь я весь к вашим услугам.
В Париже я никогда не тратился на извозчика; исключение составляли те редкие случаи, когда я, уезжая на каникулы или возвращаясь с каникул, имел с собой чемодан. Но теперь, не успел я выйти от графа, я взял первого попавшегося извозчика, чтобы поспешить домой, — до того я горел нетерпением
поскорее увидеть содержимое пакета, который я не решился вскрыть на улице. Теперь только я стал ощущать, какие выгоды и преимущества даёт общение с великими мира сего.
«Господина наставника имеют честь просить, — гласила бумага с бланком герцогской канцелярии, — принять прилагаемую при сём сумму: гонорар за первые три месяца и, кроме того, тысячу марок на покрытие расходов по путешествию».
В пакете оказалось 3.500 марок. Это составляло более 4.000 франков.
И вот я, который лишь вчера прибыл в Париж, не зная, хватит ли у меня денег на неделю, стал сразу обладателем суммы более чем в 4.000 франков.
Но несмотря на мою радость, предстоящая встреча с профессором Тьерри тяжестью лежала на моей душе. Я решил тотчас же отделаться от этого визита, и сказать ему, что я уезжаю завтра.
Я застал его в рабочем кабинете.
— По вашему сияющему лицу, — сказал он, — я вижу, что всё идёт так, как вам хотелось. Тем лучше; быть может, я в самом деле напрасно вас запугивал. Когда вы уезжаете?
— Завтра.
— Итак, мой милый юноша, это ваш прощальный визит. Что же мне сказать вам на прощанье? Я уверен, что вы отлично справитесь с вашими педагогическими обязанностями. Помните великое правило отца Паскаля: старайтесь всегда держать вашего воспитанника выше уровня преследуемой вами воспитательной задачи. Этим правилом не может руководствоваться преподаватель гимназии, который обязан сообразовываться со средним уровнем своего класса. Но кому выпадает на долю заниматься воспитанием одного единственного ученика, тот и может, и должен это сделать.
Затем этот чудный человек дал мне несколько советов относительно выбора книг, которыми я должен пользоваться при составлении программы занятий, и вручил мне свою «Историю немецкой литературы», которая впоследствии часто оказывала мне ценные услуги в Лаутенбурге.
— Нет, не благодарите, — остановил он меня, когда я пробормотал несколько слов для выражения своей признательности. — Не вы у меня, а я, быть может, окажусь в долгу у вас. Я вам уже говорил, что в Лаутенбурге вы увидите замечательную библиотеку. Её хранитель, профессор Кир Бекк, с которым мне довелось встречаться на различных съездах, ревниво оберегает это сокровище. Но, как человек учёный, он, я не сомневаюсь, предоставит вам свободный доступ ко всем сочинениям и рукописям, не имеющим непосредственного отношения к предпринятому им капитальному труду по истории теорий превращения металлов. Вы, быть может, знаете, что я пишу книгу о нравах при Ганноверском дворе в конце XVII века. Работая в Национальной библиотеке и просматривая каталог Лаутенбургской великогерцогской библиотеки, я увидел, что там имеются интересные для меня документы первостепенной важности. Сегодня утром, расставшись с вами, я сбегал в библиотеку, чтобы составить список главнейших сочинений, и я вам буду признателен, если вы наведёте в них нужные мне справки. Я, впрочем, уверен, что вы сами заинтересуетесь этим делом. Вот мой список. Обращаю ваше особое внимание на следующее сочинение: «Stattmutter der Koniglicher Hauser Hannover und Preussen» великой герцогини Альды, изданное в Лейпциге в 1852 году. В Париже имеется только перепечатка, и притом неполная. Я рекомендую вам также книги Крамера и Пальмблада, равно как «Octavie romaine» (die Romische, Octavia), герцога Ульриха фон Вольфенбюттеля.
— К сожалению, — продолжал он, в то время как я держал в руке драгоценный листок, — я мог записать только печатные произведения, потому что Лаутенбургские рукописи не внесены в инвентарь. Вам придётся самому их пересмотреть и таким образом вам, быть может, удастся, дорогой мой юноша, оказать мне самые ценные услуги. Нет ни малейшего сомнения, что вы там откроете неоценимые документы, касающиеся нравов немецкого общества XVII века; кстати замечу, это общество, будучи утончённым по внешности, на самом деле отличалось большею жестокостью и деспотизмом, чем до сих пор думали.
Он держал меня за обе руки; по тому, как он был взволнован, я понял, что ему хочется ещё кое-что мне сказать.
— Я ни за что не хотел бы возвращаться к тому разговору, который мы имели с вами сегодня утром. Но, мой дорогой, вы знаете, с каким интересом я к вам отношусь; расставаясь с вами, я ещё более это чувствую. Заклинаю вас, никогда не поддавайтесь соблазну выходить из пределов вашей чисто педагогической роли, даже если вам будут сделаны какие-нибудь предложения в этом роде. В Лаутенбурге имеется довольно богатый материал для тех, кто, подобно нам, облечён миссией писать историю; итак, будем писать историю, но будем бежать от искушения принимать непосредственное участие в истории.
Я поклялся ему, что всегда буду хранить в своей памяти его последние советы, и я был вполне искренен в эту минуту.
— Послушайте, вот ещё что. Кроме принца Иоахима, великого герцога, великой герцогини и Марсе, я совсем никого не знаю в Лаутенбурге, но я хорошо помню, что когда-то там жил некий барон Боозе. Если он ещё там, советую вам встречаться с ним как можно меньше. Избегайте его, остерегайтесь его.
Мне захотелось знать, что заставило профессора дать мне это последнее наставление, но с ним вдруг произошла какая-то перемена, он преобразился, и я увидел перед собою пунктуального историка, сдержанного чиновника:
— Нет, нет, нет, — проговорил он, — это основано на впечатлениях строго личного характера. Как бы то ни было, если этот субъект уже не в Лаутенбурге, не задавайте о нём никаких вопросов. Ждите, не заговорят ли о нём другие, не услышите ли вы какого-нибудь намёка на него. Прощайте, нам пора расстаться.
Мы расцеловались. С тех пор я его больше никогда не видел.
Угнетённое состояние духа, в которое привёл меня этот визит, быстро исчезло, лишь только я очутился в меняльной лавке, где я выменял на франки половину банкнот Deutsche Bank. Остаток вечера я посвятил беготне по портным, покупке обуви и белья. В первый раз в жизни я познал наслаждение, и сладостное, и горькое в то же время, которое мы испытываем, расходуя деньги без счёта. При моём среднем телосложении мне не трудно было тотчас же выбрать себе по мерке в Old Gentleman костюм, пальто и ботинки. Моё старое тряпьё было уложено в пакет и отослано по моему адресу.
Затем, всецело веря в себя, я отважился пойти к первоклассному портному. С важностью, которую мне придавал мой бумажник, я заказал себе фрак, сюртук и пиджачный костюм. Мне обещали послезавтра прислать на дом весь заказ. Я уплатил вперёд 800 франков.
Семь часов вечера. Чудное зрелище представляет бульвар Капуцинов в октябре. Какая радость прогуливаться там, когда ты хорошо одет, когда у тебя в кармане деньги и ты можешь позволить себе всё, понимаете, всё. Синие лампионы Олимпии разливали массу света. Катились экипажи, ревели автомобили. В тумане, словно огромная тень, смутно виднелся массив церкви св. Магдалины.
Послезавтра мы со всем этим простимся. А сегодня насладимся нашим призрачным королевским величием.
Странное ощущение: у меня в кармане деньги, но я не могу приказать им: давайте мне тотчас же друзей, знакомых. Деньги есть, а друга, которому я мог бы показать это на деле, у меня нет. И выходило так, будто у меня деньги и есть, и в то же время их нет. Вдруг я кое-что вспомнил; у меня явилась блестящая идея. Я вошёл к Веберу. Наверно, здесь вскоре встретятся Рибейр и его вчерашние друзья.
Я стал думать о Клотильде. Вчера на ней было длинное манто чёрного бархата. Она ясно представлялась мне вся розовая, со своими светлыми, со странным блеском волосами. Как я рад буду показаться ей таким нарядным, таким богатым.
Рибейр был уже там.
— Ну, мой дорогой, всё идёт как нельзя лучше. Я только что видел Марсе, он в восторге. Ты, кажется, околдовал его своим чарующим голосом! Чёрт возьми, ты не потерял время даром, — сказал он, заметив происшедшую со мной перемену.
Когда мадам де Реналь заставляет Жюльена Сореля сбросить свою шерстяную жилетку; когда Люсьен Шардон, чтобы превратиться в Рюбампре, приезжает в Париж вместе с мадам Баржетон, урождённой де Негрпелисс д'Эспар, эти молодые люди тотчас же находят свою дорогу в Дамаск. Им не нужно было проделать целый ряд этапов по пути к дендизму. В удивлении, выраженном Рибейром, мне послышался оттенок насмешки. Я подумал о Бодлэре, о котором рассказывает Готье, будто он нарочно скоблил наждачной бумагой свои новые костюмы, чтобы стереть с них лоск новизны, которым так дорожат филистеры и буржуа. Моя уверенность в себе заколебалась, и я побоялся, что удовольствие будет мне испорчено. Впрочем, стоит ли смущаться, подумал я, из-за того, что на мне готовый костюм. Не мог же я, в самом деле, явиться сюда в стоптанных башмаках и в старом пиджаке. Через два дня они увидят. И сознание того, что я состою клиентом одного из самых дорогих портных, возвратило мне всю мою самоуверенность.
Вошла Клотильда, в белом лисьем мехе, который в этот вечер показался мне верхом роскоши и вкуса. Тут подвернулась цветочница, и я купил все фиалки, какие у неё были. Клотильда обратила на меня внимание и скоро дала мне понять, что теперь я ей больше нравлюсь.
— Клотильда, — обратился к ней Рибейр, — если ты меня любишь, ты должна обмануть сегодня своего Сюрвиля с моим другом Виньертом. У него есть деньги и завтра он уезжает — комбинация, которую женщины обыкновенно особенно ценят.
Если бы эта шутка была сказана на четверть часа раньше, я нашёл бы её очень неуместной, но выпитый портвейн успел уже оказать на меня своё действие, к тому же Клотильда была весела, смеялась и не возражала.
Вскоре показался Сюрвиль с каким-то господином, которого звали Мутон-Массэ. Они оба состояли при кабинете министра внутренних дел.
— Надеюсь, мы не останемся здесь, в этом ящике, — сказал длинноногий Сюрвиль. — Два раза подряд — это чересчур. Очень рад, сударь, Вы обедаете с нами?
— Мой друг Виньерт просил меня пригласить вас с ним пообедать, — сказал Рибейр. — Завтра он уезжает на службу при Лаутенбургском дворе, и хочет протереть глаза своим прогонам.
Маленький Мутон-Массэ дал понять, что он одобряет моё предложение:
— Куда мы поедем?
Завязался спор, и в течение добрых десяти минут вся эта компания перебрасывалась, словно мячиками, названиями ресторанов, которые были мне совсем не знакомы: Виель, Сержанты, Башня сплетались с названиями животных: Кукушка, Улитка, Красный осёл.
Я не слушал. От третьей рюмки портвейна во мне разлилось бесконечное блаженство. Эта тёплая атмосфера кафе опьяняла меня. Я с презрением думал о том, чем я был ещё вчера, — о стипендиях, об уроках, экзаменах, деканах всех четырёх факультетов, о самом проректоре, заседающем в своём кабинете на улице des Ecoles. При взгляде на этих элегантных женщин, на молодых людей с их заносчивым видом, вертевшихся вокруг меня, я вспомнил холодный коридор Сорбонны и фреску Анри Мартена, на которой Анатоль Франс, одетый туристом, на фоне пейзажа, заполненного конфетти, излагает дюжине молодых плохо одетых доцентов своё собственное представление о назначении человека.
«Истинное понимание жизни, вот оно где!» — подумал я, сладострастно глядя на Клотильду, которая прикалывала букет фиалок к своему белому меху.
Наконец, Рибейр и его друзья пришли к соглашению. Мы сели в автомобиль и остановились на площади Тайон, перед рестораном, название которого я теперь не помню.
Окна были завешены изнутри тяжёлыми портьерами, ревниво оберегавшими его залы от взоров прохожих. Сюрвиль, хорошо знакомый с этим местом, повёл нас в маленький кабинет, где тотчас же был накрыт стол на пять персон.
Я сидел рядом с Клотильдой, и это было для меня самое существенное. Что нам подавали на этом знаменитом обеде, право, я уже давно забыл. Вероятно, все блюда были пикантные, потому что пили мы безобразно много.
— Ты мне даёшь полномочия? — спросил меня Рибейр, насмешливо показывая
мне кивком сначала на Клотильду, потом на Сюрвиля.
Маленький чёрный лакей, с умилительным выражением лица, принимал наши заказы по части вин. Не могу утверждать, но думаю, что Рибейр понимал в этом толк.
— Не нужно шампанского, — объявил он.
Сначала к устрицам заказали Пульи, сухое, как стеклянные опилки. Потом Мутон-Массэ потребовал Сент-Эмильон 1892 года, потому что это вино было с его родины. Тогда Клотильда, которая, как нарочно, оказалась родом из Бона, настойчиво потребовала, чтобы подали Бон. Тут я не упустил случая поухаживать за ней, и дерзнул сам кликнуть лакея и приказал ему подать самое лучшее бонское. В ответ на это Рибейр, в свою очередь, велел нести Волксгейм. Это то вино, которое продаётся в особого рода бутылках с длинным горлышком и узким отверстием. Наибольший успех выпал на мою долю, когда я, под самый конец, потребовал вина моих родных песчаных Ланд. Никто из нашей компании никогда не пробовал этого грозного деревенского винца, которое зреет на наших тощих дюнах, под бледными жёлтыми лучами морского солнца; это вино не бросается в голову, но безжалостно сковывает ноги.
Сюрвиль и Мутон-Массэ уже стали говорить мне «ты». Клотильда почему-то называла меня Раулем и требовала, чтобы я поклялся, что буду посылать ей открытки. Рибейр держался крепче других; он вёл бесконечные переговоры с чёрным человечком и время от времени делал мне знак глазами, как бы говоривший: «Не стесняйся же!».
Я был на седьмом небе, я наслаждался сознанием своего быстрого восхождения. Я снова увидел перед собою жалкую таратайку, которая два дня назад, в тёмную ночь, привезла меня на заброшенную железнодорожную станцию в Ландах, освещённую одним лишь жалким фонариком. И всё время ветер, ветер с моря. А теперь нет ночи в моей душе, в ней так светло, светло.
Сотерн жидким золотом искрился в бокалах, в которых, словно маленькие розовые тюльпаны, отражались абажуры электрических лампочек. Я видел, как сквозь хрусталь просвечивали зубки Клотильды, когда она смеялась, попивая маленькими глотками вино, и как поднималась при этом её белая грудь. Её ручка, лежавшая на моей руке, передавала мне при всяком взрыве смеха сотрясения этого милого и безобидного животного. Рибейр веселился, Мутон-Массэ ел сладкое, Сюрвиль напивался.
Произошла маленькая ссора. Когда подали ликеры, Сюрвиль настаивал, чтобы подали большие винные бокалы. Мутон-Массэ уверял его, что достаточно будет и небольших рюмочек, ведь бутылки останутся на столе; но тот упорствовал, и пришлось подать ему фужер.
Метрдотель уехал. Электрическое освещение потускнело в облаках сигарного дыма. На столе увядали цветы. Сюрвиль храпел. Мутон-Массэ, вынув свою записную книжку, начал складывать какие-то цифры, но это ему не удавалось; он пыхтел и бранился. Рибейр не оставлял своего замысла: просунув свою правую руку под мою левую, и свою левую под правую руку Клотильды, он подталкивал нас друг к другу; при этом он говорил что-то на ухо молодой женщине. Она смеялась влажными губами и по спине её пробегала мелкая дрожь.
В пятницу 24 октября 1913 года, вечером, всё было готово к моему отъезду. Вещи были уложены в большой новый чемодан; в небольшом ящике упакованы были книги. Мне не хотелось выбрасывать моё старое тряпьё, свидетеля целых трёх лет моей жизни, полной труда и унижений. Я аккуратненько уложил всё в старый чемодан, который некогда принадлежал моей матери, в том числе и мою форму офицера запаса, сильно истрепавшуюся за два призыва на учебные сборы. Все эти вещи я отвёз на Орсейский вокзал и отправил по адресу старого священника, приютившего меня у себя на время каникул.
В пять часов вечера я написал ему письмо с сообщением о происшедшей в моей жизни перемене. Затем я подсчитал мои финансы. У меня осталось немножко больше двух тысяч трёхсот франков, включая сюда десять луидоров, которые я, с величайшей радостью, дал в долг Рибейру. Такую же сумму я решил послать старику-священнику.
Опустив моё письмо на почте, на улице Турнон, я зашёл в Люксембургский сад, прошёл мимо фонтана Медичи, у которого я столько раз засиживался, мечтая о встрече с воображаемой избранницей. Республиканского гвардейца не было видно, он забрался в свою будочку. Никогда этот огромный королевский сад не казался мне столь пустынным, как в этот осенний вечер, когда уже чувствовалось приближение зимы.
Среди обнажённых деревьев, под жёлтым умирающим небом, зябкий кружок королев округлял свои мраморные пьедесталы, странно белые в надвигавшейся ночи.
На сенатских часах пробило пять с половиной. В центре Парижа были уже смерть и запустение.
Фонтан умолк, и в его большом восьмиугольном бассейне вода блестела, как зеркало, каким-то чудом более прозрачное, чем небо. Какой-то мужчина, единственный человек, кроме меня, находившийся в этом славном парке, остановился у воды и стал делать руками странные движения, словно он разбрасывал семена. Он бросал птичкам хлебные крошки. Тут собралась стайка в несколько десятков воробьёв и серых тяжёлых голубей; сердито нахохлившись, они неуклюже шмыгали туда и сюда.
Это был старик в порыжевшем пальто с меховым поношенным воротником. У ног его лежал мешок.
Я подошёл к нему. Птицы разлетелись.
Старик укоризненно взглянул на меня, вскинул мешок на плечи и пошёл.
Когда я покинул сад, уже наступила ночь.
Через четыре часа после этого я был на Восточном вокзале и занял место в вагоне экспресса Париж — Берлин.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Холодная звезда, ещё только что блестевшая на синем, как сталь, небе, исчезла. Виньерт вскочил.
— Который час?
— Без десяти двенадцать, — ответил я, взглянув на часы при свете карманной электрической лампочки.
Я разбудил двух людей из связи:
— Энрике, поди в третий полувзвод. Скажи адъютанту, чтобы он посмотрел за сменою второго взвода. Пусть он придЁт потом сюда доложить лейтенанту Виньерту. Ты, Дамстоа, пойди во второй полувзвод и скажи начальнику, чтобы сделал то же самое в первом взводе. Да! Чтоб он не забыл в два часа выслать патруль. Его должен выслать 11 — й полувзвод — капрал Туле. Понял? Ну, пошевеливайтесь.
Оба солдата встали и вышли. В течение двух секунд дверь была закрыта их спинами — мы оставались в темноте.
Странное спокойствие царило в эту ночь. Изредка лишь то там, то здесь раздавался случайный выстрел. Орудия молчали.
Виньерт продолжал свой рассказ.
— Читали ли вы когда-нибудь «Барона Гейденстамма», сочинение Мейера Форстера? Он немало слизал у Толстого (вся глава о скачках на императорский приз взята из «Анны Карениной») и много, увы, у нашего Октава Фелье. Несмотря на это, прочитайте всё-таки страницы, посвящённые Ганноверу, жизни немецкого гарнизона, королевскому парку под снегом — и вы получите те же впечатления, какие я испытал, прибыв в Лаутенбург в воскресенье, 26 октября 1913 года, в 10 часов утра.
Уже с 8 часов стали мало-помалу исчезать вершины прославленного легендой о Вальпургиевой ночи Гарца, тонувшие с южной стороны в медно-красной дымке. Затем пошли засеянные поля, безжизненные и некрасивые. Когда поезд переехал через Аллер, пейзаж оживился. И вдруг, прыгая в своЁм базальтовом русле, показалась извилистая речка Мельна; километрах в шестидесяти от Лаутенбурга, к которому мы приближались, она впадает в Аллер.
Белое печальное небо. Город, повисший на склонах холма, огибаемого Мельной, показался мне немного похожим на По или, пожалуй, скорее на Сен-Годан, сходство с которым ему придавали черепичные крыши домов. Вдали, на самой вершине холма, из-за густых деревьев показалась высокая башня. Я догадался, что это замок.
Как лошадь, чующая конюшню, поезд прибавил ходу. Мы то ехали вдоль ручейков, то пересекали ручейки, которые текли между двумя рядами ив. Вода белела пеною на маленьких порогах, водоросли дрожали в ней; угадывалось тихое журчанье ручейка, не слышное за шумом поезда. В общем, мирный и чистый пейзаж, немного напоминавший Иль-де-Франс. Что же, в конце концов, здесь можно быть счастливым.
Лаутенбургский вокзал оказался определённо отвратительным. Знаменитый вокзал в Метце, в сокращении и с большими претензиями. Впрочем, у меня не было времени внимательнее его рассмотреть.
— Господин профессор Виньерт? — подобострастно спросил меня чиновник в фуражке, которому я вручил мой билет.
Марсе телеграфировал о моём приезде.
Человек в фуражке подал знак, и передо мной появились два лакея в чёрных ливреях с золотым галуном.
Один из них взял у меня багажную квитанцию, а другой усадил меня в огромный лимузин, который моментально и отъехал.
В десять минут мы пересекли весь Лаутенбург и, не убавляя ходу, влетели в большой двор замка. Часовой на всякий случай сделал мне на караул. Шофёр нажал на клаксон.
— Не угодно ли будет господину профессору сойти, — сказал лакей, открывая дверцу.
Толстый метрдотель, с красным лицом, показался на площадке подъезда. Он поклонился мне три или четыре раза.
— Хорошо доехали, господин профессор? Прошу господина профессора последовать за мной. Я провожу господина профессора в его апартаменты.
Сколько бы дипломов я ни получил, во Франции меня в десять лет не титуловали бы столько раз профессором, сколько мне довелось в Лаутенбурге выслушать это обращение в одно только утро моего прибытия.
Когда я вошёл в комнату, мой багаж был уже там. На маленьком столике была приготовлена весьма изысканная, аппетитная на вид, закуска. Я был польщён.
— Если господину профессору что-нибудь понадобится, благоволите позвонить. Людвиг, лакей господина профессора, всегда к его услугам, он находится рядом.
Перед тем, как выйти, толстяк поклонился ещё ниже и протянул мне пакет с большой красной печатью.
— Не угодно ли господину профессору прочитать письмо, которое ему оставил господин комендант Кессель?
Комендант Кессель, гувернер его высочества наследного герцога, извинялся, что никак не сможет встретить меня на вокзале. Весь Лаутенбургский двор теперь на охоте, и он должен сопровождать своего воспитанника. Он просил меня воспользоваться этим днём, чтобы освоиться с дворцом. Завтра, в понедельник, в без четверти десять, он будет иметь честь ждать меня, чтобы ровно в десять часов представить меня великому герцогу Фридриху-Августу.
Желая немедленно приступить к использованию моих прерогатив, я позвонил. На пороге показался Людвиг.
«Вот каков ты, однако, — подумал я. — Тьерри достаточно было бы увидеть тебя, чтобы сразу успокоиться».
Это был малый лет тридцати, с удивительно невыразительной физиономией. Я не видал таких до моего прибытия в Германию. Впоследствии я освоился с этими круглыми соломенного цвета шишками с голубыми глазами. У девяти из десяти наших военнопленных такие головы.
От Людвига я мог добиться только одного, а именно, он сообщил мне, что столоваться я буду в первом этаже (моё помещение находилось во втором), в столовой, отведённой специально для гражданских и военных чинов двора наследного герцога, то есть для меня, коменданта Кесселя и профессора кильского университета Кира Бекка; но каждому из нас предоставлялось также право обедать у себя.
Виньерт, который с самого начала своего рассказа говорил всё тем же размеренным голосом, вспоминая без труда малейшие мелочи этой истории, с которой он, по-видимому, мысленно не расставался ни днём, ни ночью, вдруг остановился и сказал:
— Я чувствую, что мои воспоминания до сих пор не наскучили вам. Но, начиная с этого места, я отдаю себе отчёт в том, что задача рассказчика становится для меня затруднительной. До сих пор достаточно было простого хронологического порядка. Теперь я должен сразу от него отказаться, так как за массой мелких фактов всё может спутаться, смешаться в вашем представлении. Теперь позвольте мне аналитически представить вам Лаутенбург и его обитателей. Когда всё это будет разложено по своим местам, мы перейдём к событиям. Они создадут синтез.
ДВОРЕЦ
Это не дворец, а скорее дворцы, так как резиденция великих герцогов Лаутенбург-Детмольдских образовалась вследствие слияния замка в стиле возрождения, построенного сбоку готической башни, с дворцом в стиле Людовика XIV, беззастенчиво скопированного с Версаля. Взятое в отдельности, каждое из этих строений не лишено стиля. Но задача соединить в одно целое эти две, несоединимые по существу, части причинила величайшие муки архитектору великого герцога Ульриха (деда нынешнего князя), сделавшего такое распоряжение. Архитектор вышел из такого затруднения таким образом: он снёс до основания левое крыло и башенку, примыкавшую к правому крылу, а середину он поднял, и возвёл под стеклянной крышей постройку, напоминающую и Орсейский вокзал, и Версальскую капеллу. Здание, как видите, было конфузное, но почему-то в Германии всё время задаются такими проблемами, насилующими совесть архитекторов.
В этом огромном здании находятся зал Совета и парадный зал. Должен сказать, что, сообщаясь с галереей дворца и парадным залом замка, здание довольно хорошо выполняет свою роль. Дворец и замок соединяются между собой посредине, и всё строение имеет форму буквы Т. Оно расположено на высоте, господствующей над городом, спускающейся крутым обрывом у основания замка и постепенно понижающейся позади дворца. Река Мельна, прорезав Лаутенбург, поворачивает вокруг замка, протекая в довольно глубоком, футов в сто, овраге; потом она удаляется от замка и замыкает разбитый на французский манер сад, который находится позади дворца.
Со стороны города, поднимаясь к герцогской резиденции, находится огромная эспланада, опять-таки в Версальском стиле. Она служит также плац-парадом, на котором происходят смотры. Золочёная решётка, начинающаяся от левого крыла дворца, доходит до правого крыла замка, окаймляя треугольное пространство двора; таким образом, главная башня остаётся по ту сторону двора.
Эта башня — всё, что осталось от готической резиденции древних бургграфов Лаутенбургских; на верхушке её красуется белый с чёрным штандарт, на нём изображён золотой леопард с девизом Лаутенбургов: Summum decus, Hectere.
Эта башня, как и вся остальная часть замка, тоже опозорена роскошной орнаментацией в духе Аугсбурга. Она украшена какими-то аляповатыми бляхами из белой жести; главный подъезд, от которого поднимается лестница с изумительно красивыми перилами, увенчан зато коринфским фронтоном.
Меньше всего обезображена часть здания, обращённая к Мельне. Я думаю, её спасло расположение над оврагом; художники штукатурки, видно, смотрели в оба и не отваживались клеить здесь свои пошлости. Их роль взяла на себя сама природа: здание обросло плющом, а огромные буки, растущие по берегу реки, подняли высоко вверх, под самые окна, свои тёмные качающиеся верхушки.
Нет надобности описывать дворец: это Версаль в сокращении, Версаль с двадцатью пятью окнами по фасаду, вместо восьмидесяти девяти, в целом очень похожий на настоящий Версаль; величественная всё-таки копия с величественного оригинала.
Французский парк, хотя и под ганноверским небом, оставляет всё же самое приятное впечатление. Властелины посвятили ему, очевидно, немало забот. Немецкая дисциплина сделала здесь чудеса. Всюду порядок, всюду лоск. Безупречный зелёный ковёр ведёт к бассейну Персефоны. Это довольно хорошее произведение Эрну, далеко не заурядного ученика Койзевокса. Не трудно будет понять секрет этой красоты, соединённой с благородством стиля, если принять во внимание, что план этого сада разработан Ла-Кентини, который для выполнения его послал сюда своего лучшего мастера.
Великий герцог Георг-Вильгельм, субсидируемый Людовиком XIV, был
страстным поклонником этого французского короля, но его внук, Фридрих, был блестящим продуктом просвещённого деспотизма. Он принимал у себя Вольтера во время его путешествия и познакомился у Гримма с Руссо. Он развёл английские сады вокруг французского парка, разбитого его дедом. Сады эти, не лишённые живописности, спускаются извилистыми аллеями к Мельне. Через прозрачную речку, образующую каскады, перекинут деревянный мост, сохранивший до сих пор название мост Мельерре; он достаточно широк, чтобы по нему могли проходить целые кавалькады, отправляющиеся этим путём на охоту в замечательный замковый лес, так называемый «Герренвальд». С террас замка видна его теряющаяся в бесконечности и волнующаяся, словно море, зелёная масса.
МОИ КОМНАТЫ
Две большие, отделанные деревом комнаты во втором этаже, в северной части замка, т. е. на стороне, противоположной площади.
Моя рабочая комната обращена к террасе. Через открытое окно я вижу пред собой чёрное море деревьев под жёлтым небом. Абсолютная тишина.
Другая комната, более весёлая, обращена, своими двумя окнами к оврагу, где ревёт Мельна, а за оврагом видна Королевская площадь, казармы 182 — го пехотного полка, собор, грубо окрашенный. Внизу я вижу что-то белое, словно кусок ваты, который катится по двум синим параллельным линиям: это ганноверский поезд, с которым я приехал.
Большое спасибо тому, кто распорядился устроить меня в этом корпусе здания. Огромный камин, с любопытными железными украшениями; он относится к той эпохе, когда немецкий вкус не успел ещё так непоправимо себя скомпрометировать.
Моё помещение находится в самом конце замка, как раз над так называемой оружейной залой. Эта зала, наиболее интересная, теперь почти, можно сказать, лишена своих главных украшений. Из неё убрали прекрасные доспехи великих бургграфов, Гетца фон Вертейдиген-Лаутенбурга, бывшего правой рукой Альберта-Медведя, Мильтиада Бусмана, ранившего Генриха-Льва, Кадвалла, упоминаемого у Гюго; шлем этого Кадвалла до сих пор ещё хранит знак ужасного удара палицею, который ему нанёс в Бувине великан Вильгельм де Барр.
ИХ ВЫСОЧЕСТВА
Великий герцог занимает апартаменты во втором этаже дворца. Его комната, так же, как и комната Людовика XIV, находится посредине главного корпуса. Его рабочий кабинет расположен справа и окнами выходит в парк.
Сюда, на следующий день по моём прибытии, в десять часов утра, ввёл меня Кессель.
Великий герцог сидел за работой у очень простого письменного стола, в стиле Людовика XV.
Он встал и протянул мне руку.
— Господин Виньерт, мне нет надобности передавать вам содержание письма графа де Марсе, который даёт о вас самый хороший отзыв. Я знаю, что на вас остановил свой просвещённый выбор министр иностранных дел Франции. Я не могу не выразить вам моего полного удовлетворения такой рекомендацией. Я хотел бы, чтобы вы испытали в Лаутенбурге хоть часть того удовольствия, которое доставит нам ваше пребывание здесь.
Великий герцог мужчина высокого роста; он только на год моложе своего старшего брата, покойного великого герцога Рудольфа. Он родился в 1868 г., так что ему теперь сорок пять лет. Блондин, с небольшой лысиной, весь бритый, он сначала пристально всматривается в вас своими голубыми глазами, а потом его взор начинает блуждать по сторонам. За исключением торжественных случаев, я всегда его видел одетым в обыкновенную форму дивизионного генерала, ярко-синего цвета, без орденов. У него нежные руки, и он самодовольно их разглядывает.
— Майор Кессель, — продолжал он, — может быть, уже объяснил вам, в чём будут состоять ваши обязанности. Нет надобности к этому прибавлять, что я предоставляю вам самую широкую свободу в вопросе о том, как их нужно понимать. Вы знаете, конечно, что мой сын приписан к Кильскому университету; я хочу, чтобы он сдал там все экзамены. Вам придётся, таким образом, познакомиться с программами. Вы можете выбрать методу, какую вам будет угодно. Главное внимание вы должны обращать на историю и литературу. Я не знаю ваших политических взглядов, — прибавил он, улыбаясь, — но я себе представляю, что они должны быть слегка либеральными. Не думайте, что вы должны изменить их. Либерализм опасен только для демократий. Проницательный глава государства всегда сумеет блестяще использовать его.
Он позвонил.
— Скажите герцогу Иоахиму, что я его жду в моём кабинете.
Мой ученик — молодой человек высокого роста, светлый блондин с несколько сонным выражением лица. Я понял, что мне никогда не придётся сдерживать живость его ума.
— Иоахим, — сказал великий герцог голосом менее мягким, чем он говорил со мной, — вот господин Виньерт, ваш новый профессор истории и литературы. Надеюсь, что вы теперь будете больше успевать, чем вы успевали при Ульрихте. Какую отметку получил он, Кессель, на последнем испытании по тактике?
— 8, при двадцатибалльной системе, ваше высочество.
— Это мало. Я желаю, чтобы в будущем вы получали средние баллы. Вы можете удалиться.
Молодой человек удалился с плохо скрываемой радостью.
— Вы видите, — сказал великий герцог, снова обращаясь к нам, — что вы можете безусловно полагаться на мой авторитет. Ставьте моему сыну отметки справедливо, я даже сказал бы, строго. С моей стороны вы всегда будете встречать одно одобрение.
Он жестом дал нам понять, что аудиенция кончена.
— Кстати, — сказал он, возвращая меня, — предупреждал ли вас Марсе, что вам, быть может, представится иногда случай показать ваши лекторские способности великой герцогине? Впрочем, я напрасно сам вас об этом предупреждаю, так как, весьма возможно, что моей жене и не придётся вас приглашать. Теперь она снова увлекается своей страстью к верховой езде. Лучше однако всё предусмотреть заранее. Будьте спокойны, — закончил он, причём на лице его заиграла улыбка, которой он всегда умел придавать особое очарование, — я позабочусь о том, чтобы на вашу свободу не посягали сверх меры.
— Я готов к услугам великой герцогини, когда ей только будет угодно.
— Благодарю вас, — проговорил он и снова сел за работу.
В коридоре Кессель сказал мне:
— Если бы великой герцогине пришла охота вас повидать, то надо, чтобы я мог вас уведомить об этом немедленно. Я сделаю распоряжение вашему лакею, а вы не забывайте время от времени заглядывать к себе.
Начиная с этого дня и вплоть до того дня, когда был парад у Лаутенбургских гусар и когда я впервые увидел великую герцогиню, я ежедневно пять или шесть раз поднимался к себе, но напрасно; мне не хотелось признаться самому себе в этом, но меня огорчало, что я ни разу не нашёл у себя приглашения. Великая герцогиня Аврора-Анна-Элеонора не хотела видеть меня.
ВЕЛИКОГЕРЦОГСКИЙ ДВОР
Можно ли, говоря о лицах, окружающих герцогов Лаутенбургских, говорить «двор»? Слово «двор» звучит здесь чересчур громко. Но я не нахожу другого термина и всё-таки он хорошо сочетается со строгим этикетом, который царил во дворце.
Я вам уже говорил о коменданте, графе Альберте фон Кесселе, офицере одиннадцатого полка прусской артиллерии, стоящего гарнизоном в Кенигсберге.
Он окончил первым Берлинскую Военную Академию, и, без сомнения, является одним из лучших офицеров немецкой армии. Это офицер до мозга костей, но занятый исключительно своей профессией, он умеренно пропитан несносною прусскою спесью. Ко мне, однако, он относился с отменной вежливостью; я слышал от него только добрые советы; также влияние, которое он оказывал на наследного герцога, было благоприятное влияние.
Толстый полковник Вендель, ганауский кирасир, соединяет в себе функции коменданта дворца и начальника военного кабинета при герцоге. По этой последней должности ему подчинены капитан Мюллер, из вюртембергского стрелкового, и лейтенанты Бернгардт и де Шеазли, уланы, офицеры главного штаба великого герцога.
Это славный парень, но он вечно орёт, когда герцога нет во дворце, и дрожит, как осиновый лист, когда герцог дома. Я уверен, что Кессель глубоко его презирает. Он же питает к Кесселю безграничное почтение, потому что тот состоит при генеральном штабе. Венделю никогда и в голову не придёт мысль, что занимаемые им две должности дают ему право отдавать приказания этому молчаливому артиллеристу.
Зато Вендель презирает маленького лейтенанта фон Гагена, лаутенбургского гусара, состоящего при великой герцогине. Между полковником и лейтенантом много раз происходили столкновения, но последний находит поддержку в великой герцогине, которая не может без него обойтись. Великий герцог не любит подобного рода историй, и Венделю пришлось сдаться. С первых же дней по моём прибытии я заметил, что между этими людьми существуют враждебные отношения. Не пускаясь в особые откровенности, комендант замка два или три раза жаловался мне на трудность его положения. Я чувствую, что если бы я его подбивал… Впрочем, я ведь поклялся сидеть у себя и никогда не вмешиваться в их дела.
Должен признаться, что этот маленький Гаген мне ужасно не нравится со своим моноклем, со своей манерой разглядывать тебя, со своей наглостью человека, чувствующего себя всегда настороже.
Он состоит при великой герцогине уже два года. По слухам, как раз в то время, когда она взяла его к себе, он собирался пустить себе пулю в лоб из-за какой-то карточной истории.
Все прочие чины великогерцогского двора, в общем, люди любезные. С особенной любезностью стали они относиться ко мне с тех пор, как узнали, что я сам офицер запаса. В тот же день полковник пригласил меня к обеду. Мадам Вендель, сорокалетняя, худенькая, рыжеволосая дама, обращаясь ко мне, каждый раз называла меня: «господин лейтенант». За десертом, когда фельдфебель пришёл «доложить», она томно спросила меня, читал ли я «Мессинскую Невесту»?
В конце концов должен сказать, что я всё-таки предпочитаю проводить дни так, как я провожу их здесь, чем как в Сорбонне, на лекциях Сеньобоса или какого-нибудь другого профессора.
БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРЬ
Библиотека занимает такое важное место в моём рассказе, что мне кажется невозможным не сообщить о ней некоторых подробностей.
Что касается библиотекаря, профессора Кильского университета Кира Бекка, справедливость требует, чтобы в этом повествовании я, хотя бы вкратце, воздал дань уважения человеку, невольным виновником смерти которого я был.
Библиотека в настоящее время помещается в замке, на месте упразднённой дворцовой капеллы. Во дворце устроили новую, немножко в иезуитском стиле. Великолепная стрельчатая зала, пересекающая под прямым углом парадную и оружейную залы, освободилась; она сообщается с последней через дверь слева, но входят в библиотеку через дверь в конце парадной залы.
Библиотека эта напоминает библиотеку в замке Монтескье в Бреде, но она в три или даже четыре раза больше её. Впрочем, если я не ошибаюсь, бредская библиотека имеет романский свод. За исключением этой детали в структуре, общее расположение шкафов, витрин и пр. то же самое. Посредине стоит огромная витрина с самыми замечательными экземплярами нумизматики; там имеется, между прочим, золотая медаль Конрадена, выдающееся произведение искусства.
Для занятий есть пять-шесть очень удобных столов, на колёсиках; они переделаны из церковных налоев. Электричества масса; при таком освещении очень легко разыскивать книги; сама же по себе зала эта так темна, что в ней нельзя было бы ни читать, ни писать без искусственного освещения.
Не думайте, что я опишу вам, хотя бы поверхностно, все богатства, собранные здесь со времён Гутенберга. Я убеждён, что нельзя приступить к какому-то ни было сочинению о Германии, не обратившись к содействию лаутенбургской библиотеки. В книге, в которой расписываются лица, приходящие сюда работать, вы найдёте имена самых знаменитых людей. Я там видел подписи Лейбница и Гумбольдта, Готфрида Мюллера и Курциуса, Шлейермахера и Ренана.
Ещё большее сокровище представляет собою коллекция, которая помещается в бывшей ризнице. Здесь, в деревянных шкафах, в которых некогда хранились церковные облачения и чаши, находятся теперь неоценимые рукописи, взятые частью из общественных и частных архивов лаутенбургских герцогов, частью приобретённые теми герцогами, которые интересовались этими предметами. Некоторыми наиболее важными экземплярами рукописей библиотека обязана брату нынешнего великого герцога, великому герцогу Рудольфу.
Кир Бекк, библиотекарь, в ведении которого они находятся, ревниво хранит их под замками.
Профессор Кир Бекк ещё десять лет назад был откомандирован Кильским университетом, с согласия ректора Этлихера, в распоряжение великого герцога Рудольфа, специально для классификации его рукописей. Нынешний великий герцог оставил его в этой должности; по его же просьбе, профессор посвящает четыре часа в неделю преподаванию точных наук принцу Иоахиму.
Старый профессор одну половину свободного времени проводит в ризнице, среди рукописей, другую — в лаборатории, среди реторт и химических печей. Лаборатория эта находится в треугольнике, образуемом оружейной залой, капеллой и стеною замка. Как и из моей комнаты, из неё открывается вид на овраг, в котором течёт Мельна, или скорее на деревья, заслоняющие этот пейзаж.
В первый раз, когда я вошёл в лабораторию в сопровождении Кесселя, пожелавшего представить меня нашему коллеге, я встретил приём, который заставил меня вспомнить Гулливера, запутавшегося в паутине у академика Лапуты.
Начать с того, что кто-то неистово нам закричал:
— Заприте дверь, иначе от сквозного ветра сейчас же потухнут печи!
Вслед за этим из облаков едкого дыма выскочил, сердитый и злой, какой-то маленький человечек. Это и был профессор Кир Бекк.
При взгляде на его голый, блестящий череп можно было подумать, что по его лысине прошлись самые едкие кислоты. С ног до головы он был укутан в желтоватый балахон, весь в химических пятнах. Окружённый атрибутами своей профессии, он был похож на какого-то персонажа из Гофмана.
Увидев Кесселя, он успокоился. Он попросил извинить его и сообщил, что он как раз занят теперь окончательными опытами над инсоляцией, я забыл какого именно тела. Когда же Кессель объявил ему, что я и сам собираюсь заняться исследованием некоторых рукописей, учёный человек даже стал любезен. Затем комендант сказал ему, что великий герцог просит профессора предоставить мне в этом деле все возможности. Профессор поклонился, но я понял, что содействия я от него не добьюсь. Это меня нисколько не огорчило. «У этого старого сумасброда, — подумал я, — свои причуды; но я сумею найти его слабую струнку, на которой и буду играть».
Спешить мне было некуда, и я решил дать себе недели две сроку, прежде чем приступить к той работе, которую мне поручил Тьерри; при случае я не прочь был заняться кое-чем и лично для себя.
ГЕРЦОГСТВО ЛАУГЕНБУРГ-ДЕТМОЛЬД
Великое герцогство Лаутенбург-Детмольд, одно из двадцати семи государств, составляющих германский союз, имеет с севера на юг приблизительно сто километров в длину, а с запада на восток от двадцати до сорока. Население его состоит из 280.000 человек.
Шварцхюгель, последний контрфорс Гарца, единственная орографическая система, которая нарушает монотонность ганноверской равнины.
Что касается водных путей, великое герцогство ограничено Везером и пересекается Адлером. Мельна протекает по территории герцогства на большем протяжении, чем другие реки.
Добрая треть площади, занимаемой Лаутенбургом, покрыта буковым и еловым лесом, так называемым Герренвальдом, который начинается на севере герцогства. Остальная же часть представляет собой песчаную почву, с трудом поддающуюся обработке; но она весьма пригодна для развития здесь промысла, состоящего в обжигании извести и составляющего главный источник дохода государства.
В герцогстве два города. Из них Сандау, расположенный на равнине, имеет 22 тысячи жителей; это город исключительно промышленный. Столицей герцогства является город Лаутенбург, имеющий 40 тысяч жителей; здесь находятся резиденция епископа и апелляционный суд и расположены: бригада кавалерии, сформированной из 11 — го драгунского и 7 — го гусарского полков, 182 — й пехотный полк, полуполк артиллерии и небольшой отряд инженерных войск.
Образ правления конституционно-монархический; престолонаследие передается старшему в роде, не только по мужской, но и по женской линии. В конце XVIII века великая герцогиня Шарлотта-Августа единолично правила государством. Нынешний великий герцог Фридрих-Август обязан своей властью браку с наследной великой герцогиней. Лаутенбургские великие герцоги — непосредственные вассалы Вюртембергского короля, и посредственные — германского императора.
Государство Лаутенбург выбирает трёх депутатов в рейхстаг; два из них принадлежат к аграрной партии, один, представитель города Сандау, — социалист. Все трое входят, по праву, в герцогский совет, который собирается два раза в год в лаутенбургском замке; членами этого совета являются, также по должности, президент муниципального совета в Лаутенбурге и два советника, выбираемые своими коллегами. Прочие члены герцогского совета избираются гражданами великого герцогства путём ограниченного голосования. Председательствует в совете сам герцог. Постоянная комиссия из шести членов, аналогичная французским департаментским комиссиям, следит, в промежутках между сессиями, за ходом текущих дел.
ЖИЗНЬ ПРИ ЛАУТЕНБУРГСКОМ ДВОРЕ
Четыре раза в неделю я даю уроки наследному герцогу: два раза по истории, один по философии и один по литературе. Я являюсь для этого в его апартаменты, находящиеся в правом крыле дворца, центральную часть которого, как я уже сказал, занимает сам великий герцог; левое крыло отдано всецело великой герцогине Авроре.
В рабочем кабинете герцога Иоахима стены увешаны лучшими немецкими картами картографического заведения Киперта. Там два портрета — великого герцога и его первой жены, баварской графини Тепвиц, которая изображена с лютеровским крестом; она умерла три года назад. Герцог Иоахим точная копия матери.
Я никогда не видел воспитанника более прилежного, чем этот молодой принц. Он уже много знает, но, к сожалению, всё в одном плане. Я не очень бы удивился, если бы, по смерти великого герцога, государство Лаутенбургское сделалось имперской землёй.
Люди, которые никогда ни в чём не нуждались, могут самообольщаться, думая, что жизни, во всех отношениях полной комфорта, вполне достаточно для счастья.
Я счастлив. Мне нужно думать только о своих лекциях. Два или три учебника, неизвестные здесь, обеспечивают мне мою подготовку.
Да, повторяю, я счастлив. На днях я буду завтракать у великого герцога. До сих пор я три раза обедал у полковника Венделя. Его жена положительно ко мне расположена. Я дал ей несколько книг из тех, которые я привёз для
великой герцогини. Это очень любезная дама, и лучше быть в хороших отношениях с её мужем, полковником.
Обыкновенно я завтракаю с Киром Бекком, Кесселем и офицерами штаба. Время от времени является и маленький Гаген. При виде его все исподтишка посмеиваются, говоря, что сегодня он у великой герцогини в отпуску. К вечеру все исчезают, у всех есть какие-то дела и знакомства в городе; я остаюсь с одним профессором; иногда с нами засиживается и Кессель. Он больше молчит. Профессор разговаривает, но все его разговоры сводятся к жалобам: он ропщет на своего ученика, который не делает успехов.
Это не его ремесло. Вот покойный герцог другое дело; тот лучше умел понимать профессора. Это был человек с большой эрудицией. Как географ он, по-видимому, не имел себе равных.
Кессель допивает своё вино и спокойно замечает:
— Географ, который не знал, как обращаются с 77 — миллиметровым орудием.
Кир сердится и спрашивает:
— Вы, значит, отдаёте предпочтение нынешнему герцогу?
На это Кессель невозмутимо отвечает:
— Я не знал его высочества, великого герцога Рудольфа. Я знаю только, что великий герцог должен быть великим герцогом; он должен знать артиллерию, как тяжёлую, так и лёгкую, и тогда географы могут спокойно работать.
Странное дело. Профессор жалуется Кесселю, которого он, видимо, боится, а не мне, французу. Да, лояльность этих людей беспредельна.
Мы, французы, бываем довольны только тогда, когда мы играем в оппозицию. Здесь состояние умов вообще, и императорская полиция, организованная, надо сказать, изумительно, превращают людей в каких-то баранов; в сравнении с ними бараны Панургова стада могут казаться строптивыми и одарёнными воображением.
Я очень люблю прогуливаться днём по Лаутенбургу. Я в восторге от красивой немецкой формы, но от этой их страшной дисциплины мне становится как-то не по себе. На Королевской площади, против театра, два раза в неделю играет музыка 182го полка. Группы молодых девушек, с которыми я встречаюсь на гулянье, забавляют меня своим неуклюжим очарованием. Я убеждаюсь в справедливости слов, сказанных старым кавалерийским генералом фон Девитцем своему адъютанту.
— У этих молодых девиц, друг мой, есть порода, и ими, положительно, можно любоваться; это не накрашенные полудевы, это будущие матери; я отвечаю вам за целые поколения! Взгляните на вон ту блондинку! Посмотрите на её румяные щёки! А эта походка! Каждый шаг — метр и двадцать сантиметров. Как старый солдат, я вам скажу: это объедение. Гляжу на них и наслаждаюсь1.
Я тоже наслаждаюсь, я тоже с восторгом гляжу на эту полную субординацию и на это совершенное понимание своего назначения; я припоминаю остроту, которую я слышал от французских офицеров, взятых в плен при Седане и привезенных сюда, согласно данной ими подписке: «Попросите немку сесть, она ляжет!».
Наступает вечер. Солнце зашло, окрашивая небо в красный и жёлтый цвета; в пивных шумно зажигают огни. Проходит продавщица цветов. Сегодня я обедаю у полковника; кстати, не купить ли букет незабудок для фрау фон Вендель?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ясное декабрьское утро. Я с комфортом уселся у моего огромного камина, в котором горели дрова, и готовился к вечернему уроку. Погода была холодная и сухая. Под лучами зимнего жёлтого солнца оттаивали замёрзшие за ночь окна, и по ним стекали опалово-белые капельки.
Постучали в дверь.
— Войдите!
На пороге показался Отто, начальник внутренней службы, бывший унтер-офицер, занимавший среднее положение между чиновниками дворца и штатом лакеев, рабочих и чернорабочих; всю эту прислугу он заставлял маршировать по-военному.
Его белая сорочка, его толстое красное лицо резко выделялись на тёмном фоне коридора. За ним показались двое мужчин, державших в руках какие-то странные вещи.
— Прошу извинения у господина профессора за, быть может, причиняемое господину профессору беспокойство.
— Нет, нисколько. В чём дело, Отто?
Он вошёл, сопровождаемый двумя носильщиками, у которых на руках была целая связка знамён.
— Завтра праздник 7 — го полка лаутенбургских гусар, господин профессор. В городе будет большое празднество. Дворец весь украшается флагами, так вот я пришёл, чтобы убрать ваши три окна.
Я выглянул за окно. В самом деле, внизу, на Королевской площади, маленькие человечки заняты были устройством праздничных украшений: вколачивали столбы, развешивали флаги.
— Пожалуйста! Прошу вас.
Они с важностью приступили к работе. Развернули огромный щит: посредине его был германский штандарт, между вюртембергским флагом, белым с красным, и лаутенбург-детмольдским — белым с чёрным, с золотым леопардом. Всё это было прикреплено к нескольким смежным окнам при помощи огромных гирлянд из зелёного молескина, которым была придана форма корон.
Не спуская глаз с рабочих, Отто сообщал мне некоторые подробности завтрашней церемонии.
— Как и всегда, это будет очень большое торжество, господин профессор. Начиная с сегодняшнего вечера, дворец будет иллюминирован. Должен прибыть его величество король Вюртембергский и его превосходительство генерал Эйхгорн, который представляет собою его величество императора. Будет факельное шествие.
— Что же, император посылает своего представителя на все полковые праздники?
— Не на все, господин профессор, но 7 — й гусарский полк, это не такой полк, как все прочие. Его знамя имеет знаки отличия. Принц Эйтель состоит капитаном этого полка. А затем, и это самое главное, полковником числится её светлость, наша великая герцогиня. Так что вы понимаете…
— Я понимаю, что всё это будет очень красиво, Отто, и у вас будет весьма много работы.
— Да, конечно, господин профессор. Ну, кончили вы там? Большое спасибо, господин профессор, за вашу любезность.
Я был очень рад, что мне представлялась возможность увидеть один из торжественных немецких парадов; тем более, что около одиннадцати часов лакей принёс мне письмо от майора Кесселя, в котором гувернер принца уведомлял меня, что его воспитанник должен сегодня после полудня присутствовать, вместе с великим герцогом, на репетиции смотра гарнизона, и поэтому он просит меня отложить мой урок на послезавтра.
Доктор Кир Бекк явился к завтраку с большим опозданием. У него был вид более чем когда-либо гофмановский, и он был очень возбуждён.
Я хотел узнать у него некоторые подробности.
— Очень это важно! — гневно ответил он. — Вы читали этот памфлет, милостивый государь?
Он протянул мне «Шагреневую кожу».
— Памфлет? — сказал я, крайне изумлённый.
— Да, памфлет, глупость. Нужно обладать всем легкомыслием француза, чтобы говорить о некоторых предметах с подобной развязностью. Ведь здесь, сударь, высмеивается сама наука. Ты всю жизнь посвящаешь изучению двух или трёх вопросов науки, ломаешь реторты, обжигаешь себе физиономию, работая над тиглями, тысячу раз рискуешь взлететь на воздух вместе со своей лабораторией, и всё это для того, чтобы какой-нибудь шалопай-романист несколькими презрительными словами, которые он считает безапелляционными, сделал тебя посмешищем перед всем светом.
— Я, собственно, не понимаю, какое место в «Шагреневой коже» вызвало ваш гнев, — сказал я. — Кроме того, я недостаточно компетентен, чтобы защищать Бальзака именно в этом пункте. Позвольте мне, однако, сказать вам, что обычно Бальзак основательно изучал вопрос. Историческая часть его произведений — драгоценнейший источник. С другой стороны, я слышал от одного выдающегося адвоката, что банкротство Цезаря Биррото представляет собою, с юридической точки зрения, шедевр. Наконец…
— Послушайте, — прервал он меня, всё более и более озлобляясь, — ни право, ни история никогда не имели претензии считаться точными науками. Такой умник, как ваш Бальзак, может в этих областях отличаться, как ему угодно, но наука, милостивый государь…
— Дорогой профессор, — сказал я с досадой, — если «Шагреневая кожа» могла произвести на вас такое впечатление, то что вы скажете, когда прочтёте «Поиски абсолюта»? Там выведен некий Бальтазар Класс, который также готовит большой труд и в столь же широких рамках опыта, как и вы. И кто знает, быть может, вы найдёте там ценные для вас указания.
Он, видимо, не понял, шучу ли я или говорю серьёзно. Но, на всякий случай, он записал у себя на манжете название сочинения. Затем он взялся за ложку и стал хлебать суп, держа тарелку у самого подбородка, как это делают немцы.
— Вы будете завтра на смотру? — спросил я его.
Я ожидал, что он ответит отрицательно, но, к великому моему изумлению, он ответил, что будет непременно.
— Для нас отведены места на почётной трибуне, — с гордостью сказал он, — рядом с дипломатическим корпусом.
Он был очень мил, этот учёный домосед, радующийся, как ребёнок, что и ему официально предоставлено место на военном параде.
«Как этот славный старикашка, — подумал я, — не похож на наших антимилитаристов, на наших Бержере».
Весь дворец был в необычайном оживлении. Всюду суетились уже одетые в парадную форму офицеры. Я встретился с Кесселем. Он был очень озабочен.
— Король прибудет в девять часов, — сказал он. — Приходите на вокзал; вам это будет интересно, а пока вы можете присутствовать на смотру, который произведёт великий герцог; это будет в три часа, на эспланаде.
Я поблагодарил его, но, не желая портить себе завтрашнего зрелища и находя неуместным для себя оставаться в этой суматохе, — я был почти смешон среди офицеров, разряженных в мундиры самых разнообразных цветов — я пошёл в библиотеку. Там я приступил к составлению некоторых заметок для ближайшей лекции, которую я должен был прочесть молодому герцогу, по истории александрийской философии.
Когда я покинул библиотеку, уже наступила ночь; я решил пройтись по городу. Иллюминация была уже зажжена. Выйдя на середину площади, я обернулся и увидел замок, весь горевший огнями. Чисто детское удовольствие, которое доставляют цветные огни, все эти пёстрые лампионы, помешало мне заметить, что во всём этом было не особенно много вкуса. Впрочем, в Германии пересаливают во всём — только не во вкусе.
В центре возвышался огромный, высотой в добрых десять метров, имперский орёл из жёлтых лампионов. Слева от него стоял вюртембергский лев — красный; справа — лаутенбургский леопард, горевший зелёным огнём. Воображаю, сколько труда стоило пиротехнику обрисовать электрическими лампочками контуры этих зверей; но всё-таки их можно было довольно хорошо различить.
Вокруг меня, в толпе, слышались то шумные, то сдержанные восклицания; все восторгались зрелищем. В глубине площади уже была воздвигнута трибуна для завтрашнего смотра. Ганноверская улица, лучшая в Лаутенбурге, была запружена народом. Публика двигалась по тротуарам в полном порядке. Вдруг в толпе показались в своих великолепных мундирах военные, выпущенные из казарм.
Красные доломаны лаутенбургских гусар смешивались с синими доломанами детмольдских драгун и тёмными мундирами пехотинцев. Студенты, прибывшие специально ради торжества из Ганновера, прогуливались в своих разноцветных фуражках, выставляя напоказ разукрашенные рубцами физиономии. Они держали себя вызывающе.
Вследствие близости рождественских праздников на выставках ярко освещённых магазинов появилась масса предметов самого неожиданного свойства, порою наивных до слёз. Гастрономические магазины были завалены копчёными гусями, не без изящества декорированными в цвета всех двадцати семи государств, составляющих немецкий союз. Гуси, окрашенные в синий цвет Рудольфштата, лежали рядом с красными вюртембергскими. В колбасных были выставлены целые пирамиды сосисок, которым постарались придать сходство с наиболее знаменитыми зданиями — рейхстагом, берлинским вокзалом, Кельнским собором. Но наибольший успех выпал на долю триумфальной арки, сделанной из свиного сала, украшенной барельефами из розового желатина и увенчанной карнизом из гусиных печёнок.
Молодые девушки, взявшись за руки, группами в три или четыре человека, прогуливались взад и вперёд, скромно опуская свои глазки под властными взглядами офицеров.
Я пообедал в ресторане «Лоэнгрин», самом большом и самом раззолоченном в Лаутенбурге. Помните вы карусели нашего детства? Ничто так не напоминает богатый немецкий трактир, как та часть карусели, где скрыта музыка и стоит старая со слезящимися глазами кляча, — часть, вся сверкающая медно-красной позолотой. Я думаю, только курильщики могут спокойно засиживаться в таком ресторане. Облака дыма, поднимающиеся к потолку, переносят их в какую-то пантагрюэлевскую Валгаллу.
Пробило восемь часов. Вдруг на улице раздалось оглушительное немецкое «гох». Все посетители ресторана бросились к дверям. Блистая своими саблями, по направлению к вокзалу продефилировал для торжественной встречи короля Вюртембергского и генерала Эйхгорна эскадрон драгун.
У вокзала собралась такая большая толпа, что я не мог найти себе места, и только на углу Роонской улицы мне удалось, на одно лишь мгновение, увидеть окружённый драгунами автомобиль, в котором великий герцог и король Вюртембергский сидели против моего ученика и генерала Эйхгорна.
Я буквально оглох от этого крика и мне пришлось бежать из кафе, в которое я заглянул: можно было задохнуться. Студенты, усевшись на столах, горланили, пели, декламировали, ораторствовали и опустошали при этом огромные оловянные кружки с пивом. На улице, при ослепительно ярком свете, ходили взад и вперёд девицы, одетые по моде девятисотого года, пьяные, и зазывали к себе, перемежая бесстыдные предложения с вечным всенемецким «гох».
По пути к замку, свернув на Королевскую площадь, я взглянул на секунду в ярко освещённые окна офицерского собрания и увидел там форменный шабаш: в зале было человек тридцать офицеров; в густых облаках дыма, на столе, залитом вином, среди цветов, лежали две голые женщины.
В восемь часов утра была церковная служба; в лютеранской церкви служил пастор Зильберман, в кафедральном соборе — епископ Креппель. Церкви были наполнены солдатами, по наряду. В десять часов начался смотр.
Лаутенбургским гусарам повезло: погода была хотя и холодная, но солнечная. С запада дул ветерок, и с площади видно было, как в замке осыпаются с деревьев уже почерневшие листья и медленно падают в Мельну.
Я говорил уже, что из окон моей комнаты не видно было площади, на которой должен был происходить смотр. Но, вставши на заре, я увидел, как 182 — й пехотный полк, две роты которого должны были поддерживать порядок, проходил по Королевской площади, чтобы занять своё место. При виде огромной толпы, стекавшейся на смотр, я не мог не порадоваться радостью людей, имеющих уже обеспеченное место.
В семь часов я был уже готов; тем не менее я решил прийти значительно позже, во всяком случае не раньше, чем трибуна будет уже наполовину занята. Я взял какую-то книгу, чтобы убить время, но почему-то я нервничал и чувство беспокойства всё нарастало во мне.
В девять часов в комнату стал врываться, всё усиливаясь, уличный шум. Я решил, что я могу уже позволить себе выйти и отправиться.
Вокруг площади, со всех сторон, толпилась масса народа; сдерживаемая кордоном пехоты с прикреплёнными к винтовкам штыками. От скопления публики вокруг площади, последняя казалась ещё более пустынной. Каким маленьким показался я самому себе в этой толпе.
Трибуна была уже на три четверти заполнена. Я с немалым трудом разыскал бы своё место, но, к счастью, я заметил Марсе. Вытянув руку, он махал мне своей шляпой.
— Я ваш сосед, — обратился ко мне любезный дипломат, — это прекрасно, у нас будет время поговорить.
Желая меня поразить, он с гордостью называл мне важных особ, которые нас окружали. Тут были: австро-венгерский министр, граф Бела, потонувший в невероятной груде мехов; из них высовывалась только его голова в каракулевой шапке с серебряным султаном; русский посланник Неклюдов, в форме, очень простой; епископ Креппель, с массивным золотым крестом на фиолетовом поясе; ректор Кильского университета Этлихер…
Вдруг я схватил его за руку.
Как раз перед нами, в первом ряду трибуны, появилась поразительно красивая молодая дама. Ей можно было дать лет двадцать — двадцать пять. Это была брюнетка с матовым цветом лица, с какой-то усталостью в движениях. На ней был синий английский костюм с широкими полами, отделанный скунсом. В опущенной руке она держала огромную муфту, плоскую, по тогдашней моде. Из-под скунсовой шапочки видны были густые чёрные волосы.
Она заметила Марсе и приветствовала его усталым жестом.
— Кто это? — прошептал я.
— Как! — ответил он восторженно, — вы не знаете неразлучную наперсницу и фрейлину великой герцогини Авроры, пользующуюся её полным доверием? Ведь это мадемуазель Мелузина фон Граффенфрид! Что же вы делали всё это время?
— Как она красива, — сказал я.
— Да, очень красива! Вы не первый это заметили. Но вы знаете, мой дорогой, — при этом он лукаво взглянул на меня — тут вы ничего не поделаете. Впрочем, как только прибудет великая герцогиня, вы её здесь больше и не увидите. А пока почему нам не…
И, заменив жестом то, чего он не высказал словами, он слегка прикоснулся к плечу нашей прекрасной соседки:
— Мадемуазель фон Граффенфрид, позвольте вам доложить, что не все в замке исполняют хорошо свои обязанности. Вот один из обитателей замка, который до сих пор не был вам представлен и который очень добивается этой чести. Мой соотечественник Рауль Виньерт, преподаватель его высочества наследного герцога.
Очаровательная девушка повернулась и обвела меня ангельским взглядом; не знаю почему я страшно сконфузился.
— Очень вам благодарна, дорогой граф, что вы познакомили меня с господином Виньертом, о котором я уже слышала. Я надеюсь встретиться с вами, господин Виньерт, не дожидаясь повторения столь торжественного случая. Впрочем, вы, кажется, очень заняты.
Не в первый раз мне пришлось констатировать, что глупые, но изящно воспитанные люди обнаруживают больше находчивости, чем люди, пользующиеся репутацией умных. Граф Марсе дал мне новое доказательство этой истины. Не дожидаясь моего ответа, он поспешил сказать:
— Дело в том, не в обиду будет вам сказано, что гораздо легче получить доступ в библиотеку замка, чем в ваши апартаменты.
Веки Мелузины чуть-чуть дрогнули.
— В ваших словах нет ничего обидного, — ответила она, улыбаясь, — напротив. Но господин Виньерт, в качестве настоящего учёного, скажет вам, что самые заманчивые библиотеки именно те, доступ в которые связан с наибольшими трудностями. Не правда ли, профессор, — обратилась она к Бекку, который непосредственно перед этим появился на трибуне и тотчас же стал с большим интересом наблюдать концентрацию войск на обоих концах площади.
Я изумился поразительному искусству, с которым она ухитрилась отвести в другое русло разговор, угрожавший стать фривольным.
— Вы совершенно правы, — поспешил ответить мой старый коллега с неподражаемой наивностью учёного. — Впрочем, господин Виньерт знает, что вся библиотека, включая и рукописи, к его услугам.
— Ш-ш! — произнесла мадемуазель Граффенфрид, повернувшись. — Вот король.
Перед нами, с другой стороны площади, во дворе замка, показалась группа кавалеристов.
Тотчас же раздалась короткая команда: «Смирно!» Кавалерия и пехота вытянулись в струнку, и с особым шумом, словно разрывая железную ткань, солдаты надели штыки на ружья. Трубы и рожки заиграли медленный марш, нечто вроде охотничьей мелодии, резкой и пронзительной, и эта музыка гармонировала с этим холодным декабрьским утром. Когда она умолкла, раздались оглушительные клики толпы, они звучали в воздухе хрипло, и глухо, и длительно, словно волна, которая движется и не разбивается.
Маленькая группа всадников подвигалась шагом по огромной площади, пока ещё пустынной. Во главе, верхом на вороном коне, ехал Вюртембергский король, в фельдмаршальском мундире. Справа от него — великий герцог Фридрих-Август, в очень скромном генеральском мундире. С левой стороны короля парадировал генерал фон Эйхгорн, блиставший всеми знаками отличия генерала главного штаба. Рядом с ним ехал молодой наследный герцог, очень красивый в своём длинном синем доломане лейтенанта детмольдских драгун.
За ними сверкали на солнце самые блестящие мундиры немецкой армии: гигантского роста белый кирасир; офицер гвардейской артиллерии, весь в чёрном с золотом с малиновыми обшлагами; зелёный улан, серые гусары.
— А великая герцогиня? — шепнул я Марсе.
— Как! И это спрашиваете вы, офицер запаса! Разве вы не знаете, где место полковника на смотру? Во главе своего полка. Смотрите теперь на полковника 182 — го полка, фон Мудре. С его полка начинается смотр. Вот он едет впереди своего штаба; когда окончится смотр его полка, он встанет в ряды.
Охотничьим галопом проскакал король со свитой между быстро расступившимися ротами полка. Белые знамёна с чёрными полосами склонялись перед королём. Затем новый приказ, и полк сомкнулся. Наступил черёд детмольдских драгун.
Худой, вытянувшийся в струнку, важный в своей синей форме с белым кожаным снаряжением, в чёрной каске с шишаком, увенчанным серебряным орлом, красивый, с тонкими чертами лица, полковник Беккер подъехал к королю, салютуя ему саблей, и представил ему свой великолепный полк, гордо восседавший на огромных крепких конях.
Эта неподвижно застывшая масса производила впечатление такой мощи, что я тревожно сжал руку Марсе.
— Гм, — пробормотал он тихо. — Ну, и будет же работа нашим кирасирам и спаги, если когда-нибудь дело дойдёт до этого.
Раздался новый приказ, повторённый начальниками отдельных единиц, ротмистрами, и земля задрожала под драгунами 11 — го детмольдского полка, который рысью подвинулся направо, чтобы, став за 182 — м пехотным, занять своё место для предстоящего церемониального марша.
Теперь наступила очередь Марсе сжать мне руку.
— Смотрите, смотрите!
На лице Мелузины фон Граффенфрид, сидевший впереди нас у балюстрады, появилась улыбка.
На площади появились два всадника, направлявшиеся к месту, где находился король.
Один из них был маленький Гаген. Слегка бледный, жеманный, он держался в восьми или десяти шагах сзади полковника лаутенбургских гусар.
По правде, мне в этот момент не удалось отчётливо разглядеть черты лица великой герцогини Авроры. Я видел пред собой только стройный силуэт её. Она ехала на маленькой лошади, покрытой великолепным вальтрапом. На ней была амазонка, красный доломан детмольдских гусар с жёлтыми бранденбургами и папаха с длинной золотой эгреткой.
Она также отсалютовала саблей королю. Король, подъехав к великой герцогине, поклонился ей и поцеловал ей руку. В этот момент толпа
разразилась кликами «Гох великой герцогине!», «Гох королю!», «Гох императору!».
Марсе слегка прикоснулся пальцем к меху, окутывавшему плечи Мелузины, и сказал:
— Как спокойно держится сегодня великая герцогиня на коне!
— Вы думаете? — И, не поворачивая головы, Мелузина пожала плечами. — Великая герцогиня велела влить сегодня в овёс Тарасу Бульбе две бутылки экстра-дрей.
— Тарасу Бульбе? — спросил я. — Это её лошадь?
— Да. Противный маленький дикарь, как видите. Лохматый, как коврик перед кроватью. Она привезла его из волжских болот. Это противное, злое и упрямое животное. Одна только герцогиня и умеет ездить на нём. Он кусается, и конюхи в вечном страхе за свои физиономии. Но она делает с ним всё, что ей угодно… Теперь замолчите и смотрите.
Гусары тронулись крупной рысью, чтобы выстроиться за драгунами, которые в свою очередь выстроились за пехотою.
Король Вюртембергский и генерал фон Эйхгорн расположились у эспланады, спиной к нам и лицом к великому герцогу и к герцогу Иоахиму, которые, с другого конца эспланады, представляли им дефилировавшие войска.
Великая герцогиня ехала между полками. Маленький Гаген, более чем когда бы то ни было напыщенный, казалось, был на седьмом небе. Слепая злоба поднялась в моей душе против этого лейтенанта.
Дефилирование войск кончилось. В то время как великий герцог Фридрих-Август и герцог Иоахим приближались к эспланаде, чтобы присоединиться к королю Вюртембергскому и генералу Эйхгорну, оба кавалерийских полка сгруппировались на том месте, от которого они только что отъехали, и стали приготовляться к заключительной атаке.
— Внимание, мой друг, вы сейчас увидите казацкую лаву, — сказал мне Марсе.
Справа синий полк, слева красный, несколько поменьше численностью. Впереди в двадцати шагах два всадника, почти рядом.
Толстый гнедой конь полковника Беккера беспокойно храпит. Тарас Бульба стоит, как вкопанный.
Прислонившись к балюстраде, Мелузина фон Граффенфрид смотрит пристальным и рассеянным в то же время взором.
Две сабли взвились, и в мгновение, со страшным шумом, лавина понеслась.
Теперь только одна лошадь летит впереди всей конницы: это — Тарас Бульба. Сколько всё это продолжалось? Может быть, десять секунд. И вдруг три тысячи лошадей с тремя тысячами всадников, как вкопанные, останавливаются перед трибуной. Ржание, треск подков. Земля готова была разверзнуться.
А слева, шагах в пяти-шести от трибуны, я увидел великую герцогиню, с поднятой над головой саблей, в тот момент, когда её конь застыл, взвившись на дыбы. Эта бешеная скачка не вызвала ни малейшей краски на её бледном лице. Огромная чёрная папаха совершенно закрывала её волосы. Зелёные глаза её сверкали. В этот момент эта женщина-воин была прекрасна, как Мюрат.
Она улыбалась нам.
Мелузина фон Граффенфрид, Марсе и я впервые издали бурный крик восторга. Подхваченный толпой, он эхом разнёсся по всей площади и превратился в шумную овацию.
В этот момент Тарас Бульба опустился на передние ноги. Трепля по шее своего коня одной рукой, Аврора фон Лаутенбург протянула другую королю Альберту; он снова поцеловал её.
Когда я возвратился к себе, Людвиг вручил мне пригласительную карточку на обед, в восемь часов, в зеркальной галерее; обед давался в честь короля Вюртембергского и генерала Эйхгорна. Третий стол, 23 — е место.
Всю остальную часть дня я провёл у себя, наедине со смутным каким-то сокровищем; я раскрывал книгу за книгой, но не мог читать.
В семь часов я вышел в парк. За два часа до этого я слышал звук рогов; сначала они доносились издалека и постепенно замерли в овраге, где течёт Мельна. Там закончилась охота, которую вели король и великая герцогиня.
Дворец сверкал огнями. Сквозь широкие окна галереи я видел длинные столы, уставленные хрусталем и декорированные цветами.
К обеду была приглашена большая часть высших чиновников и всё лаутенбургское офицерство. Двенадцать столов было накрыто на триста кувертов.
Я занимал место между батальонным командиром драгунского полка и женой одного советника двора. Они мне не сказали ни слова во всё время обеда.
В антрактах в зале совета играла музыка 182 — го полка.
Я не видел ни великой герцогини, ни короля, ни герцогов, так как первый стол был скрыт от меня цветами.
Под гул чоканья и тостов я тихонько встал из-за стола, и, пройдя через зал совета, вышел в парадный зал; здесь я решил дожидаться выхода высочайших особ.
Погружённый в размышления, я услышал вдруг певучий голос:
— Ну с, господин Виньерт, что означает это уединение?
Это была Мелузина фон Граффенфрид. Мы были одни в огромном зале.
— А вы сами, мадемуазель?
— Я — другое дело. Великая герцогиня просила меня заглянуть сюда до выхода. Лакеи так бестолковы. Она любит, чтобы цветы были хорошо расставлены.
И действительно, зал был великолепно убран цветами. Тут были лиловые ирисы и жёлтые розы, но какие огромные, какие прелестные! Ничего подобного нельзя себе и представить.
— Это её родные цветы, волжские ирисы и дагестанские розы. Каждый месяц ей привозят их чуть ли не целый вагон. Она говорит, что здешние цветы кажутся ей жалкими. Не правда ли, они очень красивы?
— Она и сама очень красива, — сказал я, не отдавая себе отчёта в том, что говорю.
Моя собеседница посмотрела на меня и улыбнулась.
Мелузина фон Граффенфрид была одета в атласное платье цвета слоновой кости с тюлевой туникой, вышитой переливчатым жемчугом. Никаких драгоценностей, и только её розовое жемчужное ожерелье обхватывало матовую шею.
С лица её не сходила улыбка; она дышала вся какой-то благоуханной и беззаботной истомой.
— Не правда ли, — пробормотала она и прибавила с внезапной иронией: — Так вы пришли сюда, чтобы мечтать о ней среди её цветов. Я это ей сейчас скажу.
— Мадемуазель, прошу вас…
— Нет, нет! Вас надо познакомить; я хочу, чтобы вы нас навещали. Ведь мы так скучаем: всё Гаген и Гаген. Нельзя сказать, чтобы он всегда был забавен.
— Он влюблён в неё, правда? — сказал я, подойдя ближе к ней.
Мелузина засмеялась.
— Он слишком скучен для этого.
— А она?
— Господин Виньерт, — сказала Мелузина, ещё сильнее засмеявшись, — вы переходите из одной крайности в другую; от крайнего смирения к крайней нескромности. Во всяком случае, позвольте вам заметить, что это не очень галантно с вашей стороны — задавать мне такие вопросы.
Она слегка наклонилась; её чёрные волосы коснулись моей щеки, и так близки были её шея и грудь.
— Сознайтесь, — проговорила она совсем тихо, — сегодня утром, прежде чем вы увидели её, вы находили меня гораздо красивее?
Она взяла меня под руку и тоном почти повелительным сказала:
— Смотрите, вот она, любуйтесь!
В парадный зал, залившийся сразу ярким светом, под звяканье шпор и бряцанье сабель, входил кортеж.
Торжественные приёмы при немецких дворах отличаются поразительным блеском, который им придают блестящие военные мундиры. Моим ослеплённым глазам представилась целая радуга из доломанов, синих, красных, чёрных, отделанных мехом и отливающих золотом.
Стоявшие шеренгой лаутенбургские гусары отсалютовали саблями.
Впереди всех, под руку с королём Вюртембергским, вошла великая герцогиня Аврора, необычайно декольтированная, с совершенно обнажённым левым плечом, одетая в зелёное бархатное платье. За нею волочился длинный шлейф, вышитый тончайшими серебряными арабесками. Правую руку её украшал платиновый браслет с большим солитером, на левой — было кольцо с изумрудом, обрамлённым брильянтами.
Утром, во время смотра, мне не удалось заметить её волосы, скрытые папахой; теперь предо мной предстала светло-рыжая блондинка с целой копной волос, узлом закрученных вокруг головы. Её волосы образовали как бы золотую шапочку, на которой, в виде полукруга, красовалась странная диадема из одних изумрудов.
На одно мгновение её глаза встретились с моими, и мне показалось, что то, что она в них прочла, не могло ей не понравиться. В окружавшей её свите, отупевшей от этикета, я был, вероятно, единственным человеком, который осмелился, сам того не подозревая, так глядеть на эту женщину.
Помните ли вы, мой дорогой друг, «Фею с гриффонами» Густава Моро? Помните ли вы это двусмысленное существо, на фоне зеленовато-синего пейзажа, менее глубокого в своей зелёной синеве, чем зрачки Авроры Лаутенбург. Теперь вы имеете приблизительное представление о великой герцогине: та же неопределённость, та же жуткая тайна форм. В сравнении с этой Титанией Мелузина, столь утончённая и столь волнующая сердце, казалась почти грубой.
Но картина Моро никогда не даст вам понятия об этом сочетании детскости с решительностью, отличавшем все движения герцогини. Эта своеобразная северная креолка, нежно томная и бурная, сочетала в себе сухой блеск и нежную мягкость снега, сверкающего на солнце. Под покровом её туники угадывались немножко худые и высокие бёдра. Свободно облегавшее её тело платье не скрадывало талии, необыкновенно тонкой, под бархатной оболочкой рельефно выступала гибкость и эластичность тела, которую ощущаешь при непосредственном к нему прикосновении.
Среди всех этих физиономий, уже успевших покрыться красными пятнами от выпитого вина, эта полуобнажённая красавица казалась яркой белой статуей.
Правда, у этой белой статуи губы были подкрашены, глаза подведены и ногти покрыты розовой эмалью. Но чувствовалось, что её лишь забавляют все эти прикрасы, при помощи которых другие стараются создать себе красоту. Всё это было сделано так, как будто ей хотелось подчеркнуть, что она прекрасна и без этой косметики.
Улыбка… улыбка, которая играла на её бледном лице, была сплошной условностью. Рабыня этикета, она придавала своему лицу то выражение, которое требовалось обстановкой. Кто её наблюдал, тот мог это угадать тем более, что временами то же выражение появлялось и сейчас же исчезало, нарушив на минуту эту умышленную и торжественную мимику её лица. В этом выражении было столько же чувств, сколько цветов в спектре. Если мне удастся когда-нибудь разгадать эту красавицу, я, быть может, сумею понять всю эту гамму чувств. Пока я ясно различал в этой молнии две ясно выраженные тональности: иронию и скуку.
Неужели эта усталая томная женщина та самая фантастическая амазонка, которую я видел сегодня утром? Так она мне больше нравится. Мне не нравится только её декольте, столь обнажающее её плечо. Мне хотелось бы закрыть его этими тяжёлыми соболями. Её окружает чуть ли не дюжина кавалеров. О, я понимаю, это их повелительница, они едят её глазами, словно по команде «смирно». Но охотно они отделались бы от связывающих их оков этикета, если бы они были уверены, что на них не смотрят?
А кто этот маленький красный гусар, который, спрятавшись за цветами, бросает на это прелестное плечо плотоядные взгляды?.. Поди прочь, мужлан. Иди к своим тяжеловесным и покорным немкам с пальцами из сосисок и талией как у диаболо. Эта женщина не твоей породы. Мужик, она не для тебя.
Я тебя ненавижу и в то же время я тебе завидую. Я завидую твоему пунцовому доломану, твоим жёлтым отворотам, всему этому золотому шитью, твоему чину лейтенанта 7 — го гусарского полка, который сам по себе, за отсутствием других достоинств, создаёт иерархическую связь между тобою и этой красавицей-полковником. Если бы я был на твоём месте, я тоже мог бы подойти к ней и, как все они, расточать ей комплименты за сегодняшнюю утреннюю атаку.
Почти спрятав лицо в букет ирисов, вдыхая их аромат, она вяло благодарит поздравляющих её офицеров.
— Нет, что вы! Вы преувеличиваете. Вся заслуга принадлежит Тарасу Бульбе. Я восхищаюсь вами, я удивляюсь, как это вам удалось поспевать за ним на ваших лошадях. В сравнении с ним здешние лошади какие-то ломовики.
Не знаю, но мне казалось, что она могла бы, если бы хотела, говорить по-немецки с меньшим иностранным акцентом.
В павильоне из зелени музыка 182 — го полка заиграла вальс. Начался бал.
— Господа, мы отнимаем место у танцующих. Приглашайте дам, иначе они будут на меня в претензии. Граф, проводите меня на моё место, — обратилась она к генералу Эйхгорну.
И вот я увидел, как танцуют эти немцы, сосредоточенно, важно, чопорно.
— Господин Виньерт, почему вы не танцуете?
— Потому что я танцую плохо, мадемуазель, а затем ещё потому, что не хочу казаться жалким и смешным в моём фраке среди всех этих мундиров.
— Это не основание, — возразила Мелузина. — Постойте, я вижу мадам Вендель; ей даже понравится, что вы во фраке. Пригласите её.
— Уж если танцевать, я предпочёл бы с вами.
— У меня нет времени, я занята, я должна следить, чтобы танцевали бедные девицы, оставшиеся без кавалеров; чтоб застенчивые кавалеры не забывали их приглашать. Возьмите меня под руку, и пойдём вместе.
Идя с нею, я почувствовал, что ко мне снова возвращается моя уверенность в себе.
— Мадемуазель фон Граффенфрид! Господин Виньерт! — услышал я голос Марсе.
Этот кавалер, образец высшей элегантности, сидел около великой герцогини. Боже! Он делает мне знак, чтобы я подошёл.
— Вас нигде не найдёшь! — сказал он, смеясь. — Подойдите же! — И он представил меня великой герцогине.
— Это отчасти ради вас, ваше высочество, я привёз сюда господина Виньерта. Но вы, кажется, не очень-то спешите пользоваться подарками, которые вам делают.
— Я? Напротив, я очень хочу познакомиться с господином Виньертом, — ответила она небрежным тоном. — Он, кажется, очаровательный человек. Извините меня, господин Виньерт, что я говорю «кажется», но до сих пор я ещё не могла сама в этом убедиться. Мне сказали, что вы много работаете.
Ту же фразу раньше слышал я от Мелузины. Что это, насмешка? Вечно, что ли, я буду тащить за собой тебя, мантия педанта? Неужели я вечно буду человеком, «который много работает», я, ночи напролёт мечтающий о вещах, беспредельного сладострастия которых никто никогда не поймёт.
Я готов ей ответить; я чувствую, что вот-вот я скажу ей, умеющей быть такой презрительной, нечто очень решительное. Но она поднимается с места.
— Извините меня! Мне надо протанцевать хоть один тур.
— Господин фон Гаген!
Вот он — маленький красный гусар. Он подходит, смиренный, сияющий восторгом. О, я знаю, что в один прекрасный день я дам ему пощёчину.
В зале все расступились. Танцоры расходятся по сторонам: вальс великой герцогини Авроры подобен мальстрему. Кажется, все боятся быть вовлечёнными в водоворот.
Они танцуют. Сначала это медленный немецкий вальс в три темпа. Потом ритм ускоряется. Вот они танцуют в два темпа. Это уже не спокойный бостон, это вихрь; они кружатся гармонично, но в то же время в каком-то безумном упоении. Кругом слышен шёпот восхищения. Великий герцог Фридрих-Август глядит на этот красивый вихрь с улыбкой, и эта улыбка дышит чуть ли не гордостью.
Роли переменились: теперь не маленький Гаген, красный гусар, как ни ловок и ни гибок он, ведёт даму, — большая, зелёная и белая женщина увлекает в вихре вальса своего кавалера и кружит его, кружит и кружит, по-прежнему с какой-то небрежностью в движениях.
А Гаген весь отдаётся этому кружению. Несказанная радость покрывает краской щёки этого светловолосого юноши. Он отдаётся во власть своей повелительницы, и в этом кружении чередуется красное, зелёное, красное, зелёное, пока всё это не сливается в какой-то новый дополнительный цвет.
Во Франции им аплодировали бы.
Она садится на своё место, по-прежнему лилейная и томная.
В тот момент, когда она делает движение, чтобы поправить платье, спустившееся с её левого плеча, прелестный букетик из лиловых ирисов, который она не выпускала из рук, падает на пол. Я бросаюсь вперёд и поднимаю его.
— Благодарю, — небрежно процедила она. И снова роняет цветы, — сознательно. — Боже мой, они совсем уже завяли.
Я вернулся к себе. Я раскрыл окно и, облокотившись на него, смотрел на холодные звёзды; я, кажется, плакал.
Я понял. Она настроена против меня враждебно, безнадежно враждебно. За что? Что я сделал? Не знаю.
Для меня остаётся одно утешение несчастных — работать и работать! До моего слуха всё ещё смутно доходят звуки музыки. На королевской площади шныряют лимузины со своими яркими прожекторами. В них сидят счастливцы, которые её видели после меня.
Работать!
ГЛАВА ЧЕТВёРТАЯ
Ну, Рауль Виньерт! На что ты теперь рассчитываешь? Как ты ошибаешься! Как! Ещё несколько недель тому назад ты по утрам задумывался над вопросом, будет ли у тебя что-нибудь на ужин! Ты не представлял себе большего счастья, чем уверенность, что завтра у тебя будет обед. Теперь ты спокоен и за завтрашний день, и за тот, что придёт через месяц, через год и больше. Тебе нужно только одно — трудиться. Труд — вот единственная вещь на свете, о которой никогда не жалеют. И ты всё-таки несчастен. Какое несчастен! Ты страдаешь. Ты страдаешь теперь больше, чем страдал тогда, когда, прибывая на Орсейский вокзал, ты ощупывал свой карман, не зная, хватит ли у тебя мелочи для уплаты носильщику за багаж. Ты страдаешь. Но что причиняет тебе страдание? Твоё проклятое воображение! Не чувствуешь ли ты с этого момента, что тщётно судьба будет бросать в твои объятия всех женщин Парижа, все сокровища Востока! Небесная мечта, которую ты носишь в себе, всё равно останется несбыточной. Она, эта женщина, великая герцогиня! Несчастный безумец! А ты ещё считал себя любителем классики! Ты со смехом говорил о романтическом театре, а теперь, с того момента, как ты вступил в игру сам, ты готов признать естественной авантюру в духе Рюи Блаза, лакея монсиньора маркиза де Фенла. Не ты ли создавал себе кумиров из Ле-Плэ и Огюста Конта? Знаешь, ты меня забавляешь! Царица твоих грёз не столько для тебя, сколько для маленького красного гусара, который привык к праздности, чинам и гербам.
И я снова принялся за работу; в библиотечной пыли мало-помалу стали утихать моя зависть, моя ненависть, моя скорбь.
Никогда нога моя не переступит порога левого крыла дворца! Мне доставляет удовольствие думать, что она там скучает со своей Мелузиной. А я, я не создан для этой жизни.
Из моего пребывания в Лаутенбурге я извлеку всё, что мне интересно будет взять, с достоинством.
Через два года у меня будет пять или шесть тысяч франков сбережений, у меня накопится материал для трёх-четырёх книг; я вернусь в Париж, и с моей настойчивостью и с моими воспоминаниями о том, что ускользнуло от меня, я завоюю Париж. Париж лучше этой надменной дикарки.
Профессор Тьерри дал мне замечательный план для работы; я всё больше отдавал себе в этом отчёт, по мере того, как я всё больше и больше рылся в библиотеке. История немецких князьков поразительно имитирует историю Людовика XIV.
Копировать французского короля — такова была единственная забота этих немецких принцев конца XVII века. Привлекать к себе художников, работавших на французского короля, или их учеников — было их излюбленной манерой.
Но в то время как всякий французский вельможа считал делом чести иметь какого-нибудь художника в своём исключительном обладании, чтобы он работал только для него одного, немцы составляли нечто вроде товариществ на паях, чтобы, на экономных началах, выписать к себе такого-то художника, такого-то скульптора, такого-то садовника. Не забавно ли это! Они напоминают скромных парижских хозяек, которые вскладчину покупают на рынке мешок овощей или целого барашка.
В архивах мне довелось найти большую часть смет, составленных французскими художниками и архитекторами, работавшими не только для герцогов лаутенбургских и детмольдских, но также и для герцогов люнебургских и курфюрстов ганноверских. Так, большинство мраморных групп, украшающих сады, принадлежат резцу скульптора Эрну. Гурвиль, ученик Ла-Кинтини, сделал рисунки для этих статуй. Лезинь, ученик Лебрена, получил поручение написать все панно каталонцу Жиру, выполнял всякого рода железные украшения и замочные работы. Зейер, лакировщик, учитель принцессы Софии-Доротеи, украсил великолепным орнаментом двери Герренгаузена в Ганновере и дворца в Лаутенбурге.
Их счета встречали суровые протесты со стороны герцогских управляющих; да и сами герцоги не стеснялись собственноручно урезывать сметы художников, оставляя таким образом на этих сметах свои автографы. С большим любопытством просмотрел я пространную докладную записку Жиру, которую этот художник представил ганноверскому суду, в 1690 году, в защиту своего счёта за устройство секретных замков в Герренгаузене. Великому герцогу Эрнесту-Августу, будущему курфюрсту, было отказано в требуемой им скидке со счёта. Были судьи в Ганновере, по крайней мере в ту эпоху.
В принципе, я решил ограничиться в своих исследованиях французским влиянием на немецкие дворы XVII века. В моем распоряжении была целая масса документов, вполне достаточных, чтобы удовлетворить профессора Тьерри и чтобы дать мне самому материал для книги.
Но мне пришлось расширить рамки моего первоначального замысла, и этим я обязан Зейеру, художнику-лакировщику, учителю Софии-Доротеи. Я нашел, вместе с его счётами, протокол его свидетельского показания перед следственной комиссией, которая судила злосчастную ганноверскую принцессу. Он несёт таким образом ответственность за события, о которых я расскажу ниже.
Виньерт остановился, подумал немного и задал мне следующий неожиданный вопрос:
— Вы знаете драматическую повесть графа Филиппа-Кристофа фон Кенигсмарка?
Вместо ответа я продекламировал ему следующие две строфы:
Граф Кенигсмарк влюблён и во дворце бессменно.
Он королевы «друг», так слухи говорят,
В покое царственном, где курится вербена,
Когда встаёт заря, когда горит закат.
Кто может перечесть причуды все и шутки,
Которыми всегда вас развлекала та,
В чьих косах золотых мелькали незабудки,
Как небо в прорезях осеннего листа.
— Автор этих стихов, — сказал Виньерт, — очевидно, читал книгу Блаза де Бюри. Это единственная порядочная французская книга об этой драме. Вы её помните?
— Признаюсь, — сказал я, — что многие детали её исчезли у меня из памяти.
— Хорошо, в таком случае я должен напомнить вам эту историю. Она не объяснит вам моего приключения; напротив, оно покажется вам ещё более странным.
Вы, конечно, помните, в каком положении находилось государство Ганноверское в 1680 году. Во главе его стоял Эрнест-Август, человек весьма распущенный, но в то же время большой политик, бывший последовательно епископом Оснабрюкским, герцогом и затем курфюрстом Ганноверским.
Брат его, Георг-Вильгельм, был герцогом Брауншвейг-Люнебургским.
У Эрнеста-Августа был сын Георг; у Георга-Вильгельма дочь — София-Доротея.
Честолюбие Эрнеста-Августа было направлено на две цели.
Во-первых, на сосредоточение в руках своей семьи владений своего брата. Для этого было одно только средство — женить Георга на Софии-Доротее. Брак этот произошёл в 1682 году. Герцогине Брауншвейг-Люнебургской было тогда всего 16 лет.
Другая цель была более высокая. Он стремился к английской короне. Счастье работало на него: смерть скосила, одного за другим, двенадцать детей королевы Анны. Эрнесту-Августу не суждено было увидеть торжество своей политики, — он умер в 1698 году; но плоды её пожал его сын Георг, который в 1714 году, по смерти королевы Анны, вступил на престол Великобритании под именем Георга I. Он вступил на этот трон один, так как, за восемнадцать лет до того, он, под влиянием злостных интриг, развёлся со своей женой, и в то время, когда супруг её надел на себя английскую корону, злосчастная София-Доротея умирала в Альдском замке, более похожем на тюрьму, чем на замок.
Извините меня, что я так сухо излагаю эти факты: самое главное изложить их ясно.
История развода Софии-Доротеи — это история убийства графа Филиппа-Кристофа фон Кенигсмарка.
Принадлежавший к одной из самых знатных шведских фамилий, друг принца-курфюрста Саксонского, столь же прекрасный, как и София-Доротея (он был брюнет, она — блондинка), граф Филипп познакомился с герцогиней в Целле, когда оба были ещё детьми; они по-детски обручились, жизнь разлучила их.
Филипп отправился бродить по свету; он служил при дворе Якова II, при дворе Людовика XIV, был в Дрездене и в Венеции; и повсюду этот красавец вёл полную приключений жизнь шведского кондотьера.
Разбудил ли его старую любовь брак Софии-Доротеи, задел ли он его самолюбие — неизвестно. Известно только, что в одно прекрасное утро Ганновер увидел графа Филиппа фон Кенигсмарка в своих стенах.
Двор курфюрста был ареною всякого рода оргий; это была навозная куча, на которой медленно увядала прекрасная лилия, София-Доротея.
Обманутая своим мужем, которого она всегда презирала, принуждаемая быть приветливой с ужасной графиней фон Платен, отвратительной фавориткой Эрнеста-Августа, она устроилась, как умела, в своем уединении, занятая исключительно воспитанием своих двоих детей: сына, который должен был сделаться королём Англии, и дочери, которой предстояло стать королевой Пруссии.
Но в Ганновер явился Кенигсмарк, и началась драма.
Граф Филипп явился, чтобы отомстить и снова завоевать себе сердце Софии-Доротеи. Но, прежде чем он её увидел, в него влюбилась графиня Платен. Он считает политичным не раздражать всемогущую фаворитку, но не раздражать эту женщину значило зайти с ней слишком далеко. Это была Мессалина и леди Макбет вместе. Граф Филипп заходит так далеко, как только можно; если она окажется скомпрометированной, она будет в его власти. А пока что он в её руках.
И вот начинается прелестная идиллия Филиппа Кенигсмарка и Софии-Доротеи. Мрачный дворец Герренгаузен является свидетелем их эфемерного счастья. София-Доротея сначала была уверена, что прекрасный граф явился в Ганновер только для того, чтобы увидеть несчастной и брошенной ту, которую отцовская воля заставила выйти замуж за другого. Связь, почти открытая, Филиппа с графиней фон Платен только увеличивает её страдания. Но однажды утром, когда она проходила со своей придворной дамой по парку, направляясь к боскету, в котором она любила сидеть, она заметила графа, выскочившего при её приближении из беседки. На скамье остался листок бумаги со следующим стихотворением в духе Бенсерада:
Когда-то я был пастушок разбитной,
И ушки держал на макушке.
От пастушки я бегал к пастушке,
И без счёту измены за мной!
Но Сильвией милой, цветком драгоценным
Был вдруг я пленён навсегда,
И сам изменился тогда —
Изменил своей страсти к изменам.2
Была ли София-Доротея любовницей Кенигсмарка? Даже после того, как я прочитал их корреспонденцию в архивах де Ла Гарди, я не перестаю в этом сомневаться. Но, конечно, при дворе, столь испорченном, как ганноверский, в этом не сомневались. Там хорошо знали, что жена наследного герцога каждую ночь принимает у себя красивого шведского искателя приключений.
Мстительная графиня фон Платен узнала последняя, что она сделалась посмешищем всего замка. И в этот день была решена участь графа и герцогини.
В субботу вечером, 1 июля 1694 года, Кенигсмарк, возвратившись к себе, нашёл у себя на столе записку, на которой торопливым почерком было написано карандашом: «Сегодня вечером, после десяти часов, принцесса София-Доротея будет ждать графа Кенигсмарка».
Эта записка, — этот подлог, имитация почерка Софии-Доротеи, — была делом рук графини фон Платен.
Ничего не подозревая, беззаботный и мужественный, как Бюсси д'Амбуаз, Кенигсмарк отправляется к принцессе. В два часа утра он от неё уходит.
Утром София-Доротея увидела со своего балкона двух мужчин, которые в большом смятении бродили по парку. Это были слуги графа Филиппа, разыскивающие своего господина. Но Кенигсмарк исчез навсегда.
Вот трагедия, мой друг. А вот её развязка: развод Софии-Доротеи. Эта молодая двадцативосьмилетняя женщина окружена врагами. Она хочет оставить своего мужа, он внушает ей только ужас, — но наталкивается на проклятие отца. Старый герцог Георг-Вильгельм навязал своей дочери брак, продиктованный интересами государства. Нельзя допустить, чтобы из-за какой-то там неудачной любовной интрижки спутались мудрые расчёты, пролагающие путь, может быть, к английской короне. Но несчастная не желает ничего слышать. С другой стороны, её побаиваются: у шведского графа были связи. В конце концов, после процесса, самого для неё унизительного, она получает развод; у неё отбирают детей. Жена английского короля, ставшая снова простой герцогиней, умерла в 1726 г. пленницей в своём альдском замке. И лишь тогда отцовское проклятие было снято. Склеп замка, в котором родилась принцесса, раскрылся, чтобы принять её тело. Оно покоится в Целльской башне, в самом тёмном углу усыпальницы. В этом скромном гробу, без всякой надписи, покоятся останки Софии-Доротеи, жены курфюрста Георга-Людовика Ганноверского, короля Английского, царствовавшего под именем Георга I.
Я передал вам по возможности кратко историю Филиппа Кенигсмарка и Софии-Доротеи. Нечего вам объяснять, что многое в этой драме остаётся до сих пор тёмным. Меньше всего известны подробности убийства графа. Все свидетельские показания сходятся на том, что граф погиб в западне, которую ему устроила графиня фон Платен. Десять наёмных убийц закололи его шпагами, а злодейка-графиня нанесла ему последний удар. Но куда девалось тело? Здесь-то и начинается таинственность. Мнения на этот счёт расходятся. Одни говорят, что тело было зарыто в яме, выкопанной в парке. По другой версии, которую я имею основание считать вероятной, тело графа, обложенное известью, было опущено под одну из каменных плит в так называемой «Рыцарской зале» замка. А может быть, это произошло так, как утверждает автор «Таинственной истории», т. е. что тело графа было брошено в сточную канаву, которая при посредстве трубы сообщается с Лейной, протекающей у основания замка. Но может быть это был тот труп, который лет через двадцать был обнаружен под полом уборной в Герренгаузене, как утверждает Горас Уэлпол? Я ставлю эти вопросы только для того, чтобы объяснить вам, с каким лихорадочным любопытством я старался проникнуть в эту тайну, хотя причину такого любопытства я и сам не мог бы объяснить. Вы, конечно, поймёте, что я взялся за раскрытие этой загадочной истории с большею страстностью, чем проявил бы всякий другой исследователь; примите во внимание атмосферу, в которой я тогда находился, — схожую с обстановкой, послужившей ареной для развития той драмы, и не забудьте, какие неоценимые документы предоставляла в моё распоряжение герцогская библиотека. Самым ценным источником для истории того времени является переписка Кенигсмарка и Софии-Доротеи, которая в настоящее время находится в архивах библиотеки де Ла Гарди, в Ле «Histoire secrete de la duchesse de Hanovre», брошюра, опубликованная в Лондоне в 1732 г., без имени автора, и приписываемая барону Билефельду, дипломатическому представителю Пруссии в Ганновере. Это библиографическое указание, равно как и следующие, заимствованы мною из статей Блаза де Бюри, появившихся в «Revue des deux Mondes»и собранных в 1855 г. в одном томе, озаглавленном: «Episode de L'Histoire du Hanovre — Les Koenigsmark», Бероде, в Швеции. Эта переписка была открыта профессором Пальмбладом, опубликовавшим некоторые места из неё в Упсале в 1851 г. На Пальмблада указал мне, перед моим отъездом, профессор Тьерри; он надеялся, что мне, быть может, удастся напасть на часть этой переписки, которая долгое время странствовала по Германии, прежде чем успокоиться в Лебероде. По этой части я не нашёл ничего, но за эту неудачу я был вознаграждён открытием, ценным в другом отношении.
Дочь Софии-Доротеи вышла замуж за наследного принца прусского, будущего «короля-капрала» Фридриха I. «Как только он вступил на престол, — говорит Блаз де Бюри, — первым актом этого государя, оказавшегося супругом суровым и деспотичным, было запретить своей жене всякое общение с заключённой в Альде узницей. И только после того, как София-Доротея получила в наследство от своей матери доход в двадцать восемь тысяч талеров, сумму довольно кругленькую для того времени, скупой властелин стал проявлять к жене дружелюбное отношение, подсказанное, впрочем, корыстными мотивами. Права его жены на наследство после своей матери длительно устанавливались и обсуждались на консультациях с знаменитым юристом Томазиусом»3.
Эта скромная женщина, сделавшаяся королевой прусской, тайно побуждаемая своим духовником, часто упрекала себя в недостатке смелости для открытого выступления в защиту своей заточенной матери, в невинности которой она была убеждена. Она воспользовалась переменою к лучшему в чувствах своего грозного супруга и принялась за собирание документов, необходимых для возбуждения дела о реабилитации своей матери. К несчастью, в 1726 г. София-Доротея скончалась. Тем не менее её царственная дочь с прежним усердием продолжала свою благочестивую задачу. Благодаря её заботам и просвещённому содействию того же самого юриста Томазиуса, составилось огромное дело, заключающее в себе около тысячи двухсот документов. Этот материал с точностью установил невинность Софии-Доротеи и коварство графини фон Платен.
Этот памятник благоговейной любви не дал, однако, никаких результатов. Анонимная заметка, сделанная на заглавной странице этого досье, указывает, что, по представлению Георга II, короля английского, переданному его зятю Фридриху I, королю прусскому, через посредство великобританского посланника, делу о восстановлении доброго имени Софии-Доротеи не было дано ходу. Король английский обратил внимание своей сестры, не без основания, что всё, служащее к реабилитации принцессы, их матери, послужит к вящему осуждению их отца, короля.
Слабовольной королеве прусской ничего не оставалось, как склониться перед интересами государства. Это досье, ставшее теперь ненужным, в конце концов, после ряда приключений, упоминаемых в этой заметке, попало в 1783 г. в руки великой герцогини Шарлотты-Августы Лаутенбургской, племянницы королевы.
Это именно то досье, которое в конце января 1914 г. я имел счастье открыть среди рукописей, ещё не занесённых в каталог герцогской библиотеки.
Начиная с подлинного протокола допроса девицы Кнезебек, доверенной фрейлины Софии-Доротеи, и кончая подлинной записью исповеди графини фон Платен, в этом досье было достаточно материала для полной переработки истории таинственной драмы в Герренгаузене.
С беззастенчивостью, которую позволяют себе учёные в отношении документов, ещё не зарегистрированных, я перенёс в свою комнату шесть папок, in folio, в которых таинственная история развертывается перед нами во всех своих деталях.
Сколько любви и рыцарства, сколько преступлений и любовных историй; какая роскошь, какое безумие жизни и смерти находят себе отражение в этих пожелтевших листах, в этих многоязычных протоколах! Ночью, когда в замке всё засыпало, я придвигал мой рабочий стол к камину, в котором так уютно тлели дрова, и работал с каким-то лихорадочным усердием. Я соприкасался с историей, с живой историей, не с той, которая через вторые или третьи руки сообщалась мне, в определённых дозах, согласно определённой программе, Сорбоннской библиотекой. По правде сказать, к сухой эрудиции в моём мозгу примешивался странный аромат романтизма. Перед глазами моими плясал фантастический и жестокий ганноверский двор: Эрнест-Август — Силен-политик, Георг-Людвиг — ограниченный и беспутный, графиня фон Платен — страшная Мессалина, которая, несмотря на все свои пороки, должно быть, была прекрасна и обольстительна; красавец-брюнет Кенигсмарк — искатель приключений, в своём затканном золотом оранжевом камзоле, выпачканном кровью. Но чаще всего возникала предо мной София-Доротея, светловолосая, пылкая и целомудренная, одетая в серебряную парчу, которую она носила в день своей свадьбы.
В серебряную парчу? Это история, книжное описание. Но нет! Куда прекраснее и куда жизненнее я представлял себе её в другом наряде, в платье, которое я видел, в зелёном бархате.
Это было в конце зимы. Уже веяло весною. В окно, открытое лишь наполовину, для усиления тяги в камине, входил свежий воздух, в струях которого уже чувствовались испарения земли. Я чувствовал, как на оголённых ветвях деревьев, черневших во мраке, уже готовы сквозь размякшую кору показаться почки.
И вот, много раз подстрекаемый воспоминанием об убитом красавце-кондотьере и покойной прекрасной королеве, движимый инстинктом, верность которого я понял лишь много позже, с бьющимся сердцем, я открывал дверь моей комнаты. Старинная лестница скрипела под моими шагами. Часто мне приходилось видеть в парадной зале потухший фонарь караула. Что бы я ответил, если бы меня остановили и стали допрашивать?
Дверь, открытая в парк, зияла большим четырёхугольником ярко-синего цвета, на фоне которого, посредине, трепетала полная таинственности Кассиопея. Миновав освещённые бледной луной газоны и прячась в ромбовидной тени тиссовых деревьев, я шёл вперёд. В средней части парка светилось окно: как поздно, однако, работает великий герцог Фридрих-Август!
Всюду было темно в левом крыле дворца. Но когда, подойдя к самому концу здания, я прильнул к стене, я знал, что и там ещё никто не спит.
Весны ещё не было, но чувствовалось, что вскоре запоёт соловей. Длинная и узенькая, тянулась по гладкому гравию блестящая розовая полоска. Мне стало ясно, что и здесь, за наглухо закрытым портьерами и занавешенным гардинами окном, есть свет.
Не пел ещё соловей во французском парке, разбитом в этой Германии, куда меня занесла судьба. Но из-за окна слышалась, дрожа в воздухе, другая песня, жалобная, хватающая за душу песня, временами прерываемая паузами, ничем не объяснимыми, терзавшими мои нервы и рождавшими в душе моей самые странные подозрения; медленная и нежная жалоба, лилась она из дворцового окна, проникая мне в самое сердце.
Эту жалобу изливала скрипка девицы Мелузины фон Граффенфрид, игравшей для своей повелительницы полные неисцелимой тоски шумановские колыбельные песни.
ГЛАВА ПЯТАЯ
«Petermanns Mittheilungen» — самая грандиозная в мире компиляция по географии и, надо признаться, самая ценная.
Наша «Annales de Geographic» — лишь бледная тень этого колосса. У русских есть замечательный географ Воейков. Мы, французы, имеем Видаля де ла Блаша, предисловие которого к истории Франции Лависса — шедевр. Но это всё — изолированные труды, которые не охватывают всей географической науки. «Известия Петерманна» прямо ошеломляют вас содержащимися в них всеобъемлющими сведениями. Мои учителя из Сорбонны, — я не назову их имён, в настоящее время это показалось бы им обидным, — сто раз мне повторяли, что ничего серьёзного нельзя создать по географии без помощи этой мощной немецкой махины. Я не собираюсь утверждать, что каждая моя лекция по географии, которую я читал наследному герцогу, опиралась на упомянутые «Mittheilungen». Я не хочу переоценивать значение или объём тех сведений, которые получал от меня мой ученик. Но каждый раз, когда я имел основание настаивать на том или ином обстоятельстве или факте, я непременно справлялся с этим бесценным сборником.
Так вот, к посредству этого географического сборника я обратился и тогда, когда мне пришлось излагать наследному принцу злободневный в то время и острый вопрос о Камеруне и новых приобретениях Германии в Конго. Прошло ровно два года с тех пор, как нашумевший по всему миру трактат, явившийся результатом переговоров Камбона с Киндерлен-Вехтером, отдал в руки Германии знаменитый «утиный нос»и область Того. Мне казалось вполне естественным остановиться несколько обстоятельнее на области, из-за которой кайзер с таким треском ударил кулаком по дипломатическому столу.
Никогда в жизни не забуду этого дня. Это было в понедельник, 2 марта, почти восемь месяцев назад.
Просмотрев оглавление «Mittheilungen», я записал названия и номера шести статей о Камеруне и Конго. Вторая статья, которую я отметил, подписанная профессором Берлинского университета Гейдшютцем, была посвящена путям, как естественным, так и искусственным, по которым путешественник проникает в эти страны.
Положив на рабочий стол библиотеки соответствующий том, я собирался делать заметки и выписки и, когда я раскрыл том в месте, где находилась нужная мне статья, из книги упала на пол какая-то бумажка.
Это был давно уже пожелтевший листок, сложенный вчетверо. Он был исписан крупным, убористым, решительным почерком. Слова были немецкие, буквы латинские, подписи не было, но она мне и не была нужна: я сразу же понял, кто это написал и о чём шла речь.
Записка заключала в себе целый план путешествия в одну из наиболее пустынных областей Конго, вдоль прославленной реки Сангха. В ней был указан самый подробный маршрут, начиная с высадки в Либревиле и кончая обратной поездкой. Маршрут был основан на сведениях, заимствованных из статьи профессора Гейдшютца, который, — и я в этом не ошибся, — даёт касательно этой области самые новейшие сведения: там имеются указания на проходимые пути, броды, на способы организации экспедиций для исследования страны, отмечены все остановки: Квессо — два дня, французская почта, вода, носильщики; Манна — один день, носильщики; Глегле, на реке Н. Сангха, — пироги и пр.
Я втайне ликовал. Итак, случай дал мне в руки составленный самим великим герцогом Рудольфом план предпринятого им с научной целью путешествия в ту область, в которой он заболел и умер. Радость моя, я чувствовал, вовсе не была радостью историка, который открыл любопытный документ о происках немцев в Конго и имеет в своих руках доказательство, и притом бесспорное, если принять во внимание личность путешественника, предумышленности нанесённого нам в Агадире удара. Ах, как далеки были от меня в эту минуту мои исторические интересы. Ведь все мои научные работы, выполненные мною со дня знаменитого празднества, когда я получил от великой герцогини такой афронт, замеченный, как мне казалось, всеми, я взвалил на свои плечи только с досады и огорчения. И я это хорошо понимал.
Чтобы вы как следует поняли чувства, обуревавшие меня в то время, когда я, деталь за деталью, рассматривал попавший в мои руки драгоценный листок, я должен рассказать вам все хитросплетения, которые моё воображение не переставало создавать с того самого дня. Я старался возненавидеть великую герцогиню, но напрасно: это было выше моих сил. Чем больше я к этому стремился, тем более я жаждал сближения с нею, тем более хотел обратить на себя её внимание, хотел представить ей доказательства моей преданности и страстной жажды пожертвовать собою для неё. Самопожертвование! Смешно! В самом деле, какие основания были у меня думать, что эта женщина, столь обольстительная и гордая, могла нуждаться в самопожертвовании какой-то мелкой сошки? И тем не менее, друг мой, на этом именно пункте разыгрывалась вовсю моя фантазия. Нельзя, однако, сказать, чтобы для этого не было абсолютно никаких данных. В бессонные ночи, в уединении моей комнаты, я не только не забывал разоблачений, услышанных из уст столь солидного и положительного человека, как профессор Тьерри, но, напротив, они принимали в моём воображении ещё более грандиозные размеры. Мне смутно казалось, что я живу в обстановке таинственного. Во мраке ночи я чувствовал, как чувствую вас вот тут, рядом со мною, что какая-то драма уже зарождается одновременно с глухой душевной тревогой, которая порой меня охватывала. А по мере того, как я рылся в архивах, по мере того, как я по ночам всё больше и больше думал о тёмной истории Кенигсмарка, эта тревога и какая-то подозрительность стали всё более и более нарастать. Роман, скажете вы, химеры, порождение мозга, экзальтированного уединением и работой, а, быть может, ещё каким-то другим более властным чувством. Вы были бы правы, думая так, если бы не произошли события, которые оправдали мою экзальтацию.
Как бы то ни было, мой друг, но ещё прежде, чем я открыл план великого герцога Рудольфа, я уже стал создавать буквально из ничего роман, удовлетворявший моей чувствительности. Великого герцога Фридриха-Августа, столь корректного и столь ко мне благоволившего, я рисовал себе палачом жены, этой прелестной великой герцогини; её красота делала меня глубоко несправедливым. Человеку, которому я обязан был теперешним моим положением, и у которого, несомненно, были свои достоинства, я стал приписывать в своём больном воображении какие-то преступления; и рядом с этим я возводил на пьедестал ту женщину, которая однажды публично выказала мне всё своё презрение, а затем, каждый раз, когда мне удавалось вскользь её увидеть, как будто бы меня вовсе и не замечала. И только в минуты душевного просветления, когда я мог хладнокровно рассуждать, я видел пред собой холодную эгоистку, с лицом мученицы, которая по ночам музицирует со своей Мелузиной, а днём ездит верхом на охоту со своим маленьким красным гусаром. О, этот Гаген! «Боже мой, — говорил я себе, — нужно быть слепым, чтобы не видеть, что не она, а герцог заслуживает сожаления и симпатий… О, у меня не было бы столько терпения, как у него».
Но, увы, тщетны были все мои попытки успокоиться и забыть её… Через какую-нибудь секунду я снова отдавался во власть своих химер, и болезненное воображение начинало рисовать мне Аврору фон Лаутенбург пытающейся во всём — в верховой езде, в охоте, в музыке — найти облегчение страданиям, которые причинило ей исчезновение её первого супруга, прекрасного, мужественного Рудольфа, того, кто так её любил, и кого она обожала; в душе моей зарождалась ревность, и мои грёзы становились мне ещё дороже.
Многие разговоры и встречи доказывали мне вздорность моих грёз, но напрасно. Тщётно мадам Вендель, с её глухою ненавистью к великой герцогине, вздыхая, рассказывала мне об этом бедном дорогом великом герцоге Рудольфе, который был так несчастен. Я решительно отвергал всё то, что нарушало равновесие конструкций, созданных моим воображением. Считайте меня сумасшедшим, но, во всяком случае, — раз я уже создал себе этот пункт помешательства, — вы поймёте, в каком лихорадочном состоянии я находился, когда, поставив на место том «Mittheilungen»и положив в портфель драгоценный документ, я поднимался к себе в комнату.
Сезам, отворись! Я имел теперь в своих руках таинственный ключ, который должен открыть мне доступ к великой герцогине и сломить её нерасположение ко мне. При взгляде на эти строки, начертанные рукой её возлюбленного супруга, она поймёт, что тот, кто открыл эту драгоценную реликвию и сложил к её ногам, не заслуживает безразличия, с которым она до сих пор к нему относилась. Быть может, она даже попросит у меня прощения?.. А тогда, о, я сумею сказать ей нечто решительное, что остановит слова извинений, готовые сорваться с её прекрасных уст, и ей ничего не останется, как только ещё более недоумевать, как это она до сих пор могла так ко мне относиться.
Дважды я принимался писать ей и дважды бросал в камин уже начатое письмо, которое хотел отправить ей вместе с документом. Первое казалось мне недостаточно почтительным, во втором слишком подчёркивалась важность моей находки. Наконец, я остановился на редакции, которая показалась мне самой простой:
Ваше высочество!
Случайно я открыл документ, который не может Вас не растрогать. Беру на себя смелость препроводить его Вам при сём. Примите его как знак благоговейной преданности вам вашего покорнейшего слуги.
Я имел намерение вручить письмо и документ, вместе с краткой объяснительной запиской, Мелузине фон Граффенфрид, которая всегда относилась ко мне с особенно лестной любезностью. Но, к сожалению, Мелузина уехала в город, и мне ничего не оставалось, как передать пакет русской горничной, какой-то полуидиотке. Она недоверчиво на меня посмотрела, взяла письмо и исчезла, пробормотав несколько непонятных слов.
Я тотчас же ушёл к себе. Моей экзальтации как не бывало. Я стал чуть ли не бранить себя за свой поступок. К чему это? Зачем я суюсь в чужие дела? Я, кажется, даже желал от души, чтобы старуха оказалась ещё более тупоумной и затеряла моё письмо.
В коридоре послышались шаги. Раздался стук в дверь. Вошёл Людвиг.
— Прошу извинения у господина профессора. Господина профессора спрашивают.
Он посторонился и пропустил лакея. Я думал, что провалюсь сквозь землю, когда я увидел на нём синюю с золотом ливрею великой герцогини.
— Не угодно ли господину профессору пожаловать за мной?
Ошеломлённый столь быстрым результатом моего поступка, я последовал за лакеем, забыв даже взять шляпу.
Мы вкось пересекли парк. Куда он меня ведёт? Вошли в английский сад и спустились вниз; мы шли вдоль Мельны; окаймлённая ивами речка казалась розовой при заходящем солнце.
Из группы каштанов раздался выстрел, и в ветвях что-то зашуршало, как от падения птицы.
— Прошу господина профессора войти.
Я очутился в какой-то беседке, сплошь из зелени; я увидел пред собой великую герцогиню с ещё дымящимся ружьём в руке.
— Извините, сударь, я забавлялась охотой на дроздов, — просто сказала она.
И жестом она отослала лакея.
И вот я один на один с царицей моих грёз. Я знал, что эта встреча состоится, но я никак не мог предвидеть, что она произойдёт в этой зелёной беседке, о существовании которой я не подозревал, хотя часто, гуляя, проходил мимо.
Несколько секунд она безмолвно глядела на меня. Смущение моё дошло до крайних пределов. Только позже, много позже я понял, какую услугу оно мне
оказало: собеседник, столь трепетавший перед нею, не мог быть противником.
Наконец, голосом сладостно нежным, столь нежным, что я даже не узнавал его, она заговорила.
— Благодарю вас, господин Виньерт, за ваше сообщение. Вы были правы, считая, что нет такой памяти о покойном великом герцоге, которая была бы для меня безразличной.
И после некоторой паузы:
— Можете ли вы мне сказать, каким образом этот листок бумаги попал к вам?
Я рассказал ей во всех мелочах, как это случилось; в моей повести чувствовалось, очевидно, так много волнения и искренности, что великая герцогиня явно была растрогана.
— Господин Виньерт, — сказала она, и неизъяснимо сладостно звучали её слова, — если, как я надеюсь, мы познакомимся ближе, я уверена, что вы перестанете сердиться на меня за некоторую резкость, с которой я, быть может, до сих пор к вам относилась. Пожалуйста, не протестуйте! Это было проделано мною сознательно. Безразличие у женщин всегда бывает притворным. Знайте, что для того, чтобы понять меня, требуются данные, которыми вы не располагаете.
Куда девались заготовленные мною прекрасные слова протеста, которыми я решил ответить на эту фразу, мною всё-таки предвиденную!
— Что же, вы по-прежнему всё работаете, господин Виньерт? — спросила Аврора с улыбкой, не лишённой мягкой иронии.
— Ваше высочество, — прошептал я, смущённый.
— О, я не имею ни малейшего намерения отрывать вас от вашего ученика. Но я хорошо помню, что, приглашая вас сюда, великий герцог любезно желал, чтобы и я время от времени могла пользоваться вашими услугами. Могу лишь пенять на себя самое, что до сих пор я не воспользовалась герцогскою любезностью и вниманием.
Я стоял безмолвно, словно пригвождённый, не зная, говорит ли она серьёзно или нет. Она спросила:
— Умеете вы играть в бридж?
— Немного, — пролепетал я, благословляя в душе Кесселя и старого полковника фон Венделя, которым я был обязан этим новым приобретением.
— Так вот, мы каждый вечер играем в бридж: Мелузина фон Граффенфрид, лейтенант фон Гаген и я. Вы будете четвёртым. Вы окажете нам этим большую услугу, чем вы думаете, — сказала она улыбаясь. — Нечего и говорить, что вы будете приходить, когда вам захочется.
Она продолжала:
— Мне сказали, кроме того, что у вас имеются очень интересные французские книги. Я читаю довольно много, и мне очень приятно было бы с ними ознакомиться, если только это не будет сопряжено с большими лишениями для милой госпожи Вендель.
Я сильно покраснел.
— Итак, это решено, — сказала она, не замечая моего смущения, — вы будете приходить, когда вам будет угодно. Но, если это может послужить для вас доказательством моей признательности, я обращаюсь к вам с просьбой: я буду очень рада видеть вас у себя сегодня вечером, часов в девять с половиной.
Я поклонился и собрался было уходить. Она сделала мне знак, чтобы я подошёл к ней.
— Господин Виньерт, — сказала она тихо и важно, — само собой разумеется, что всё, касающееся этого, — она вынула моё письмо из кармана своего широкополого чёрного жакета, — должно остаться между нами.
Я снова поклонился.
— Итак, до вечера, господин Виньерт. И, будьте милы, уходя отсюда, старайтесь производить как можно меньше шуму, чтобы не спугнуть дроздов.
Я пошёл во дворец кружным путём, вдоль Мельны. Почти касаясь крылом лиловой воды, взад и вперёд носился мартын-рыболов; он был изумрудного цвета, как кольцо на бледном пальчике Авроры Лаутенбург-Детмольдской.
Оригинальная маленькая гостиная в стиле Людовика XV в апартаментах великой герцогини, во втором этаже. Уже поставлен специальный стол для бриджа. Два полотна Буше, одно Ларжильера и замечательная картина Ватто были лучшими украшениями этой комнаты. И всюду цветы, масса цветов.
Зная, что здесь будет и Гаген, я сделал вопросом чести не явиться первым. Было уже без четверти десять, когда я постучался в апартаменты Авроры Лаутенбург.
Мне открыла Мелузина.
— Как я счастлива, — проговорила милая девушка, протягивая мне руку.
Великая герцогиня встретила меня улыбкой и указала мне на место за столом, за которым она уже сидела с Гагеном. Мне показалось, что красный гусар был очень не в духе. Я был этим крайне доволен, и во всё время игры я относился к нему с самой изысканной предупредительностью.
На Авроре Лаутенбург было нечто вроде туники чёрного шёлка с большим декольте, отделанной шиншиллами и вышитой сплошь золотым сутажом; филигранная золотая сеточка сдерживала её пышные рыжие волосы.
Она играла небрежно и смело, и тем не менее каждый раз выигрывала. Мелузина тоже хорошо играла. Я делал промах за промахом, тем не менее, в конце концов, тоже выигрывал.
С каким удовольствием я видел, что только присутствие великой герцогини не раз удерживало Гагена от того, чтобы швырнуть мне карты прямо в лицо.
Когда пробило одиннадцать часов, робер кончился. Великая герцогиня поднялась.
— Мой мальчик, — фамильярно обратилась она к Гагену, — карты вас погубят. Я хорошо помню, что завтра у вас будет производить смотр генерал-инспектор Гинденштейн, и что уже в шесть часов утра вам нужно быть на ногах. Вам нечего больше бояться, что мы останемся одни, Мелузина и я; господин Виньерт любезно соглашается составить нам компанию. Ну-с, идите спать.
С материнской заботливостью она подала ему саблю. Пристёгивая её, он бросил на меня взгляд, полный ненависти; я сделал вид, будто ничего не замечаю.
На лице Мелузины фон Граффенфрид играла её вечная неопределённая улыбка.
— Пройдёмте ко мне, хотите? — сказала Аврора. — Господин Виньерт, возьмите с собой книги, которые вы мне принесли.
Комната великой герцогини была почти круглая: такую форму рекомендует Эдгар По в своей «Психологии меблировки». Большой лилового цвета шар, вделанный в потолок, разливал в ней туманный свет, без теней. По стенам висели несколько гравюр Берн Джонса, Констэбля и Густава Моро.
В этой комнате было много цветов, мехов и драгоценных камней, — три вещи, которые я больше всего люблю на свете.
Всюду цветы; их было так много, что прошло добрых пять минут прежде, чем я привык к их запаху, потом приятное успокоение снизошло на меня и я в состоянии был разобраться в них.
Само собой разумеется, больше всего было роз и лилий. Но на этом великолепном фоне флора Крыма и Кавказа нарисовала самые неожиданные вариации.
Со стен свешивались крупные, длиною чуть ли не в метр, гроздья монгольской молены. По столам рассыпаны были издававшие запах мускуса чайные розы. Синие пассифлоры, приводящие весной в изумление путешественника на пустынных берегах Аральского моря; эриванские туберозы; малиново-красные скабионы; гигантские многоцветные гвоздики; дикие льнянки и амаранты; бальзамины и чернушки; белые буковицы Казбека; большие красные маргаритки Дарьяльского ущелья; иммортели Колхиды, дающие в своих чашечках приют сказочной зелёной птичке асфир, — все эти цветы, как ведомые, так и неведомые у нас, создают во влажной атмосфере этой комнаты вечную весну.
Но больше всего я любовался исчерна-фиолетовыми и почти совсем чёрными ирисами, издававшими безумно опьяняющий аромат.
Великая герцогиня заметила это и улыбнулась:
— Я люблю их больше всего.
Она села на кровать, огромную и низкую, покрытую двумя шкурами белых медведей, и сняла сетку со своих волос. Золотая волна рассыпалась по белому меху.
У её ног, усевшись на тигровой шкуре и опершись на гигантскую голову чучела, Мелузина настраивала какой-то инструмент вроде гузлы и брала под сурдинку жалобные аккорды.
Снимая с себя свои украшения одно за другим, великая герцогиня клала их на разные столики. На комоде, похожем на разрисованную персидскую шкатулку, на доске из зелёного оникса, я заметил знакомую мне восточную диадему, которую я видел на ней в день праздника 7 — го гусарского полка. Рядом с ней лежала другая такая же, но ещё более массивная, украшенная сапфирами.
На полу, устланном мехами, кишели, словно червецы и скарабеи, маленькие розовые и зелёные безделушки армянской работы. У изголовья кровати висело ожерелье из янтаря и бирюзы, похожее на чётки, а над ним, в тёмной нише, стояла золотая, с синей эмалью, икона; перед ней теплилась лампадка.
Рядом с кроватью стояли две большие серебряные чаши божественной чеканки. В одной были увядшие лепестки цветов; в другой — бесконечное множество самоцветных камней. Аврора погружала в них руку, и словно песок, собранный на морском берегу, в чашу падал обратно целый дождь из огненно-красных и матово-белых жемчугов и кориндонов, халцедонов и бериллов, сардоников и хризопразов.
О, маркграфиня Лаутенбургская! Вы превратились передо мной опять в татарскую принцессу, фею востока…
Она попросила меня рассказать ей об обстоятельствах, приведших меня в Лаутенбург. Кое-какие подробности она уже слышала от Марсе, но по улыбке, сопровождавшей эту фразу, я понял, что она знала настоящую цель проницательности этого дипломата.
Она захотела узнать мою биографию. Я по возможности просто рассказал ей её. Она, казалось, заинтересовалась моим рассказом, и, когда я почувствовал, что она настроена ко мне особенно благосклонно, я не мог не поддаться своему душевному волнению и объяснил ей, какие муки причинила мне наша первая
встреча, как я с первого же взгляда на неё охвачен был страстным решением быть ей приятным.
Закрыв глаза и пуская к потолку колечки дыма из своей папиросы, Мелузина фон Граффенфрид одобрительно кивала головой.
— Забудем всё это, господин Виньерт, — сказала великая герцогиня, — хорошо? Дайте мне вашу руку…
И, обратившись к Мелузине по-русски (она, конечно, не могла знать, что я немного знаком с этим языком), сказала ей:
— Как видно, я пока ещё и на этого не могу рассчитывать, чтобы попасть в Kirchhaus.
Та лишь покачала головой, как бы желая сказать: что я вам говорила?
— Мелузина, — скомандовала великая герцогиня, — подай нам самовар.
И в то время, как молодая девушка расставляла чайные чашки возле шипящего медно-красного самовара, Аврора встала и, открыв маленький секретный шкафик, сделала мне знак подойти.
— Знаком вам этот почерк? — и она протянула мне письмо.
Я внимательно стал его рассматривать. Я никогда не видал этого почерка.
— Это писано рукой покойного герцога Рудольфа, — просто промолвила она.
Я не только был удивлён, я опешил. Она не могла удержаться от улыбки.
— Если так, — простите меня, я теперь ничего не понимаю. Чей же почерк, в таком случае, был на том листке, который я передал вам, которому я обязан…
— Успокойтесь, господин Виньерт, успокойтесь! Клочок бумаги, которому вы обязаны моим уважением, а теперь и моей дружбой, был написан не моим мужем, покойным великим герцогом. Но тем не менее документ этот имеет для меня свою цену, и, кто знает, не окажется ли он ещё более ценным.
При этих словах она развернула документ.
— Вы видите, здесь написано «Сангха». Знакомо ли вам это слово?
— Я впервые узнал его лишь сегодня утром; это маленькая деревушка, последний немецкий пост в Камеруне, в десяти лье от форта Флаттерса, первого французского поста.
— Это так, но вот чего вы, кажется, не знаете: в этой бедной деревушке умер 10 мая 1911 г. от солнечного удара великий герцог Рудольф. Там он и погребён. Теперь вы понимаете, какое волнение я испытала, когда уже на маршруте его будущего путешествия я нашла название места, где муж мой нашёл себе вечное успокоение.
— Но что это за листок, кто его составил?
— Был такой друг у великого герцога, верный товарищ по путешествиям, дважды спасший ему жизнь в Конго. Он не мог вылечить его, но он ухаживал за ним до конца и отдал ему последний долг.
— Как его фамилия?
— Барон Ульрих фон Боозе.
Я вскрикнул.
— Так вот как, — Боозе!
Великая герцогиня встала во весь рост; она слегка побледнела. В ногах её Мелузина уже не касалась струн гитары; гитара валялась на ковре.
— Господин Виньерт, — сказала Аврора Лаутенбург, — что это значит? Объяснитесь, прошу вас.
Я успел уже несколько овладеть собою; я смутно сознавал, что сделал ошибку. Я хотел заговорить о чём-нибудь другом. Но великая герцогиня была другого мнения.
— Вы знали барона фон Боозе?
— Ваше высочество, прошу извинения, — пролепетал я. — Право, я не знаю, должен ли я, смею ли я…
— Что должны? Что смеете? В чём дело?
Я проклинал себя за своё неловкое и неуместное восклицание. Подумать только! В одну секунду я мог свести к нулю усилия двух месяцев, приведшие меня, наконец, к сближению с великой герцогиней. Я ужасно растерялся. Я искал поддержки; глаза мои встретились с глазами Мелузины.
Великая герцогиня, по-видимому, ложно поняла этот взгляд.
— Мадемуазель фон Граффенфрид — мой друг, а если я раз кого-нибудь назвала своим другом, перед тем у меня нет больше тайн. Можете смело говорить в её присутствии, я даже вас об этом прошу.
Это требование было безапелляционно. И вот, в бессвязных выражениях, как человек, который сам определённо не знает, в чём дело, я, заикаясь, передал ей, из пятого в десятое, мой разговор с профессором Тьерри, когда я впервые услышал про барона фон Боозе.
Великая герцогиня нахмурилась.
— Понимаю, — пробормотала она наконец, — или, вернее, думаю, что понимаю, несмотря на все ваши умолчания.
Она призадумалась, затем, овладев собой, сказала:
— Вот вам лучшее доказательство, дорогой Виньерт, как осторожно нужно относиться к слишком поспешным заключениям. Не знаю, откуда выкопал Тьерри те басни, которые он вбил вам в голову. Если он, как вы утверждаете, добросовестный историк, то я думаю, он был бы осмотрительнее в своих поступках и суждениях, будь у него в руках это и вот это.
Она протянула мне то письмо и ещё другое:
— Это два последних письма великого герцога Рудольфа, писанные им мне из Конго. В первом он рассказывает мне, как Ульрих фон Боозе спас его от буйвола, уже успевшего вспороть брюхо его лошади, во втором, как тот же Боозе вырвал его из рук пяти или шести туземцев, которые готовились уже заставить его пережить ужасы.
Я пробегал глазами те места писем, которые она мне подчёркивала, а она смотрела на меня и улыбалась.
Слегка сконфуженный, я поклонился.
Мелузина наполнила чашки, и мы пили крепкий чай, в котором плавали лимонные корки. Я распростился, поцеловав руку у великой герцогини и обменявшись рукопожатием с Мелузиной.
— До свиданья, друг, — сказала Аврора, — завтра увидимся.
Я пошёл к себе через парк; уходя от великой герцогини, я заметил какую-то тень: мне показалось, что это был лейтенант фон Гаген.
В ночном безмолвии, при ясном небе, раздался выстрел, вслед за ним другой. Мы прислушались, но выстрелы прекратились.
Виньерт пожал плечами.
— Какой-нибудь часовой балуется!
— Дайте мне вашу электрическую лампочку, — попросил он меня.
Он зажёг её и протянул мне два листика бумаги.
— Это что такое?
— Вот это — одно из писем, адресованных Авроре фон Лаутенбург великим герцогом Рудольфом. А вот это — тот самый документ, составленный фон Боозе, благодаря которому я снискал себе благоволение великой герцогини. Теперь вы можете убедиться, — прибавил он, — что всё, что вы от меня слышите, вовсе не сон; это реальная действительность; можете прийти с ней в непосредственное соприкосновение.
Я с любопытством рассматривал листки: один — исписанный энергичным, сильным почерком барона фон Боозе; на другом бросалась в глаза масса удлинённых, женственных букв, характеризующих натуру, более склонную к мечтательности, чем к активной деятельности. Я испытывал ужасное волнение, держа в своих руках письмо этого немецкого герцога, который покоился в эту минуту вечным сном в известково-глинистой земле сожжённого солнцем Конго. При одном прикосновении к этому клочку бумаги я с невероятной отчётливостью стал представлять себе ту, которой оно было написано. Казалось, что Аврора Лаутенбургская находится здесь, рядом с нами, что я давно-давно её знаю.
Виньерт потушил лампочку; в наступившей тьме снова показался четырёхугольник ночного неба. Я возвратил ему бумаги. Он продолжал.
О «Письмах Дюпю и Котоне» Брюнетьер выразился так: в них не столь много остроумия, сколь желания быть остроумным. Приблизительно то же можно было по справедливости сказать и о всех прочих произведениях Мюссе. Переверните этот афоризм наизнанку и вы будете иметь верное представление о манере великой герцогини вести беседу; эта гордая женщина всегда оставалась верной самой себе, а так как она была существом исключительным, то всё, что она говорила, было тоже совершенно исключительным; в её суждениях было высокомерие рядом с полным отсутствием претенциозности; в них не было и тени литературщины. Она никогда не будила эхо того, что поэт назвал «треском падающих на пол фолиантов».
Общие места были ей противны, как кошке декокт из трав.
Не зная ни её вкусов, ни степени её начитанности, я принёс ей три книги: «Путешествие кондотьера», «Озарения», «Призраки». На следующий день она их мне вернула.
— Книги эти недурны, но всё это я уже читала. Вижу, что вы любите поэзию.
На софе валялось несколько книг. Она взяла одну из них и протянула её мне.
— Это «Кавказское обозрение», выходящее в Тифлисе. В этих безыскусных страницах, в этих наивных рассказах о путешествиях в бессмертные страны больше красоты, чем у большинства ваших новейших поэтов. Это великий источник поэзии, из которого будут пить поэты завтрашнего дня.
Она продолжала.
— Шекспир умер три столетия назад, и болота, на которых он видал Макбет, теперь кишат фабриками и заводами. Наши коммивояжеры заменили в Испании Дон-Кихота. Кардуччи — итальянский Гюго, но только глупый Гюго. Ваша страна, с её очаровательными ландшафтами, сделалась, подобно Швейцарии, страной туристов. У подножия всех ваших горных вершин стоят турникеты.
— У Суареца, книгу которого вы мне дали, это уже чувствуется, и там, где он говорит о нашем Достоевском, он превзошёл самого себя. Хорошо было бы, если бы он побывал в Дарьяльском ущелье. Я уверена, что оно понравилось бы ему больше, чем ущелья Эбро и Дулро, снимки с которых мы видим на всех вокзалах.
— Мадам де Ноайль, вне всякого сомнения, ваш величайший поэт. Но почему её с таким упорством называют гречанкой? Она не более гречанка, чем Ариана индийского Вакха или Медея из Колхиды. Всем, что у неё есть лучшего, она обязана Армении и Персии, т. е. нашим странам. Гречанка! Право, они меня смешат. Неужели вы никогда её не видели? Однажды я с ней обедала. Это было в Эвиане. Она, надо сказать, мне понравилась: она красива и зла. Но, право, в её типе нет ничего греческого.
— А эта? — спросил я, протягивая ей том Рене Вивьена.
— Эту я обожаю, а потому я могла бы отозваться о ней только дурно, — и она поцеловала книгу.
Я был вне себя от радости, слушая, как женщина, пред которой я преклонялся со всем пылом страсти и которую я видел в окружении, осуществлявшем наиболее властную мою потребность в роскоши, говорит на самые дорогие для меня темы. Я высказал ей это просто, как следовало бы всегда делать.
По-видимому, она была тронута. Положив мне руку на плечо, она пробормотала не помню уже на каком языке:
— Вы милы, и я вас очень люблю.
И, повернувшись к Мелузине, она повторила по-русски вчерашнюю фразу:
— Нет, право, на этого мне не приходится рассчитывать, чтобы получить доступ в Кирхгауз.
Воцарилась долгая тишина, прерываемая через равномерные интервалы странными звуками, которые извлекала Мелузина из своей гузлы.
В чаше дымилась ароматическая лепёшка.
Возле меня на маленьком столике лежала раскрытая книга; чтобы чем-нибудь заняться, я начал перелистывать её.
— Вы любите её? — спросила Аврора. Это были Reisebilder.
— Я преклоняюсь перед Гейне, — ответил я, — это мой кумир.
— Я больше всего ценю в поэте, — сказала она, — определённое душевное качество. Вот почему я обожаю Шелли и Ламартина, и почему Гейне всегда был мне противен. О, я знаю, вы скажете мне: a Nordsee и прочее. Я больше, чем кто-либо, сознаю свой долг перед ним. Но он, как тот Дейтц, который продал вашу герцогиню Беррийскую, и мне всегда хочется взять в руки щипчики, чтобы преподнести ему моё поклонение.
Взяв у меня из рук книгу, она начала пробегать её глазами.
Который это мог быть час, я не знал. Вдруг сквозь открытое окно, из-за портьер, повеяло холодком, предвестником рассвета. Столбик ароматического дыма колебался, как колонна, готовая рухнуть. Углубившись в чтение Reisebilder, великая герцогиня не замечала меня. Мелузина, улыбаясь, приложила палец к губам, и мы вышли незамеченные.
На дворе было холодно. Ясная ночная лазурь стала хмуриться на востоке и окрасилась сначала в фиолетовый, потом в зелёный, потом в жёлтый цвет. Я сел на скамью у ворот, под окном великой герцогини, на том самом месте, куда я столько раз приходил по ночам с одной лишь мыслью побыть вблизи от неё, меня охватила какая-то сладкая печаль.
Вдруг, усталый и монотонный, но чистый, как ледяная вода горного ручья, голос запел под аккомпанемент гузлы. Пела великая герцогиня. Ни малейшего диссонанса не было во всём её существе. Голос её был именно такой, каким я представлял себе его.
Она пела романс Ильзы, самый лучший из всего, что есть в Reisebilder, и так как мы только что говорили с ней об этой вещи, мне казалось, что я всё ещё нахожусь в её комнате.
Зовусь я принцессой Ильзой, Живу в Ильзенштейне своём. Зайди ты в хрустальный мой замок! Блаженно мы в нем заживём. Своею прозрачной волной Я вымою кудри твои; Со мною, угрюмый страдалец, Забудешь ты скорби свои. На белой груди моей ляжешь, Уснёшь в моих белых руках, И страстной душою потонешь В чарующих сказочных снах. Ласкать, целовать тебя стану Без устали. В неге такой Не таял и царственный Генрих, Покойный возлюбленный мой. Пусть мёртвые тлеют в могиле, Живому дай жизни вполне. А я и свежа и прекрасна, И сердце играет во мне. Зайди же, прохожий, в мой замок! В мой замок хрустальный зайди! Там рыцари пляшут и дамы… На пошлый мой пир погляди. Шумят там парчовые платья, Железные шпоры звенят, И карлы на скрипках играют, Бьют в бубны и в трубы трубят. Как некогда Генриха крепко, Тебя ко груди я прижму. Бывало, труба зарокочет, Я уши закрою ему.4Наступила полная тишина. Рассвело.
Я давал своему ученику урок по древней истории. Вошёл великий герцог.
Он сделал нам знак, чтобы мы сели, а мне — чтобы я продолжал.
Сегодня я рассказывал герцогу Иоахиму о преемниках Александра, начиная от боёв на улицах Вавилона, когда сдались эпигоны, и кончая битвой при Коре, в которой потерпел поражение Лизимах и после которой установились две династии Лагидов и Селевкидов. Я хотел, чтобы перед молодым немецким принцем встали рядом, во весь рост, великие и трагические фигуры Эвмена, главы Аргирастидов, Антипатра, Антигона Гоната, Димитрия Полиоркета. Мой ученик внимательно меня слушал, с особым старанием делая массу заметок, хотя я лично хотел бы, чтобы он не так уж усердствовал в этом.
Великий герцог сел и тоже стал слушать. Мне так понравилась его обаятельная внешность, его чрезвычайно умное лицо, что, продолжая свою лекцию, я говорил не столько для простоватого Иоахима, сколько для Фридриха-Августа. И, делая вывод из своей лекции, я адресовался уже прямо к нему, когда пытался объяснить, каким образом распавшаяся империя эпигонов должна была облегчить победу Рима с его тенденцией к централизации власти. И когда, среди этих объяснений, я на одно лишь мгновение обнаружил некоторое смущение, Фридрих-Август, слегка улыбаясь, поспешил меня успокоить:
— Если, как мне кажется, вы имеете намерение провести параллель между Римом и Пруссией, то, пожалуйста, говорите, не стесняясь моим присутствием.
Мне действительно было неудобно пред таким слушателем настаивать на факте вассальной зависимости немецких государей, федеративно связанных с Пруссией, от короля этой последней. И тем не менее я это сделал. Он одобрил мой вывод, но заметил:
— Пусть эта вассальная зависимость, подобно зависимости государств, союзных с Римом, послужит лишь к величию Германии и обеспечит мир во всём свете.
Лекцию свою я закончил указанием на библиографические данные, причём отметил, как самый главный источник, «l'Histoire de l'Helleniome» Дройзена.
— Виноват, господин Виньерт, — сказал великий герцог, — имеется ли во французской литературе труд, которым можно было бы заменить Дройзена?
Никогда в Сорбонне я не переживал такого стыда, как здесь, когда на заданный мне вопрос я должен был дать ответ: «нет».
Пробило одиннадцать часов.
— Иоахим, — сказал великий герцог, — вы можете удалиться. А вас, господин Виньерт, прошу остаться.
— Господин Виньерт, — обратился он ко мне, когда мы остались одни, причём голос звучал важно и печально, — до сих пор вы могли считать меня скупым на похвалы, которых вы сами, конечно, считаете себя достойным. Но я имею дурную привычку довольно долго ждать, прежде чем высказаться. И этот момент наступил. Вы совершенно не подозреваете, что вашего ученика вчера проэкзаменовал профессор Кильского университета. Будучи вне всяких подозрений в пристрастии к французским методам преподавания, он мог лишь склониться перед достигнутыми вами результатами.
— Я знаю, — продолжал великий герцог с горечью в голосе, — что заслуга жнеца тем больше, чем менее благодатна почва, давшая всходы. Позвольте мне теперь вас поблагодарить и выразить пожелание, чтобы гостеприимство, оказываемое вам в Лаутенбурге, пришлось вам совсем по душе, и чтобы оно позволило вам довести до конца дело, столь хорошо начатое.
— Монсиньор, — ответил я, положительно растроганный, — меня приводит в смущение благоволение, оказываемое мне вами.
— Нет, — произнёс он с особенной силой, — я ваш должник, я. Мне стало известно, что, несмотря на скудный досуг, который вам оставляет воспитание моего сына, вы находите ещё время для дела, которое мне, быть может, ещё дороже. Пусть это навсегда останется между нами. Я знаю, с какими трудностями вы встретились, прежде чем добиться от великой герцогини того доверия, которое, я не сомневаюсь, она вам теперь оказывает. Я слишком мало вас знал, чтобы с самого начала, точнее и определённее, чем я это делал, выразить вам, как я желал бы, чтобы вы предоставили себя в её распоряжение, чтобы вы попытались её развлечь, отогнать от неё прочь её мрачные мысли, вывести её из, так сказать, моральной неуравновешенности, столь роковой для её физического здоровья. Вы меня поняли, и вы успели больше, чем я надеялся. Теперь вы видите, что я ваш должник.
В его словах было так много величавой печали, что я, необыкновенно взволнованный, только и мог пробормотать:
— Монсиньор, я обещаю вам…
Он протянул руку, как бы отстраняя меня.
— Мне не нужны обещания. Я теперь вас знаю; я чувствую, что всё то добро, что вы будете в состоянии сделать для великой Германии, вы сделаете. Это будет лучшим способом оправдать моё доверие к вам. Правда, не всегда ваша задача будет для вас легка. Женщина, особенно та женщина, которая перенесла тяжёлое душевное потрясение, вследствие смерти любимого человека, не отличается тем постоянно одинаковым расположением духа, которым гордится наш брат, мужчина.
После короткой паузы он продолжал.
— Я мог бы ещё кое-что прибавить к тем словам благодарности, которые я только что высказал вам, если бы я не считал излишними всякие новые знаки моего к вам уважения. Но позвольте мне сосчитаться с вами за те повышенные требования, которые я предъявляю к вашему самопожертвованию. Я отдал уже приказ об увеличении вашего вознаграждения до пятнадцати тысяч марок.
Я не мог удержаться от восклицания.
— Полноте, — остановил он меня, улыбаясь своей очаровательной улыбкой (он был мастер придавать очарование своей улыбке), — разве вы не играете теперь каждый вечер в бридж, по пяти пфеннигов очко?
Явившись к завтраку с небольшим опозданием, я пришёл как раз в тот момент, когда между профессором Киром Бекком и Кесселем шёл горячий спор.
Последнему, видимо, доставляло удовольствие дразнить старого учёного, который принадлежал к числу людей, мало склонных понимать шутку: он весь покраснел от негодования.
Я слишком был занят своими собственными мыслями, чтобы прислушиваться к тому, о чём они между собой говорили. Я смутно лишь слышал, как профессор утверждал, что в ближайшую войну химия сыграет большую роль, чем все прочие военные средства, и что он, Кир Бекк, находится на пути к открытию, которое позволит ему, располагая скромной лабораторией с несколькими ретортами, уничтожить целый армейский корпус.
Кессель отвечал ему шутками, и это ужасно злило его.
Наконец, он решил пригласить меня в свидетели против майора, и попросил меня процитировать ему то место из Ренана, где этот учёный выражает пожелание, чтобы судьбы человечества были вручены комиссии учёных, имеющих в своём распоряжении взрывчатые вещества, достаточные для того, чтобы разорвать весь земной шар, если его обитатели осмелятся пошевельнуться.
Признаюсь, я не особенно внимательно вслушивался в его рассуждения.
— Конечно, — ответил я, — позвольте и мне, господин Бекк, со своей стороны попросить вас разъяснить мне кое-что.
— К вашим услугам.
— Не можете ли вы объяснить мне, что такое Кирхгауз?
Старик встал и, к величайшему моему изумлению, бросил на меня взгляд, полный негодования. Прежде чем я пришёл в себя от неожиданности, он вышел, хлопнув дверью.
Я взглянул на Кесселя. Обычно хладнокровный и корректный, он буквально покатывался со смеху.
— Что это значит? — спросил я.
— Ну, поздравляю вас, — произнёс он наконец. — Бедняга! Вы заметили, до чего он был взбешен? Он, который был уверен, что вы его поддержите.
— Но почему он так рассердился?
Моё изумление было так искренно, что теперь опешил сам Кессель.
— Как, вы это сделали не преднамеренно?
— Что именно?
— Вы не умышленно спросили его, что такое Кирхгауз?
— Я спросил его, потому что я этого не знаю, и для того, чтобы узнать.
Я сам начал злиться.
Он взглянул на меня и стал хохотать ещё сильнее.
— Вот так так! Право, я ничего подобного в жизни не видел. Кирхгауз, мой дорогой… неужели вы не знаете, что такое это значит в Лаутенбурге?
— Говорите же!
— Говорить? Чёрт возьми! Здесь так называется сумасшедший дом.
Какое бы ни было время года, великая герцогиня охотилась.
Время от времени, чтобы доставить удовольствие офицерам 7 — го гусарского полка, она соглашалась принимать участие в облаве на лисиц или оленей. Но больше всего любила она охотиться одна, невзирая ни на дождь, ни на ветер, без грума, без загонщика и без слуг; она любила охоту с собакой, со всякого рода неожиданностями.
Сколько раз по вечерам я видел, как в своей маленькой гостиной она сама делала себе патроны. Перед нею на столе с привинченным к нему сертиссером лежали в ряд синие, фиолетовые, зелёные, светло-жёлтые, трёхцветные красивые гильзы. Аккуратно отмеривая медной мерочкой порох, она методически опускала в гильзу полагающуюся ей дозу пороха, забивала пыж, всыпала дробь и вкладывала поверх кружочек из белого картона. Затем, заклепав патрон, она отмечала на нём номер дроби.
Гаген был непременным участником всякой охоты, и так как это входило в его служебные обязанности, то поистине трудно было от него отделаться. Мелузина фон Граффенфрид, слабая здоровьем, не была мастерицей ходить и предпочитала оставаться во дворце и лежать на звериных шкурах, покуривая папироски. Зато Марсе всегда отправлялся с нами. Это давало ему возможность выставлять напоказ свои сенсационные спортивные костюмы, которые неизменно вызывали комплименты Авроры. Впрочем, это был самый услужливый, милый и полный жизни товарищ.
Около двух часов пополудни мы верхами выезжали из замка. Сначала нам нужно было пересечь лес Герренвальд. С ёлки на ёлку перескакивали белки, с аллей тяжело поднимались фазаны. В глубине обросшего кустарником ущелья шумно снялся невидимый бекас.
Марсе с удовольствием здесь бы и остался: он предпочитал охотиться в лесу на фазанов, стоя на прогалине и имея при себе лакея, который заряжал бы ему ружьё и докладывал каждый раз, когда поднималась дичь: «Слева фазан, господин граф, — самец; курочка справа, ваше сиятельство».
Но великая герцогиня и слушать ничего не хотела; ей противно было всё, что напоминало официальную охоту, она определённо заявляла, что больше всего она любит водяную дичь. Вскоре деревца становились всё реже и реже, и мы вышли в открытое болотистое поле; бледно-серое, зеленоватое, оно тянулось до горизонта.
Двое слуг ждали нас в маленьком шале. Мы отдали им лошадей. Марсе взял с собой своего Дика, крупную овернскую, иссиня-чёрную короткошерстную лягавую собаку; у неё было неважное чутьё, на охоте она немного заносилась, но стойку делала хорошо. Длинношерстный спаниель великой герцогини, чёрный с огненными подпалинами, довольно-таки уродливый, казался собачьей роднёй Тараса Бульбы.
С каким наслаждением, бросив поводья, Аврора спрыгнула на землю. Я ещё теперь вижу перед собой движение, которым она открыла свою безкурковку и вложила в неё два лилово-розовых патрона. Я ещё и теперь слышу этот звук — удар медной головки патрона о сталь ствола.
…Когда мне было пятнадцать лет, у меня было старое шомпольное ружьё; я уже тогда испытал необычайное удовольствие, доставляемое охотой в бесконечных болотах. Впоследствии в полку стрельба по исчезающим фигурам казалась мне детской забавой в сравнении с добрыми дуплетами по разлетающимся в сторону бекасам; тогда эти дуплеты мне удавались.
На севере Ланд, в Даксе, есть огромное болото, по окраинам которого расположены жалкие деревушки Эрм и Гурбера. Туда можно пробраться через котловину, прозванную «Мишенью», так как в прежнее время там упражнялись в стрельбе в цель императорские стрелки.
Такая же бесконечная туманная равнина была и здесь. О, этот жалобный звук отсыревшего мягкого песка, земли, пропитанной влагой; высокая жёлтая трава, острая как сабля, которая режет руки при неосторожном к ней прикосновении. Я знал всё разнообразие этого пейзажа, с виду однообразного: здесь лужица, там предательский, скатертью стелющийся зелёный мох, а дальше трясина, окружённая камышом. Я знал весь этот болотный мир, всю его флору и фауну. Как и прекрасная охотница с волжских болот, я знал всех птиц, населяющих эти бледно-серые пространства: дергача чёрного и дергача водяного, вприпрыжку бегающего по обнажённому кустарнику; дергача дрокового или коростеля, который прежде чем решится взлететь, с бешеной скоростью бежит в высокой траве, сбивает со следа лучших собак и вконец замучивает охотника, который думает, что это заяц. А взлетев, эта бедная птица, вследствие своей неловкости, легко делается добычей охотника.
Там живут многие виды уток, по которым дробь скользит и которые с головокружительной быстротой несутся в косом направлении; широконосые свистуны; чернети, каголки с красивыми красными головками; пронзительные чирки, плавающие парочками и имеющие на своих рыжеватых грудках три пёрышка в виде чёрного трилистника.
Там водятся пиголицы, чёрные с белым, как сороки, и как сороки же, с карканьем взлетающие на воздух и тотчас же стремительно падающие на землю, чтобы ускользнуть от выстрела.
Там встречаются зуйки, столь прелестные по весне в своём золотом, в виде шлейфа, оперении.
Там попадается, наконец, самая красивая, самая трудная для ружейного выстрела дичь, царица болот — семья бекасов: маленькая птичка, потоньше жаворонка, которую у нас зовут глушанкой, с синими и золотыми полосками; обыкновенный бекас величиной с перепела, сплошной комочек нервов, и самый редкий гость болот — вальдшнеп, величиной с куропатку.
Издавая крики грустные и хриплые, они летят с ослепительной скоростью, описывая при этом зигзаги, приводящие охотника в замешательство. Он целится вправо, и когда ветер унесёт дым, видит слева от себя, далеко-далеко, серенькую птичку, исчезающую в пространстве.
Среди этих ганноверских болот, до неузнаваемости похожих на наши ландские болота, Аврора фон Лаутенбург была ещё прекраснее, чем во дворце в парадном туалете. В норковой шапочке, в очень высоких изящных сапогах, она шла с лёгкостью трясогузки, прыгая по осыпавшимся под её ногами кочкам. Желтоватые испарения, носившиеся в этой туманной атмосфере, бросали лилово-розовый отблеск на её профиль.
Марсе стрелял хладнокровно и хорошо. Маленький Гаген нервничал и каждый раз стрелял слишком рано. Я обнаруживал гораздо больше уменья, чем они, но какую жалкую фигуру представлял я рядом с великой герцогиней!
Предоставив нам дергачей и уток, она себе брала только бекасовую дичь. Мало-помалу над водным пространством стала опускаться ночь. Над самым горизонтом небо загорелось последним медно-красным заревом. Лужицы блестели тем зелёным блеском, который сейчас же темнеет и переходит в чёрный. При каждом выстреле из ружей показывался бледный огонёк, который по мере того, как опускалась тьма, становился всё краснее.
Теперь настал час великой герцогини. Её спаниель вошёл в раж, бегая то туда, то сюда. Слышно было, как при каждой его стойке взлетают бекасы, ни Марсе, ни Гаген, ни я не улавливали уже их глазом. Но Аврора видела их и с каждым её выстрелом маленькая серенькая птичка падала наземь.
Через какую-нибудь секунду в темноте раздался шум раздвигаемой травы. С фосфорическим блеском в глазах, весь мокрый, лоснящийся, показывался чёрный спаниель с только что убитой дичью в зубах, и подносил её своей госпоже.
Наступила ночь. Невысоко на небе, хрипло курлыкая, пронеслась невидимая вдали стая журавлей. Великая герцогиня взяла у своей собаки убитую птицу. Мы подошли. Я видел, как она ощупывала ещё тёплое тоненькое тельце, на котором не было видно ни малейшей ранки, ничего, что обнаруживало бы дробинку, незаметное маленькое отверстие, через которое вылетела жизнь этой маленькой птички.
И с непоследовательностью, столь свойственной многим охотникам, Аврора фон Лаутенбург поднесла к своим губам маленькую безжизненную головку и запечатлела на ней поцелуй.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Это было в субботу вечером, 16 мая 1914 года.
Великая герцогиня Лаутенбургская удостоила меня чести рассказать мне свою биографию. Позвольте мне передать вам её рассказ. Я должен это сделать не столько потому, что некоторые подробности его безусловно полезны для понимания драмы, которая сейчас развернётся перед вами, сколько для того, чтобы доставить себе счастье ещё раз вскрыть этот сундучок, переполненный самоцветными каменьями, лишний раз погрузить руки в эти дорогие моему сердцу варварские блестки, которые всегда будут освещать мне мою ночь, как бы черна она ни была.
Гаген обязан был в этот день присутствовать на обеде 7 — го гусарского полка, поэтому его с нами не было. Я был бесконечно счастлив, когда убедился, что как бы фамильярно ни обращалась она с этим молчаливым и упорным влюбленным, со мной она чувствовала себя свободнее, чем с ним.
В этот вечер она была одета в просторную и очень лёгкую тунику из жёлтого турецкого шёлка, отделанную вышивкой цвета «мов», с серебром. Она полулежала на кушетке, покрытой шкурой белого медведя. Порою она брала большую розу из чаши, стоявшей рядом с нею на маленьком столике, и слышно было, как на голубой ковёр мягко падали смятые её пальцами лепестки.
Примостившаяся на ковре Мелузина опустила свою томную головку с полураспустившимися волосами на обнажённые ноги своей госпожи, временами их обнимая.
В открытое окно, отбрасывая отдёрнутые занавески, врывался в комнату ночной ветерок, приносивший с собой из Герренвальда его лесные бальзамические ароматы; они сливались здесь с одуряющим запахом амбры, роз и папирос.
Нисколько не заботясь ни о стиле, ни о впечатлении от своих слов, мешая три языка, переходя от французского «вы» на русское «ты» или обращаясь к нам на немецкий манер, т. е. в третьем лице, Аврора заговорила:
«Имей в виду, — начала она, — что, выйдя замуж, я, строго говоря, не сделала большой карьеры, род Гогенцоллернов, к которому принадлежал мой первый муж и принадлежит второй, моложе моего рода.
Я урождённая княжна Тюменева. Я знаю, что ваша западно-европейская история почти ничего не говорит о нас. Но в Самарканде, Кара-Коруме и — незачем так далеко идти — в Тифлисе узнал бы ты из старинных монгольских хроник вещи, которые заставили бы тебя призадуматься. Ты понял бы, что в сравнении с нами все ваши Брольи, все ваши Кумберленды просто выскочки.
Один из князей Тюменевых был обезглавлен Ярославом Великим; я не стану восходить ещё дальше в глубь времён, чтобы не терзать твоего уха варварскими для тебя именами. Другой, много позже, причинил столько хлопот Иоанну Грозному, что тот предпочёл с ним ладить и даже послал ему дорогие подарки, в том числе большие часы с изображением Зодиака, сплошь сделанного из сапфиров; это не помешало, однако, сыну этого самого Тюменева привести сорок тысяч конницы к Крымскому хану, когда тот отправился походом на Москву, в 1517, кажется, году.
Но из того, что мы сначала боролись против царя, не следует, однако, что мы были дикарями. Борис Годунов очень нуждался в нас в своей борьбе с татарами. Конечно, мы предпочитали вести войны с европейцами. Так, решительной атакой под Полтавой руководил Алексей Тюменев, крестник Петра Великого, в благодарность за что царь оставил его в покое со своими реформами. В нашем роде имеется картина, в стиле вашего Миньяра, изображающая этого князя в норковой шапке, в шитом золотом кафтане, похожем на ризу, с длинными усами, которые царь пощадил у него не в пример прочим.
Первый, кто познал бритву, был мой прадед, тот самый Владимир Тюменев, которого, не помню за что, чуть было не расстреляли по приказанию Барклая де Толли. Он командовал корпусом казаков, которые стояли лагерем в Елисейских полях и, кажется, наделали там дел. Прадед мой много награбил, но потом он всё продал и вырученные деньги поторопился проиграть в Пале-Рояле. Я думаю! Он ставил всё время дуплетом на красные, а чёрное вышло четырнадцать раз подряд.
Отец Владимира сначала был в очень хороших отношениях с Екатериной Второй, но, когда он ей надоел, она женила его на одной девице из Ангальта. Это был первый случай, что моя фамилия породнилась с немцами; надеюсь, что я буду последней в этом списке. Не думай, Мелузина, что я хочу тебя задеть, но эта немка была дура и скряга, она даже ни одного из прижитых ею с мужем семерых детей не сумела родить похожим на себя: все до единого вышли маленькими казаками.
Бабка моя была родом из Эривани; говорят, что я на неё похожа, но она была красивее меня. Она переменила веру, чтобы выйти за моего деда, в которого она влюбилась. До этого она была огнепоклонницей, а это самая красивая религия в мире.
Отец мой, о котором мне не раз придётся с тобой говорить, был вторым Тюменевым, породнившимся с немцами, и притом с Гогенцоллернами. Как и мой дед Владимир, он был страстным игроком; он поклялся отыграть во Франции всё, что дед проиграл там. Он вёл такую игру, что, наверное, разорился бы, если бы вообще можно было разориться, когда владеешь площадью в шесть раз большею, чем любой из ваших департаментов, крестьянами, которым не знаешь счёта, и стадами, количество которых ежегодно удваивается.
Десять месяцев в году он проводил в Париже (он был членом Жокей-клуба), в Эксе, Ницце, словом, во всех местах, которые посещают игроки. В Эксе, в 1882 г., он познакомился с моей будущей матерью, герцогиней Элеонорой Гессен-Дармштадтской.
Мама поистине была прекрасна, как ясный день. Это была Мелузина, но блондинка, хотя, быть может, и не столь красивая, как ты, моя дорогая Мелузиночка. Я плохо помню свою мать, потому что она умерла, когда мне было всего пять лет. Она никак не могла свыкнуться с нашей страной. Папа часто её обманывал; она всё плакала и плакала, а это, кажется, злит мужчин больше всего.
Как можно было не наслаждаться жизнью в нашем дворце? — всё ещё спрашиваю я себя. Ты, пожалуйста, не воображай себе, что это было жилище какого-нибудь дикаря. В 1850 году, приблизительно, в Россию прибыла француженка, мадам Оммэр де Гелль, автор книги» Voyages dans les Steppes de la Caspienne «, которая вышла в Париже. Муж этой дамы, инженер, был командирован для каких-то геодезических работ. Ты можешь удостовериться в этом в своих книгах, она была принята моим дедом, она оставила точное описание его дворца.
Дворец этот был построен на берегу Волги.
Первое, что относится к моим самым отдалённым воспоминаниям, это вой пароходной сирены на рассвете. Три раза в неделю в Астрахань приходил пароход. Такие дни были настоящими праздниками. Съезжались гости. Как и все настоящие баре, папа всегда бывал в хорошем расположении духа, когда принимал у себя гостей.
Окнами комната моя была обращена на Волгу, и я смотрела, как по жёлтой поверхности вод целые стаи уток важно плыли вниз по течению; они были очень похожи в этот момент на лакированных заводных игрушечных уток; и нужно же было, чтобы это совпадало как раз с теми моментами, когда моя гувернантка, м-ль Жоффр, втолковывала мне правила причастий: когда дополнение стоит впереди, оно согласуется, когда же оно стоит позади… Я вставала потихоньку, брала моё длинное заряженное дробью № 4 ружьё, и — бац-бац! — по птичьей флотилии. Слуги выезжали на лодках, вылавливали моих уток. А папа сердился, но только в том случае, если я таким манером не пристреливала по меньшей мере с полдюжины. После этого тебе нечего удивляться, что я иногда делаю ошибки в согласовании слов.
Для игры на фортепиано был приглашён профессор, итальянец. Он был республиканец. Двусмысленно улыбаясь, он давал понять, что он был побочным сыном Гарибальди. Я помню только его имя: Теобальдо. Однажды, когда мне было пятнадцать лет, он, перевёртывая за моей спиной страницы партитуры, которую я разбирала, поцеловал меня в шею. Надо сказать, что я немного его подзадоривала — чтобы посмотреть, что из этого выйдет, понимаешь? Я расхохоталась. Он решил, что я трепещу от волнения, и поцеловал меня ещё крепче, а я продолжала хохотать. Вошёл папа. Я была уверена, что мне попадёт. Но в комнате было темно. Он вышел, унося с собой сертиссер, который он оставил на столе: для мелкой дичи папа сам готовил себе патроны, он добивался большей кучности.
На следующий день мы вместе с мадемуазель Жоффр отправились погулять в сосновый лесок и забрались в чащу. Вдруг мы наталкиваемся на нечто крупное, мягкое, висящее на кедровом дереве. Это был бедняга Теобальдо. Испустив дикий крик, м-ль Жоффр пускается бежать. Я же, чтобы лучше рассмотреть его, повернула труп за ноги, но потом и сама пустилась наутёк что было мочи.
Его чёрный и распухший язык свисал по самый галстук. Глаза его выкатились из орбит. Но что было ужаснее всего, они хранили то выражение, какое было в них, когда он целовал меня. С тех пор мужчины всегда вызывали во мне отвращение.
Но вот я прочитала» Демона» Лермонтова. С тех пор я стала мечтательной. Это великий поэт; он выше вашего Виньи и даже Байрона. Я стала бледной; на щеках моих показались красные пятна. Приехал врач из Астрахани. Между нами, я сумела его уговорить, и он прописал мне пятигорские источники, а я этого только и хотела, так как там, ты, наверно, знаешь, был убит на дуэли Лермонтов.
Пятигорские воды падают каскадами из чёрных гранитных скал и блестящей слюды. Это очень величественно. Через какую-нибудь неделю я стала так скучать, что почувствовала себя здоровой.
Я уверена, что ни за что не выдержала бы там двухнедельный срок, назначенный мне отцом, если бы я не столкнулась с одним необычайно живописным французом. Это был политический изгнанник; кажется, он был другом Вальяна; одним словом, его изгнали из Франции при Карно и, как все его соотечественники, он отправился искать убежища в Россию.
Старик был образован, у него были оригинальные идеи. Я почувствовала особенное расположение к нему с тех пор, как м-ль Жоффр стала воздевать к небу руки и повторять: «Что скажет его сиятельство!» Он говорил мне о целом ряде людей, о которых я до того не слыхала: о Сен-Симоне, Анфантене, Базаре, Карле Марксе, Лассале с его железным законом и бог его знает ещё о ком.
Я никогда не читала Толстого. Старик дал мне «Воскресение». Я не имела представления об этом мире. Чтобы только позлить м-ль Жоффр, я попросила его объяснить мне социальные идеи Толстого. Старик ликовал.
В результате, покинув Пятигорск, я увезла с собой Барбессуля. Так звали француза. Можете себе представить изумление папы, когда он увидел нас с этим патриархом. Но так как я выглядела хорошо, он не сказал ни слова. Он, впрочем, привык к моим причудам.
Однажды, в феврале 1909 г., когда мне едва исполнилось двадцать лет, я выехала на лодке в один из рукавов Волги, поохотиться. Стреляю и вдруг вижу: стоит на берегу папин казак и неистово машет мне саблей, на острие которой он надел свою папаху. При этом он ещё кричит во всё горло, а что — не могу разобрать.
Я поняла, что в доме что-то случилось, но несмотря на всё моё любопытство, я почему-то хотела показать, будто я совсем этим не интересуюсь, и причалила к берегу не раньше, чем через час. Бедняга чуть не умер от усталости — так он махал и орал. Он мне сказал, что князь ждёт меня у себя в кабинете. Домой я шла совсем не торопясь, хотя я и была уверена, что меня ждёт нагоняй.
Ничего подобного. Папа был в самом восторженном настроении. Он меня поцеловал, потом показал мне лежавший на его письменном столе большой пакет с красной печатью и сказал, от кого это.
Оказалось, что бумага была от царя. Он уведомлял моего отца, что в мае месяце должен прибыть в Санкт-Петербург император Вильгельм, что будут большие празднества, и просил его прибыть.
Никогда, уверяю вас, дни не казались мне долгими в нашем волжском дворце. Несмотря на это, слушая отца, я испытывала безграничную радость, и с этой минуты я только и думала о том, как бы поразить петербургское общество. Целыми днями я только и делала, что смотрела на себя в зеркало, любуясь в нём своим отражением.
До этого времени я шила себе туалеты в Астрахани. Папа открыл мне неограниченный кредит, и я через два дня уехала с м-ль Жоффр. Но у меня были свои планы.
Я вернулась из Астрахани и заявила, что ничего там нет. Я плакала и уверяла папу, что я не хочу явиться ко двору одетой, как какая-нибудь дикарка. Вы понимаете, что я ни за что не хотела упустить такой прекрасный случай повидать Париж. Нужно лишь было суметь уломать папу. Я сразу поняла, что и ему доставит удовольствие повидаться со своими старыми парижскими знакомыми.
В первых числах марта мы уехали. Мне так прожужжали уши Парижем, что, приближаясь к нему, я одного только боялась — как бы меня там не приняли за ошалевшую от изумления провинциалку, а потому я, наоборот, решила прикинуться эксцентричной девицей.
У папы сразу оказалась куча необходимых визитов и масса деловых разъездов по Парижу. У Ритца, где мы остановились, я видела его только за обедом, да и то изредка. Он хотел, чтобы я отправилась к Редферн, но я, одержимая духом противоречия, пошла к Дусе. Никогда я не видела более забавной картины, чем м-ль Жоффр со своим пенсне, в чёрном атласном платье со стеклярусом, среди этих красивых девиц, проходивших передо мною по нескольку раз и кланявшихся, чтобы я могла остановить свой выбор.
— Что вам показать, ваше высочество?
— Всё, что у вас есть, — холодно отвечала я.
Мигом я заказала себе шесть вечерних туалетов, дюжину костюмов тайер, две амазонки и в соответственных количествах всё прочее.
Ни в одном туалете я не находила себя достаточно декольтированной. М-ль Жоффр зеленела от злости.
— Я осмелюсь вам доложить, — решилась сказать мне старшая манекенщица, — для молодой девицы это, пожалуй, будет немного рискованно.
Я попросила её знать свои примерки, и только. Впрочем, папа, заглянув однажды сюда, одобрил мой вкус, причём он посмотрел на меня таким взглядом, что я растаяла от гордости.
В этот же вечер папа, признавая себя виновным предо мною за то, что всё время оставлял меня одну, объявил мне, что мы пообедаем сегодня вместе, и распорядился, чтобы м-ль Жоффр ровно в восемь часов привезла меня на авеню Габриель к подъезду Лорана. Нечего и говорить, что в восемь часов там никого не было. Сев на скамью, я ждала. Чтобы как-нибудь убить время, я кинжальчиком, который был у меня на пряжке пояса, вырезала на скамье моё имя. Должно быть, оно ещё до сих пор там.
В десять минут девятого, увидев какого-то старика, вертевшегося возле нас, и желая несколько разрядить свои нервы, я велела м-ль Жоффр сходить на аллею Матиньон купить мне в табачной лавке коробку «Мерседес». Она немного заартачилась, но пошла. Тогда старик подошёл. Он был в клетчатых брюках и в сером котелке. Он стал мне болтать всякие глупости, заговорил о маленькой отдельной квартирке на улице Оффемон. Я отвернулась, чтобы он не заметил, что меня разбирает смех, но тотчас же услышала треск ужасной пощёчины. Оглянувшись, я увидела папа. Старик удалился с достоинством, проворчав, что, мол, нельзя даже и пошутить. При свете луны я увидела его серый котелок, превращённый в лепёшку.
М-ль Жоффр возвратилась с «Мерседес»в руках. Папа сухо сказал ей, чтоб она пошла обедать к Ритцу и легла спать.
У Лорана обедают на открытом воздухе, под роскошными деревьями, за маленькими столиками с абажурами. Была масса народа. Папа чувствовал себя там как у себя дома, лучше даже, чем в своём волжском дворце. Он представил меня целому ряду знаменитостей: Бюно-Варилла, Шарлю Деренню, де Боннефону, принцессе Люсьене Мюрат, Морису Ростану. Последний мне очень понравился: он был похож на мальчика из хора во время розовой мессы. Мы постоянно переписываемся, и он должен приехать ко мне сюда, в Лаутенбург.
В одиннадцать часов папа отвёз меня обратно к Ритцу, сказав, что ему нужно ещё в посольство на улицу Гренель. Но вы хорошо понимаете, как мне хотелось спать после всего этого? М-ль Жоффр храпела, как нюренбергский волчок, и я не думала, что мне удастся её разбудить. Можете себе представить её до крайности изумлённую физиономию, когда я объявила ей, что папа назначил нам свиданье в полночь, и что ей нужно встать.
На улице Де-ла-Пэ мы взяли таксомотор.
— В «Грело», — скомандовала я шофёру. Название это слышала я у Лорана.
«Грело» — это на Белой Площади. Сомневаюсь, чтобы ты, мой дорогой друг, столь серьёзный, вечно занятый науками, бывал когда-нибудь в этом злачном месте. Когда мы туда вошли, я несколько позавидовала успеху, который выпал на долю стеклярусного корсажа м-ль Жоффр. Один прожигатель жизни, совсем уже опьяневший, закричал: «Это м-м Фалльер». И вот вся зала стала петь хором знаменитую песенку с этим припевом:
Тётя Жюли, Дядя Феодул,
Тётя Октави, Дядя Фразибул,
Тётя Софи, Кузен Тибул,
Кузен Леон, и Тимолеон.
Я смеялась от всей души, и моя естественная весёлость передавалась всей компании, которая к моменту нашего появления, по-видимому, порядком скучала.
Мы пили шампанское, пили без меры. Потом стали танцевать. Нашёлся только один цыган, который сумел приличным образом протанцевать со мною вальс. Нам устроили настоящую овацию.
Музыкант-негр подошёл пригласить м-ль Жоффр. Хотите — верьте, хотите — нет, она согласилась. После шампанского это была совсем другая женщина. Ко мне подсели две танцовщицы, одна брюнетка, Зита, в синем платье с серебром, другая — Креветта, вся в розовом, она стала называть меня княжной, не зная, что я действительно княжна. Они ели моё печенье и выпили моё шампанское, а я, я была счастлива, счастлива и уже будучи изрядно под хмельком, повторяла: «Как прекрасен, как прекрасен Париж».
Вдруг я обратила внимание, что у многих из этих бедных девушек шёлковые чулки над лакированными ботинками были заштопаны. Тогда я закричала: «Внимание!»и швырнула им целую горсть луидоров. Они все бросились их поднимать, большую часть подняли, но я видела, как на пять или шесть монет очень шикарные мужчины наступили ногой.
Я готова была провести здесь всю ночь, как вдруг в соседней зале громко закричали:
«Лили, Лили, вот Лили! Да здравствует Лили!»Я оглянулась. Смотрю, папа. Это его так прозвали — Лили, по его имени Василий. Он тоже был очень и очень навеселе, и вёл под руки двух девиц, столь красивых, что меня даже ревность взяла.
Он слишком был занят, чтобы меня заметить. Моментально я решила удрать. Но не так-то легко оказалось увести м-ль Жоффр. Вышла целая история. Ей не хотелось расставаться со своим негром. В таксомоторе она во всё горло распевала:
Эрнестинка,
Эрнестинка
Надевай свои ботинки.
Вдруг она уткнулась носом в оконное стекло, и горько рыдая, стала жаловаться, что я отношусь к ней без всякого уважения.
От Дусе папе прислали счёт в тридцать восемь тысяч шестьсот франков. Он не протестовал. Я решила, что требования его дочери были скромнее, чем требования некоторых других особ, и мне стало досадно.
Возвратившись в Россию, мы застали новое письмо царя, уведомлявшее, что прибытие кайзера в Санкт-Петербург назначено на 15 мая.
Петербург — большой город, с казармами и церквами и огромными садами. Сразу видно, что человек, который некогда начертал план этого города, имел идеи ясные и точные.
Через два дня после нашего прибытия в Петербург возвестили о приближении эскадры кайзера. Царь и великие князья выехали ему навстречу в Кронштадт.
С тех пор я столько видела прибытий коронованных особ, что у меня почти изгладилось из памяти это торжество, но всё же скажу, что оно было очень красиво.
С моего балкона я видела, как блестящий кортеж подъехал ко дворцу. Белые кирасиры галопировали около дверец колясок. Почётный караул нёс Преображенский полк.
Под нежным, покрытым облачками небом Ботнического залива латы и сабли отливали синим и жёлтым.
Начался бесконечный приём. Я имела успех.
Кайзер взял меня за руку и подвёл к императрице.
Старая наседка, вся в кружевах и страусовых перьях, поцеловала меня и сказала, что очень любила мою бедную маму. Фридрих-Вильгельм и принц Альберт всё время пялили на меня глаза, чтобы не сказать больше.
Я занята была всё послеполуденное время приготовлениями к балу. Я беспокоилась, что не буду иметь успеха, и стала нервничать и из-за пустяков ссориться с м-ль Жоффр. Можно было думать, что я как бы предчувствовала, что в связи с этим проклятым вечером на меня свалятся всякие напасти.
Трудно себе представить всю красоту бала в Петергофе.
На мгновение я оробела, подумав, не слишком ли я декольтирована, но страх мой улетучился, когда я заметила, какой блестящий эффект я произвела. Надо вам сказать, что на мне был лучший туалет от Дусе, который шёл у меня под номером первым: бархатное платье сапфиро-синего цвета, очень простое, но нужно было видеть, как оно меня облегало; из украшений одни только сапфиры. Словно дитя, я тут же стала думать о моём завтрашнем успехе. «Какой будет фурор, — сказала я себе, — когда они увидят мой красный туалет, номер второй, украшенный рубинами».
Начались танцы. Я была счастлива, когда увидела, как эти немки, привыкшие к медлительному вальсу, сбивались с такта, танцуя наш столь нервный русский вальс; чтобы продолжать дальше, они один или два такта прыгали на одной ноге, или просто выжидали, как цапли.
Уже с самого утра среди офицеров кайзера я заметила высокого гусара в пунцово-красной форме, с оранжевыми бранденбургами. Он был рыжий блондин, с добрыми близорукими глазами, синими, упрямыми, без устали глядевшими на меня сквозь монокль. Само собой разумеется, я делала вид, что не замечаю его. Я была поражена, если бы в ту минуту кто-нибудь сказал мне, что в один прекрасный день и мне придётся надеть эту красную гусарскую форму.
— Аврора, — обратилась ко мне императрица, — это кузен Рудольф, великий герцог Лаутенбург-Детмольдский, он просил вас оказать ему честь протанцевать с ним.
Танцевал он ужасно, этот красный гусар; для него это была сущая пытка; он стал извиняться. Я ничего не ответила; когда кончили танцевать, я даже его не поблагодарила. Он снова сел позади императрицы и стал протирать своё пенсне; вид у него был до того несчастный, что даже камень разжалобился бы.
На следующий день мне сказали, что через два дня будет охота на лисиц. Как я была себе самой благодарна, что мы привезли Тараса Бульбу, этого злого степного конька.
Я пошла взглянуть на него в казармы, где стояли наши казаки. Он вёл себя до того несносно, что его заперли в особую конюшню, где он, лягаясь и брыкаясь, сломал копытами чуть ли не полдвери.
Увидев меня, он радостно заржал и жадно съел принесённый мною сахар.
— Детка моя, — сказала я, запустив руку в его длинную косматую гриву, — мы в грязь лицом не ударим, мы всех оставим позади; что, не правда?
Он сумел мне показать, что он меня понял. Я вышла и отправилась к себе примерять амазонку.
У себя я застала папа. Вид у него был торжественный и важный. Это всегда означало что-нибудь неприятное, в этих случаях я всегда боялась сюрпризов.
Я заметила, что папа всё мялся, не зная, с чего начать, и я насторожилась.
— Нельзя ли поскорее, — сказала я ему, — мне нужно одеваться.
— Дочь моя, я должен серьёзно с тобой поговорить.
— Из этого не следует, что вы не должны торопиться.
— Хочешь быть королевой?
— Какой королевой?
— Вюртембергской.
Нужды нет, что я воспитывалась среди дикарей, — Готский альманах я знала хорошо. А потому я спросила отца, не собирается ли он выдать меня замуж за короля вюртембергского, которому тогда было шестьдесят два года.
— Не король вюртембергский делает мне честь просить твоей руки, а великий герцог Лаутенбург-Детмольдский.
Хотя папа и сам был сиятельная особа, тем не менее он до того носился со всеми этими величествами и высочествами, что я рассердилась.
— Как, — воскликнула я, — этот омар в шафране? Ни за что на свете.
— Послушай, будь серьёзна.
— Ни за что, ни за что в жизни, — повторяла я, топая ногой. — Впрочем, я не понимаю, что общего между этим близоруким рыжим дяденькой и вюртембергской короной.
— То общее, — объяснил мне важно отец, — что у короля вюртембергского нет детей, что ему, ты правильно сказала, уже шестьдесят два года, что он страдает диабетом, и что великий герцог Лаутенбургский его наследник.
— А мне и на это наплевать. Наконец, я не хочу выходить замуж.
Папа начал сердиться. Он рассказал мне целую историю. Рудольф Лаутенбургский влюблён безумно. Он говорил уже с императрицей, своей крёстной, та — с кайзером, этот — с царём, а царь — с папа. Такого рода предложение, не говоря уже о высокой чести, есть почти приказание и…
— И что же, вы дали согласие, не посоветовавшись со мной? — воскликнула я.
— Не совсем, — смущённо ответил он, — но пойми, не мог же я не поблагодарить за честь и не принять…
— Что принять?
— Принять нечто такое, что ни к чему не обязывает, а именно просьбу великого герцога быть твоим кавалером послезавтра на лисьей охоте.
— Ну, если только это, то можете рассчитывать на меня, я отобью у этого немца охоту искать богатых наследниц в России.
— Дай мне слово, что ты будешь вести себя солидно, — стал умолять меня отец, не на шутку встревоженный моим ответом. — Ты заставляешь меня раскаиваться в том, что я тебе всегда давал свободу. Подумай только, что дело идёт ни больше ни меньше, как о королевской короне.
Королевская корона! Его дочь — королева! Вот что взбрело на ум старику.
Вечером, уже будучи в карете, я, по пути во дворец, где был назначен торжественный приём, поняла, что папа зашёл гораздо дальше, чем он решился мне признаться.
Наступил день охоты. Я боялась только одного — как бы нам не пришлось охотиться на каком-нибудь приглаженном и подчищенном месте. Но я скоро убедилась, что это опасение не имело никаких оснований. Правда, в лесу были широкие аллеи (ради дам), но уже в стороне от аллей начинался густой лес, попадались ручьи, там и сям лес пересекали рытвины и неглубокие овраги.
Тарас Бульба был резв и вёл себя прилично, несмотря на то, что перед отправлением на охоту ему, по моему распоряжению, дали полфунта сахару, смоченного виски.
Я бы скрыла правду, если бы не сказала вам, что его появление вызвало восклицания. Кронпринц спросил у меня, почему я не велела его остричь.
— Пусть они зря болтают, старый товарищ, — сказала я, ласково потрепав шею моему коньку.
Тот как бы понял меня и насмешливо покачал головой.
Ко мне подъехал великий герцог Рудольф. Я была с ним так любезна, что бедняга, расхрабрившись, сказал мне вполголоса:
— Если вы ничего не имеете против, разрешите мне быть вашим кавалером.
— Вы могли сомневаться в моём согласии? — ответила я. — Этот двор невыносим. Там вам буквально не дают покоя. А здесь простор, здесь вольно дышится и мы можем свободно беседовать.
— Вы любите природу? — воскликнул он в восторге. — Как я счастлив!
Я тоже была очень довольна: я чувствовала, что он не оторвётся от меня ни на шаг.
Выпустили первую лисицу. Это обошлось бы без всяких особенных приключений, если бы Тарас Бульба не пришёл в раж от звука рогов, не сделал прыжка и не положил своих передних ног на круп кобылы Альберта, который чуть было не слетел с седла. С этого момента все стали сторониться моего степнячка, как заразы.
Под великим герцогом Лаутенбургским был конь породы, которую так любят немцы: высокий, каурой масти, с толстыми, как окорока, бёдрами и со спиной широкой, как бильярд. В довершение всего этот мастодонт был тугоузд и на галопе прятал голову между ногами.
«Бедный ты мой, — подумала я, — как-то ты будешь перескакивать через рвы».
Вторую лисицу и третью убили без особых затруднений. Но вот выгнали четвёртую. Вдруг она промелькнула между мной и великим герцогом. Я успела её разглядеть: она была худая и почти без хвоста.
— Пошли! — закричала я Рудольфу.
Он пришпорил своего ломовика, и тот пустился полевым галопом.
Лисица была уже далеко впереди, метрах в ста.
Славный зверёк! Он вёл нас прямо в чащу.
Время от времени великий герцог поворачивался ко мне:
— Я не очень гоню? Вы поспеваете за мной? — спрашивал он меня, еле переводя дух.
— Вперёд, вперёд, — отвечала я.
А Тарас Бульба только сопел, словно с своей стороны понукая его:
— Вперёд, вперёд!
Мы очутились в самой чаще леса. Я только дотронулась до шеи моего степняка и слегка отпустила поводья. Минута — и великий герцог стал сильно отставать.
Я ещё успела разглядеть его побагровевшее лицо; он запыхался, теперь он был уже в четверти версты позади.
Тарас Бульба замедлил свой бег.
— Я сильно испугался за вас, — сказал, подъехав ко мне, мой бедный кавалер. — Я был уверен, что ваша лошадь понесла.
— Осторожно, — закричала я.
У меня под самыми ногами оказался ручей. С грехом пополам он его перескочил. Впереди, на небольшом открытом месте, косогором спускавшемся вниз, преследуемая тремя собаками, неслась лиса.
Снова лесная чаща. Я низко пригнулась к шее лошади. Тарас Бульба прокладывал себе путь, раздвигая своей мордой ветви, которые тотчас же сдвигались, не задевая меня по лицу. Но у моего спутника вся физиономия была в крови. Дубовой веткой сорвало с него пенсне. Я чувствовала, как он стал беспомощен. Лошадь его дышала тяжело, как волынка.
— Смелей, — кричу я, — лисица уже выдыхается, — и я слегка тронула шпорой Тараса Бульбу.
Мой конёк не любит таких шуток. В ответ на это он сделал огромный прыжок. Его товарищ сзади еле поспевал, с ужасным треском ломая ветки.
— Ты у меня смотри, — сказала я, — ты начинаешь выдыхаться. На следующем препятствии у тебя будет осечка.
Это следующее препятствие не замедлило явиться: рытвина футов в пятнадцать шириной и столько же глубиной, с неясно очерченными, чертовски предательскими краями. На секунду я даже призадумалась, справится ли с этим препятствием мой Тарас Бульба при таком пэйсе. Но мгновение — и, взлетев, как ласточка, моя славная лошадка перескочила через препятствие.
Я оглянулась, уверенная в том, что сейчас произойдёт.
Так и было. С грохотом и лошадь, и всадник повалились на землю. Тяжёлая лошадь не донесла задних ног до края оврага и беспощадно сбросила седока на землю.
Я мигом долой с коня и подбежала к великому герцогу, смутно опасаясь, что шутка моя зашла слишком далеко.
— Вы расшиблись? — вскричала я.
— Не думаю, — слабым голосом пробормотал он. — Я так испугался за вас, когда увидел, как вы ринулись через этот проклятый ров.
Бедняга, мне захотелось попросить у него прощения.
— Вы позволите мне помочь вам подняться? — сконфуженно сказала я.
— Пожалуйста.
Я попробовала поднять его на ноги, но тщётно. Тогда только я заметила, как он бледен.
— Вы сломали себе правую ногу, — вскричала я.
— О, не думаю, — произнёс он со своей обезоруживающей кротостью. — Самое большее — вывих.
— Я вам говорю, что сломана нога. Я в этом хорошо разбираюсь.
И в ту же минуту своим охотничьим ножом я разрезала сапог; смотрю — нога болтается.
— Нечего сказать, хороши мы, — подумала я, — ведь мы по меньшей мере в шести верстах от охотников.
Он не говорил больше ни слова. Он глядел на меня своими добрыми и кроткими глазами. Можно было бы подумать, что он был счастлив; он даже пробормотал: «мерси».
— За что? — воскликнула я. — Я сломала вам ногу, a вы меня благодарите. Дайте мне, по крайней мере, выручить вас из этой беды.
— Нет, вы лучше возвращайтесь и пришлите мне загонщиков, — сокрушённо ответил он.
— Вот так так, — сказала я, взбешенная. — Вернуться без лисицы, а когда меня спросят, где великий герцог Рудольф, что я отвечу? Что я оставила его бог знает где со сломанной ногой? Нет!
— Как вам угодно, — ответил он ослабевшим голосом. — Но я не знаю, как вам удастся это, сделать.
— А вот вы увидите.
Мастодонт стоял в нескольких шагах от нас и, как дурак, жевал траву под насмешливым взглядом Тараса Бульбы.
— Ну, иди сюда.
Когда я его подвела, я поняла, что у меня не хватит сил, чтобы посадить на него великого герцога.
— Не понимаю, — сказала я, вся кипя негодованием, — как может прийти в голову ездить на этаких чудовищно высоких лошадях.
Пострадавший посмотрел на меня всё тем же молившим о прощении взглядом; это, наконец, стало меня раздражать.
— Тарас Бульба, — позвала я.
Степнячок подошёл, но неохотно. Он подозрительно косился: ему что-то это не нравилось.
Рудольф Лаутенбургский не мог удержаться, чтобы не скрыть своего испуга.
— Вы хотите посадить меня на этого коня? Я предпочитаю остаться здесь.
— Ни за что, — ответила я, топнув ногой. — Тарас Бульба смирен, как ягнёнок. Держитесь хорошо.
И тяжёл же был этот немец! Тем не менее мне всё-таки удалось поднять его с земли и крепко привязать к седлу поводьями.
А я села на мастодонта.
Вы понимаете, какой идиоткой называла я себя на обратном пути: мне только удалось сделать предметом сострадания человека, которого я хотела ненавидеть. И затем этот изумлённый взгляд моего Тараса Бульбы. Достаточно было причин, чтобы я вышла из себя.
— Что же я сделал, — казалось, говорило животное, — что ты заставила меня тащить немца, а сама предпочла мне эту подлую каурую скотину без гривы и с копытами величиной с жаровню?
Никогда не следует ломать ноги тем мужчинам, за которых мы не желаем выходить замуж. Нет надобности рассказывать вам, что затем произошло. Такие типы, как я, связаны бывают только своими собственными поступками; я была связана актом совершённого мною спасения так, как все кайзеры мира не могли бы связать меня.
Можете себе представить сенсацию, произведённую моим появлением верхом на огромном кауром, в сопровождении Тараса Бульбы, с болтавшимся на нём почти поперёк великим герцогом. Тотчас же охота была прекращена. Все засуетились. Я должна была рассказать, что и как случилось; я это сделала по возможности короче, как говорят о вещах, которыми не считают нужным гордиться. Но пострадавший, со своей стороны, сообщил много подробностей. Лихорадочное возбуждение придало ему красноречия, и я в глазах всех оказалась героиней. Мне пришлось выслушать поздравления всего двора.
Кайзер, которому всё представляется в ложном свете и грандиозных размерах, провозгласил:
— Очаровательное существо это милое дитя; уже в первый день ухитрилась спасти жизнь своему нареченному!
Императрица меня расцеловала. Это забавная привычка в их семье. Отец мой был на седьмом небе.
— Поздравляю вас, ваше величество, — сказал он мне на ухо.
Я не знала, куда деться от бешенства, но улыбалась.
Свою злость я сорвала на Тарасе Бульбе: по возвращении во дворец я здорово отстегала его хлыстом, больше, чем ему когда-либо доставалось впоследствии.
У меня есть одно достоинство: во всех положениях я люблю точность и
ясность. Я сознавала, что в значительной мере по собственной вине я зашла так далеко, что выйти из создавшегося положения я могу лишь при помощи скандала. А скандалы всякой княжне внушают больше страха, чем даже уверенность в том, что она будет несчастна, и я решила в этот же вечер поставить тому, которого при дворе уже называли моим женихом, свои условия.
Я обратилась к нему с просьбой принять меня. Он принял меня тотчас же, после того как отпустил врача, наложившего ему шину.
Когда мы остались наедине, я обратилась к нему приблизительно со следующими словами:
— Мой поступок, быть может, вас удивит. Но я имею привычку и всегда буду иметь её — делать то, что я считаю полезным, не беспокоясь о том, согласно ли это с правилами приличия. И вот я считаю в высшей степени полезным сказать вам следующее:
— Я приехала в Петербург, чтобы сопровождать своего отца, и ради предстоявших здесь больших торжеств, словом, для того, чтобы повеселиться, но вовсе не для того, чтобы найти себе здесь мужа. Вы, надеюсь, окажете мне эту честь и поверите мне, что я отвергала до сих пор всех искателей моей руки, а их было столько, сколько в России губерний.
— И вот я приезжаю сюда. Не знаю, что им взбрело всем в голову? Но выходит, что я должна выйти замуж. Я говорю вам об этом вовсе не для того, чтобы сказать вам неприятное. Но в конце концов, три дня назад мы в глаза не видели друг друга.
— Так или иначе, я вижу себя как бы обязанной выйти за вас замуж. Обстоятельства сильнее нас. В нашем деле заинтересованы четыре императора и императрицы, несколько корон и, наверное, пара государственных бюджетов. Я чувствую, что отец мой заболеет от огорчения, если я не сделаюсь королевой. Он увидел уже, что это так возможно. Наконец, я виновна в том, что вы сломали себе ногу.
Он сделал жест:
— Не будем об этом говорить.
— Нет, напротив, мы поговорим с вами и об этом. И я заявляю вам прямо — именно этот несчастный случай, в котором виновата одна я, заставляет меня сделать шаг, о котором я ещё вчера даже и слышать не хотела. Только благодаря этому случаю я имею право сказать себе самой, что я выхожу замуж не совсем по расчёту, а это такой девушке, как я, довольно приятно.
— Я готов сломать себе и другую ногу и ещё обе руки в придачу, — сказал он кротко, с грустью в голосе, — чтобы только не слышать из ваших уст этого ужасного слова — брак по расчёту.
— Я кончаю, — возразила я, нисколько не растроганная его замечанием. — Я согласна быть вашей женой, но на следующих скромных условиях.
— Говорите, говорите, — с силой промолвил он, — вы знаете, что я заранее даю вам согласие на всё, чего вы ни потребуете.
— О! о! Не слишком ли вы спешите с вашим согласием? — сказала я, улыбаясь. — Вы сами, быть может, сейчас же в этом убедитесь. Так вот, мой дорогой друг (это слово я произнесла с особым ударением), я с детства пользовалась полной свободой, и я требую, чтобы я не была лишена её и по выходе замуж. Я хочу, чтобы мы на этом согласились, никаких изменений в этом пункте, понимаете вы, никаких…
— Как вы можете думать…
— Поймите точный смысл моих слов, — прервала я его. — Предположите, что с вами говорит не девушка и не женщина, и тогда вы поймете моё условие. Союз наш должен быть исключительно договором дружбы, всё прочее из него исключается. И это моя непреклонная воля.
Не знаю, продолжай я дальше, сумела ли бы я хорошо закончить эту несколько рискованную речь, но он облегчил мне эту задачу своей чисто мужской, неумной и бестактной выходкой.
— Вы любите кого-нибудь? — сказал он хрипло.
— Будьте приличны, а главное, не говорите глупостей, — ласково возразила я. — Но так и быть, скажу вам прямо: я не люблю никого. Но так как это слово употребляется в самом различном смысле, то я объясню вам: я не люблю никого и ничего, кроме моей родины, охоты, моего отца, цветов, моей свободы делать что мне угодно и ещё двух-трёх вещей, не способных возбудить ревность. Чувство, кстати сказать, достойное сожаления, когда приходится констатировать его у умного человека. Вы удовлетворены?
Его лицо искривилось улыбкой.
— Это, — заметила я, — наш частный договор. О формальном контракте и обо всём прочем пусть позаботятся канцелярии. Я это презираю, надеюсь, что и вы тоже. Нет надобности прибавлять, что вы всегда найдёте во мне подругу жизни, достойную вас, которая всегда будет на высоте обстоятельств, каковы бы они ни были, и сумеет подобающим образом носить эту достославную вюртембергскую корону, если только она будет возложена на мою голову. Вот вам моя рука.
Он взял мою руку и горячо её поцеловал. Его глаза, до того горевшие лихорадкой, загорелись выражением радости, и я не могла прийти в себя от изумления, что он так легко мне уступил.
Потом вдруг я поняла его расчёты: «Я буду к ней добр, так буду предупредителен к ней, так буду её любить, что через некоторое время — когда, я даже не желаю предвидеть, — она в конце концов будет растрогана».
Угадывая мысли этого бедняги, я действительно не могла удержаться, чтобы не расчувствоваться, — до того они были наивны. Расстались мы лучшими друзьями в мире.
Возвращаясь к себе, я услышала страшную суматоху на парадном дворе. Оказалось, что Тарас Бульба, соскучившись в своей конюшне, вышиб дверь, затоптал конюха и двух часовых и, выбежав во двор, стал звать меня оттуда своим ужасным ржаньем. И мне стоило гораздо большего труда убедить его вести себя спокойно, чем только что перед тем великого герцога Рудольфа.
Сделавшись великой герцогиней Лаутенбург-Детмольдской, я прежде всего, с осени 1909 года, занялась улучшениями, которые внесли бы в здешнюю их жизнь известный комфорт. Сады были совершенно запущены, дворец полон собранием таких отвратительных вещей, от которых отказался бы и негритянский король.
Я скоро привела всё это в порядок.
Мелузина, приехавшая летом 1910 года, может сказать тебе, что жизнь моя тогда была приблизительно такою же, как и теперь, с тою, впрочем, разницею, что тогда я могла в моменты сплина спасаться в Россию и проветривать себе там мозги.
Но кто очень изменился, так это великий герцог Рудольф. Он не перестал, правда, окружать меня самым трогательным вниманием, бедняга! Но когда, по прошествии года, он совершенно убедился, что его невинные расчёты не оправдались и не оправдаются никогда, что я всегда буду для него только тем, чем обещала, и ничем больше, он сделался очень угрюм и прекратил всякие выезды. Его прозвали в Лаутенбурге Рудольфом Молчаливым.
Хуже того, он испортил себе отношение с кайзером. Вильгельм II считает себя чем-то вроде Людовика XIV. Он сердится на германских князей, не являющихся в Берлин на поклон, и обвиняет их в сепаратизме. А Рудольф
совершенно перестал показываться при дворе.
В Лаутенбурге он не хотел никого видеть. Седьмой гусарский полк должен был обходиться без своего полковника. Полдня и полночи он проводил в библиотеке, роясь в сочинениях по минералогии, своей любимой науке. А когда приехал сюда г. фон Боозе, он стал проводить там всё время.
Мелузина знала его, этого Боозе, одно имя которого тебя бросает в дрожь. Скажи ему, Мелузина, что более плохого партнёра в бридж нет на свете. Он играл только в классический и не хотел признавать никакого другого. О вертящихся коронках нечего было и думать. Я просила великого герцога уступить нам его в качестве четвёртого, но он оказался таким неумелым и нечестным, что я скоро отправила его назад к его милой науке.
Нужно отдать ему справедливость — учёным он был большим. Представь себе, что в тридцать два года, простой сапёрный поручик, он читал лекции по топографии в Военной Академии. Книга его «Архитектоника ганноверской равнины» ценится во всей Европе. Однажды в Берлине он дал пощёчину полковнику, утверждавшему, что в Гарце имеются напластования четвертичного периода. Рудольф, восхищавшийся его работами, свидетельствовал в защиту его на военном суде. Благодаря его вмешательству Боозе присудили только к двум месяцам заключения в крепости. Когда он отбыл наказание, муж мой добился, чтобы его назначили в батальон третьего сапёрного полка в Лаутенбурге.
Весною 1911 года я отправилась в Россию к папе, чтобы вместе с ним провести Пасху. Там-то и получила я от великого герцога Рудольфа письмо, которое я тебе показывала. Он сообщал мне, что кайзер вызывал его, чтобы спросить, не согласится ли он оказать империи услугу своими научными познаниями. Последние исследования установили существование в Камеруне громадных и богатейших залежей руды. Необходимо было хорошенько проверить это и вместе с тем определить внутренние свойства почвы смежных областей, чтобы убедиться, стоит ли Германии присоединять их к себе. Эти области, с сожалением должна я сообщить тебе, дитя моё, находятся как раз в той части Конго, которую Франция уступила Германии по договору 1912 года.
И Рудольф отправился туда вместе с Боозе. С плохо разыгранной холодностью извинялся он, что ввиду спешности императорских предписаний он покидает Европу, не повидавшись со мною; он прибавлял при этом, что ему позволяет поступить так только уверенность в том, что путешествие его не окажет никакого влияния на ход моей жизни. Он сильно ошибался в этом, бедный друг.
Из Парижа, из Бордо, из Сен-Луи в Сенегале я получала от него письма. Также два или три из Конго, я показывала их тебе. Затем настал довольно длинный промежуток, затем зять мой, Фридрих-Август, приехал в Лаутенбург с печальным известием. Великий герцог умер от солнечного удара в Сангха, почти у цели своего пути. Последним словом его было моё имя.
Мелузина может подтвердить тебе, что я оплакивала Рудольфа, и не так, как оплакивала бы я Тараса Бульбу, если бы он умер завтра. Перед этою лошадью я никогда ни в чём не была виновата. По отношению к Рудольфу я всегда вела себя честно и искренне, а между тем я испытывала такое чувство, точно я была причастна к его смерти.
В память того, кто покоится там, в растрескавшейся от жгучего раскалённого солнца глинистой почве, я устроила вместо похорон торжественную службу. Император, императрица и все германские владетельные князья присутствовали на ней. Красные лаутенбургские гусары с крепом на саблях отдавали честь, и мундиры их приводили мне во время богослужения на память бедного красного гусара в Петергофе, так плохо танцевавшего и такого доброго.
Ты знаешь и не особенно любишь Гагена, моего юного ординарца. Трудно сказать, что преобладает в нём — преданность или любовь. Преданность позволяет нам полагаться на человека во всём, а любовь даёт ему по отношению к нашим интересам прозорливость, которой нет у нас самих. Ни я, ни Мелузина через полгода после смерти Рудольфа не подозревали того, что со мной должно было случиться. Я исполняла обязанности правительницы с усердием, удивлявшим меня. Я председательствовала в совете и на собраниях; я подписывала законы, отменяла решения судов, назначала чиновников ко всеобщему, как мне кажется, удовольствию.
И никогда в городе Лаутенбурге не царило такого порядка, как во время моего правления.
Но Гаген был настороже. С каждым днём он становился заметно мрачнее. Я терпеть не могу видеть вокруг себя вытянутые лица, и, в конце концов, я потребовала, чтобы он либо объяснил мне, в чём дело, либо поехал куда-нибудь поправлять расстроенное здоровье. Он упал к моим ногам.
— Как же мне не быть таким, — рыдая, произнёс он, — когда вы будете принадлежать другому?
И он не мог опомниться, когда я уверила его, что совершенно не понимаю, о чём он говорит.
— Возможно ли это, — пробормотал он, — ведь в Берлине, да и здесь тоже, только и разговору, что о вашей близкой свадьбе с герцогом Фридрихом-Августом.
Это было уже слишком. Женщину, какой я себя считаю, можно выдать замуж раз, врасплох, но два раза — извините!
Тем не менее, когда Гаген, по нескольку раз в месяц ездивший в Берлин, сообщил мне все свои сведения, я поняла, что положение дел серьёзно. Ещё лучше поняла я это на другой день, получив письмо от отца. Было ясно, что его основательно обработали, затронув его слабую струнку — возведение его дочери на королевский престол.
Как скучно мне входить в объяснения, чтобы сделать для тебя ясным всё последующее, в династические подробности! Остановлюсь на них как можно короче. Для чего стала я великой герцогиней Лаутенбургской? Для того, чтобы, согласно желанию папы, превратиться, после смерти короля Альберта, в королеву Вюртембергскую. В Лаутенбурге престолонаследие не основано на салическом законе и после смерти Рудольфа я по-прежнему оставалась великой герцогиней. Но вступление на Вюртембергский престол ограничено этим законом. Только великий герцог Лаутенбургский может сделаться Вюртембергским королём. Значит, для того, чтобы стать королевой Вюртембергской, мне надо было превратить герцога Фридриха-Августа в великого герцога Лаутенбург-Детмольдского, выйдя за него замуж.
Цель папиного письма состояла в том, чтобы склонить меня на этот брак.
Мне сдаётся, что в ответе, который я тотчас же написала ему, я несколько забыла о том, что дочь, несмотря ни на что, должна оставаться неизменно почтительной к отцу.
Но ты должен понять, что я была вне себя. Пожалуй, меня принудят таким образом перевенчаться со всею Германией? Какое счастье для женщины, которая хотела никогда не выходить замуж!
Прошло, может быть, около недели, и я получила письмо от императрицы. Она называла меня в нём, разумеется, «дорогое дитя», осыпала меня самыми ласковыми любезностями, но приглашение явиться в Берлин, заключавшееся в этом письме, было, несомненно, приказанием…
Я повиновалась ему, как ты легко можешь себе представить, не столько из кротости, сколько из желания удостовериться в том, что затевает по отношению ко мне двор.
Я взяла с собою Мелузину и Гагена. Императрица приняла меня со смущенным видом, который я предвидела и который отразился на её объяснениях. Стоит ли передавать тебе их?
L'amour ne regie pas le sort d'une princesse.
La gloire d'obeir est tout ce qu'on lui laisse.
Любовь! Повиновение! К чему мне было толковать ей, что рассуждения её неправильны, что я никогда никого не любила и что уж во всяком случае не для того, чтобы повиноваться, вышла я в первый раз замуж. Бедный Рудольф уже не мог подтвердить нашего частного тайного договора, освобождавшего меня как раз от этих двух вещей. Да и к чему было спорить с доброй женщиной, повторявшей затверженный урок?
Я слушала её, стиснув зубы и не произнося ни слова. Когда она кончила, в достаточной мере запутавшись, я спросила:
— Позволено ли мне будет спросить ваше величество, на какое число назначена моя свадьба с герцогом Фридрихом-Августом?
Она стала возражать, утверждая, что кайзер вовсе не имеет намерения торопить события, что число ещё не установлено.
— Установлен только принцип, — сказала я. Она не ответила.
Я вернулась к себе совершенно спокойная.
— Я еду сегодня вечером в Астрахань, — сказала я Мелузине и Гагену, в тревоге дожидавшимся меня.
— Велите уложить чемоданы. Кто меня любит, тот за мной следует.
Гаген передал мне почту, пересланную мне из Лаутенбурга. На одном из пяти или шести писем была русская марка. Я узнала почерк папы.
Ах! Они умело воспользовались моею беспечностью. Я узнала впоследствии, что письмо, которое я отправила отцу недели две назад, передал специальный посланный кайзера. Ему не пришлось прибегать к большой дипломатии, чтобы убедить моего отца. Пресловутая Вюртембергская корона ещё раз сыграла свою роль. В очень сдержанных, но непреклонных выражениях папа диктовал мне свою волю: выходить замуж за Фридриха-Августа, не то…
Я не могла читать дальше, я разорвала письмо на тысячу кусков; я тотчас же составила телеграмму, около тридцати безумных слов, полных мольбы и угрозы, на имя князя Тюменева.
— Ты помнишь, Мелузина, мы опасались берлинского чёрного кабинета. Ты села на поезд и поехала отправлять эту депешу в Кепеник.
Когда ты покинула меня, я почувствовала, что чаша переполнена, и залилась слезами. То были бурные слёзы, слёзы ярости. Я ещё вижу себя в этой отвратительной берлинской комнате. Гаген рыдал у моих ног. Он сжимал мои пальцы, даже, честное слово, мои локти, он покрывал их слезами и поцелуями! «Куда хотите, когда хотите, — бормотал он, — я всюду последую за вами». В конце концов, я испытываю некоторую гордость при мысли, что только от меня зависело заставить прусского офицера отречься от армии и родины.
Но очень скоро прикосновение его усов к моей руке вернуло меня к сознанию действительности. Я подумала о Луизе Саксонской, о гнусных цыганах, которые пользуются известностью, доставленною им объятиями королевы, для того, чтобы получать деньги. Я оттолкнула ни в чём не повинного Гагена и вновь овладела собою.
В ожидании телеграммы я два дня не выходила из дому. Наконец, она пришла, маленький, синий клочок бумаги. Ты смотрела на меня, Мелузина, и я распечатала её с улыбкой. Она содержала в себе следующие простые слова:
— Я увижу мою дочь только после того, как она исполнит свой долг.
Ах! Старик был беспощаден!
Я прочла и замертво упала на ковёр.
Я знаю, друг, что здесь я должна остановиться, чтобы объяснить тебе, в чем дело, иначе всё дальнейшее может показаться тебе непонятным. Каким образом, вероятно, говоришь ты себе, удалось подстроить всё так, что воля
Авроры была сломлена? Каким образом этот невидимый и могучий Фридрих-Август заставил плясать под свою дудку императрицу, крёстную мать Рудольфа, и самого кайзера?
Ты, я полагаю, читал в 1909 году газеты и знаешь приблизительно, что в это время дело Эйленбурга, процесс Мольтке — Гардена поставили германский двор в очень затруднительное положение. Лично меня мало интересуют способы, которыми эти люди развлекались между собой. Но я нахожу совершенно лишним то обстоятельство, что все эти истории отразились на моей жизни.
Фридрих-Август при жизни брата мало бывал в Лаутенбурге. Я видела его там только два или три раза; один раз он приезжал на мою свадьбу, а другой — через полгода, на похороны жены, доброй и глупой женщины с руками судомойки. Она была не умнее твоего светлейшего ученика.
Остальное время он проводил в Берлине. Человек этот, такой корректный и холодный на вид, очень там веселился. Никогда не верь, друг, людям, утверждающим, что разгульная жизнь вредна. Успех Фридриха-Августа служит доказательством противного.
У нынешнего великого герцога в высокой степени развито одно свойство — уменье компрометировать других, не компрометируя себя. Он хорошо воспользовался им в 1909 г. в Берлине. Друг Бюлова, очень близкий к Эйтелю и Иоахиму человек, он мог бы многое рассказать о сценах, на которых он иногда присутствовал. Но он о них тебе не расскажет, мой друг, как не рассказал он о них мне, ибо ни ты, ни я, мы никогда не будем в состоянии достаточно дорого заплатить за такое признание. Своим молчанием он заслужил великогерцогскую корону и завтра добудет, быть может, корону Вюртембергскую. Когда императрица прерывающимся голосом уговаривала меня покориться моей судьбе, она только защищала, бедная женщина, честь своих двух сыновей.
Воспаление мозга, открывшееся у меня после телеграммы отца, длилось целый месяц; целый месяц находилась я между жизнью и смертью; целый месяц, с преданностью, которой я никогда не забуду, Мелузина и Гаген днём и ночью поочередно ухаживали за мной.
Наконец, я стала выздоравливать. Меня остригли. Я исхудала, но была всё-таки хороша. Однажды, когда я разглядывала в зеркало, какое у меня стало смешное лицо, благодаря маленьким белокурым завиткам на затылке, Гаген, дежуривший около меня, доложил мне о герцоге Фридрихе-Августе. Я была ещё очень слаба и могла отказаться принять его, но мне хотелось поскорее померяться с ним силами. Должна, к стыду своему, признаться, что в тот день победа осталась не за мною.
Он вошёл и церемонно мне поклонился. Голубые глаза его на бледном бритом лице то вспыхивали, то потухали.
— Я очень счастлив, дорогая сестрица, — сказал он, — что нахожу вас на ногах и, поистине, в отличном виде.
Такая непринуждённость заставила меня похолодеть. Он продолжал:
— Мне нет причины скрывать от вас столь приятной для меня цели моего посещения. Завтра минет девять месяцев со дня смерти великого герцога Рудольфа, моего бедного брата. Узаконенный срок траура истекает, и их величества, император и императрица, были бы счастливы, если бы вы соблаговолили назначить день, наиболее вам удобный для нашего венчания, которое они намереваются почтить своим присутствием.
— Передайте, милый братец, их величествам, — ответила я, — что для меня будет удобен тот день, который назначат они, и не откажитесь добавить, что я надеюсь никогда не доставлять им больше такого беспокойства.
Он поклонился спокойно и серьёзно.
— Это является также, поверьте, и моим самым горячим желанием, дорогая сестрица, — произнёс он.
И он ушёл.
Мы венчались в пасмурный мартовский день 1912 года. Император и императрица, согласно своему обещанию, присутствовали в церкви, а вечером отбыли в Берлин. Около пяти часов в Ратуше, а потом во дворце, должностные лица магистратуры принесли новому великому герцогу присягу. Затем, в восемь часов, в нижнем этаже, в Галерее зеркал, состоялся интимный, ввиду нашего недавнего траура, обед, на котором собрались высшие военные чины и сановники Великого Герцогства, в общем около тридцати человек.
Начали подавать второе блюдо, когда над нашими головами в следующем этаже послышались вдруг удары, то глухие, то резкие.
Сперва на них не обратили внимания. Но шум всё продолжался, тук-тук-тук-тук, с безнадёжной правильностью.
Великий герцог, слегка нахмурив брови, сделал знак стоявшему сзади его лакею:
— Что это за стук? — вполголоса спросил он. — Ступайте, прекратите.
Спустя четверть часа человек всё ещё не вернулся, а стук продолжался.
— Ради бога, Кессель, — полусердясь, полусмеясь воскликнул великий герцог, — постарайтесь узнать, что такое там творится у нас над головами. Извините, господа, — прибавил он, обращаясь к гостям.
Кессель вышел. Через пять минут он вернулся назад весь красный. Стук прекратился.
— Ну, — сказал великий герцог, — что же это было?
Кессель молчал.
— Послушайте, полковник, — продолжал Фридрих-Август, начиная раздражаться. — Не обнаружили же вы, я полагаю, там, наверху, покушения, готовившегося на нашу жизнь. Вы должны успокоить наших гостей. Кто там был?
— Каменщики, ваше высочество, — пробормотал Кессель.
— Каменщики! В такой час! В такой день! Это немножко слишком! Что же они там делали, каменщики? Да говорите же, прошу вас, г. фон Кессель!
— Они замуровывают, — с усилием пробормотал офицер, — жёлтый коридор.
Настало ледяное молчание. Жёлтый коридор соединял между собою апартаменты великого герцога и великой герцогини Лаутенбургских.
— Фридрих-Август очень силён, друг мой. Я поняла это в тот вечер, и я почувствовала восхищение, когда, ударив себя по лбу, жестом, выражавшим: ох! правда, я совсем забыл! — он отдал одному из метрдотелей следующее приказание:
— Позаботьтесь о том, чтобы эти молодцы, которым придётся проработать всю ночь, ни в чём не имели недостатка.
Всё равно, я была очень довольна, ибо я чувствовала восхищение и в его насмешливом взгляде, который он обратил на меня, словно желая сказать:
— «Ну, а теперь посмотрим, кто одолеет».
Аврора остановилась. Несколько минут продолжалось молчание. Потом Мелузина подошла к окну и разом отдёрнула занавеси. И мы увидели, что уже рассвело. Я смотрел на великую герцогиню, которая задумалась, опершись локтем о колено и положив подбородок на руку. На лице у неё не было заметно никакого утомления, черты её нисколько не казались помятыми после проведённой без сна ночи.
Холодная утренняя заря застала Аврору ещё более прекрасной, чем оставили её тёплые вечерние сумерки.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Иногда, раз или два в неделю, случалось, что великая герцогиня предпочитала оставаться по вечерам одна. В такие вечера я погружался, очень огорчённый, в работу.
Исследование моё о Кенигсмарке было совсем заброшено. Я не ощущал в себе больше никакой охоты шевелить эту пыль с тех пор, как случай дал мне возможность наблюдать другой роман, главные лица которого жили вокруг меня и каждый день со мною беседовали.
В один июльский вечер, который прихотливая Аврора заставила меня проводить в одиночестве, разразилась страшная гроза. В открытое окно глядело потемневшее небо и доносился шум капель, падающих в темноте с деревьев. Я работал крайне вяло, мысли мои были гораздо более заняты картинами природы, среди которых заставил меня странствовать рассказ княжны Тюменевой, чем драмой Герренгаузена, и только по воле совершенно нечаянного случая наткнулся я на важный документ, о котором вам сейчас расскажу.
Я недавно говорил вам с подробностями, которые тогда должны были показаться вам скучными, о документах, собранных прусской королевой для восстановления чести её матери, Софии-Доротеи. В этот вечер, просмотрев две или три бумаги второстепенной важности, я дошел до листа, на котором значилось: С. 2. — 87.
То были две большие страницы, написанные очень сжатым почерком, по-немецки. С первых же строк рассеянность покинула меня. Внимание моё сосредоточилось. Я понял, что в руки мне попал документ, имеющий решающее значение.
Бумага эта заключала в себе исповедь некоего Бауэра, умершего охотничьим сторожем великого герцога Рудольфштадтского, а за двадцать лет перед тем служившего в Герренгаузене. В свои последние минуты человек этот, католик, попросил священника выслушать его исповедь. Этот последний, знавший о расследовании, которое вела прусская королева, согласился отпустить ему грехи только, если будет составлен протокол с изложением событий, в которых принимал участие Бауэр. Эту исповедь, снабжённую подписями умирающего, духовника и двух свидетелей, и разбирал я теперь.
Легко понять, что убедившись в её подлинности, я сразу же сосредоточил на ней всё своё внимание.
Бауэр входил в число десяти лиц, помогавших графине фон Платен убить графа фон Кенигсмарка в трагическую ночь 1 июля 1694 г.
Исповедь его устанавливала, что в то время, как они ждали, чтобы граф вышел от принцессы, графиня фон Платен приготовляла для них пунш.
Он утверждал, что он не принадлежал к числу тех, кто осыпал графа ударами кинжалов и сабель, но он не отрицал, что удерживал его на полу в то время, как г-жа фон Платен, попирая ему лоб ногою, требовала от него признания связи с Софией-Доротеей.
Большинство этих подробностей было мне известно. О них говорится даже в книге Блаза де Бюри. Но следующие слова окончательно разрешали знаменитый спор о том, что сталось с телом графа:
«Когда г. фон Кенигсмарк испустил последний вздох, говорит Бауэр, г-жа фон Платен приказала нам снести его к камину, в глубине которого находится бронзовая доска в шесть футов. Г-жа фон Платен нажала пружину. Доска отодвинулась, обнаружив маленькую каморку. Я смутно разглядел там — я был очень взволнован — белеющую груду чего-то, показавшегося мне известью. Туда и положили мы труп. После этого г-жа фон Платен отпустила нас, рекомендовав нам хорошенько отмыть кровь, обрызгавшую одежду некоторых из нас. Она осталась в Рыцарском зале одна со своим камердинером, по имени Фестман…»
Как вы видите, упомянув мимолётно, что труп Кенигсмарка скрыт в Рыцарской зале в Герренгаузене, я имел для этого все основания. Бумага Бауэра имела, впрочем, в моих глазах гораздо большее значение: она не только с неопровержимостью устанавливала это место, она являлась также доказательством сообщничества или Эрнеста-Августа, или же его сына. Обратите внимание на то, что г-жа фон Платен нажала тайную пружину. А германские принцы XVII и XVIII веков очень ревниво охраняли свои секретные замки. Тайна эта могла быть сообщена графине фон Платен только с какою-нибудь важною целью.
Я приготовил себе, садясь за работу, кофе и выпил три большие чашки подряд. Это начало оказывать своё действие, и мысль моя, возбуждённая первым удачным открытием, отличалась в тот момент особенной ясностью. Подробность эта имеет значение, и я прошу вас запомнить её.
Сделать открытие пустяк; дело всё в том, чтобы проверить и установить его правильность. Но каким образом, приехав в Ганновер и испросив разрешения осмотреть Герренгаузен, мог бы я остаться в Рыцарской зале достаточно долгое время один, ибо вы легко поймёте, что у меня не было ни малейшего желания наводить кого-нибудь из хранителей музея на след, только что найденный мною.
Тут-то мне и пришла в голову мысль, являющаяся доказательством благотворного действия кофе на наши умственные способности. Изучая историю французских художников, работавших у германских князей XVII и XVIII веков, я обнаружил, как вы, верно, помните, что слесарная часть была поручена Ганноверским курфюрстом Эрнестом-Августом каталонскому мастеру по имени Жиру, переехавшему потом и к великому герцогу Лаутенбургскому. У этого Жиру при сведении счетов возникли некоторые недоразумения с Эрнестом-Августом. В то время я только мельком заглянул в дело, к нему относящееся. Теперь надо было подробно ознакомиться с ним. Быть может, мне удастся извлечь оттуда какие-нибудь сведения относительно системы замков, устроенных им в Герренгаузене. Я решил тотчас же удостовериться в этом.
Было несколько за полночь. Сунув в карман электрический фонарь, я потихоньку вышел из комнаты. В этот миг мне послышался в пустом коридоре слабый шум. «Ну, подумал я, если старые бумаги будут так возбуждать мои нервы!..»
Войдя в библиотеку, я был неприятно поражён, найдя её освещённой. Профессор Кир Бекк работал там, испещряя чёрную доску бесконечными формулами и останавливаясь только для того, чтобы заглянуть в пять или шесть трактатов, раскрытых перед ним.
Приход мой был совершенно в порядке вещей; мне часто случалось очень поздно ночью спускаться в библиотеку за справками для предстоящего на другой день урока. Тем не менее он посмотрел на меня подозрительным взглядом учёного, всегда опасающегося, что у него что-нибудь украдут.
Два или три любезных слова быстро заставили его примириться со мной. Он соблаговолил сообщить мне, что опыты его находятся в решительной стадии, и что, вероятно, завтра, быть может, даже сегодня… В полуоткрытую дверь доносился шум его химической печи, полыхавшей как огонь в камине.
Я не счёл нужным докладывать ему, что и я также, по совершенно другому вопросу, нахожусь в том же положении, что и он.
Через несколько минут, впрочем, он сложил свои трактаты, собрал заметки, стёр формулы и удалился, пожелав мне доброй ночи.
Я с нетерпением ждал его ухода, так как уже отыскал то, что мне было нужно.
С быстротою, удивившей меня самого, я сразу же напал на главный документ, на помеченный 1682 годом счёт Жиру на имя Эрнеста-Августа.
Среди длинного перечня я тотчас увидел следующую запись:
«Для камина в Рыцарской зале шесть замков с моим именем по сто пятьдесят ливров за штуку, всего — девятьсот ливров».
Не нужно было особой осведомлённости в области секретных замков для того, чтобы сообразить, в чём тут дело. Очевидно, тут действовала та же система, что и в несгораемых шкафах Фише, и других. В каминной доске Рыцарской залы в Герренгаузене было устроено шесть замков с буквами. Пружина приводилась в действие тем, что на каждом замке последовательно нажималась одна из букв, составлявших имя изобретателя — Жиру (Giroud).
Если вы не забыли, что Жиру был слесарем также и у великого герцога Лаутенбургского, вы без труда поймёте, как пришла мне в голову мысль, заключавшаяся в следующем: проверить на каминной доске в Оружейной зале Лаутенбургского замка правильность моих рассуждений относительно камина в Рыцарской зале замка Ганноверского. И нетерпение, с которым я дожидался ухода Кира Бекка, станет для вас ясным.
После того, как он покинул библиотеку, я подождал ещё с четверть часа. Потом я потушил электричество, открыл дверь направо и с шумом захлопнул её, словно возвращаясь к себе. Затем, избегая малейшего шума, ощупью пробираясь вдоль пюпитров и витрин с монетами, я вернулся назад и потихоньку отворил дверь слева, выходившую в Оружейную залу.
Лунный свет ложился на чёрный пол огромными пятнами, соответствующими форме высоких копьевидных окон. Я направился прямо к камину и с волнением прикоснулся к тяжёлой чугунной доске. И только когда пальцы мои ощупью отыскали слева, на самом верху, железную пластинку, зажёг я мой электрический фонарь.
Я без труда справился с этой пластинкой; она повернулась на шарнире, обнаружив за собою род циферблата. Всё вместе имело большое сходство с нашими газовыми счётчиками.
У меня вырвалось движение досады. Я рассчитывал увидать буквы. Но на циферблате красовались цифры. Он был разграфлен на двадцать пять подразделений.
Потушив электрический фонарь, я сел на тяжёлый дубовый табурет, стоявший около.
Размышления мои длились недолго. Число 25! Как я глуп!
Я вытащил из кармана карандаш и клочок бумаги и, встав у табурета на колени и снова надавив кнопку фонаря, я быстро набросал двадцать пять букв алфавита, поставив около каждой из них соответствующее ей по порядку число. Затем, написав имя Giroud, я получил следующую комбинацию: 7. 9. 18. 15. 21. 4.
7. 9. 18. 15. 21. 4. Должно пройти много дней, прежде чем число это исчезнет у меня из памяти.
Я навёл слабый свет фонаря на чугунную доску. Невыразимое разочарование овладело мною. Вместо шести пластинок, которые должны были там быть, я увидал только две.
Когда в рассуждении, таком, как то, что я только что сделал, хотя бы одно звено не совпадает с действительностью, приходится признать неверным всё умозаключение. Да и было бы слишком уж просто…
Исключительно для очистки совести я открыл первую пластинку и, повернув стрелку, прикреплённую в центре циферблата, поставил её на цифру 7, соответствующую французскому g.
Потом, повернувшись вправо, я проделал то же самое со второй пластинкой, наведя стрелку на цифру 9 — французское i.
Сердце моё забилось. На доске показалась вертикальная чёрная трещина. Трещина эта всё увеличивалась, увеличивалась. Створки её раздавались вправо и влево и, наконец, образовали щель в восемьдесят сантиметров шириною.
Я нашёл! Тайна Герренгаузена будет, наконец, раскрыта.
Я стал спокоен, необыкновенно спокоен. Я помню, что я всё повторял: «Какой прекрасный способ изучения истории! Что сказал бы г. Сеньобос?»
Захватив с собою табурет, служивший мне столом, я полез в отверстие. На каждой стороне отверстия раскрывшейся чугунной доски находилось по ручке. Очень осторожно, без всякого усилия я прикрыл её, потянув ручки изнутри, но не совсем плотно, так как боялся задеть какую-нибудь роковую пружину.
Помните, друг мой, 24 августа в Бельгии, в деревне Бомон, когда мы вдвоём пробрались в подвал, где, по словам местных жителей, спрятались пятеро улан? Вы следовали за мной, упрекая меня в неосторожности. А я улыбался, думая о том, какую жалкую опасность представляют собою эти пять беглецов по сравнению с той тьмою, в которую я погрузился в ту ночь.
Прикрыв створки доски, я очутился в маленькой каморке футов в шесть шириною, футов в шесть высотою. Направо и налево были стены, но в глубине виднелась вторая бронзовая доска с двумя другими пластинками на правой и на левой стороне! Я предвидел это.
Я поставил стрелку первого циферблата на 18.
Стрелка второго только что прикоснулась к цифре 15, как вдруг грохот ломающегося дерева, грохот, невыразимо страшный среди окружающей тишины, заставил меня похолодеть с ног до головы. Нижняя часть огромной доски откинулась на расстоянии метра от земли и вдребезги расколотила тяжёлый табурет, который я поставил около неё.
Если бы я быстро не отскочил в сторону, она раздавила бы мне ноги.
— Отлично! — пробормотал я. — Их секреты снабжены западнями.
И, нагнувшись, я проник во вторую комнату точно таких же размеров, как и первая.
Вы легко поймёте, что на этот раз прежде, чем поставить стрелку пятого циферблата на цифру 21, а шестого на цифру 4, я принял свои предосторожности, я старательно отходил то в правую сторону, то в левую. Напрасный труд.
Доска раскрылась вертикально, подобно первой, тихо повернувшись на незаметных крюках.
И я вошёл в третью, последнюю комнату.
Она была такой же вышины, но приблизительно двойной ширины и длины. Узкая полоса света от моей электрической лампы ясно озаряла только очень небольшое пространство.
Сперва я различил только какие-то белые пятна на земле.
Но вдруг сердце моё застыло. Мне стало страшно, страшно. В углу налево я заметил странную белую кучу.
Движимый непреодолимой силой, приближался я к ней, и по мере приближения мне хотелось бежать от неё, зубы у меня стучали и я бормотал: «Это галлюцинация, я брежу, я отлично знаю, что я брежу. Ведь я — не в Ганновере. Я — в Лаутенбурге. Во дворце. Рядом работает профессор Кир Бекк. Кругом ходит дозор. Тут находится Людвиг, мой камердинер. Тут же — полковник Кессель, такой добрый, такой храбрый…»
Куча извести лежала теперь у самых моих ног. Я скорее упал, чем опустился перед нею на колени.
Странные останки торчали из неё, бесформенные, побелевшие, отвратительные. Как нашёл я в себе силу, будучи в таком ужасном состоянии, схватить один из них, ощупать его, осмотреть…
Но тем не менее я сделал это, тем не менее я взял в руки кость, правую берцовую, я рассмотрел, я её ощупал…
И я громко закричал, почувствовав на этой кости, посредине, след перелома.
Каким образом нашёл я в себе силу дать в то утро урок истории герцогу Иоахиму, я не могу понять и до сих пор. Я избегал взглянуть на себя в зеркало, боясь, что оно отразит слишком расстроенное лицо.
В одиннадцать часов я был в маленьком будуаре великой герцогини.
Старая русская горничная позвала Мелузину, явившуюся сравнительно скоро; по весёлому удивлению, которое она мне выразила, я понял, сколь необычайным кажется ей моё посещение в этот час.
— Видеть великую герцогиню, милый мой! Вы ничего себе не представляете. Ну, да, впрочем, для вас… Кроме того, я полагаю, что раз вы так настаиваете, у вас должны быть…
Она раздвигала, говоря так, занавеси. Солнечный луч ударил прямо мне в лицо. Она увидала меня тогда таким, каким я был, и с трудом удержалась от восклицания.
— Я сейчас позову её, — сказала она только.
Я пришёл туда, как бы в припадке сомнамбулизма, движимый событиями минувшей ночи. Когда я остался один, поступок мой показался мне безумным. Она сочтёт меня сумасшедшим, каким один момент я чуть и не сделался. Как отнесётся она, Аврора, к рассказу о моём странном приключении? «Вырвать её из-под власти её чёрных мыслей, из моральной неуравновешенности, роковой для её физического здоровья», — вспомнилась мне фраза великого герцога Фридриха-Августа, просившего меня попытаться достигнуть этого. Поистине странный способ исполнять подобную миссию. Мне захотелось убежать.
Но великая герцогиня уже входила.
Она была в то утро так необыкновенно весела, и мне показалось, что я никогда не решусь смутить эту весёлость.
— В чём дело, друг мой? — сказала она. — Чему обязана я удовольствием видеть вас? Вы переменили расписание? И вы хотите посвящать мне теперь утро вместо вечера?
Моё потрясённое лицо произвело на неё то же действие, что и на Мелузину.
Она взяла меня за руку и посадила на диван рядом с собою.
— Вы чуть не упали, — садясь, серьёзно произнесла она. — Мелузина, дай мне голубой ящик.
То был миниатюрный ящик из бирюзы.
Какое варварское снадобье заключалось в нём? Когда Аврора дала мне подышать им, я вздрогнул, как от прикосновения к аккумулятору.
— Ну вот, — сказала она, — ему уже лучше.
И прибавила:
— Говорите, как только вы почувствуете себя в состоянии сделать это! Мы вас слушаем.
Я рассказал ей тогда всё, что вы уже знаете, начиная с моих первых исследований по истории Кенигсмарка и кончая неожиданным заключительным аккордом, моим спуском в тайник Оружейной залы и мрачной находкой, которую я там сделал.
С поразительным хладнокровием выслушала она меня до конца, не проронив ни слова, и только иногда обмениваясь с Мелузиной взглядом, выражающим скорее удивление, чем волнение.
Когда я кончил, она помолчала минуту и потом заметила спокойно:
— Вы рассказали нам очень увлекательную историю. Но я изумлю вас, сказав, что я не особенно ею взволнована. Меня приводит тут, признаюсь, в замешательство только то обстоятельство, что вы нашли в Лаутенбурге скелет как раз на том месте, где он должен быть в Ганноверском дворце. Но разве это доказывает что-нибудь, кроме того, что прежние Лаутенбургские герцоги относились к человеческой жизни не с большим уважением, чем их ганноверские соседи? Я подозревала это и раньше, и это не особенно волнует меня.
— Меня потрясло так сильно вовсе не обнаружение этого скелета, ваше высочество, — ответил я.
— Так что же в таком случае? — произнесла она с тем презрительном видом, который она принимала всегда, когда думала, что над нею хотят взять верх.
— То, — сказал я просто, но взвешивая каждое слово, — что я держал в руках правую берцовую кость скрытого там тела и что на наружной стороне этой берцовой кости, в самой середине, есть след старого перелома.
Аврора выпрямилась. Она схватилась руками за лоб, внезапно покрывшийся смертельной бледностью. Её остановившиеся глаза страшно расширились. И она воскликнула:
— Вы с ума сошли! Вы с ума сошли! Мелузина, скажи ему, что он сошёл с ума.
М-ль де Граффенфрид кинулась к великой герцогине, которая упала на диван, словно мёртвая. Потом веки её приоткрылись. Невероятный ужас светился у неё во взгляде.
— С ума сошли! С ума сошли! — опять закричала она. — Ведь он в Сангха, у меня есть его письма из Сангха.
И она всё продолжала кричать страшным голосом:
— В Сангха! В Сангха!
— Я сделал то, что считал себя обязанным сделать, — прошептал я Мелузине, помогая ей дать её госпоже понюхать из голубого ящика.
Она взглянула на меня глубоким взором со словами (удивительная девушка!):
— Вам нечего оправдываться, я знаю это.
— Не пугайтесь, — вполголоса прибавила она. — После воспаления мозга она стала необычайно впечатлительна. Но на этот раз, по правде сказать, и было от чего. Видите, она уже приходит в себя.
Аврора раскрыла глаза, в которых выражалось удивление. Она увидела нас обоих, склонившихся над ней, вспомнила всё. Во взгляде моём светилось, должно быть, невероятное беспокойство. Она улыбнулась и протянула мне руку, которую я покрыл поцелуями.
— Простите, дети, что я так напугала вас, — прошептала она. — Моя добрая Мелузина, ты всегда на своём посту, когда это нужно, и вы, друг, спасибо.
— Вы не сердитесь на меня? — умоляющим голосом произнёс я.
Она покачала головой.
— Мелузина, распорядись; он будет завтракать с нами.
Приглашение к столу было у Авроры знаком небывалой милости. Одна Мелузина удостаивалась дотоле этого. Я не преминул очень скоро тяжело познать на себе цену такой великой чести. Пока же я увидал в ней новое доказательство важности моего разоблачения.
Вы, наверное, думаете, что на завтраке этом отразились только что происшедшие события. Ничего подобного; оживление Авроры, хотя и несколько искусственное, одушевляло его до конца. Всё время говорила она о другом. Я восхищался её умением владеть собой, тем более, что я был хранителем тайны, достаточной для того, чтобы отнять у человека всякое самообладание. В этот момент, чувствуя, что назревают чрезвычайно серьёзные события, я был полон радостным сознанием того, что я сумел сделать себя необходимым принцессе, пять месяцев тому назад даже ещё не знавшей о моём существовании.
Когда стали подавать кофе, Мелузина поднялась.
— Куда ты? — спросила великая герцогиня.
— Я хочу сказать, что вы не поедете днём с визитами, — ответила та.
— Ты ошибаешься, — с улыбкой возразила Аврора. — Предупреди, напротив, что автомобиль должен быть подан не к пяти, а к четырём часам.
— К четырём часам?
— Да, потому что я хочу несколько отдохнуть перед тем, как в полночь прийти к вам, — обратилась она ко мне.
Мы с Мелузиной только посмотрели на неё.
— Это удивляет вас, — продолжала она. — Но считаете вы, да или нет, важным то, что вы мне сообщили? Я думаю вот что: у одного человека может быть галлюцинация. У двоих — это гораздо менее вероятно. В полночь, друг, я постучусь у вашей двери. Настанет момент показать мне ваше уменье обращаться с секретными замками. Решено, не правда ли? А теперь ступай, моя Мелузина, распорядись, чтобы автомобиль был готов к четырём часам, ведь я вот уже два раза откладывала визит к этой доброй бургомистерше Лаутенбурга. Я не обману её в третий раз.
Приказание это было отдано таким непреклонным тоном, что Мелузина вышла, бросив мне, впрочем, долгий умоляющий взгляд.
— Бедняжка, — сказала великая герцогиня, — этим взглядом она поручает меня вам. Что бы там ни было, решено, не правда ли, в полночь.
— Я исполню, — с твердостью произнёс я, — то, что Вы прикажете мне. Я не только понимаю вас, я вполне с вами согласен. Позвольте мне только обратить ваше внимание на два обстоятельства: во-первых, гораздо разумнее будет, если я приду за вами вместо того, чтобы подвергать вас риску встретиться с кем-нибудь в коридорах замка; а, во-вторых, в полночь замок обходит дозор, он может явиться несколько ранее, а я предпочёл бы исключить всякую возможность помехи в предприятии, столь сложном, как наше.
— Верно, — сказала она, — как же тогда?
— Тогда, с вашего позволения, я буду здесь в половине одиннадцатого. Нам за глаза хватит одного часа. А м-ль фон Граффенфрид, которая останется в ваших апартаментах, будет поручено соответствующим образом принимать докучливых посетителей.
Она улыбнулась.
— Если вы намекаете на Гагена, злопамятный насмешник, то я могу сообщить вам, что он приглашён сегодня вечером к себе в клуб, на одну из тех попоек, ради которых всякий добрый немец пожертвует даже Лорелеей.
— Гаген или кто другой, — несколько задетый ответил я, — лучше предусмотреть все неожиданности.
— Вы правы, — серьёзно заметила она. — Так в половине одиннадцатого я буду ждать вас.
Когда после обеда я вернулся к себе комнату, мне показалось, что время идти к великой герцогине не настанет никогда.
Пробило, наконец, десять часов, потом четверть одиннадцатого. Я потихоньку спустился и заглянул в дверь библиотеки. Какое счастье! В ней было темно. Если бы Киру Бекку пришла в голову несчастная мысль работать там в этот вечер, все наши планы рухнули бы.
Пробило половину одиннадцатого, мне достаточно было двух минут для того, чтобы пройти через сад. Я не опаздывал.
Я открыл дверь, ведущую в парк. Свежий воздух благотворно на меня подействовал.
Запирая дверь, я вздрогнул; чья-то рука легла на моё плечо.
И в то же время чей-то голос произнёс:
— Господин Виньерт. Поистине, я очень рад встретить вас!
То был лейтенант Гаген.
Ночь стояла тёмная и мы не могли видеть друг друга. Но мне показалось, что рука, положенная им мне на плечо, слегка дрожала. Всё моё самообладание вернулось разом ко мне.
— Я думал, что вы в клубе, — сказал я.
— Я собирался туда, — ответил он. — Иногда приходится менять свои намерения. А и вы ведь тоже собирались, наверное, провести всю ночь за работой в своей комнате. А между тем вы здесь.
— Сегодня так душно, — сказал я. — Мне захотелось немного освежиться в саду.
— Я полагаю, в таком случае, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я сопровождал вас в вашей прогулке.
На этот раз я различил в его тоне столько дерзкой иронии, что мне пришлось играть с ним в открытую.
— Признавая всю любезность вашего предложения, господин лейтенант, не скрою всё же от вас, что я предпочитаю остаться один.
— Совсем один? — с издевательством произнёс он.
Пробило три четверти, и это привело меня в ярость. Неужели этот болван испортит всё?
— Что вы хотите сказать? — с раздражением спросил я. Я понимал, что он старается вывести меня из себя.
— Господин профессор, — сказал он, — у нас в Германии существует священная вещь. Наше честное слово. Хочется верить, что оно есть и во Франции. Я оставлю вас в покое. Но только сперва можете ли вы дать мне честное слово в том, что сегодня вечером у вас не назначено свидание с великой герцогиней Авророй?
Я вздрогнул. До какого предела было известно этому человеку всё происходящее? Но я и на этот раз сдержал себя.
— Господин фон Гаген, один из ваших романистов, некий Бейерлейн, написал очень плохой роман «Отступление». И мы с вами разыгрываем сейчас самую нелепую сцену этого романа, с тою только разницей, что дело идёт не о дочери старшего вахмистра, а о великой герцогине Лаутенбург-Детмольдской. И меня удивляет…
— Я это знаю, — хриплым голосом произнёс он. — Потому-то я и хочу…
— Чего вы хотите, говорите. Покончим с этим.
— Убить вас, господин профессор.
— За что же, скажите, пожалуйста?
— За то, что вы её любите, и за то…
У него вырвалось рыдание, у этого красного гусара. Рука его, лежавшая на моей, страшно задрожала.
— За то?
— За то, что она любит вас.
Мне стало его почти жалко. Но там великая герцогиня ждала меня.
— Я к вашим услугам, милостивый государь, когда вам будет угодно, начиная с завтрашнего дня, — сказал я.
— С завтрашнего дня, — с горечью повторил он. — Так вы думаете, что я пущу вас к ней? Ведь она ждёт вас: вы мне не ответили на мой вопрос. Нет, милостивый государь, нет. Сейчас.
Это было уже слишком. С невероятной силой я выдернул руку и оттолкнул его так, что он ударился о стену.
Он обнажил саблю.
Мне ничего не стоило вырвать её у него из рук и отличнейшим образом обратить её против него. Но я мог поранить себя. Во всяком случае, произошёл бы шум, скандал. Этого нельзя было допустить.
— Господин фон Гаген, — шёпотом сказал я. — Выслушайте меня. Чтобы говорить со мною так, чтобы искать со мною ссоры, вы сами, я понимаю это, должны любить великую герцогиню.
— Милостивый государь, — с гневом произнёс он, — я запрещаю вам…
— Да выслушайте же меня, — снова прошептал я нетерпеливым и повелительным тоном, заставившим его замолчать. — Вы её любите, повторяю я. И я обращаюсь теперь столько же к вашей любви, сколько и к вашей чести солдата: великой герцогине Авроре, этой обворожительной женщине, грозит сегодня ночью огромная опасность. Каждая минута, каждая секунда, которую вы заставляете меня терять здесь, увеличивает эту опасность, поймите меня, и в этом я могу дать вам честное слово.
Я увидел, что я попал верно.
— Что вы хотите сказать? — испуганно пробормотал он. — Большая опасность?
— Да, господин фон Гаген. Ступайте сейчас к себе и не ложитесь. Быть может, Авроре фон Лаутенбург понадобятся сегодня ночью ваши услуги.
Он поколебался, потом решился:
— Хорошо, я пойду к себе. Но не забудьте, что, если вы меня обманули…
— Этого не бойтесь, — ответил я, — ибо я предпочитаю сейчас же предупредить вас, что маленькое развлечение, которое вы предлагали мне, мы перенесём, если вам будет угодно, на завтрашнее утро. Мне также горячо его хочется, как и вам.
— Итак, до завтра, — поклонившись, ответил он. — В котором часу?
— В шесть. У моста. Там такое удобное место, и рядом течёт Мельна.
— А оружие?
— Займитесь этим сами, — сказал я. — Я всецело полагаюсь на вас.
И мы произнесли оба вместе:
— Мы будем, разумеется, одни.
Он выпрямился, отдал мне честь и исчез в темноте.
— Наконец, — со вздохом облегчения прошептал я.
Было одиннадцать часов, когда я входил к великой герцогине.
Она ждала меня в будуаре, одна, немного бледная.
Когда я вошёл, она прочла на моём лице, что случилось нечто необычайное, ибо она не стала меня спрашивать о причине моего опоздания.
— Ничего важного? — просто сказала она.
— Нет, ничего. Но идёмте скорее, времени у нас в обрез.
Мы подходили к лестнице, когда дверь в комнату Мелузины открылась и на пороге появилась м-ль фон Граффенфрид.
— Как? — произнесла она. — Уже?
— Да, правда, — заметила Аврора. — Я не предупредила тебя, что мы передвинули часы на час раньше. Не бойся, милочка. Оставайся здесь и не пускай никого. Мы вернёмся раньше полуночи.
Она поцеловала её в лоб.
Страшно встревоженная, со слезами на своих прекрасных чёрных глазах, м-ль фон Граффенфрид схватила меня за руки.
— Вы клянётесь мне, что с нею ничего не случится, — умоляющим голосом сказала она. — Я поручаю её вам.
— Хорошо, хорошо, — перебила Аврора, — не будем терять времени, потуши электричество на лестнице.
Мы стали спускаться в темноте.
Когда мы дошли до средней площадки, пальцы великой герцогини сжали мои пальцы. Они не дрожали, нет, клянусь вам.
— У вас есть оружие? — спросила она.
— Нет.
— Дитя, — прошептала она, и в то же время я почувствовал, что рука её просунулась в карман моего пиджака и положила туда что-то.
— Это браунинг, и притом отличный. При первой же надобности без колебаний прибегай к нему, не разбирая против кого. Я сама подам тебе пример.
Мы достигли низа лестницы. Она шла впереди и сама открыла дверь.
— Что такое? — спросил я.
Она не двигалась, заслонив собой выход. Глухое восклицание вырвалось у нее.
— Ах! Я ведь говорила вам! Он силён, очень силён.
— Да что же такое? — с томительной тревогой повторил я.
Громадное красное зарево заливало горизонт с правой стороны. Половина замка горела.
Тисы парка выделялись на фоне пламени, словно конусообразные тени. Вода в бассейне Персефоны переливалась, то чернея, то розовея.
— Но, — продолжала великая герцогиня, — кто мог сказать ему, что мы пойдём туда сегодня вечером! Только мы трое знали это! Я, вы, и… она.
Минуту мы созерцали это трагическое зрелище. Шум начинал подниматься во дворце, застигнутом в своём первом сне.
— Пойдём, — сказала Аврора, — надо посмотреть.
Направляясь к пожару, мы наткнулись на Гагена. Он точно сумасшедший бежал с лестницы правого крыла дворца.
— Вы! Вы! — радостно крикнул он, узнав великую герцогиню. — Ах! Как я испугался! Как я счастлив!
И вне себя он покрывал поцелуями её руки.
— Простите меня, простите, — бормотал он, обращаясь ко мне.
— Останьтесь с нею, — крикнул ему я. И со всех ног бросился в залу празднеств.
— Куда! — воскликнула Аврора. — Остановитесь!
Но я был уже далеко. Через залу празднеств я проник в правую часть замка. Пламенем была объята его левая часть, библиотека и, разумеется, Оружейная зала.
Что собирался я сделать? Я сам не знал этого хорошенько. Мною двигала одна из тех сил, с которыми не борются. Впоследствии я пробовал анализировать свой поступок. У меня в комнате находились деньги, бумаги, письма матери, вся моя жизнь, и между тем я уверен, что ни одной минуты я не думал об этом и не для этого шёл на такой риск.
Из коридора первого этажа, в конце которого была дверь в мою комнату, неслись громадные клубы дыма со сверкавшими в нём красными искрами.
Я встретился с Кесселем, спускавшимся сверху. Я слышал, как он крикнул мне:
— Куда вы? Лестница загорается. Коридор весь в огне!
Я был уже далеко.
Я снял пиджак и обернул себе им голову. Каким образом добрался я до двери моей комнаты, этого я сказать не могу. Помню только, что когда я прикоснулся к ручке, она обожгла мне пальцы.
Напрасно старался я открыть дверь. Ключ поворачивался в скважине, как обыкновенно. Но дверь не отворялась.
Вдруг я заметил толстую железную полосу, одним концом прибитую к двери, другим — к стене.
— Ах! — сказал я себе, — а окно моё выходит на крутой обрыв Мельны!
Я не дрожал больше. Я понял. Я узнал то, что хотел.
— Ах! Ваше высочество, вы думали, что я ещё у себя в комнате, не так ли!
Я потратил не больше минуты на то, чтобы добежать до двери и вернуться назад. Когда я поставил ногу на последнюю ступень лестницы, раздался страшный треск. Верхняя часть замка и весь коридор рухнули.
Еле переводя дух, страшный, с обгоревшими волосами, добежал я до великой герцогини. В парке уже образовались многочисленные группы. Рядом с нею и Гагеном стоял человек высокого роста. То был великий герцог.
— Господин Виньерт, — радостно воскликнул он, заметив меня, — наконец-то, какую тяжесть снимаете вы у меня с сердца! Вы откуда-то издалека!
— Действительно, очень издалека, ваше высочество, — шатаясь, отвечал я.
— Поддержите его, — крикнула Аврора Гагену. И маленький красный гусар повиновался.
— Берегитесь! — воскликнул вдруг великий герцог. — Вот этого-то я и боялся.
И подхватив жену, он отскочил назад, метров на десять. Все последовали за ним, ошеломлённые.
Огромный столб пламени розовато-золотистого цвета взлетел к красному небу; за ним последовал страшный взрыв. Стены замка разверзлись, пошатнулись и с грохотом обрушились.
Вокруг нас сыпались теперь всевозможные обломки, куски штукатурки, пылающие брусья, черепица, обгорелые балки.
Одна из них попала неподалёку от нас в капитана Мюллера, подошедшего несколько ближе к пожару. Мы видели, как он упал, с разбитою в кровь головою.
То взорвалась лаборатория профессора Кира Бекка.
Немедленно прибывшие пожарные пытались остановить огонь. Сзади, с парадного двора, доносился глухой мерный стук шагов бегущего скорым маршем гарнизона.
С огнём удалось справиться к часу. В половине второго начали извлекать трупы.
Около двух часов небо окрасилось в желтоватый цвет. То медленно зарождалась заря.
В тот момент мимо нашей группы прошло четверо солдат с носилками, и мы могли рассмотреть невероятно обезображенный труп профессора.
Великий герцог наклонился, взглянул на него, зачтем, снова набросив покрывало на ужасные останки, он тихо сказал:
— Этот старый безумец неизбежно должен был устроить когда-нибудь подобную историю.
Вот какое надгробное слово было произнесено над г. профессором Киром Бекком из Кильского университета.
Мы возвращались к левому крылу дворца: великая герцогиня, Мелузина и я. Было около шести часов. День обещал быть очень жарким. Над развалинами поднималось розовое солнце.
Мелузина присоединилась к нам в самом начале пожара. Она помогала до сих пор герцогине в заботах о раненых пожарных и солдатах, которых клали в зале празднеств.
Аврора шла, не произнося ни слова, и сами, обуреваемые вихрем мыслей, мы не нарушали её молчания.
Вдруг она подняла голову и, улыбаясь, показала мне на что-то в чистом небе, уже побелевшем от жары.
Появившаяся с востока птица проносилась над нашими головами. Она летела неровно, то поднимаясь, то опускаясь, подобно птицам, вроде перепела и рябчика, у которых слишком короткие крылья.
Она исчезла налево, в глубине английского сада, в стороне Мельны.
Ещё другая и третья пролетели и скрылись в том же направлении. Потом, вереницею, их пронеслось около двадцати штук.
— Первые дрозды, — сказала Аврора. — Они направляются к рябинам на берегу Мельны.
Мы подошли к её апартаментам.
— Бедная моя Мелузина, — странным тоном сказала она, — ты совсем выбилась из сил. Ступай отдохни немного. Я же пойду в беседку из зелени и попробую развлечься с этими птицами.
— Я тоже могу пойти, — сказала Мелузина.
— Нет, нет, — ответила великая герцогиня. — Рауль Виньерт проводит меня. Мне надо поговорить с ним. А ты, я приказываю тебе это, ступай отдохнуть. Только пришли мне ружьё и патроны. И одолжи Виньерту своё, ведь его — осталось там, под развалинами замка.
И, так как молодая девушка настаивала на своём желании сопровождать нас, Аврора сказала ей резко: «Ступай!»
Мелузина покинула нас. Она, действительно, казалась полумёртвой от усталости и волнения.
Чтобы не спугнуть дроздов, мы окольной дорогой направились к зелёному павильону, где когда-то произошла моя первая встреча с великой герцогиней Лаутенбургской. Дрозды поднимались иногда над рядами рябин, словно для разведки, и потом, успокоенные, снова садились на отдых.
Когда мы очутились в зелёной беседке, я решил, что надо устроить что-нибудь вроде бойниц, ибо заросли тут были необычайно густые и листва окружала нас свежей плотной стеной.
Великая герцогиня, по-видимому, совершенно не думала об этом. На лице её была написана твёрдая решимость. Я также ничего не говорил. Что мог я сказать ей? И мысли наши в этот трагический момент не были ли одни и те же? К чему же было обмениваться ими?
Вдруг напряжённое выражение, искажавшее её черты, несколько утратило свою суровость. Она заговорила шёпотом. Я был, по правде сказать, совершенно ошеломлён этою странною речью, этой не менее странной идеей идти в такой момент на охоту, за птицами, о привычках которых она мне сейчас рассказывала.
Заряженное ружьё лежало у неё на коленях, и вот что говорила она мне, с какой-то особенной улыбкой, заставившей меня опасаться — не оказали ли события этой ночи рокового влияния на её умственные способности.
— Дрозды. Вы хорошо знаете их, они такие же, как и певчие дрозды. Но они прилетают раньше. За этими птицами охотиться очень трудно, хотя на первый взгляд и кажется, что легко; в сущности, они страшные предатели. Знаешь, что они около тебя, как это знаем сейчас мы, но не видишь их. Только догадываешься о их присутствии. Приходится стрелять наудачу. У меня есть привычка. Поэтому, если я скажу вам: стреляйте, указав вам направление, вы выстрелите туда, не заботясь о цели. Вы пойдёте посмотреть и увидите на земле дрозда.
Она ещё понизила голос. Свистящие звуки послышались в нём. Протянув руку, она указала мне на край густой заросли, где чуть заметно шевелились листья.
— Стреляйте, — приказала она. — Стреляйте же…
— Но, — заметил я, озадаченный, — я не вижу…
— Какой бестолковый, — прошептала она. — Ну, так я.
Она прицелилась и спустила курок.
Раздался выстрел, за ним крик ужасный, раздирающий. Я трепетал, словно ветки, снесённые пулей.
Опираясь на дымящееся ружьё, великая герцогиня сказала мне с бледной улыбкой:
— Ступайте, посмотрите…
Я повиновался; шатаясь пробрался я сквозь чащу. За нею, в луже крови, уже впитывающейся в землю, с лицом совершенно развороченным зарядом, попавшим ей прямо в упор, корчилась в предсмертных судорогах Мелузина фон Граффенфрид.
— Ужасное несчастье! — не своим голосом закричал я.
Великая герцогиня вышла из чащи. Один глаз Мелузины вытек, другой пристально смотрел на Аврору, с выражением безумного ужаса и страдания. Аврора холодно взглянула на неё и прошептала фразу Гамлета после убийства Полония:
— Я хотела бы, чтобы то был кто-нибудь более значительный.
Страшно захрипев, Мелузина испустила дух.
Великая герцогиня стояла один момент неподвижно. На лице её была написана неумолимая жестокость, испугавшая меня. Она ни разу не вздрогнула под устремлённым на неё стеклянным взглядом убитой.
— Пойдём, — сказала она наконец. — Надо сообщить во дворце об этом новом несчастье.
Она взяла из моих дрожащих рук небольшое, украшенное золотой насечкой ружьё фон Граффенфрид и положила его рядом с трупом.
Затем она ушла быстрыми шагами, знаком приказав мне не двигаться с места.
Оставшись наедине с убитой, я сперва не решался посмотреть на неё. Куда девались прекрасный, матовый цвет лица, изящный овал его, томные глаза; вместо того ужасная кровавая масса, смешанная с землёй и волосами.
Отвратительные зелёные насекомые уже крутились вокруг этих несчастных останков. Я срезал густолиственную ветку орешника и счёл своим долгом отмахивать их, приблизительно так, как наши старые ярмарочные пирожницы отмахивают от своих ларьков бумажным веером мух.
Великая герцогиня скоро вернулась. Г-жа фон Вендель, две или три придворные дамы, горничная Мелузины с плачем и рыданиями сопровождали её. Она, как всегда владея собою, отдавала распоряжения. Тело Мелузины положили на носилки и понесли во дворец.
Подходя к нему, мы увидали великого герцога, направлявшегося навстречу печальному кортежу. Он обходил раненых во время пожара, когда ему сообщили о новом несчастье, поразившем Лаутенбургский двор.
Он спешил, видимо, очень взволнованный.
— Ах! — сказал он, пожимая Авроре руку, — какой прискорбный случай!
— Да, случай бывает иногда роковым, — с изумительной спокойной торжественностью произнесла великая герцогиня.
— Но как могло это произойти?
— Откуда же могу я знать это! — ответила Аврора. — По правде сказать, я не более осведомлена относительно этого, чем вы относительно пожара, случившегося сегодня ночью.
Удар был прямой, но великий герцог не опустил головы.
— Вы правы, что за дело до причин, когда печальный результат налицо. Позвольте мне оплакивать вместе с вами огромную утрату, понесённую вами.
— Действительно, огромную, — ответила Аврора, — и вот почему я хочу, не откладывая, поблагодарить вас, ибо вам я обязана тем, что она не является совершенно непоправимой. Неужели вы предчувствовали это печальное событие в тот день, когда решили предоставить в моё распоряжение второе доверенное лицо — г. Виньерта?
Фридрих-Август закусил губу. Но ответ его был ужасен.
— Мне известно, что вы высоко цените заслуги г. Виньерта, и я в восторге от этого. Но ужасный конец м-ль фон Граффенфрид огорчает меня так сильно по отношению к вам, потому что, как я уверен, есть вещи, в которых женщина является незаменимой.
Такое состязание в ядовитых любезностях между этими двумя лицами казалось мне ужасающим. Кессель, г. фон Вендель и все другие присутствовали на нём, не представляя себе всего его трагизма. Сознание, что я посвящён в такие вопросы, возбуждало во мне одновременно гордость и страх. Воспоминание о г. Тьерри всплыло у меня в голове. Я обещал ему никогда не вмешиваться в интимные дела Лаутенбургских герцогов!..
Я не знал, чем больше восхищаться, — грозной учтивостью великого герцога или же холодным высокомерием великой герцогини. Один миг я боялся, что последняя гнусная стрела, пущенная им в неё, заставит её согнуться и лишит её спокойствия. Ничего подобного, её контрудар превзошёл нападение.
— Незаменимой! Вы совершенно правы. И я прошу вас предоставить г. де Виньерта в моё полное распоряжение вовсе не потому, что он может заменить Мелузину. Я рассчитываю, напротив, на его преданность для того, чтобы помочь мне сохранить возможно живее память о нашей дорогой усопшей и о событиях этой трагической ночи.
И она прибавила:
— Г. Виньерт в настоящее время лишился вследствие пожара помещения. Вы не будете иметь ничего против того, чтобы с сегодняшнего дня он пользовался моим гостеприимством?
Великий герцог поклонился.
— Ваше желание будет исполнено. Да принесёт Вам его общество хотя некоторое нравственное успокоение, в котором вы так нуждаетесь после жестоких испытаний, ниспосланных нам всевышним.
С этими словами он распрощался с нами.
В будуаре великой герцогини, где был устроен катафалк, гроб тонул под потоком роз и ирисов, среди курильниц с дымящимся фимиамом.
Аврора пожелала остаться около своего усопшего друга, вдвоём со мною. Надо было видеть, как принимала она людей, робко появлявшихся там.
Одетая в чёрную тунику, она вполголоса читала прекрасные православные молитвы.
Уже два дня не смыкал я глаз. Около полуночи, совсем изнурённый и разбитый, я заснул в кресле.
Когда я открыл глаза, великая герцогиня стояла около меня. Большие восковые свечи бросали на её лицо трепещущие и мягкие тени.
Она прошептала с грустной улыбкой, положив мне на лоб руку:
— Вы изнемогаете от усталости. Идите спать, друг, бедный друг, в котором я могла усомниться.
Такова слабость человеческих сил. Я с восторгом предался сну в эту ночь, которую я мог бы целиком провести около неё, среди раздражающего аромата цветов, в атмосфере смерти, которая может побудить ко всему.
Я лёг в комнате м-ль фон Граффенфрид. Старая идиотка-служанка, ворча, сменила простыни умершей.
Похороны Мелузины состоялись во вторник, 28 июля. Великий герцог, великая герцогиня и наследный принц пешком следовали за колесницей, белый саван которой был совсем скрыт цветами.
Я затерялся в толпе офицеров, дворцовых служащих, знатных лиц Лаутенбурга. По распоряжению великой герцогини, эскадрон 7 — го гусарского полка держал караул. По распоряжению великого герцога звон соборного колокола, редкий и гулкий, раздавался во всё время следования кортежа.
Высокий старик с лицом аскета, как Мольтке, в старом, блестевшем на сгибах сюртуке, шёл впереди в сопровождении лейтенанта с угрюмым и высокомерным лицом, одетого в синий мундир брауншвейгских гусар; то были гг. Рихард и Альбрехт фон Граффенфрид, отец и брат усопшей.
Когда гроб внесли в храм на улице Победы, ледяной холод пронизал меня до мозга костей. Меня ужаснула мысль, что она, Мелузина, с её сладострастным телом, для которого так подходила бы пышная, полная неги католическая служба, принадлежала к протестантской религии.
Я никогда не бывал в лютеранском храме. Это — ужасное место. Даже слёзы не решаются тут показаться на глаза, боясь в тот же миг застынуть.
Худощавая фигура пастора Зильбермана, в странном наряде, похожем на наряд почётного члена масонской ложи, появилась на передвижной кафедре, и он заговорил. Он выбрал, не знаю почему, текст священного писания, где говорится о дочери Иевфая. Нельзя было найти ничего менее подходящего для памяти слабой духом усопшей, чем история жертвы, принесённой этой мрачной и жестокой еврейкой.
В течение получаса пастор говорил со всем жаром, который мог бы проявить учитель математики, доказывая три случая равенства треугольников.
Когда он сам комментировал знаменитую фразу: Порази эту грудь, обнажённую перед тобою, глаза мои обратились на великую герцогиню. Я увидал, что она плачет.
Из церкви мы в автомобилях поехали на вокзал. Гроб поставили в вагон, вместе со всеми цветами, уже совершенно увядшими.
Вернувшись во дворец, я наткнулся в галерее зеркал, такой же пустой в пять часов дня, как и в полночь, на лейтенанта Гагена. Он был бледен и, по-видимому, сторожил меня.
— Милостивый государь, — шёпотом сказал он мне, — я два часа дожидался вас третьего дня на мосту.
Я совершенно забыл о назначенной нами встрече. И я откровенно признался ему в этом.
— Могу ли я надеяться, что после этого вы не проявите больше такой досадной забывчивости? — всё так же кротко произнёс он.
И с этими словами он прикоснулся к моей щеке перчаткой, которую сжимал в правой руке.
Я с трудом удержался от того, чтобы ответить ему здоровой пощёчиной. Его притворное спокойствие спасло меня.
— Милостивый государь, — сказал я, — завтра в шесть часов утра. Я — к вашим услугам.
— Установим сейчас же все условия, — заявил он. — Никаких свидетелей, никого, разумеется. Но вы являетесь оскорблённой стороной. Какое вы выбираете оружие?
Если бы я не был так возбуждён, вопрос этот поставил бы меня в большое затруднение. Но тут я не колебался ни минуты.
— Вот это, — ответил я, вынимая из кармана браунинг великой герцогини.
Он подавил своё изумление.
— Это не вполне соответствует правилам, может быть, — заметил он. — Но всё равно, решим так. Семь выстрелов, как кто хочет, после сигнала. А расстояние?
— Десять шагов, — ответил я, с полной беспечностью относясь к своим словам.
Бледная улыбка мелькнула у него на губах.
— Значит, на смерть. Да будет исполнено, милостивый государь, ваше желание.
И он оставил меня.
Я нашёл великую герцогиню у неё в комнате. После разыгравшейся драмы я ещё не был там. Она знаком пригласила меня сесть и продолжала молчать. Мало-помалу тьма сгустилась вокруг нас. Лампадка, горевшая перед иконой, замерцала розовым огоньком. Гузла Мелузины всё ещё валялась на ковре. Одни и те же мысли бродили у нас в голове. Мы думали о другом прекрасном инструменте для наслаждения, который в данное время уже претерпевает в земле ряд таинственных превращений и который не зазвучит больше никогда.
Какие часы отдавала Аврора сну? Одна только Мелузина знала это. Мы слышали пробуждение птиц на заре. Оживлённое щебетание зябликов и воробьёв сменило грустное пение соловья. Птицы, услышу ли я ваше пробуждение завтра?
Время настало. Я нарушил этикет!
— Позвольте мне покинуть вас, — сказал я Авроре. — Я чувствую себя усталым.
Она с упрёком посмотрела на меня. Мне показалось, что она подумала: Мелузина никогда не чувствовала себя усталой.
«Ах, если бы она знала», — подумал я. И одну минуту я боролся с искушением всё рассказать ей.
Я вернулся к себе в комнату и через несколько минут снова покинул её; из предосторожности, чтобы из своего окна она не могла увидеть меня, я прошёл через парадный двор.
Было ещё только пять часов, когда я очутился у моста. Этот свободный час показался мне целою вечностью блаженства. Никогда природа не представлялась мне такой прекрасной, никогда не любил я так жизнь, как в этот момент, думая, что скоро, может быть, мне придётся расстаться с нею.
Я знал, что Гаген лучше всех в гарнизоне владеет шпагой. Он был очень силён также в стрельбе из пистолета; что же касается до меня, то моё воспитание в этом отношении ограничивалось тем, что в периоды моего военного обучения, как офицера резерва, я сделал две или три дюжины выстрелов из револьвера.
Опершись на перила, я смотрел, как Мельна струилась у моих ног между скалами. Маленькие серебряные форели выскакивали из пенящихся волн. Я вспоминал тех, которых я выуживал десять лет тому назад в ручье Оссо, между Ларуном и Пон-де-Беоном.
Куда впадала эта река? В Аллер, текущий в Везер, вливающийся в свою очередь в Северное море, сообщающееся с Ла-Маншем, представляющим собою рукав Атлантического океана, принимающего в себя Адур, куда впадает близ голубого городка Пейрехорада, речка По, слившаяся с ручьём Оссо. Маленькие немецкие форели, маленькие французские форели. Ребяческие мысли, помогающие нам перед смертью окинуть взглядом всю нашу жизнь, связать между собою её различные этапы.
— Простите, господин профессор, что я заставил вас ждать. Но ведь ещё нет шести часов.
Гаген. Я не заметил его приближения. Я почти не думал о нём.
Мы раскланялись.
— Я захватил с собою всё нужное для того, чтобы драться без свидетелей, — заявил он.
Он вынул из кармана стилограф и бумагу.
— Вы выразили желание стреляться на браунингах, и я принёс с собою свой. Если вам угодно, мы можем бросить относительно них жребий. Но я полагаю, что это бесполезно, они одного и того же образца. Но до того, вы будете, может быть, столь любезным и подпишете вот это.
Он позаботился заготовить акт от моего и от своего имени, в котором оба противника заранее признавали, что всё произошло согласно правилам чести.
— В случае несчастья это оградит оставшегося в живых от неприятностей, — счёл он нужным объяснить мне.
Все формальности были им соблюдены.
Но мне любопытно было знать, каким образом будет нам дан сигнал стреляться. Я не мог не признаться ему в этом.
Он самодовольно улыбнулся.
— Я предусмотрел и это, — ответил он.
С этими словами он развернул свёрток, заключавший в себе будильник.
— Он заведён на шесть часов десять минут, — сообщил он мне, — можете проверить. Когда он зазвонит, мы можем стрелять, имея право переменить место. Это, впрочем, указано в протоколе.
Не знаю уже, что преобладало в таком поведении, смешное или трагическое.
Гаген отсчитал шаги.
— Восемь, девять, десять. Господин профессор, вы несколько выше ростом, чем я. Отмерьте, если вам угодно, в свою очередь, мы установим среднее.
— Незачем, — сказал я, — я согласен на это расстояние.
Он поклонился и вынул из кармана браунинг.
— Шесть часов семь минут, — произнёс он. — Мы можем занять места.
Я встал на проведённую им черту. Мы очутились друг против друга.
Будильник стоял на перилах моста, циферблат был виден нам обоим. Резкое тиканье ясно слышалось сквозь глухой рокот волн.
Я смотрел на моего противника. Глаза его, исступлённые, как у молодой девушки, были пристально устремлены на мои ноги.
Шесть часов девять минут.
«Он ждёт звонка, а я смотрел на стрелку, — думал я. — Что, если будильник зазвенит раньше!»
Вдруг я увидел, что Гаген поднял голову; великолепное спокойствие покинуло его. Выражение ужаса разлилось по его лицу.
Я обернулся, не заботясь о том, что движение это может стоить мне жизни. В тот же миг будильник зазвонил пронзительным звоном, который не прекратится, казалось, никогда.
Великая герцогиня Аврора стояла за мною. Тогда я понял, почему не выстрелил лейтенант. Аврора очутилась между нами.
— Не объяснит ли мне один из вас, господа, причину такой любопытной сцены? — холодно спросила она.
Ответа не последовало.
Протокол, составленный Гагеном, лежал на будильнике. Она взяла его.
— Понимаю, — произнесла она, прочитав. — Браунинги. Г. Виньерт, вы нашли плохое применение доверенным вам мною вещам. А вам, лейтенант Гаген, я приношу моё поздравление. Вы удивительно изобретательны.
Голос её, дотоле полный иронии, зазвучал очень сурово:
— Если этим способом, господа, вы хотите доказать мне свою преданность, о которой оба вы прожужжали мне уши, то знайте, что она вовсе не по вкусу мне. Г. Виньерт, вы — иностранец, вам простительно не знать здешних законов о дуэли. Но вам, лейтенант, вам они известны.
Гаген опустил голову.
— Вам известно, что офицер 7 — го гусарского полка не должен драться, не получив на то разрешения полковника. За нарушение этого правила лейтенант Технер был наказан, меньше года тому назад, тридцатидневным заключением в крепости. Вы забыли это?
Гаген не ответил.
— Вы наденете мундир, г. Гаген, и явитесь в казарму, отдав себя в распоряжение майора Гаугвица, до тех пор пока он рапортом не назначит вам двухнедельного ареста, которым, в уважение к вашим заслугам, я ограничиваю ваше наказание. Можете отправляться. Не забудьте будильника.
Лейтенант Гаген повернулся налево кругом, отдав своему полковнику честь.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В сером отверстии нашего убежища, куда проникал теперь холодный утренний воздух, показалась чёрная фигура.
— Господин лейтенант, господин лейтенант, пять часов.
То был солдат сторожевого поста, которому я на всякий случай поручил разбудить нас.
— Через полчаса начнётся атака, — сказал Виньерт. — Выйдем, я доскажу свою историю на улице. Впрочем, она уже близится к концу.
Звёзды погасли. Только одна ещё мерцала совсем внизу на самом востоке, где через час должен был потушить её рассвет.
Мы уселись на бревне, у края оврага, вся линия роты расстилалась перед нами. Мы отлично могли следить оттуда за перипетиями готовившейся смелой попытки.
Рядом с нами виднелась скромная солдатская могила — тёмный прямоугольник, покрытый увядшими ветвями. Я прочитал на маленьком кресте из некрашенного дерева слова, уже наполовину смытые дождём:
«Мохаммед Берджи бен Смаил, солдат второго стрелкового полка, погибший за Францию 23 сентября 1914 г. Молитесь за него».
Редко видал я что-либо более потрясающее, чем этот крестик, наивно просящий христианской молитвы за бедного мусульманского солдата.
Виньерт смотрел прямо перед собою, дожидаясь момента, когда поредевший мрак позволит ему осмотреть окрестности. Но это было ещё невозможно. Только у самого горизонта чуть намечалась чёрная линия высот, занятых неприятелем.
— Через Гюртебиз и Кран, — сказал он, — через Лан, Сен-Ришомон и Гиз, через Капеллу и через Нувионский лес, где напали на нас белые кирасиры, мысль моя часто летит к песчаным ганноверским равнинам, к Лаутенбургу, где покинул я Аврору. Что сталось с нею, в её комнате, среди её мехов и драгоценных камней? Что сделали они с нею, господи?
Когда, после сцены на мосту, мы вместе отправились во дворец, она не сказала мне ни слова. Мы позавтракали. Потом она принялась расставлять в вазах тяжёлые тёмные ирисы и белые гвоздики.
Около десяти часов она позвала горничную.
— М-ль Марта тут? — спросила она.
И, получив утвердительный ответ, прибавила:
— Впустите её.
М-ль Марта ежегодно являлась около этого времени из Парижа с большим выбором прелестных безделушек. Лёгкий аромат бульвара де ла Маделэн проник в комнату вместе с изящной, хорошенькой девушкой.
— Вы благополучно совершили путешествие, дитя моё? — спросила Аврора.
— Я приехала вчера вечером, ваше высочество, — ответила молодая девушка. — Простите, что я так рано осмелилась вас беспокоить, но я должна сегодня же вечером отправиться обратно.
— Что хорошенького привезли вы мне в этом году?
М-ль Марта вынула из картонок драгоценные мелочи парижской промышленности: тюлевые веера, бархатные и муаровые ручные мешочки, крошечные ящички для марок, для пудры, для мушек, всю эту миниатюрную роскошь, наряду с которой произведения других стран кажутся жалкими выскочками.
— Оставьте мне всё, — сказала Аврора. — Скажите Дювеллеруа, чтобы он получил, что следует. К ноябрю мне нужен веер Ватто, или, в крайнем случае, Ланкре; я хочу иметь его, когда приеду в Париж.
— Ваше высочество получите его, — уверенно ответила девушка.
— Отлично. Вы поедете сегодня с пятичасовым экспрессом. Оставайтесь у меня завтракать. Вы расскажете мне, что готовится на улице Мира к будущей зиме.
В продолжение всего завтрака я любовался непринуждённою простотою, с которой маленькая парижанка отвечала на вопросы великой герцогини. Я гордился своей хорошенькой землячкой, видя, как Аврора, столь высокомерная с лаутенбургскими женщинами, с этою обращалась, как с равной. Но особенно пламенно восхищался я самообладанием принцессы, которая после трёх дней и трёх ночей, способных вконец разбить самого энергичного мужчину, находила в себе силы беспечно обсуждать тысячу мелких подробностей парижских мод.
— Так вы по-прежнему рекомендуете мне Карлье?
— Да, ваше высочество. Это лучшее, что есть в области шляп.
— Лоранс переехала с улицы Пирамид. Она открыла большой магазин на улице Обера. Я зайду туда посмотреть, может быть.
— Пусть ваше высочество посмотрит, но и только. Лоранс работает главным образом для вывоза. Она ведёт по большей части дела с иностранными комиссионерами.
Я был счастлив слышать эту болтовню, вносившую суетную ноту в окружавшую нас трагическую атмосферу и заставлявшую меня почти забывать её.
Около трёх часов великая герцогиня вручила Марте конверт.
— Вот вам на дорогу, милочка. Я не хочу, чтобы вы опоздали на поезд. Автомобиль отвезёт вас в гостиницу, а оттуда на вокзал. Я очень довольна вами. Не забудьте про веер. Ну, до свидания. В ноябре я сделаю вам визит.
Когда солнечный луч исчез, великая герцогиня погрузилась на миг в задумчивость, перебирая разбросанные по комнате безделушки, потом она сказала мне:
— Господин Виньерт, я хочу сообщить вам важную новость.
Я ответил ей полным жадного вопроса взглядом.
— Я хочу осведомить вас, что я получила только что письмо, письмо от г. фон Боозе.
И в ответ на выраженное мною удивление:
— Неужели вы думаете, — сказала она, — что эта миленькая Марта совершила путешествие из Парижа сюда только для того, чтобы привезти мне эти безделушки — правда, прелестные — от г. Дювеллеруа?
Пятница. Восемь часов вечера.
Мы только что кончили обедать. Вошёл лакей с вечерней почтой — около десятка писем, — которые он передал великой герцогине.
— Вы разрешаете, друг? — сказала мне она.
Она пересматривала один за другим запечатанные конверты. Потом вскрыла один из них.
— Так, — сказала она мне, прочитав письмо. И протянула его мне.
То была просьба о вспомоществовании от имени гамбургского филантропического общества. Великой герцогине сообщали о базаре в пользу ясель для детей рабочих, назначенном на следующий понедельник.
— Мы поедем, — просто сказала Аврора. — Это условный знак Боозе.
Два дня тому назад я узнал всё. Она рассказала мне, что сразу же после того, как я передал ей документ, найденный в Petermanns Mittheilungen, она написала в Конго барону Боозе. Какими аргументами подействовала она на этого человека, я не узнал никогда. Но так или иначе, а письмо, привезённое Мартой, сообщало великой герцогине, что он выехал из Африки. Теперь он прибыл в Гамбург. Не было никаких сомнений в том, что он мог сделать важные разоблачения.
— Это стоило мне недёшево, — с бледной улыбкой прошептала Аврора.
— Мы поедем завтра, — продолжала она.
Она посмотрела на меня, подумала минуту и затем произнесла:
— Друг, быть может, несколько поздно, но я всё же чувствую угрызения совести, я злоупотребляю вашей преданностью. Знаете ли вы, что вы впутались в очень опасную историю?
— А вы? — возразил я.
— Я другое дело. Я борюсь за свою свободу, которая для меня дороже жизни. И потом, я всё-таки великая герцогиня Лаутенбургская, княжна Тюменева. За мною стоит великая Россия. С этим приходится считаться. Но вы, друг… вспомните Кира Бекка, вспомните Мелузину. Зачем, для чего будете вы жертвовать собою?
Взгляд, который я бросил ей, светился таким укором, что она, гордая, надменная принцесса, опустила голову.
— Простите, — прошептала она.
Потом она прибавила:
— Ну, так решено. Мы едем завтра. Позвоните. Я сделаю необходимые распоряжения.
Я нажал кнопку электрического звонка. Раздались шаги. В дверь постучали.
— Войдите, — сказала Аврора.
Дверь открылась.
— А! — прошептала великая герцогиня.
На пороге стоял лейтенант Гаген.
Он был немного бледен и словно застыл в позе часового, приложив правую руку к каске, медная чешуя которой была пропущена под его стянутым подбородком.
— Лейтенант Гаген, вот как! — произнесла, овладев собою, Аврора. — С которых же это пор арестованные офицеры выходят из крепости?
Гаген молчал, неподвижный и холодный.
— Удостоите ли вы меня когда-нибудь ответом, лейтенант… Ведь арест ваш, насколько я знаю, ещё не кончился?..
— Он кончился, ваше высочество, — пробормотал Гаген.
— Кончился? — воскликнула великая герцогиня. — Да вы с ума сошли, г. фон Гаген.
— Нет, ваше высочество, — повторил юный лейтенант тихим и упрямым голосом. — Арест мой кончился сегодня вечером.
— Кончился! — вне себя закричала Аврора. — Знаете ли вы, лейтенант, чем вы рискуете, продолжая такую шутку? Знаете ли вы, что одно, только одно может прекратить наложенный мною арест?
— Знаю, ваше высочество, — сказал Гаген.
— И что это одно…
— Война, — докончил лейтенант.
Вам может показаться невероятным, что среди непрерывною цепью следовавших друг за другом драм при лаутенбургском дворе, великие события последней недели июля месяца прошли у нас почти незамеченными. Мы обратили, правда, некоторое внимание на сербскую ноту, но после ночи, проведённой мною в Оружейной зале, для нас перестало существовать всё, за исключением переданных мною вам фактов; мы пропустили и австрийский ультиматум, и германское Kriegszustand, словом, всё. А теперь вдруг это слово, такое простое: война.
Совершенно ошеломлённый смотрел я на Гагена. Он сменил свой красный камзол на походный доломан серо-зелёного цвета.
Поборов удивление и постаравшись вернуть свою обычную холодность, Аврора спросила:
— Война, вот как, г. фон Гаген, и с кем же?
— Сегодня вечером с Россией, ваше высочество, — сказал юный лейтенант, — а завтра, наверное, и с Францией. Великий герцог, час тому назад прибывший из Берлина, привёз приказ о мобилизации армии.
Аврора подошла к окну и широко распахнула его. Было жарко и душно.
— И великий герцог, лейтенант, прислал вас ко мне, чтобы сообщить мне эту важную новость… Но я не знаю, к чему вам могут понадобиться при этом четыре гусара, которых я вижу внизу у дверей.
Гаген вспыхнул и сразу же побледнел.
— Ваше высочество! — пробормотал он.
— Что? — надменно произнесла она.
— Мне дано другое поручение. Вы должны простить меня…
— Ну, ну, лейтенант, не дрожите же так. Если вы не можете даже высказать то, о чём идёт дело, как найдёте вы в себе силу исполнить это. Говорите же, я арестована во дворце, не так ли?
— О! ваше высочество, — воскликнул Гаген, — как можете вы думать… Я, принять на себя…
— Так в чём же дело?
Лейтенант, не говоря ни слова, обратил взгляд в мою сторону.
— Ваше высочество, — выступив вперед, сказал я, — не утруждайте ваши мысли решением этой загадки. Почему, г. фон Гаген, не хотите вы просто сказать, что вы пришли арестовать меня?
Наступило молчание.
— Это правда, лейтенант? — произнесла великая герцогиня.
Гаген опустил голову.
— Вы можете объяснить мне причину этого ареста?
— Ваше высочество, — сказал Гаген, к которому вернулся известный апломб, — я только солдат, я исполняю приказания, не входя в их обсуждение. Но тут понять нетрудно! Г. Виньерт — француз, больше того, он офицер. Франция мобилизуется против нас. Французские авиаторы уже бомбардировали, по-видимому…
— Вы солдат, лейтенант, и вы повинуетесь полученным вами приказаниям, — прервала его великая герцогиня. — Отлично, но что касается до этого приказания, — можете ли вы поклясться мне, что не вы его испросили?
Гаген не ответил, но взгляд, полный ненависти, который он бросил на меня, был достаточно выразителен. Великая герцогиня внезапно обратилась ко мне:
— Одевайтесь!
Она также набросила на себя широкий тёмный плащ. Потом она подошла к бюро и я видел, как она рылась там, вынимая различные вещи и опуская их в огромные карманы плаща.
— Господин фон Гаген, — сказала она, снова приближаясь к нему, — вы поведёте г. Виньерта в крепость? В котором часу?
— Он должен быть там в десять часов, ваше высочество.
Тогда, с улыбкой бесконечного презрения, она положила руку ему на плечо:
— И вы могли думать хоть одну секунду, что я позволю вам заточить его? — произнесла она.
Подавляющее величие светилось в её взгляде, в её позе, в её словах; лейтенант опустил голову; он дрожал всеми членами.
— Людвиг фон Гаген! — продолжала она. — Однажды, четыре года назад, я узнала, что офицер 7 — го гусарского полка проигрался, сплутовал в карты. Ему грозило бесчестие и смерть. На другой день долги этого офицера были уплачены, дело потушено и сам он был назначен ко мне офицером, что повергло весь гарнизон в удивление, ибо это было странно быстрое повышение. По этому поводу пошли всякие комментарии, к которым я отнеслась с полным презрением. Вы-то ведь знаете, что моим поступком руководило только желание спасти от позора человека молодого, храброго, носившего знатное имя и казавшегося мне честным.
— Он же, — и она указала на меня, — он ничем мне не обязан, напротив, он терпел от меня холодность и презрение, вызванные моими несправедливыми по отношению к нему подозрениями. Но это не оттолкнуло его. Он работал для меня в тиши. Он ещё сам не знает, быть может, всей важности того, что он для меня сделал. Но он знал, во всяком случае, что он рискует жизнью. А теперь человек, который всем мне обязан, является сюда, чтобы арестовать того, которому всем обязана я.
По лицу юного гусара катились слёзы.
— Что вам от меня угодно? — пробормотал он дрожащим и хриплым голосом.
— Чтобы вы заплатили мне свой долг, — ответила Аврора. — День настал, и у меня даже нет к вам сожаления, ибо вы сами поставили себя в такое положение.
— Приказывайте, — произнёс он, — я готов повиноваться.
— Ступайте вниз и прежде всего удалите солдат. Найдите предлог, который впоследствии помог бы вам выпутаться.
— Теперь, — сказала она, когда он вернулся, — ступайте в гараж. Вы ещё найдете там шофёров. Велите вывести большой серый Бенц, с полным запасом топлива, с потушенными фонарями, и сами подъезжайте на нём к выходу. Теперь без двадцати девять; будьте там через десять минут.
Развернув на столе карту дорог, Аврора стала её рассматривать: «Через Ахен и Бельгию несомненно ближе, — пробормотала она, — но я лучше знаю дорогу через Висбаден и Тионвиль».
— Вы готовы? — обратилась она ко мне.
— Что вы собираетесь делать? — спросил я.
— Отвезти вас во Францию, разумеется.
Она прибавила:
— Я положила в карман вашего пальто деньги и револьвер: с этим можно доехать куда угодно.
Друг, Аврора была в тот миг необычайно прекрасна. Если бы вы могли её видеть такою, вы поняли бы волнение, мешающее мне говорить.
Глухое пыхтение раздалось под окном. Бенц подъехал.
— Идём, — сказала Аврора.
В эту минуту в комнату вошёл Гаген. Куда девалась его первая упрямая надменность! Он упал к ногам великой герцогини.
— Уезжаете, вы уезжаете с ним, навсегда, — с рыданием пробормотал он.
Она посмотрела на него несколько мягче.
— Если вы думаете так, г. фон Гаген, — сказала она, — то послушание ваше заслуживает ещё большего одобрения. Узнайте же, что я не уезжаю. Я связана с этими, столь ненавистными для меня, местами долгом, который мне надо выполнить. Но в данный момент я прежде всего обязана спасти того, кто всем для меня пожертвовал.
— Ах! Благодарю вас, благодарю, — произнёс молодой человек.
— Подождите ещё, прежде чем благодарить, — возразила она. — Г. фон Гаген, у вас, я полагаю, с собой ваше удостоверение личности и приказ о мобилизации?
Он встал, шатаясь.
— Мой приказ о мобилизации? — повторил он, страшно побледнев.
— Да, — спокойно продолжала она, — сделайте одолжение, передайте их г. Виньерту. Нас могут остановить прежде, чем мы достигнем границы. Я думаю, что мне достаточно будет назвать себя для того, чтобы уладить в конце концов все недоразумения. Но мы можем натолкнуться на нелепые приказы. Не следует терять времени. Для лейтенанта фон Гагена путь везде будет свободен. Скорее.
Офицер был смертельно бледен. Жестокая борьба шла у него в душе.
— Вы хотите отнять у меня честь, ваше высочество, — сказал он наконец.
— Я отняла бы у вас в таком случае только то, что я вам когда-то вернула, г. фон Гаген, — ответила беспощадная Аврора. — Но не надо ничего преувеличивать. Вы будете скомпрометированы только в том случае, если сами захотите этого. Я прошу у вас двух вещей — не сообщать о нашем отъезде раньше десяти часов и подать мысль, что мы отправились по дороге в Ахен. Если великий герцог не постыдится прибегнуть к телефону и телеграфу, пусть обращается он в другую сторону. Ну, до свидания; завтра в это же время я вернусь.
Она протянула ему руку, которую он оросил слезами.
— Я могу рассчитывать на вас, друг? — спросила она.
Задыхаясь от волнения, он сделал утвердительный жест.
Не менее глубоко взволнованный, я подошёл и также протянул руку тому, кто в этот миг рисковал для меня всем. Но он отступил и ответил мне взглядом, полным неописуемой ненависти:
— Молю бога о том, чтобы нам привелось поскорее встретиться в другом месте.
Аврора пожала плечами; я слышал, как она пробормотала что-то о глупости мужчин. Но она вышла на лестницу. Я последовал за нею, бросив последний взгляд на комнату, полную мехов, камней, прекрасных нежных цветов…
— Садитесь, — шепотом сказала она.
Я занял место на переднем сиденье огромного автомобиля. Мы тронулись.
Когда мы проезжали по мосту, на Лаутенбургских колокольнях и на старой башне замка пробило девять часов.
Бесконечною белою лентою блестела под мягким светом луны дорога. Автомобиль без шума, с головокружительной быстротой, катился по ней. На поворотах я чувствовал удивительную твёрдость руки моей спутницы.
Всё это совершилось с такою скоростью, что я опомнился только, когда мы уже проехали добрую сотню километров. Тогда фраза Авроры: «Завтра, в это время, я вернусь», пришла мне на память, и я подумал о том, что через несколько часов я расстанусь с великой герцогиней.
Эта мысль не подняла во мне возмущения. Безумно быстрая езда погружала меня в какое-то роковое отупение, казавшееся мне до известной степени приятным. Тёмные купы деревьев, дугообразные мосты над серебристыми реками оставались позади. Мы разминулись с возом сена: если бы автомобиль взял пятью-десятью сантиметрами правее, нас постигла бы смерть. Смерть, я повторял это слово, я смотрел на замкнутое лицо Авроры; её руки в светлых перчатках казались на рулевом колесе тонкими белыми полосками.
Потом вдруг я вспомнил о войне. Так это правда? Что найду я на родине? Но я должен, к стыду своему, признаться, что мысль эта не могла сосредоточить на себе моего внимания, скорая езда опьяняла, укачивала меня, отвлекала меня от самого себя. В этот момент я нисколько не заботился о том, что могло ещё со мной случиться.
Четырёхугольный абажур направлял свет электрического фонаря на карту дорог, но Аврора почти не смотрела на неё. Она прекрасно знала этот путь. Я вспомнил, как она рассказывала мне, сколько раз проделывала она его, отправляясь на воды.
Она искусно объезжала в каждый нужный момент города, их красный свет сперва всё увеличивался, потом оставался справа или слева от нас, и, наконец, исчезал сзади. Три или четыре раза она называла их: Кассель, Гиссен, Ветцлар…
Кассель, Гиссен, Ветцлар! Не всё ли мне было равно?
Часы на автомобиле блестели при свете фонаря. Но я не смотрел на них. Я ни о чём не думал.
Не замедляя хода, мы проехали через гористое местечко с домами, скрытыми в чаще тёмных деревьев.
— Висбаден, — прошептала Аврора, — моя вилла, — добавила она, когда мы поравнялись с одним из домов. — Ещё нет часу. Мы едем отлично.
Она повернула направо на разветвление дороги. Вдали на горизонте засверкали огни большого города.
— Это — Майнц, — сказала она, — а вот — Рейн.
Полным ходом переехали мы по висячему мосту священную реку. Она с рокотом катила внизу свои волны. Местами, под просветами между туч, виднелась её зелёная пена.
Спускаясь с моста, мы смутно расслышали какую-то команду, хриплое «wer da?», затем сухой треск выстрела.
— Они стреляли, — сказала Аврора, — мы приближаемся к границе. Надо быть осторожнее.
Я взглянул на компас. Мы мчались прямо на запад. Указатель скорости показывал 105. У меня в первый раз вырвалось движение изумления.
Аврора заметила его и улыбнулась:
— Между Ветцларом и Висбаденом мы делали по 145, — просто сказала она.
Скоро на западе показались новые красные огни.
— Тионвиль, — произнесла Аврора. — Он кишит, наверное, войсками.
К моему великому удивлению, я увидел, что она не объезжает города, как делала она это до сих пор. С зажжёнными теперь фонарями мы неслись прямо к укреплению, стены которого мало-помалу вырисовывались на небе.
Автомобиль замедлил ход. Дома, предместья. Затем повелительное «wer da?». Мы остановились.
Около дюжины солдат окружило нас. Все они были в зеленовато-серых мундирах, в касках, окутанных капюшонами.
— Ваши бумаги! — раздался суровый голос унтер-офицера.
— Я покажу их вашему лейтенанту, — ответила Аврора, — позовите его сюда, пожалуйста.
Но последний уже подходил к нам. Белокурый колосс, разъярённый тем, что потревожили его сон. Увидев штатских, он обратился к нам довольно грубо.
— Лейтенант, — сухо заметила великая герцогиня, — прежде всего я попрошу вас запретить солдатам колотить прикладами по моему автомобилю. Затем, взгляните сюда.
С этими словами она повернула электрический фонарь и осветила Лаутенбургский герб, украшающий дверцы. Офицер привскочил.
— Я имею честь видеть её высочество, великую герцогиню Лаутенбург-Детмольдскую?… — пробормотал он, вытягиваясь во фронт.
— Её самое, господин лейтенант, — ответила Аврора.
— Прошу ваше высочество извинить меня, — сказал ошеломлённый лейтенант. — Назад! — крикнул он в то же время солдатам, с яростью отталкивая подошедших особенно близко к экипажу, — чем могу я служить вашему высочеству?
— Вот чем, — ответила великая герцогиня. — Тионвилем по-прежнему командует генерал фон Оффенбург? Не думаю, чтобы его превосходительство мог в такую ночь спать. Проводите меня к нему. Дайте мне одного из ваших людей, он сядет в автомобиль и покажет нам дорогу.
Офицер тотчас же сделал необходимое распоряжение. Он низко кланялся, сожалея, что долг службы не позволяет ему самому проводить нас.
Генерала, командующего укреплением, не было в Главной квартире. В конце концов, мы нашли его вместе со всем его штабом на вокзале. Платформы были запружены войсками, за передвижением которых он наблюдал. На площади бесчисленные орудия вырисовывались во мраке силуэтами допотопных животных. Всё это производило впечатление грубой могучей силы и невольно заставило меня вздрогнуть.
Когда ординарец доложил о прибытии великой герцогини, генерал фон Оффенбург засуетился. Очень красивый в своём длинном сером плаще с пунцовым воротником, он склонился перед Авророй, напоминая ей, что он имел честь танцевать с нею в Берлине. Но, несмотря на все старания, ему плохо удавалось скрыть изумление, причинённое ему нашим появлением в такой час и в такой обстановке.
— Не удивляйтесь особенно, генерал, — улыбаясь сказала Аврора. — Узнав о готовящихся великих событиях, я не могла усидеть в Лаутенбурге. Мне захотелось полюбоваться на наши войска на границе, вот я и приехала с моим ординарцем; лейтенант фон Гаген 7 — го гусарского полка, — прибавила она, представляя меня.
Я поклонился со всею выправкой, на какую был способен.
— Ваше Высочество, — воскликнул фон Оффенбург, — зачем направили вы ваш путь сюда! Тут нет ничего интересного, шестнадцатый корпус недвижим, как скала, он не производит никаких движений. Отчего не поехали вы в сторону Ахена?
— Да, — ответила она, — мне говорили. В сторону Ахена.
— Вы же знаете, что вся армия сосредоточивается там, — прошептал нам генерал.
— Правда, — согласилась Аврора. — Но бельгийская граница не интересует меня, в то время как я никогда не простила бы себе, если бы не взглянула на заре войны на французскую границу.
— Приветствую в Вашем лице неустрашимого полковника храбрых гусар, — любезно произнёс фон Оффенбург, целуя ей руку, — могу я быть вам чем-нибудь полезен?
— Разумеется, — ответила Аврора. — Знаете ли вы, что часовые ваши остановили меня сейчас без всякого почтения? Я попросила бы у вас конвоя, но моему Бенцу было бы слишком утомительно поспевать за вашими драгунами. Прикажите им проводить меня до конца постов и дайте мне какой-нибудь пропуск, который предохранил бы меня при возвращении от неприятностей. Скорее, уже занимается заря, а я хочу видеть, как солнце, вставая, осветит пограничный столб.
Генерал приказал подать себе пропуск.
— Вот, — сказал он, подписав его. — У вас ещё есть время. До Вильерю, во Франции, два километра от пограничных столбов, а отсюда до них не больше двадцати километров. Вы будете там через полчаса. Но не рассчитывайте увидеть французских солдат. Правительство их приказало им отступить на два лье от границы, чтобы избегнуть всякой нечаянности, могущей повлечь за собой войну, — с грубым смехом заключил он.
Окружённые полувзводом драгун, торжественно выехали мы из Тионвиля, сделав два километра по дороге в Оден-ле-Роман.
— Они чрезвычайно милы, — шепнула мне великая герцогиня на ухо, — но, в конце концов, они могут надоесть. — И она дала автомобилю полный ход.
Позади, в начинающем брезжить рассвете, отставшие драгуны совершенно исчезли через минуту на чёрной дороге.
Холодный утренний ветерок обдувал мне виски. Глубокое волнение охватило меня и, честное слово, в этот миг я не думал больше об этой женщине, для которой я готов был пожертвовать всем и с которой я скоро должен был навсегда расстаться. Я смотрел на холмы, один за другим выступавшие передо мной из мрака. Сознание изумительной странности моего возвращения на родину уступило место чувству более сильному и острому.
Чувство это достигло высшей степени, когда, остановив автомобиль так внезапно, что я чуть не вылетел из него, великая герцогиня без единого слова указала мне на пограничный столб, направо от дороги, в десяти шагах от нас.
В два метра высоты, с чёрною и белою правою стороною, с синею, белою и красною левою, он произвёл на меня в эту минуту потрясающее впечатление.
Я взглянул на великую герцогиню и испытал несказанное счастье, увидев волнение на этом замкнутом лице.
Ещё не совсем рассвело. Автомобиль двигался очень тихо. Казалось, Аврора хотела дать мне возможность рассмотреть мимоходом ночные цветочки, колеблемые ветром по краям оврагов.
И вдруг я схватил мою спутницу за руку. Автомобиль остановился. На верхушке холма, поднимавшегося над дорогой, на фоне тёмного неба появился неподвижный всадник.
То был французский драгун. Можно было различить его жёлтую каску и красно-белый значок на копье. За ним показался другой, потом третий, потом десять, двадцать, и они лёгким галопом двинулись нам навстречу.
— На этот раз, — улыбаясь сказала Аврора, — объясняться придётся вам.
Впереди ехал офицер. То был высокий молодой человек, смуглый и бледный. Чешуя от каски золотой чертой перерезывала его чёрные усы. Он отдал нам честь саблей и спросил наш пропуск.
— Милостивый государь, — ответила великая герцогиня, — я предпочитаю сразу же сознаться вам, что у меня нет ничего подобного, ибо я сомневаюсь, чтобы вы могли удовольствоваться вот этой бумагой, выданной мне германским генералом в Тионвиле, — добавила она, протягивая пропуск фон Оффенбурга.
Молодой лейтенант сделал жест, выражавший, что при данных обстоятельствах шутки не уместны.
— Милостивый государь, — продолжала Аврора, взглядом убедившись в моей полной неспособности дать какие бы то ни было объяснения, — есть вещи, которые слишком долго было бы объяснять на дороге, из автомобиля — верховому. Вот факты: я великая герцогиня Лаутенбург-Детмольдская. Г. Виньерт, мой спутник, — французский офицер, лейтенант, как и вы. Я не знаю, арестовывают ли уже во Франции немецких офицеров. Во всяком случае, в Германии со вчерашнего дня принимают такую предосторожность по отношению к французам. Г. Виньерта хотели арестовать; я привезла его к вам. Вот и всё.
И, словно преисполнившись жалостью к необычайному изумлению, отразившемуся на чертах драгуна, она прибавила:
— Я должна ещё добавить, лейтенант, что я — русская по происхождению; это рассеет, надеюсь, все ваши опасения относительно меня и моего дара.
Офицер соскочил на землю. Он почтительно склонился перед Авророй, вышедшей вместе со мною из автомобиля.
— Лейтенант де Куаньи, 11 — го драгунского полка, из Лонгви, — произнёс он.
Я представился. Мы пожали друг другу руки.
— Вы явились издалека, дорогой товарищ. Что будем мы с вами делать!
— Вы, наверное, можете одолжить ему лошадь, — сказала великая герцогиня. — И, позвольте дать мне вам совет, — поскорее отправьте его к вашим военным или гражданским властям. Он прибыл из Германии, он знает вещи, которые могут оказаться полезными для вашей страны, где такие прелестные цветы, но где, как мне кажется, охрана оставляет желать лучшего.
Произнеся эти слова, она глядела на куст дикого шиповника, росший над оврагом. Г. де Куаньи, притянув к себе густо покрытые цветами ветки, сделал розовый букет и протянул его великой герцогине.
— Благодарю вас, лейтенант, — с обворожительной улыбкой сказала она молодому человеку, совершенно ошеломлённому её несказанной красотой. — Не будете ли вы так добры приказать, чтобы ваши лошади посторонились? Дорога здесь узкая, а мне надо повернуть автомобиль.
Тут я разразился рыданиями.
Равнодушие, овладевшее мною ночью, внезапное волнение, охватившее меня при въезде во Францию, всё это исчезло, перестало существовать. Я думал только об одном: через четверть часа я потеряю её навсегда.
Г. де Куаньи удалил людей. Я слышал, как великая герцогиня говорила ему голосом, полным такой нежности:
— Простите его, лейтенант, он только что перенёс тяжёлые нервные потрясения, каких он никогда не испытает даже на войне.
Я почувствовал, что рука её легла ко мне на лоб.
— Мужайтесь, друг, — говорила она тихим, но твёрдым голосом. — Вы вернётесь домой, на свою родину, прекрасную и любимую мною. Вы ей понадобитесь, ибо испытания предстоят жестокие, более жестокие, чем вы можете это себе представить. Но вы изведаете много хорошего, скачку в галоп под лучами августовского солнца, минуты высокого упоения, во время которых теряешь рассудок, словом, всё то, из-за чего такая женщина, как я, жалеет, что она не мужчина. Это будет жестокое, жестокое испытание. Вам нечего жалеть о себе. И, если вы хотите окончательно убедиться в этом, подумайте о судьбе той, которая вернётся в Лаутенбург без вас.
— Увы, — сквозь слёзы пробормотал я. — Останьтесь, не возвращайтесь туда. Подумайте о том, что вас там, может быть, ожидает.
В голосе её послышались свистящие ноты.
— Дитя, дитя, я думала, общение со мною заставит вас в конце концов понять, что такое ненависть. Боозе вернулся. Неужели вы забыли камин в Оружейной зале, и письма из Конго, и все это таинственное противоречие, неужели вы думаете, что в тот момент, когда я имею возможность проникнуть в тайну преступления, я оставлю преступника в покое?
Слёзы мои усилились, и вдруг отчаяние моё потонуло в несказанной отраде — поцелуй скользнул по моему лбу.
Я поспешно вскочил, испустив страшный крик; я бросился, как безумный, по дороге, и бежал до тех пор, пока, споткнувшись, не растянулся во всю длину в канаве.
Когда я поднялся, совершенно разбитый и растерянный, автомобиль казался на востоке еле заметной серой точкой.
В Одене-ле-Роман, куда на лошади одного из драгун г. де Куаньи, отданной в моё распоряжение, я явился около семи часов, немедленно был реквизирован автомобиль, помчавший меня в Нанси.
Я думал, что во Франции уже был отдан приказ о мобилизации. Ничего подобного. И воспоминание о грозных приготовлениях, виденных мною сегодня ночью и не оставлявших никаких сомнений, стало терзать мою душу.
Меня привезли в префектуру и тотчас же ввели к префекту. Я сделал ему возможно подробный доклад обо всём, что я видел и слышал. Он отнёсся к моему рассказу с живейшим вниманием, сделал заметки у себя в книжке. Когда я уходил от него, он по телефону передавал в Париж доставленные ему мною сведения.
Я стал бродить по улицам Нанси. Поезд мой отходил в полдень.
Я был слишком взволнован, чтобы спать; я зашёл в кафе на улице Станислава. Пошарив у себя в кармане для того, чтобы расплатиться, я вытащил бумажник, положенный туда Авророй. Никогда ещё не был я так богат, как в этот момент, но деньги, когда-то столь желанные, теперь не имели для меня никакой цены.
Я попал на какую-то большую улицу и бессознательно остановился перед магазином. Я вошёл туда и купил платье, которое вы на мне видите, не заметив даже — в таком я был отупении, — что чёрный доломан с красным воротником был заменён на летнее время синим кителем.
В полдень поезд помчал меня в Париж. В первый раз промелькнули передо мной тогда те виды, которые отступление навсегда запечатлело у нас в памяти! Дорман с его мостом, перейдённым нами 2 сентября, в глубоко подавленном настроении, ещё усиленном тем, что был день Седана; тихую дорогу в Жолгонну, где мы преследовали неприятеля; Шато-Тьерри на Марне, с его высоким, обращённым в развалины, замком, где в последний раз привелось нам спать на кровати.
Было двадцать минут шестого, когда поезд остановился у вокзала Шато-Тьерри. Там узнал я новость о всеобщей мобилизации. Она была теперь воздвигнута, стена из огня и железа, отделявшая меня от моей возлюбленной герцогини Лаутенбургской.
Тяжёлая грозовая атмосфера висела в воздухе, но Париж был совершенно спокоен, когда я вышел на Восточном вокзале. О, город, я когда-то так за тебя боялся, я боялся при наступлении этой ужасной минуты твоей возбудимости, твоей страстности, всего, что может возникнуть из первых порывов энтузиазма. И вот час этот пробил, и даже убийство не могло смутить твоего спокойствия.
Мой мобилизационный листок погиб во время пожара Лаутенбургского дворца, но я мало беспокоился об этом, я помнил наизусть его содержание и твёрдо решил на другое же утро ехать в По, в 18 — й пехотный полк.
Я переоделся в номере гостиницы в мундир, потом по улице Лафайетт я направился к центру столицы.
Люди были возбуждены, но не суетливы. Виднелось много солдат, офицеров, подобных мне, но все они шли об руку с матерями, с жёнами, смотревшими на них с гордостью, смешанной со скорбью. А я был один, один в этот трагический вечер, ещё более одинок в этом огромном городе, чем в вечер, когда я покинул его.
Я и сам ещё не знал хорошенько, куда я шёл. Но я сообразил это, когда достиг Королевской улицы с её освещёнными и заполненными людьми террасами. Около Вебера я подумал о Клотильде. Теперь август, она рассталась со своей белой лисицей. На ней надета, наверное, светлая шёлковая блуза. Но воспоминание о ней показалось мне отвратительным.
Зелень Елисейских полей начинала темнеть под розовато-лиловым небом. Я повернул направо и пошёл по маленьким аллеям, напоминающим своими огромными деревьями и своими казино модные курорты. Автомобили, пыхтя, останавливались перед освещёнными ресторанами. Егеря открывали дверцы.
Я дошёл до авеню Габриэль, тёмного, как туннель из листьев.
Я медленными шагами двигался по нему. Томительная тоска охватывала всё моё существо. Скоро я увидел свет в окнах.
На дверях ресторана я прочёл: Лоран.
И я опустился напротив него на скамью, которая должна была быть там. Пальцы мои стали ощупывать жёсткую деревянную спинку, там и сям натыкаясь на толстые круглые и плоские шляпки гвоздей.
Вдруг они остановились. Они нашли то, что искали. Я нагнулся и без труда, хотя темнота уже наступила, разобрал три знака, три буквы А. А. Т., которые вырезала тут когда-то маленькая княжна Тюменева.
ЭПИЛОГ
— История моя кончена, — сказал Виньерт.
Он замолчал и я не нарушал его раздумья. Потом, мало-помалу, мы почувствовали, что мысли наши отрываются от драмы, рассказанной им, а переносятся к драме, которая должна была сейчас разыграться перед нами.
Было без четверти шесть. Рассвет ещё не наступил, но чувствовалось, что он не замедлит. Сзади нас молча стояли подошедшие к нам четыре человека из связи, по одному из каждой секции.
Шесть часов!.. Время, назначенное для атаки.
Прошла одна бесконечная минута. Затем едва уловимый свисток достиг нашего слуха. 22 — я рота покидала свои окопы.
Было около трёхсот метров между этими окопами и краем леса, который друзьям нашим поручено очистить. Триста метров надо было проползти на животе; это должно было занять добрых четверть часа.
Ночь была холодная, но лёгкие облака на сером небе, уже позолоченные в стороне востока, позволяли рассчитывать на хороший день.
Подобное ожидание заставляет переживать трагические минуты. Но никто из уцелевших в ужасной бойне не жалеет о том, что ему пришлось испытать их.
Вдруг выстрел, сухой, в глубине долины. Затем второй, третий… Маленький германский пост забил тревогу, но слишком поздно, судя по истёкшему уже времени: наши должны были быть уже около них.
Тогда справа от нас послышалась стрельба, похожая на звук разрываемой металлической ткани. То 23 — я рота, следуя полученному приказу, открыла беглый огонь по стоявшим против неё германцам, чтобы задержать их на месте и помешать им идти на помощь к атакуемым товарищам.
Теперь вся неприятельская линия отвечала с нервностью, служившей хорошим предзнаменованием: плохо направленные пули пролетали высоко над нашими головами. Иногда только сорванная ими веточка липы падала около нас, словно парашют. Тому, кто сражался в лесу, такие ощущения хорошо знакомы.
Этот сухой треск длился около пяти минут; потом вдруг огромное пламя взвилось к небу, направо от нас, озарив собою все находящиеся против нас возвышенности и быстро потухнув под градом обломков. В тот же миг раздался взрыв, глухой и страшный.
— Попытка удалась, — шепнул я Виньерту. — Там была заложена мина. Они взорвали её.
На фронте стрельба всё разгоралась. Потом внезапно всё смолкло. Над нашей линией поднялась ракета.
Эта ракета давала знать артиллерии, что 22 — я рота беспрепятственно вернулась в свои окопы и что наступил её черед вступить в бой. Артиллерия открыла заградительный огонь.
Мы слышали теперь приближение сзади их, этих незримых чудовищ, описывающих над нами свои смертоносные параболы. Всё усиливающийся звук, кажущийся таким медленным, что делается совершенно непонятным, почему нельзя разглядеть птиц, производящих этот шум.
Они достигли вражеских окопов, вспыхнуло синее и красное пламя, пыль и обломки взвились жёлтой колонной, раздался страшный грохот взрыва.
Мы с Виньертом в бинокль следили за ходом стрельбы.
Вдруг я услышал, что меня зовут.
То был наш человек связи с командиром батальона. Он задыхался от быстрого бега.
— Лейтенант!
— Что такое?
— Командир батальона! Он немедленно требует вас к себе.
— Иду, — сказал я Виньерту. — Что там случилось нового? — спросил я у человека. — Не знаешь ли ты, удалась попытка 22 — й роты?
— Вполне; они потеряли только двоих. Они взорвали мину, расстроили окопы, захватили в плен около сорока человек. Отличная работа. Но поторопитесь, командир ждёт вас с нетерпением.
Я пошёл скорым шагом; довольно удобный подступ вёл к посту командира, расположенному в нескольких сотнях метров позади нас. Только в одном месте крутой откос не был выровнен. Я перешёл через него, не ускоряя шага, ибо в этот момент германская линия, замолкшая под нашей бомбардировкой, не представляла никакой опасности.
Командир ждал меня на пороге своей землянки.
— А! Вот и вы. Простите, что я заставил вас бежать. Успех 22 — й тому причиной.
— Что прикажете, командир?
— Вот. Вы знаете по-немецки, а я после Сен-Сира никогда не говорил на этом проклятом языке. Нам попался важный пленный. Я напрасно пытался допросить его. Из него нельзя вырвать ни слова. А между тем он может дать нам полезные сведения. Это начальник сапёров. Он устроил подкоп, который мы так ловко взорвали. Кост, захвативший его, наверное, будет произведён в капитаны.
— Обер-офицер, не говорящий по-французски, это странно! — сказал я, — Вам известно, что многие притворяются, будто не знают языка.
— Это известно мне, потому-то я и позвал вас. Ему нельзя будет сделать вид, что он не понимает превосходного немецкого языка, на котором вы будете его спрашивать. Вот он.
Я вошёл в землянку командира батальона, где немецкого офицера караулили два солдата 22 — й роты, те самые, которые привели его из неприятельских окопов. Они так гордились этим, что не могли не повторить мне своей истории.
— Выстрелом из револьвера он уложил на месте бедного Лабурдетта. Но под командой лейтенанта Коста мы захватили его.
То был человек лет сорока, с голубыми холодными глазами, с умным и жёстким лицом. Он едва ответил на мой поклон.
Без всякого успеха поставил я ему несколько вопросов.
— Милостивый государь, — произнёс он в конце концов на самом правильном французском языке, как я и ожидал этого, — к чему такой допрос? Я мог бы сказать вам только не имеющие никакого значения вещи, вроде моего имени, которое вам безразлично. Что касается до военных сведений, то я ведь офицер, так же, как и вы. Если бы вы были на моём месте, вы бы ничего не сказали, не правда ли? Я поступлю так же.
И он снова замкнулся в презрительном молчании.
— Мы ничего от него не узнаем, — сказал я командиру. — Не было ли на нём, когда его брали в плен, какой-нибудь бумаги?
— Ровно ничего, — горестно ответил мой начальник.
— Вы ничего не нашли? — спросил я солдат.
— Ничего, кроме вот этого, — ответил один из них, вытаскивая из кармана смятую бумажку. — Но она вся изорвана, да и немного на ней.
— Дайте всё-таки, — сказал я.
Исписанный карандашом, полустёртый клочок бумаги, который он мне протянул, представлял собою черновик письма.
Бросив на него взгляд, я вздрогнул, как от прикосновения к электрическому току.
Пленный насмешливо глядел мне в лицо. Я в гневе кинулся к нему.
— Я знаю теперь ваше имя, — сказал я ему.
— Это весьма изумляет меня, — заносчиво ответил он, — ибо бумага, находящаяся у вас в руках, не подписана, а вы ведь не колдун.
— Негодяй, — крикнул я, не выдержав, — вас зовут Ульрих фон Боозе, вы убийца великого герцога Рудольфа Лаутенбург-Детмольдского!
Смертельная бледность разлилась по его лицу. Он стиснул руки. И всё же он нашёл в себе силу произнести дрожащим голосом:
— Господин командир, я протестую против такого обращения. Потрудитесь запретить вашему лейтенанту оскорблять пленного противника. Это — в высшей степени недостойное поведение.
— Оставьте меня в покое! — зарычал мой начальник. — Но, чёрт возьми, лейтенант, что значит всё это? Какая у вас бумага?
Мне с трудом удалось прийти в себя.
— Простите, командир, — пробормотал я. — Я не в силах объяснить вам… Но вы будете, может быть, так добры и пошлёте за лейтенантом Виньертом. Он знает, кто этот человек, и расскажет вам всё.
— Ну ладно, — рявкнул командир батальона. — Вот так история!
И он отдал приказ.
При имени Виньерта немец побледнел ещё больше. Он бросал на меня яростные взгляды. Если бы солдаты не удержали его, он кинулся бы на меня, чтобы попытаться отнять у меня бумагу, которую я перечитывал с несколько большим спокойствием:
«Во второй раз, — было сказано там, — повторяю вам следующее: я слишком хорошо знаю вашу манеру обращаться с другими для того, чтобы не угадать ту, которую вы собираетесь применить ко мне. Я согласился поехать на войну. Но она затягивается; я каждый день рискую не вернуться больше. Этого-то, разумеется, вы и желаете; после великого герцога, после великой герцогини очередь за мной, не правда ли? И тогда вы будете спокойны… Но я не так глуп. Если через две недели я не буду отозван отсюда, не буду причислен к штабу с повышением, заслуженным, как я считаю, мною, то я предупреждаю вас: мои друзья позаботятся о том, чтобы опубликовать подробный рассказ о событиях в целом ряде враждебных или нейтральных газет, и разослать эти газеты всем лицам, осведомить которых было бы особенно опасно для вас. И смею утверждать, что документы эти вызовут тем большее доверие, что я приложу к ним образчик почерка, хорошо известного вам».
Эта последняя фраза была написана почерком совершенно другим, чем всё остальное письмо. Один — тонкий и мелкий, другой — решительный и крупный. Оба их видел я сегодня ночью. Одним были написаны письма великого герцога из Камеруна, другим маршрут путешествия, найденный в Mittheilungen.
Теперь всё было ясно, ужасающе ясно.
— Виньерт узнает, наконец, правду, — охваченный радостью, подумал я.
И вдруг холодный пот выступил у меня на висках! Это знание, какой ценой придётся ему заплатить за него? Великая герцогиня!
Я не подумал, несчастный, что она тоже…
— Не надо! Не надо, — пробормотал я… Слишком поздно.
— Вот и лейтенант, — сказал командир, который, стоя на пороге, глядел на дорогу.
Кончено. Непоправимое должно было свершиться.
Солнце вставало, заливая поля розовым и голубым светом. На кустарнике с оборванными листьями запел зяблик.
В овраге, в самом низу, я заметил Виньерта. Он, не спеша, поднимался по склону. Я ясно видел его высокую, гибкую фигуру; затем, мало-помалу, показалась и его тёмная голова.
— Боже мой! — воскликнул я.
— Вы, кажется, совсем сошли с ума, лейтенант, — сказал мне командир.
Виньерт был теперь от нас на расстоянии не более ста метров. Я видел, как он ускорил шаги, чтобы перейти через откос, отделявший его от землянки командира.
Но тут, из-за перламутрового горизонта, послышался грозный, постепенно усиливавшийся шум. Незримая громада приближалась под побелевшим небом, пыхтя, словно подходящий к станции поезд. Треск её становился всё громче, громче, и мы поняли, что дьявольская машина летит на нас.
Со всех сторон солдаты, словно лягушки, прыгали в свои ямы.
Застигнутый как раз на середине обнажённого откоса, Виньерт остановился. Идти вперёд, повернуть назад: мы поняли его роковое колебание.
Над нами словно грохотал гром.
— Виньерт! — вне себя закричал я. — Ложитесь, ради бога, ложитесь!
Ещё одну секунду я продолжал видеть его. Он не шевелился. Он выпрямился, повернувшись лицом к надвигающейся опасности, и с слабой улыбкой, покорной и восторженной, смотрел на розовую аврору.
Сокрушительный ураган налетел.
Град камней и стали посыпался на крышу землянки, в которую командир батальона быстрым жестом увлёк меня вместе с собою. Когда грозный ливень прекратился, мы устремили за дверь расширенные ужасом глаза.
…На боку откоса чернела огромная воронка, а на левом краю её виднелись жалкие красные и синие останки.
Так погиб 31 октября 1914 года лейтенант Виньерт.
Примечания
1
W. Meyer-Forster: Baron von Heidestamm. Часть первая, I.
(обратно)2
Перевод Д.М. Горфинкеля.
(обратно)3
Блаз де Бюри. «Episode de L'Histoire du Hanovre». Оправдательные записки и документы, стр. 378.
(обратно)4
Перевод А.М. Михайлова.
(обратно)

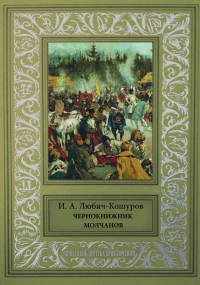





Комментарии к книге «Кенигсмарк», Пьер Бенуа
Всего 0 комментариев