Ксавье де Монтепен Замок Орла
© Алчеев И.Н., перевод на русский язык, 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2014
* * *
Об авторе
Ксавье-Анри Эмон де Монтепен родился 18 марта 1823 года в замке Апремон в землях некогда мятежной провинции Франш-Конте на востоке Франции. Его родители, капитан королевской гвардии граф Анри-Рене Эмон де Монтепен и Мари-Элизабет Боляр, мечтали, что сын станет военным или дипломатом, но юноша не любил дисциплину. Ксавье прослыл выдумщиком, весельчаком и бонвиваном и, как все молодые провинциалы, рвался в Париж, туда, где настоящая жизнь и свобода. Пройдя обучение в Шартрской школе, Ксавье высказал свое категорическое «нет» родителям, а также своему дяде, пэру Франции, и занялся драматургией. Первые пьесы успеха не снискали. Знакомство с маркизом де Фудра, неплохим литератором и прекрасным охотником, привело к сотрудничеству и публикации первых совместных романов – «Рыцари ландскнехта» (1847) и «Кутилы былых времен» (1848).
Поиграв немножко в литературу, Монтепен, которому вот-вот должно было стукнуть 25, был захвачен новой страстью – политикой. 22 мая 1848 года, полный смелых мыслей и идей, он организует сатирический журнал «Лампион», в котором едко жалит и песочит членов временного правительства. Журнал продержался недолго. В июне того же года он был закрыт, несмотря на Конституцию и права о свободе прессы. Недолго погоревав, Монтепен снова обращается к литературе. На этот раз навсегда. С 1849 по 1855 год он публикует около двух десятков книг. Особо писателя не замечали, пока не разразился скандал. В феврале 1856 года за роман «Девицы из гипса» (1855) Ксавье де Монтепена как оскорбителя моральных устоев и приличий вызвали в суд. Через год подобная участь коснется Флобера и его «Мадам Бовари». А сейчас имя Монтепена у всех на слуху. Скабрезные эпизоды из его книги без зазрения совести и в качестве доказательства цитируют судебные газеты. Все возмущены и хотят читать этот роман. Но где его взять? Тираж тоже арестован. Не беда, модный автор полон сюжетов и идей. Один за другим выходят его романы «Замок призраков» (1855), «Жемчужина Пале-Рояля» (1855), «Идиот» (1856). К слову, Достоевский, любивший читать французских авторов (Дюма, Сю, Гюго), начнет писать своего «Идиота» лишь через десять лет. Кто знает, не попадался ли Монтепен в поле зрения нашего классика?
«Наверное, нет ни одного местечка на всем земном шаре, получающего газеты, где бы имя Ксавье де Монтепена не было хоть отчасти знакомо», – писал один из петербургских журналов начала прошлого века.
Популярность Монтепена росла от книги к книге. Им написано более двухсот романов, опубликовано более двух миллионов печатных страниц. Обладая неуемным воображением и любознательностью, наметив план, он работал как заведенный, будучи в состоянии проводить за столом чуть ли не сутки, выводя своим аккуратным почерком километры строк.
«Стало быть, вы никогда не остановитесь?» – спросил его один из друзей. «Никогда! – смеясь отвечал Монтепен. – По крайней мере до тех пор, пока подагра не ухватит меня за правую руку».
За полвека на фабрике его воображения не было ни забастовок, ни безработицы. И если его романы были не так высокохудожественны, как у академиков от литературы, то на это у Монтепена находился свой ответ: «Я пишу просто – так же, как говорю». А собеседник он был занимательный. Это признавали все. «В том-то и дело, что сложнее всего писать не так, как говоришь», – шутил его приятель Деннери, блистательный драматург, автор «Двух сироток».
Во время Франко-прусской войны, будучи избранным на должность мэра городка Фортэ в Верхней Савойе, Ксавье де Монтепен организовал отряд сопротивления, но был захвачен в плен и приговорен к расстрелу. В последний момент пруссаки решили сохранить жизнь «небезызвестному деятелю искусства» и держать его в качестве заложника. Писатель был сослан в город Брем и вернулся во Францию только по окончании войны. Судьба отмерила Монтепену 79 лет, большую часть которых он отдал литературе.
Среди самых успешных его романов – «Разносчица хлеба» (пьеса по этой книге – одна из самых известных мелодрам в истории театра, многократно экранизирована), «Врач бедноты» (в нашем издании – «Замок Орла»), «Трагедии Парижа», «Фиакр № 13» и многие другие.
Скончался Ксавье де Монтепен 30 апреля 1902 года в Париже.
В. МатющенкоИзбранная библиография Ксавье де Монтепена:
«Рыцари кинжала» (Les Chevaliers du poignard, 1860)
«Замок Орла» (Le Médecin des pauvres, 1861)
«Пираты Сены» (Les Pirates de la Seine, 1864)
«Повешенный» (Le Pendu, 1874)
«Трагедии Парижа» (Les Tragédies de Paris, 1876)
«Последний из Куртене» (Le Dernier des Courtenay, 1880)
«Разносчица хлеба» (La Porteuse de pain, 1884)
Пролог Ночь на 17 января
I. Пьер Прост
Мы просим наших читателей оказать нам любезность и перенестись почти на два с половиной столетия в прошлое[1] – в начало века семнадцатого, – чтобы посетить вместе с нами старинную провинцию Франш-Конте, принадлежавшую со времен Карла V Испании.
В 1620 году при въезде в небольшую лесистую лощину, простиравшуюся на расстоянии двух-трех мушкетных выстрелов от склона холма, на котором и поныне тут и там ютятся лачуги деревушки Лонгшомуа, располагалось скромное жилище, не то дом, не то хижина.
Домик этот, с виду чуть более просторный, нежели соседние хибары, на самом деле был простеньким, одноэтажным, с двумя комнатами и чердаком.
Огороженный участок вокруг дома был засажен чахлыми плодовыми деревьями, а изгородь из падуба защищала все это хозяйство от нашествия скотины и мародеров. Решетчатая дверь, а вернее, подвижная загородка, закрывавшаяся с помощью весьма несовершенной и вместе с тем довольно хитроумной системы штырей, выходила на задний двор, где бродили, что-то поклевывая, несколько кур, а одинокая коза на длинной веревке, привязанной к стволу груши, пощипывала густую траву. Возле дерева уже образовался круг голой земли, причем такой правильной формы, словно его очертили громадным циркулем.
Сие скромное жилище служило приютом человеку, снискавшему себе глубочайшее почтение обитателей не только Лонгшомуа, но и окрестных деревень, рассеянных в трех-четырех лье по округе.
Этого человека, сына простых землепашцев, который и сам-то был почти что крестьянином, звали Пьер Прост. Он не был богат – как раз напротив, хотя помимо домика держал несколько земельных наделов, что позволяло ему не заниматься повседневным физическим трудом ради хлеба насущного.
Пьер Прост принадлежал к большому семейству, отпрыски которого были помечены Божьей печатью, – о таких людях в день их смерти принято говорить: «Творя добро, прошли они путь земной», невзирая на общественное положение, обретенное ими при рождении по воле случая или Провидения.
Творить добро!.. – таковой и в самом деле была неизменная забота Пьера Проста с младых ногтей, и, даже будучи еще ребенком, он спрашивал себя, что нужно делать, чтобы всегда быть полезным людям, хотя крайняя нужда в средствах и стесняла его в столь благих помыслах.
Благочестивый, даже чересчур набожный, как, впрочем, и большинство крестьян-горцев, живущих вдали от городов и не связанных со светским обществом (что было присуще той эпохе), Пьер Прост поначалу думал стать священником.
Но жили в нем некие безотчетные порывы к независимости, противные непомерно строгой церковной дисциплине. Так что наш юный горец отказался от карьеры врачевателя душ и решил сделаться врачевателем тел.
В восемнадцать лет, умея лишь читать и писать, он подался на учебу в Доль – ныне бедную маленькую супрефектуру, совсем незаметную и потому почти неизвестную, хотя в те времена игравшую весьма важную и заметную роль. Город этот был административным центром и первым из трех судебных округов Франш-Конте. К тому же там заседал парламент, членов которого назначали Генеральные штаты[2], а те, в свою очередь, управляли провинцией.
Спустя четыре года упорных трудов Пьер Прост вернулся в Лонгшомуа. Его научные познания вызвали бы пренебрежительные усмешки у нынешних студентов, даже посредственных второкурсников. Но в те времена, в диких, глухих горах Пьер Прост слыл поистине искуснейшим и весьма ученым лекарем.
С той поры этот двадцатидвухлетний юноша жил не для себя, а для других. Он стал пользовать бедняков. Денно и нощно метался он между долинами и горами, неся помощь и заботу всем нуждавшимся и не требуя никакого вознаграждения за выпадавшие на его долю труды и тяготы.
В медицине навык и опыт составляют две трети таланта – посему Пьер Прост, отнюдь не лишенный ума и рассудительности, вскоре стал видным практикующим врачом. На лекарском поприще он добился невероятных успехов, а народная молва превратила их в чудо – иначе говоря, слава врача-крестьянина разрослась так, что его стали приглашать в окрестные поместья и клиентура его вскоре пополналась за счет их владетелей и владелиц.
Его отнюдь не приходилось упрашивать принять деньги от своих благородных пациентов, однако ж, получив вознаграждение, Прост немедля передавал его в руки преподобного кюре в Лонгшомуа с просьбой раздать все как подаяние.
Врачи подобного сорта были редкостью во все времена, и я совершенно искренне полагаю, что в наши дни их порода перевелась на корню, хотя, вполне возможно, я ошибаюсь – во всяком случае, мне бы этого очень хотелось.
Наш молодой франш-контиец уже лет десять жил жизнью, полной заботы о ближнем и самопожертвования, как вдруг в один прекрасный день он влюбился в девушку из окрестностей Сен-Клода. За душой у этой юной девы не было ничего, кроме ее несравненной красоты, двадцати двух лет жизни и доброго имени, – звали же ее Тьеннетта Левиллен.
Пьер Прост попросил у нее руки и сердца. Ему тогда было тридцать два, хотя на вид можно было дать не меньше сорока – вследствие усталости и всяческих лишений, которые он претерпевал с героической беспечностью. Он был высок ростом, лицо – выразительное и красивое, хоть и опаленное солнцем и иссушенное ветрами, голова – полысевшая, плечи – сутоловатые. Летом Пьер Прост носил простую холщовую коричневато-серую рубаху. Зимой облачался по-крестьянски: в довольно плотную шерстяную куртку, грубо пошитую деревенской портнихой. В общем, в нем не было ничего, что могло бы прельстить молоденькую девицу, но Тьеннетта Левиллен, лишенная всякой романтики, почла для себя за счастье стать женой врача из Лонгшомуа и с признательностью согласилась.
Свадьбу сыграли 14 января 1618 года. В тот день Пьер Прост понял, какой славой и любовью он пользовался в округе. Бессчетная толпа народу, собравшегося со всех окрестных приходов, теснилась вокруг церквушки, где молодожены принимали венчальное благословение. Когда же они вышли из церкви: он – сияющий от гордости, и она – вся зардевшаяся под белоснежным свадебным венцом, – грянули единодушные возгласы и пожелания молодым самых долгих лет жизни, процветания, прекрасных деток, безоблачного счастья и всего такого прочего…
Разумеется, люди никогда не выразили бы столь горячее, сердечное почтение даже самому председателю дольского парламента, наиглавнейшему из магистратов[3] трех местных судебных округов.
Я никоим образом не смог бы описать, какой пламенной радостью и непорочной страстью была полна их супружеская жизнь, причем с самого начала: чтобы воспеть столь сладостную поэму о незапятнанной любви и высшем семейном счастье, нужна лира, а не перо.
Спустя год с лишним после свадьбы Тьеннетта забеременела.
Пьер Прост ждал этого дня с нетерпением, и его легко понять. Больше всего на свете он любил детей, а желание иметь собственное дитя, да еще от обожаемой Тьеннетты, приятно согревало ему сердце.
Но увы! Хотя человек прекрасно знает чего хочет, зачастую некая неведомая рука, словно в насмешку, разбивает вдребезги все его самые заветные желания.
14 января 1620 года, ровно через два года, после их свадьбы, день в день, Тьеннетта скончалась, произведя на свет крохотную дочурку.
Как… – глядя на закрывшиеся навеки прекрасные синие глаза своей возлюбленной, чувствуя последний вздох, слетевший с ее бледных губ, прижимая руку к ее переставшему биться сердцу и понимая, что отныне он навсегда разлучен со своею нежной и чистой спутницей жизни… – как только Пьер Прост не лишился рассудка?..
Это тайна, ведомая лишь Господу Богу.
Можно лишь предположить, что убитый несчастьем горец вспомнил о том, что не совсем один остался он на этом свете и что почившая Тьеннетта вверила ему бедную, слабенькую, тщедушную крошку, ради которой ему стоило жить и бороться.
Как только человек, сраженный ужасающим ударом судьбы, успевает совладать с первыми приступами боли и безумия, этот человек спасен!
Тьеннетта скончалась в одиннадцать часов вечера.
На другое утро, из жуткой борьбы с невыразимыми муками, Пьер Прост вышел победителем. И, казалось, успокоился. Единственно, на лбу у него обозначились глубокие морщины, а глаза наполовину скрылись под дугами набухших век. За одну ночь он превратился в старика: опустошенное лицо, поседевшие волосы.
Первый же крестьянин при виде этого странного, мертвенно-бледного лица, этих хмурых, иссохшихся глаз шарахнулся в сторону, решив, что перед ним призрак.
– Друг мой, – обратился к нему Пьер Прост, в то время как его губы исказила скорбная улыбка, – если ты не признаешь меня, стало быть, горе мое и правда велико… Тьеннетта умерла этой ночью…
Через несколько часов уже вся округа знала, какой внезапный удар обрушился на врачевателя бедняков. Как и в день свадьбы, только на этот раз облаченные в траур, со слезами на глазах, люди из соседних приходов снова собрались вместе, чтобы проводить к последнему пристанищу гроб с бедной юной красавицей.
Вопреки обычаю, Пьер Прост пожелал присутствовать на мрачной церемонии и самолично возглавить похоронную процессию.
Пока двигалось траурное шествие и звучали церковные молитвы, врач держался бесстрастно. И только его лицо нет-нет да и сводила судорога, выдавая душевные муки, которые он силился одолеть.
Но, когда прибыли на кладбище, когда гроб на веревках опустили в свежевырытую могилу, когда первые комья земли с глухим, зловещим шумом, не похожим ни на один другой звук на свете, упали на крышку гроба, Пьер Прост не смог превозмочь горькие рыдания, подкатившие к его горлу из самого сердца и вздыбившие его грудь, как неукротимый северо-западный ветер вздымает океанские волны… Он заткнул рот носовым платком, чтобы заглушить невнятные крики, готовые сорваться с его безудержно дрожащих губ; он пал ниц – распростерся на земле, припорошенной снегом, и уткнулся в него лбом. Снег таял на глазах, пар устремлялся в небо от прикосновения этого пылающего огнем лица.
Когда могилу засыпали, когда отзвучал последний стих «De Profundis…»[4], многократным эхом разнесшийся по отдаленным горам, Пьер Прост поднялся на ноги.
Он снова успокоился, сумев победить горе во второй раз.
Тогда его обступили женщины. Крепкие молодые крестьянки с розовощекими младенцами на руках, то и дело припадавшими к их пышным грудям. И каждая просила Пьера Проста как об особом одолжении – выбрать ее в кормилицы для дочери.
Врач бедняков горячо поблагодарил их, но в просьбе отказал. Он решил, что бедная малютка, оставшись без материнского молока, не прильнет губами к груди чужой женщины. Кормилицу сможет заменить их домашняя козочка, благо летом та вдоволь щипала траву вокруг грушевых деревьев в саду, а зимой, в небольшом загоне, примыкающем к дому, пожевывала душистое, пахнущее тимьяном и чабрецом сено, скошенное на горных лугах.
Какова бы ни была воля Пьера Проста, селяне, все до единого, давно привыкли считаться с нею и ее уважать. Так что никто из них больше не настаивал, и врач бедняков в одиночестве вернулся в свой осиротевший дом, где еще несколько дней назад его встречали на пороге со счастливой улыбкой и где теперь, когда прошла добрая половина его жизни, у него не осталось ничего, кроме колыбельки у пустого очага…
Но, кто знает, быть может, и эта колыбелька скоро опустеет: ведь оставшаяся без матери крошка, напомним, родилась тщедушной и слабенькой. Она словно не цеплялась крепко за жизнь, как другие младенцы, и одна из главных причин, заставивших Пьера Проста отказаться от услуг кормилицы, заключалась в том, что он хотел, и даже чувствовал такую необходимость, сам ухаживать денно и нощно за дочерью, по крайней мере до тех пор, пока малютка хотя бы чуть-чуть не окрепнет, не наберется жизненных сил, которых ей так недоставало.
От кладбища Лонгшомуа до дома врача была какая-нибудь пара шагов по крутой тропинке, петлявшей по склону холма.
Погруженный в свои печали, понурив голову, безвольно опустив руки, Пьер Прост, совсем потерянный, с потупленным взором, неспешно одолел это короткое расстояние.
Он толкнул садовую калитку, даже не подумав закрыть ее за собой. И прошел в дом.
Его встретил жалобный писк. Малютка плакала.
– Бедное, невинное дитя, – проговорил врач, беря на руки младенца, – ты едва народилось на свет и уже страдаешь от боли!.. О, пусть уж лучше всемилостивый Господь призовет тебя к себе незамедлительно, если однажды на твою долю выпадут те страдания, что сейчас испытывает твой отец!..
II. Странные гости
Это было на третью ночь после смерти Тьеннетты – с того рокового часа сама природа, будто разделив душевные терзания Пьера Проста, содрогалась в ужасном ненастье.
В ту ночь буран, безудержно бушевавший третий день кряду над вершинами Юрских гор, казалось, разразился с удвоенной силой, его неистовство росло с каждой минутой, с каждым мгновением. Сыпавший без устали снег, временами поднимаясь в огромные белые смерчи, готов был сорваться грозными лавинами с отвесных горных склонов. Он уже завалил чуть ли не доверху долины и встал ледовыми преградами на пути рек, заставляя их обратиться вспять, к своим истокам. Проносясь через леса вековых черных елей, сгибавшихся под его сокрушительным напором, точно податливые жерди, буран бушевал, издавая совершенно невероятные звуки, сливавшиеся в один странный гул. Это походило то на свист сказочных драконов, взмывших на огненных крыльях ввысь и уносимых прочь шальными порывами ветра, то на оглушительные, душераздирающие, полные отчаяния стоны. Такое впечатление, будто стенали сами горы, будто плакали сокрытые за тучами горные вершины, а скалы вторили им протяжными рыданиями.
Вслед за тем слышались непрерывные громовые раскаты, смутно напоминавшие грохот канонады на поле битвы. Было слышно, как, словно в предсмертной агонии, трещат старые ели, надломленные бурей, как они кривятся, а потом, подхваченные незримой силой, разлетаются, точно соломинки.
Было, наверное, часов одиннадцать вечера, по небу бежали громадные, похожие на боевых коней тяжелые черные тучи, затмившие бледное сияние звезд; и, однако, в причудливых отсветах устилавшего землю снега сумерки совсем не казались глухими.
А сейчас давайте проникнем во вторую из двух комнат, составлявших, как мы уже говорили, жилище нашего врача.
Эта комната, довольно просторная, хоть и с низковатым потолком, выходила парой узких окон в огороженный сад. Обставлена она была совсем просто и отличалась от каморок, где ютились самые обездоленные из соседей-селян, только чистотою и опрятностью. Пол покрывали сосновые доски, чуть обтесанные и грубо подогнанные одна к другой. Потолок был обшит такими же досками, только потоньше, подпертыми небольшими неровными балками.
Побеленные известью стены были украшены разве что тремя-четырьмя яркими картинками – изображениями святых и мучеников – обрамленными незамысловатыми подписями в стихах.
Очаг, в отличие от традиционных швейцарских шале, домишек, какие принято строить в горах, был устроен не посредине комнаты. В одном из ее углов помещался высокий камин из камней – на его полке, под колпаком, стояла крашеная деревянная фигурка Айнзидельнской Богоматери.
Напротив камина находилась кровать – она была сколочена из легкой древесины и скрыта за сплошным, длинным пологом из зеленой саржи в желтую полоску.
Маленький стол на кривых ножках из старого пиренейского дуба, огромный шкаф орехового дерева с резными филенками (такие шкафы в крестьянских семьях переходили по наследству от матери к дочери, и в них обычно хранили весь домашний скарб), четыре-пять деревянных стульев да пара скамеечек – вот и вся обстановка.
Кроме того, над столиком приладили несколько полок с книгами по медицине, а над полками висело распятие из черного дерева с изящной фигуркой Христа из слоновой кости.
Распятие было подарком от одной благородной дамы, настоятельницы женского монастыря в Бом-ле-Дам, – когда-то она серьезно занедужила, Пьер Прост пользовал ее и в конце концов избавил от болезни.
Корни деревьев, сваленные кучей в топке камина, медленно тлели, не давая пламени угаснуть.
Итак, напомним, было одиннадцать часов вечера – под ударами громадных крыльев снежной бури дом сотрясался и трещал, едва удерживаясь на пошатнувшемся основании. Один ставень, распахнувшись настежь от порыва ветра и едва не сорвавшись с петель, то и дело яростно бился о наружную стену, точно снаряд, выпущенный из катапульты.
Пьер Прост, примостившийся на коленях возле колыбельки, выглядел бледнее, чем в день похорон, когда он шел на кладбище за гробом с безжизненным телом своей Тьеннетты, и даже не слышал оглушительного рева бури, вселявшего ужас в сердца добрых селян Лонгшомуа и внушавшего им, простодушным, суеверным людям, что конец света уже не за горами.
Склонясь над синюшным, искаженным личиком бедной малютки, врач снова ощутил прилив боли, разбередивший его старые и без того саднящие раны: ибо видел, какую жестокую борьбу жизнь и смерть ведут в хрупком тельце его дочурки. Пьер Прост хорошо понимал, что в этой роковой схватке, где смерть явно побеждает, любые его старания тщетны, любая помощь бесполезна.
Да, малютка обречена! Малютка должна умереть! И могила, недавно принявшая мать, вот-вот разверзнется снова и поглотит дочь! Чтобы ее спасти, чтобы продлить ей жизнь хотя бы на час, понадобилось бы чудо Божье – сродни воскресению!
Пьер Прост не просто верил – он был ревностным христианином; и тем не менее он даже не помышлял о том, чтобы просить Господа о чуде, которое только и могло спасти его дочурку.
В приступе отчаяния, которое душило его, и глубочайшей тоски, терзавшей его, он четко осознавал, что, о чем бы он ни попросил Бога, навряд ли то будет исполнено. Нет, он не поносил и не проклинал руку, нанесшую ему столь безжалостный удар; он не мог ни плакать, ни молиться – он упивался болью даже с необъяснимым горестным наслаждением.
С каждой минутой малютка приближалась к последней черте, за которой не было возврата. От судорожных хрипов исстрадавшаяся маленькая грудь резко вздымалась, губы вконец побелели, личико размякло, будто растаяло, точно восковая маска, поднесенная к жаркому огню, а тельце сковывал холод… смерть приближалась!..
Пьер Прост ясно видел это. Чувствовал отцовским сердцем. Понимал умом ученого врача. Он считал мгновения и удивлялся, как это немощное, едва развившееся тельце так долго сопротивляется страданиям.
Прошло еще несколько минут, и вот ротик малютки чуть приоткрылся для крика – который так и не прозвучал. Ее тельце скорчилось, точно хрупкая веточка, брошенная в пылающий костер, – хрип захлебнулся, всякое движение прекратилось…
Смерть пришла!..
Пьер Прост надолго припал губами к смолкнувшим, похолодевшим устам мертвой малютки, а затем пал ниц, уткнувшись лицом в пол, и, не смевший молить Бога, чтобы он спас жизнь его кровинке, принялся с жаром просить, чтобы он соединил ее с Тьеннеттой.
И просил он долго-долго.
Его прервал шум – нежданно-негаданно. Дверь в комнату, где находился Пьер Прост, отворилась.
Он поднял голову и, к своему удивлению, но без страха, увидел перед собой троих незнакомцев, закутанных в широкие черные плащи. Головы странных гостей венчали широкополые фетровые шляпы по тогдашней испанской моде, а лица (что было куда более странно, нежели все остальное) скрывались под масками из черного бархата.
Один из незнакомцев был выше своих спутников на целую голову, и, хотя одет он был так же, как они, в манерах его: в скрещенных на груди руках, блеске глаз, видных сквозь щели маски – было во всем его облике нечто такое, что, кажется, выдавало в нем прежде всего привычку командовать.
Можно было безошибочно утверждать, что эти трое не были равны меж собой. Определенно, один из них был человеком благородным, а двое других – его слуги.
Конечно, появление незнакомцев, да еще в такой час и в такую бурную ночь, могло привести в ужас даже недюжинных смельчаков; но всякий человек, охваченный глубочайшим отчаянием, мгновенно утрачивает страх – оно и понятно.
Так вот, твердым, хотя и ослабшим от пережитых треволнений, голосом Пьер Прост проговорил:
– Кто бы ни были вы, добро пожаловать в мою юдоль печали, только скажите, что вам угодно?
Незнакомец, казавшийся хозяином двух своих спутников, которого впредь мы будем называть Черной Маской, отвечал:
– Мы ищем человека по имени Пьер Прост.
– Вы у него в доме.
– Стало быть, вы и есть тот самый человек?
– Да, это я.
– Вы занимаетесь медициной и слывете искусным врачевателем…
– Я действительно врач, хотя и не такой искусный, а ежели Господь порой и направлял мою руку, чтобы облегчить страдания людям, то превозносить стоит его – не меня.
– Вы нам нужны, – продолжал Черная Маска, – собирайтесь, пойдете со мной.
– В такую-то ночь?
– Дело не терпит отлогательств.
– Это невозможно.
– Невозможно?.. Почему же?
– Потому что сейчас я лишился всего: смелости и силы, и даже веры в Бога. Посмотрите на того, с кем говорите, и поймете – я скорее похож на мертвеца, восставшего из могилы.
– Что же с вами случилось, что ввергло вас в такую печаль?
– А то, чего ни один мстительный злодей не пожелал бы своему самому заклятому врагу. У меня была жена, и я любил ее всей душой, в сто раз крепче, чем самого себя, и она родила мне малютку. Три дня назад два этих ангела еще были вместе со мной, в этом доме, живые и здоровые… Тогда же, три дня назад, скончалась мать, а малютка умерла пять минут назад. Так что сами понимаете, я вправе ответить вам и отвечаю, что разом всего лишился и пойти с вами не могу.
Черная Маска подошел к колыбели и взглянул на ребенка: личико малютки синело на глазах.
– Вы виделись с кем-нибудь нынче ночью? – спросил человек в маске.
– Кроме вас, больше ни с кем.
– Значит, ни одна душа не знает, что ваша дочь умерла?
– Ни одна.
– Вот и хорошо.
– Но, – промолвил Пьер Прост, удивленный подобными расспросами, – вам-то какая печаль?
Черная Маска ничего не отвечал. Он подал знак одному из своих спутников, державшему прозрачный роговой светильник. Тот подошел ближе. Черная Маска обменялся с ним двумя-тремя словами, потом повернулся к врачу и повелительным тоном сказал:
– Дайте ему кирку, лопату или садовую мотыгу – сгодится все, чем рыть землю.
– Все, что вы спрашиваете, лежит в передней. Зачем они вам?
Черная Маска оставил его вопрос без ответа, как и тот, что был задан ему раньше.
Он снова дал знак, и двое его спутников в масках тотчас же вышли из комнаты.
Черная Маска подошел к окну, остановился и, не проронив ни слова, устремил взгляд в сторону сада, где вскоре блеснул слабый огонек рогового светильника, раскачивавшегося на шальном ветру.
Один из слуг держал светильник, а второй меж тем орудовал киркой и мотыгой. Расчистив снег, он принялся копать. Вырытые землю и камни он сваливал по обеим сторонам небольшой ямы.
Покончив с этим делом, люди в масках покинули сад: огонек светильника померк, а через мгновение-другое шум шагов в передней возвестил, что они вернулись в дом.
Пьер Прост снова впал в мучительное оцепенение, будто напрочь забыв, что он не один.
Черная Маска подошел к нему и чуть тронул его за плечо.
Врач даже не вздрогнул – поднял голову, воззрился на странного собеседника и спросил:
– Что вам еще нужно?
Черная Маска повернулся к колыбели и, указав на мертвое тельце, сказал:
– Желаете сами похоронить или хотите, чтобы сей труд взял на себя один из моих спутников?
– Похоронить мою малютку! – воскликнул Пьер Прост. – Зачем же хоронить сейчас? Ночь впереди долгая, до утра еще далеко, и я не хочу так скоро расставаться с бедным, родным существом!
– Через пять минут, – возразил незнакомец, – это тело упокоится в могиле, только что вырытой для него. Так что поспешите завернуть его в пеленку, и да послужит она ему саваном… а если не хотите, за вас это сделают другие.
И, поскольку врач, казалось, пребывал в нерешительности, один из незнакомцев направился к колыбели и занес руку над тряпками, покрывавшими мертвое тело малютки.
Из груди несчастного отца вырвался глухой стон, похожий на сдавленный плач, ибо незнакомец показался ему нечестивым осквернителем, и, бросившись к нему, Пьер грубо оттолкнул мужчину. Незнакомец, не ожидавший такого нападения, положил руку на охотничий нож, висевший у него на ремне. Он непременно пустил бы его в дело, тем более что Пьеру Просту нечем было защищаться, но быстрый жест Черной Маски велел ему остановиться.
Врач схватил хрупкое мертвое тельце, обнял его и прижал к сердцу, словно пытаясь то ли отогреть, то ли заслонить.
– Но зачем же, – пробормотал он, – да, зачем отнимать ее у меня так скоро? Жена и дочурка – это все, что у меня было. Зачем лишать меня скорбной радости, не позволяя сохранить тело хотя бы до утра? Зачем мешать мне оплакивать его хотя бы еще несколько часов?
Черная Маска пожал плечами.
– Ну-ну! Итак, неужто вы полагаете, – возразил он с нескрываемой надменностью, – что я стал бы вмешиваться в ваши семейные дела, не будь у меня на то чрезвычайно важной причины, о которой, впрочем, вам знать без надобности? А время подгоняет… оно не ждет, и надобно с этим кончать! Малютка должна исчезнуть немедленно. Так надо! Так угодно мне! Поторопитесь же, и, повторяю, если вы отказываетесь ее хоронить сами, что ж, клянусь, ее попросту сейчас у вас отберут.
По тону, каким были произнесены эти слова, врач понял, что имеет дело с некоей ужасной, неотвратимой силой и ему ничего не остается, кроме как склонить голову и повиноваться.
Он прикоснулся губами к холодному лобику малышки, на которую еще недавно возлагал такие радужные надежды и которую видел сейчас в последний раз.
Из пеленок он сделал некое подобие савана и сказал Черной Маске:
– Раз вы взяли на себя право навязывать мне свою волю и поскольку вы сильнее, что ж, распоряжайтесь. Я готов. Что прикажете?
– Ступайте за ними.
Пьер Прост безропотно повиновался.
Те двое провели его в сад к свежевырытой могилке. Он упал на колени и опустил мертвое тельце в глубину мрачной опочивальни, после чего один из сопровождавших врача, тот, что был с заступом, принялся забрасывать могилу землей.
Через мгновение лишь неприметный бугорок напоминал о том, что в этом месте была яма.
А буран между тем все крепчал, снег все валил и валил. Было ясно, что к утру все скроется под белым, плотным и везде одинаково ровным покровом.
Но зачем было прятать с такой поспешностью мертвое тело малютки?.. Пьер Прост невольно задавал себе этот вопрос, невзирая на все муки, неотступно терзавшие его, но ответа так и не находил…
Те двое направились к дому, где их дожидался Черная Маска.
Они знаком показали врачу идти впереди. Он опять подчинился, и снова безропотно; ему казалось, будто он игрушка в каком-то жутком, невероятном кошмаре, и он говорил себе: «Я вот-вот проснусь!.. Разбуди меня быстрей, о Боже! Ну давай же скорей, не то я сойду с ума!»
III. Пролог драмы
Увы, довольно скоро Пьеру Просту пришлось удостовериться, что все, произошедшее этой зловещей ночью, было жуткой действительностью.
– Ну как? – спросил Черная Маска, когда двое его слуг и лекарь вернулись в комнату. – Закончили?
– Да, монсеньер, – последовал ответ.
Черная Маска обратился к Пьеру Просту:
– Послушайте, – сказал он, – и постарайтесь на время забыть свои горести, дабы лучше меня понять! Любой хирургический инструмент, который вы держите в руках, когда оперируете увечных, всего лишь простая, жалкая железка. Она служат вам совершенно бессознательно. И пока от нее есть какая-то польза, вы ее бережете, а когда она портится, изнашивается и становится опасной, вы ломаете ее и выбрасываете подальше. Нынче ночью вам предстоит стать в моих руках инструментом, подобным тем, которые служат вашему ремеслу. Я намерен использовать вас так же, как вы их, и вы будете повиноваться мне так же, как они вам, не пытаясь понять, какова же цель услуги, которую вы мне оказываете. С таким повиновением, живым и смиренным, вам нечего будет опасаться. Вам не сделают ничего плохого, и через несколько часов вы вернетесь обратно к себе, целый и невредимый. Но если только вы попробуете безрассудно воспротивиться, если хоть когда-нибудь попытаетесь отыскать ключ к тайне, которая должна остаться для вас за семью печатями даже после того, как вы согласитесь повиноваться мне нынешней ночью, если ненароком произнесете хоть одно опрометчивое слово – то, пусть через десять или даже двадцать лет, я разыщу вас везде и всюду, где бы вы ни затаились, и попросту уничтожу!.. Не сочтите мои слова за пустую угрозу. Не забывайте их и не вынуждайте меня хоть раз вспомнить об этом!..
Черная Маска смолк.
Пьер Прост, стоя перед ним, не отводил взгляда от щелочек в лишенной всякого выражения картонке, обтянутой безжизненным бархатом, в глубине которых сверкали глаза его собеседника, подобные паре светляков, затаившихся в мрачной расщелине скалы.
– Вы меня слышали? – спросил Черная Маска.
– Да, – ответил врач.
– Вы меня поняли?
– Я понял только, что вы намерены взвалить на меня нечто ужасное и мне следует незамедлительно вам подчиниться, а после крепко держать рот на замке, иначе мне несдобровать…
– Верно… Так что вы решили?
– Ничего… по крайней мере пока вы не ответите на один мой вопрос.
– Какой еще вопрос?
– А вот какой. Когда трое в масках – и один из них сеньор – врываются ночью в дом к бедному, безвестному врачу, простому селянину, и когда один из этих троих – сеньор – говорит селянину: «Если ты не подчинишься, ждет тебя смерть… и если предашь, тебе тоже смерть», – не возможно ли предположить, что врач нужен этому благородному мужу для какого-то злодеяния? Итак, правда ли, что речь между нами идет о некоем злом умысле? От вашего слова зависит и мой ответ. Если моя помощь нужна в черном деле и от повиновения вам зависит моя жизнь, тогда убейте меня сразу… я не подчинюсь!
Черная Маска пожал плечами.
– Э! – вскричал он. – Да вы рехнулись! Вы нужны мне для благого дела, а никак не для злого. Надобно спасти двух человек: женщину, страдающую от родовых мук, и дитя, которое она должна произвести на свет.
Пьер Прост отринул все сомнения.
Распахнул огромный шкаф, о котором мы уже упоминали, и достал оттуда несколько стальных инструментов в кожаном чехле.
– Это все, что вам нужно, чтобы принять роды? – осведомился Черная Маска.
– Да.
– Итак, вы готовы следовать за нами?
– Готов.
– В таком случае мне остается принять последнюю предосторожность.
– Какую же?
– Вот такую…
Сеньор подал знак, и один из его спутников надел на лицо врача бархатную маску без прорезей для глаз.
– Предупреждаю, – спокойно сказал Пьер Прост, – я никак не смогу делать свое дело вслепую, даже принять самые простые роды.
– Глаза вам откроют, когда будет нужно, – отвечал Черная Маска, – идемте!
С этими словами он взял доктора за руку и повел за собой – через переднюю и сад к решетчатой калитке, выходившей на проселок.
По ту сторону калитки стоял чудной экипаж.
Вы, верно, видели повозки, на которых крестьяне ездят на ярмарки: устроены они совсем незатейливо – длинная тележка на четырех колесах, покрытая сверху плотной тканью, натянутой на ободья.
Пара дивных лошадей черной масти были запряжены в похожую повозку, отличавшуюся от крестьянской лишь тем, что колеса у нее были заменены полозьями. Лошади били копытом о снег и в испуге ржали при каждом завывании все нарастающей бури.
Перед ними стоял какой-то человек – он старался удержать их на месте, схватившись что есть мочи за удила.
На санях, под пологом, валялась пара-тройка пучков соломы. Пьер Прост, все так же ведомый Черной Маской, примостился на одном из них. Его благородный проводник сел рядом, а двое его спутников растянулись у них за спиной; четвертый же незнакомец, тот, что все время находился при упряжке, одним махом вскочил на правую лошадь, схватился за поводья, сани содрогнулись и рванули с места.
Несмотря на две кровоточащие в сердце раны, Пьер Прост отвлекся от мучительных страданий в силу на редкость странных обстоятельств всего происходящего. На самом деле случившееся испугало его не на шутку, несмотря на ободряющие слова Черной Маски.
Подобно тому как головокружительная глубина бездны неумолимо притягивает тело человека, всякая тайна притягивает его мысли. Невольно Пьер Прост принялся размышлять о непостижимом приключении, в котором то ли случай, то ли рок отвел ему некую роль. Невольно пытался он силой мысли пронзить тьму, сгустившуюся вокруг него, и прежде всего ему хотелось знать, куда же его везут.
Врач знал округу как свои пять пальцев: ему была знакома каждая дорога, каждая тропинка, он мог узнать ее хоть днем, хоть ночью, подобно тому, как слепой знает улицы, которыми привык ходить без провожатого, – и, окажись он у своей садовой калитки с завязанными глазами и с палкой в руке, он без труда добрался бы до любого места в трех-четырех лье от дома, какое ему сочли бы нужным указать.
Но сейчас – другое дело. Он не ногами ступал по земле, пытаясь концом палки отыскать знакомый ориентир – дерево или каменистый выступ, а находился в санях, стремглав мчавшихся неведомо куда от его дома. Быть может, его везли в Клерво, что по соседству с Сен-Клодом или Шампаньолем? Ему оставалось только думать да гадать.
Поначалу Пьер Прост пробовал угадать направление по тому, как лошади замедляли свой бег, то поднимаясь, то спускаясь по крутым склонам, которые в горах Юра встречаются на каждому шагу; но после нового подъема или спуска горячие, крепкие лошади вновь и вновь переходили в галоп, и скорость их бега только росла.
Окованные железом полозья саней прорезали борозды в заиндевевшем снегу с пронзительным свистом, добавляя резкую, долгую ноту в дикую какофонию бурана, звуки которой беспорядочным эхом отражались от содрогающихся горных громад.
Бешеная гонка продолжалась часа два.
Один раз – всего лишь один – Пьеру Просту послышался металлический звон, похожий на набат, пронизавший яростный вой метели. Колокольный звон мог доноситься из Шампаньоля или Сен-Клода, однако ж, где точно били в набат – в городе, деревне или монастыре, сказать точно было невозможно. Впрочем, что если Пьеру это и впрямь только послышалось?
Мысли врача блуждали в лабиринте, где недоставало даже мало-мальски заметной путеводной нити, и в конце концов он понял: перебирать в уме догадки – дело и впрямь пустое.
Пьер вздрогнул.
Совсем рядом, скажем, едва ли не в санях, послышался надтреснутый, резкий рев, какой издают пастухи, трубя в бараний рог, когда собирают стадо, рев невероятно громкий, который расслышишь и на огромном расстоянии, даже сквозь рев бури и вой ветра. Определенно, кто-то из его спутников подавал сигнал.
Прошло полминуты – и тут снова послышался трубный гул, уже более отчетливый, хоть и негромкий, прозвучавший где-то вдалеке.
Бесспорно, то был ответный сигнал.
Разгоряченные лошади, подгоняемые кнутом и шпорами, рванули вперед с удвоенной силой, в шальном беге преодолевая остаток пути.
Безудержная гонка продолжалась недолго – не больше четверти часа.
Внезапно сани покатили медленно. По резким толчкам и натужным рывкам можно было догадаться, что упряжка силится взять почти неодолимый подъем: подкованные железом ноги лошадей разъезжались на мерзлой земле; сани то и дело останавливались и даже откатывались назад, и все это сопровождалось непрестанными проклятиями возницы и свистом кнута.
Подъехали к жилищу, расположенному, врач ничуть в этом не сомневался, на высоком плоскогорье.
Чье же это было жилье?
Определиться на местности Пьер Прост так и не смог: в его краях множество старинных франш-контийских замков, подобно орлиным гнездам, горделиво возвышались на безлесых горных вершинах.
Крутой, опасный подъем одолевали долго – наконец загнанные лошади вздохнули свободнее, они сделали еще несколько шагов, и сани остановились.
Трубный глас раздался снова.
Вслед за этим сигналом лязгнули цепи, потом послышался глухой гул опускавшегося подъемного моста, а затем заскрипели петли отворяющихся кованых ворот.
Сани покатили дальше, скрежеща и царапая полозьями по мостовому камню.
Дальше ехали под сводом.
И как только миновали его, снова повалил снег, устилая землю. Лошади сделали пятьдесят или шестьдесят шагов, повозка перевалила через следующий подъемный мост и оказалась под другим сводом. Воистину, этот замок разрастался до размеров крепости!
Сани скользили по снегу еще минуту-две, потом остановились.
– Приехали! – бросил Черная Маска.
И, снова подхватив Пьера Проста под руку, помог ему выбраться из саней, как перед тем помог забраться в них.
По вою ветра вокруг и снегу, хлеставшему по не защищенным маской частям лица, врач смекнул, что они оказались на совершенно открытом месте.
Проводник, все так же сжимавшей его запястье цепкими пальцами, попытался ему что-то сказать, но стихия с такою силой бушевала на этой открытой всем ветрам высоте, что слова его тут же растаяли в воздухе, словно невнятный шепот.
Следом за тем Пьер Прост почувствовал, как монсеньор проводник куда-то его поволок, и настолько быстро, насколько позволяли сугробы, в которые они проваливались по колено.
Наконец врач наткнулся на каменный порог и непременно упал бы, не подхвати его вовремя спутник. Перед ними отворилась дверь – вернее, дверца. Такая низенькая, что Черной Маске, прежде чем войти, пришлось сказать врачу: «Пригнитесь!»
Пьер Прост повиновался и, машинально прикрыв голову свободной левой рукой, чтобы ненароком не удариться лбом, ступил в проход под довольно низким сводом.
Черная Маска остановился затворить за собой дверь.
Воспользовавшись короткой заминкой, врач прислушался к дошедшему до него странному, зловещему шуму, хоть и слабому, но отчетливому, – такой ни за что было не спутать с завыванием бушевавшей снаружи бури. То был особенный, пронзительный, нескончаемый хрип – не то приглушенный стон, не то раздирающий душу плач, заглушавший крики агонии.
Врач не испугался, однако в душе его стали пробуждаться давно уснувшие суеверия, которые в те времена были неотъемлемой частью глубоких верований всякого франш-контийского горца, в точности как и любого бретонского крестьянина. «Неужто, – спрашивал он себя, – я оказался в одном из тех странных, таинственных замков, какие злой гений, как говорят, возвел на иных горных вершинах, а этот, в черной маске, что затащил меня сюда, есть сам дьявол?»
Пьер Прост не успел ответить на свой причудливый вопрос.
Черная Маска резко проговорил:
– Через минуту-другую вам придется взяться за дело. Но прежде хорошенько вспомните все, что я сказал вам у вас в доме.
– Я все помню, – возразил Пьер Прост, – как и то, что вам тогда отвечал.
– Повторяю, – произнес Черная Маска, – вы здесь вовсе не для того, чтобы участвовать в злодеянии. Когда женщина пребывает в родовых муках, тот, кому вздумалось бы избавиться от младенца, как вы сами понимаете, не стал бы звать на помощь врача… – смерть пришла бы сама собой!
– Все так, – молвил Пьер Прост.
– Скоро вы окажетесь возле женщины, – продолжал Черная Маска. – Эта женщина вас не знает, как и вы ее, к тому же лица ее вы не разглядите, как и она вашего… Я запрещаю вам заговаривать с этой женщиной, равно как и отвечать ей, если она заговорит с вами! Одно оброненное вами слово, запомните, и вас ждет смерть, а может, и не только вас одного. Поклянитесь же хранить молчание!
– Клянусь!
– Клянетесь ли вы прахом вашей жены и вашей малютки?
– Прахом моей жены и моей малютки – клянусь!
– Держите!
Черная Маска вложил в руку Пьера Проста холодный ствол пистолета и продолжал:
– Я же в свою очередь клянусь прострелить вам голову, если вы нарушите свою клятву.
– Понятно, – ответил Пьер. – И уж коль, как мне думается, это криком кричит та самая несчастная, которую мне предстоит спасать, тогда поторопимся, ибо время не терпит… хотя, может, уже поздно!
– Перед вами лестница, – сказал Черная Маска, снова хватая врача за руку, чтобы поддерживать его во время дальнейшего пути. – Идемте же, а когда будем подниматься, пригнитесь – свод здесь очень низкий.
И он двинулся вперед, первым взойдя на лестницу.
Врач последовал за ним и во время подъема насчитал двадцать две ступеньки.
Крики и стоны наверху слышались все отчетливее.
За двадцать второй ступенькой стенающую роженицу и доктора разделяла только толстая дверь.
Черная Маска отворил дверь, подтолкнул Пьера Проста вперед и, проводя его перед собой во внутреннее помещение, напомнил:
– Не забудьте!
С этими словами он развязал шнуры, что удерживали бархатную маску на лице лекаря. Ослепленный сперва ярким светом железной лампы и сполохами углей в огромном камине, Пьер Прост вслед за тем мало-помалу внимательно осмотрел окружавшую его обстановку.
Но и тут, однако, были приняты все меры предосторожности, дабы ничто не запечатлелось в памяти врача – ни одна мало-мальски приметная вещица, чтобы впоследствии он ничего не помнил и не смог признать место, куда его затащили силой.
То была средней величины комната, в которой стояла только кровать из пиренейского дуба, без украшений или резьбы. Стены поспешно завесили коврами изнанкой наружу, чтобы не было видно рисунка. Коврами же покрыли пол и потолок.
Колпак над камином, наверное, с изображением герба, был драпирован плотной тканью. Чугунная каминная доска была совершенно гладкой, подставкой для дров служили два грубо отесанных булыжника.
Железная лампа была самая что ни на есть обычная: такие тогда были в большом ходу в самых обездоленных семьях и встречались едва ли не в каждой крестьянской хижине.
Прямо перед кроватью располагалось окно, вырубленное в толстой стене и завешенное тканью, прибитой к потолку. Впрочем, на дворе стояла глубокая ночь, и даже если бы Пьеру Просту вздумалось выглянуть наружу, он не увидел бы снаружи ничего, кроме непроглядной тьмы.
У изголовья кровати неподвижно стоял какой-то человек. Он был облачен во все черное, лицо его скрывала маска, такая же, как и у троицы, которая увезла врача из дома.
Страж в маске почтительно поклонился благородному незнакомцу – не выпускавшему из правой руки пистолет, к рукоятке которого он заставил прикоснуться лекаря, перед тем как подняться вместе с ним сюда по лестнице – потом посторонился и занял место возле камина.
Наконец в измятой постели Пьер Прост увидел женщину: терзаясь от невыносимых мук, она мотала головой из стороны в сторону, будто в подтверждение слов, с которыми Бог обратился к Еве, гонимой из рая земного: «В болезни будешь рождать детей…»[5]
IV. Эглантина
На несчастной была не просто маска. Ей на голову натянули и обвязали вокруг шеи капюшон с прорезями для глаз и отверстием для рта, чтобы можно было дышать. Судя по совершенной форме плеч и рук, сжимавших влажные от холодного пота простыни, роженица пребывала в самом расцвете молодости.
Когда Черная Маска, проходя с врачом в комнату, произнес два слова: «Не забудьте!» – лежавшая в постели женщина содрогнулась – она перестала кричать и словно окаменела.
Каким же безжалостным, верно, был ее палач, если даже самая боль, словно разумное существо, сочла за лучшее замолчать, затаиться при его появлении?
Черная Маска направился к кровати:
– Сударыня, – медленно проговорил он, – со мной здесь врач, он примет у вас роды. Его, как и вас, предупредили, что, если вы обменяетесь между собой хоть словом, обоих вас ждет смерть… Помните об этом!
И, обращаясь к Пьеру Просту, он прибавил:
– А теперь за дело, эскулап. Исполните свой долг.
Пьер Прост не стал мешкать.
Сейчас же, думается, нам стоит набросить покров на эту мучительную сцену. Ибо надобно обладать пером Бальзака – тем самым золотым пером, что вывело восхитительные страницы повести «Проклятое дитя», чтобы достойно описать подобное действо. Заметим лишь, что ни хладнокровия, ни мастерства нашему врачу было не занимать – и спустя час он уже принял на руки бедное крохотное существо, издавшее первый свой крик.
В то же самое время изможденная мать упала без чувств на подушки.
– Мальчик или девочка? – осведомился Черная Маска.
– Девочка, – ответил Пьер Прост.
– Черт бы меня побрал! – проговорил незнакомец.
– Где пеленки? Ее нужно укутать, – продолжал врач.
– Пеленки? – переспросил незнакомец. – Надо же, никто и не подумал… Впрочем, это легко исправить.
С этими словами он подошел к оконному проему и, оторвав от скрывавшей окно драпировки большой кусок белого полотна, передал его Пьеру, сказав при этом:
– Вот, держите, за неимением ничего другого, сгодится и это.
И врач со всем старанием запеленал младенца.
– Теперь, – продолжал Черная Маска, – займитесь-ка матерью, а то как бы она не испустила дух.
Одна рука лежавшей без чувств молодой женщины безжизненно свешивалась с постели.
Пьер Прост прощупал пальцами вену у нее на запястье.
– Ну что? – спросил незнакомец, даже не пытаясь скрыть полное безразличие. – Она жива? Мертва?
– Жива, – через мгновение отвечал врач, – но, боюсь…
– Чего?
– Боюсь, у нее произошло сильное кровоизлияние в мозг, а это чревато летальным исходом.
– Можете его предотвратить?
– Вероятно.
– Каким образом?
– Незамедлительным кровопусканием.
– Что ж, валяйте! Вам никто не мешает.
– Для начала надо бы удостовериться, что я не ошибся с диагнозом. Мне нужно взглянуть на лицо этой женщины – можно?
– Нет, черт возьми! – вскричал Черная Маска, непримиримо топнув ногой. – Нет, нельзя! Вас что, разбирает любопытство? Коли так, пеняйте на себя!
– Не любопытство, – возразил Пьер Прост, – а необходимость. В положении этой женщины кровопускание может ее спасти, но может и убить. И только по лицу я могу определить это точно, а не строить досужие домыслы.
– Повторяю, вы не должны видеть ее лица. Это невозможно! Невозможно, слышите? Невозможно! Займитесь лучше кровопусканием, раз считаете, что это ей поможет, да поскорей!
– А если она умрет по моей вине?
– Что ж, если она умрет по вашей вине, – со зловещей усмешкой ответил Черная Маска, – вам будет не за что себя корить, ведь вы старались сделать все возможное, полагаясь на свои познания. К тому же, что бы это ни было – преступление или грех, пускай и то, и другое останется на моей совести.
– Тогда велите принести мне таз и бинты, – промолвил врач, – попробую пустить ей кровь и буду молить Бога, дабы он сделал все, чтобы моя рука не стала рукой убийцы.
– Молите, молите! – воскликнул Черная Маска. – Не возражаю, и если не Господь, то, может, дьявол вас услышит.
При этих кощунственных словах Пьер Прост перекрестился.
Черная Маска расхохотался.
Он подал знак человеку у камина, и тот, приподняв угол перевернутого задом наперед полотнища, прибитого к стене, скрылся за дверью, о существовании которой наш врач до сих пор и не подозревал.
Через минуту человек вернулся с медным тазом.
В его отсутствие Черная Маска оторвал от белого полотнища другой кусок, из которого Прост сделал бинты.
В углу комнаты, лежа на ковре, застилавшем пол, жалобно пищал младенец.
Снаружи вовсю неистовствовал буран. Крохотные оконные стеклышки позвякивали в своих ячейках, дрожали свинцовые рамки.
Все было готово. Пьер Прост перетянул чуть выше локтя руку молодой женщины, так и не пришедшей в себя, и проткнул ей вену.
Поначалу кровь вытекла медленно, по капле, потом заструилась быстрее и вот наконец брызнула длинной алой струей. Пьер Прост собирал кровь в медный таз. Мгновение спустя грудь роженицы поднялась с глубоким вздохом.
– Она приходит в себя, – сказал врач, – опасность миновала, по крайней мере то, чего я только что опасался, не случится.
Молодая женщина пошевелилась, словно пытаясь приподняться, и чуть слышно прошептала:
– Ребенок… где мой ребенок?
Черная Маска тотчас подошел к ней.
Он приложил палец к своим губам, призывая к молчанию Пьера Проста, пока тот забинтовывал отрезками ткани вену несчастной, чтобы остановить кровотечение, и сказал:
– Ваша дочь выжила, сударыня, и будет жить дальше, во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не обречете ее на смерть, пытаясь на нее посмотреть.
– Покажите… покажите!.. О Боже, неужели вы хотите ее у меня отнять?
– Да, сударыня.
– И я ее больше не увижу?
– Никогда.
Из-под мрачного капюшона послышались глухие всхлипы, но уже через мгновение бедная молодая мать продолжала:
– Позвольте мне хотя бы разок поцеловать ее… всего лишь один раз, прежде чем разлучиться с нею навсегда. Ах, знаю, вы бездушны, мессир… у вас совсем нет сердца… но неужели вы настолько черствы, что откажете мне в просьбе поцеловать мою дочь?.. Только один поцелуй!
– Что ж, поцелуйте, – отвечал Черная Маска, – только ни единого слова!
И, обращаясь к Пьеру Просту, он прибавил:
– Передайте ей младенца!
Врач повиновался.
О, какие же безумные объятия последовали за этим! То был миг настоящего исступления, когда бедная мать смогла наконец прижать к сердцу и облобызать свое дитя, это слабенькое, пищащее созданье, которое она не могла видеть и уже никогда больше не приласкает!
И все время, пока она покрывала младенца пылкими поцелуями, Черная Маска выказывал все нарастающее, жгучее нетерпение. Вот уже он открыл рот, собираясь приказать Пьеру Просту, чтобы тот отнял ребенка у матери и унес его прочь, но тут случилось неожиданное, и несчастной матери была дарована короткая отсрочка.
Новый порыв ветра сильнее других, с оглушительным свистом, переходящим в вой, с ужасающей силой хлестнул по крепким стенам замка, подобно громадной океанской волне, обрушившейся на скалы Пенмарка[6].
Оконные ячейки не выдержали его натиска – стеклышки выпали из треснувших рамок и разбились на тысячи осколков. В комнату тут же ворвался ветер; безудержным потоком он хлынул к камину, подхватил пылающие уголья и, точно жалкие семечки, разнес их по всей комнате, тотчас наполнившейся густым дымом.
Вот уже полыхнул ковер на полу, да и сам пол загорелся местами – начинался пожар.
Неизбежная опасность – пламя, раздуваемое жестоким бураном, – заставила Черную Маску на миг отвлечься от прочих забот. Он кинулся тушить, топча ногами, горящие тут и там уголья.
Пьер Прост, улучив короткое мгновение, молнией бросился к постели и, склонившись над роженицей, прошептал:
– Не убивайтесь, бедняжка, я позабочусь о малютке…
Женщина ничего не ответила; она лишь стиснула руку врача, сунув в нее что-то совсем крошечное.
Лампа погасла – едкий, удушливый дым от горящей ткани сгустился в плотную мглу. Пьер Прост не смог разглядеть вещицу, которую ему передали столь поспешно, и тут же спрятал ее у себя на груди.
В эту минуту к нему подошел Черная Маска – взгляд у него был тревожный и подозрительный.
– Вас здесь больше ничего не держит, – сказал он, – ступайте отсюда!..
И, грубо вырвав новорожденную крошку из рук матери, крикнул слуге в черном, который молча наблюдал за всем происходящим:
– Возьмите младенца и спускайтесь вниз, мы – за вами.
При этом он снова завязал на враче глухую маску, и тот опять мгновенно ослеп.
– Идемте! – продолжал он, хватая доктора за левую руку.
И тут, как оно порой случается в чрезвычайных обстоятельствах, сознание Пьера Проста, точно яркая вспышка, осенила внезапная мысль.
На полу, у его ног лежал полный крови медный таз. Наш врач это знал. Он быстро нагнулся, как будто оступившись, и окунул свободный кулак в таз с кровью. Черная Маска решил, что врач и впрямь споткнулся, и, подхватив его, потащил прочь из комнаты.
Спускаясь по лестнице, Пьер Прост, как и при подъеме, отсчитал двадцать две ступеньки.
Внизу он вскинул свободную руку, в точности как прежде, но на сей раз не для того, чтобы прикрыть голову, а чтобы оставить на своде отпечаток своих окровавленных пальцев.
Черная Маска ничего не заметил.
– Вы исполнили все, что от вас требовалось, – сказал он, остановившись, чтобы отворить низенькую дверцу, за которой, как было слышно, завывала метель. – Вы сослужили мне службу и за это достойны награды.
– Я ничего не прошу, – ответил Пьер Прост, – и ничего не хочу.
– Я не из тех, кто пользуется чужими услугами даром! – надменно бросил незнакомец. – Впрочем, я полагаюсь на вас еще кое в чем. Вот, держите.
С этими словами он вложил в руку врача холщовый мешочек, довольно тяжелый.
Потом продолжал:
– Это золото поможет поднять вашего ребенка.
– Увы! – проговорил Пьер Прост. – Вы же знаете, моя малютка умерла.
– Она жива, – возразил Черная Маска медленно, но твердо. – И помните, пусть события этой ночи останутся для вас сном, который, когда проснетесь, вам надобно забыть… Несколько часов назад вы были в своей хижине вместе с девочкой, вашей малюткой, и она спала в колыбели. Через несколько часов вы вернетесь обратно, и рядом с вами будет спать малютка, ТА ЖЕ САМАЯ, так что со вчерашнего вечера вы никуда не уезжали из Лонгшомуа. Теперь понимаете, почему я сказал, что ваша дочь жива?
– Да, – ответил Пьер, – понимаю. Вы хотите, чтобы все думали, что новорожденная девочка – моя дочь, которую я потерял. Хотите, чтобы моя бедная дочка оставалась живой и впредь.
– Хочу. Так вы согласны?
– Согласен. И не только для видимости, а еще и потому, что бедной сиротке нужно отцовское сердце.
– Глядите, и коли вам дороги покой и ваша шкура, зарубите себе на носу: одно опрометчивое слово – вам конец, и не только вам одному, повторяю.
Затем Черная Маска отворил низенькую дверцу и повел нашего врача сугробами к тому месту, где ждал экипаж, запряженный свежими лошадьми.
Пьера Проста запихнули в сани – двое в масках примостились у него по бокам. Ему передали в руки новорожденную малышку, закутанную в грубошерстную накидку, так называемый дорожный плащ, которыми пользуются крестьяне.
Лошади тронулись.
Перевалили через пару подъемных мостов, проехали под двумя сводами – и вот упряжка с головокружительной быстротой понеслась вниз по крутому склону, по которому перед тем они взбирались больше часа, а теперь спустились за несколько минут.
Когда сани остановились возле Лонгшомуа, еще не рассвело; метель мало-помалу улеглась, хотя снег продолжал валить густыми хлопьями.
Наш врач не знал, что они уже приехали: несмотря на шальную гонку он ошибочно полагал, что они только на полпути до его дома.
– Где мы? – спросил он у своих спутников, велевших ему вылезать.
– Сейчас увидите, – ответил один из них.
И, когда Пьер Прост выбрался из саней, прибавил:
– Вам приказано снять маску только после того, как вы прочтете по пять раз «Отче наш» и «Радуйся!..»[7].
– «Отче наш, Иже еси на небесех!..» – начал наш врач.
Тут он услыхал пронзительный скрежет санных полозьев, рассекающих мерзлый снег. Скрежет быстро удалялся.
Отчитав пятикратно «Отче наш» и «Радуйся!..», Пьер сорвал с себя маску.
Решетчатая садовая калитка его дома находилась в двух шагах от него.
С печалью на сердце он вошел в свой осиротелый дом. В опустевшей было колыбельке лежала малютка. Врач отправился за козой – и бедная малышка жадно припала губками к набухшим соскам чернорогой кормилицы.
Насытившись, крошка уснула.
Пьер Прост наконец смог вымыть окровавленную ладонь и рассмотреть таинственную вещицу, которую сунула ему в руку несчастная незнакомка. Это был медальон тонкой золотой чеканки с изображением маленькой дикой розы, выложенной бриллиантами. А в холщовом мешочке, который дал ему Черная Маска, лежало десять тысяч ливров[8] золотом – громадная сумма по тем временам.
На рассвете какой-то местный крестьянин пришел справиться у врача о здоровье его дочурки, поскольку люди знали, что она совсем слабенькая и почти уж не жилец.
– Спасибо, сосед, – ответил Пьер Прост, – ей уже лучше, гораздо лучше, так что, надеюсь, выживет.
У него были все основания верить в это.
Через несколько недель малютку, еще недавно такую бледную и хиленькую, было уже не узнать, настолько она оправилась и окрепла.
Она обещала стать в один прекрасный день – как говорят крестьяне – ладной красоткой!..
Единственно, всеобщее изумление и шум в округе вызвала новость, что врач (самый что ни на есть добрый христианин), вместо того чтобы наречь дочурку именем какой-нибудь святой, назвал ее в честь цветка – Эглантиной[9]!..
Часть первая Солдат поневоле
I. Трактир в Шампаньоле
Здесь необходимо дать короткую историческую справку о положении во Франш-Конте в 1638 году, то есть спустя восемнадцать лет или около того, после роковой ночи на 17 января 1620 года – ночи, о зловещих событиях которой мы рассказали в прологе нашей книги.
Мы любезно просим наших читателей не пренебрегать следующими краткими подробностями.
Итак, Франш-Конте, как мы уже знаем, принадлежала Испании со времен Карла V.
После смерти Филиппа II она составляла часть приданого его дочери, инфанты Изабеллы Клары Евгении, которая вышла замуж за эрцгерцога Альберта Австрийского. В дарственной оговаривалось, что, буде принцесса умрет, не оставив после себя наследников, все ее достояние снова отходит к Испанскому дому.
У Изабеллы Клары Евгении не было детей, и в силу названного положения около 1634 года Франш-Конте отошла к новоиспеченному королю Филиппу IV.
Франш-Конте тогда делилась на три судебных округа: округ Амон, округ Аваль и округ Доль.
Главными городами трех этих округов были Везуль, Безансон и Доль. Провинцией управлял парламент, назначавшийся Генеральными штатами, и заседал он, как мы знаем, в Доле.
У Франш-Конте, хотя она и принадлежала к испанской короне, свободы было предостаточно. Она сама вводила налоги, которые равноценно распределялись по всем округам. Испанский же король довольствовался тем, что получал соль из местных соляных рудников и денежные пожертвования, исчислявшиеся более чем двумя сотнями тысяч ливров в год. Кроме того, провинция должна была поставлять своему сюзерену по призыву четыре хорошо вооруженных и оснащенных полка.
В обмен на эти повинности контийцы наделялись правом получать высочайшие чины и звания. Их преданность Испании была безгранична, равно как и благорасположение к ним испанской короны.
С другой стороны, контийцы ненавидели Францию и самое название «француз», и с 1635 по 1668 год они исправно доказывали свою ненависть, героически противостоя захватническим планам своих могущественных соседей.
16 мая 1635 года великий кардинал Ришелье – под предлогом, что испанский вооруженный отряд нежданно-негаданно напал на город Трир, союзный Франции, и что Безансон дал прибежище герцогу лотарингскому Карлу IV, лишенному владений стараниями Людовика XIII, – объявил Испании войну.
28 мая 1636 года Конде[10] во главе двадцатитысячного пешего войска и восьми тысяч всадников взял в осаду Доль. Принца сопровождал полковник Гассион де ла Мейерэ, главнокомандующий артиллерией.
Город тогда доблестно защищали: советники Буавен, Берер и Луи Петре, из Везуля, инженер Жан-Морис Тиссот, храбрый майор де Верн, капитан де Граммон, Жирардо де Бошмен, адвокат Мишути и капрал Доннеф. В то же время французов беспокоили партизанские отряды барона Сезара Дюсэ д’Арнанса и капитана Лакюзона.
14 августа 1636 года при подходе Карла Лотарингского принцу Конде пришлось снять осаду.
На следующий год герцог де Лонгвиль[11] поднял мятеж в южной части Франш-Конте, поразив ее огнем и мечом, когда на севере Бернгард Саксен-Веймарский во главе шведского войска опустошил тамошние земли подчистую.
В таком положении пребывала многострадальная провинция в то время, когда наш рассказ получил продолжение, миновав промежуток в восемнадцать лет.
Однажды, в хмурый, холодный декабрьский день 1638 года, когда колокола отзвонили «Ангелус»[12], по главной улице городка Шампаньоль, что в верхней Франш-Конте, мерно покачиваясь в такт шагу уставшего коня, ехал всадник, плотно закутанный в полы коричневого плаща.
Залаяли собаки – редкие горожане высыпали на порог своих домов, заслышав цокот конских копыт, и с удивлением и любопытством провожали взглядами путника.
Верховой подъехал к дому, выглядевшему побольше и получше соседних. Над главным его входом раскачивался пучок сушеных папоротников, а на побеленной стене проглядывала надпись, выведенная черными буквами:
«У КАПИТАНА ЛАКЮЗОНА.
Вернье, хозяин трактира, предоставляет еду и питье, продает отруби, овес и муку из отрубей. – Достойный приют как пешему, так и конному».
«Вот и отлично!» – подумал всадник.
И, ловко спешившись, крикнул негромко, но звонко:
– Эй, хозяин!
На его зов из дверей трактира вышел мужчина лет пятидесяти пяти – шестидесяти, еще крепкий, несмотря на возраст, и высокий. Он сказал в ответ:
– Я и есть хозяин, которого вы спрашиваете, мессир. Надобно ли вашему коню стойло?
– Да. И не забудьте бросить ему подстилку погуще и фуража заправьте побольше, да двойную порцию овса: хочу, чтоб обходились с ним лучше, чем со мной.
– Еще бы, правда ваша, мессир! – отвечал хозяин. – Человеку дан язык, чтоб приказывать и требовать обслуживания, а лошади остается довольствоваться лишь тем, что ей дают, – бедная скотина! Выходит, кому как не хозяину должно заботиться, чтоб его добрый слуга содержался в достатке, а уж ваш-то заслуживает и впрямь царского обхождения. Породистая животина, – истинное сокровище! – и двужильная, видать.
– Да вы, как я погляжу, знаете толк в лошадях, не так ли?
– А то! Точно, знаю. Точнее не бывает. Никак, пятнадцать лет отслужил в кавалерии. Спросите хоть самого полковника Варроза, кто такой есть Жак Вернье. Кто знает, может, я еще и вдену ногу в стремя, хоть мне и пятьдесят восемь… К тому же в конюшне у меня стоит Серушка, отчаянная такая кобылка, уж она-то мне еще послужит, будьте покойны… и кобурные пистолеты не настолько заржавели, чтоб отдраивать их до блеска и чтоб с полсотни шагов не всадить пулю в живот какому-нибудь шведу или серому… Ну да ладно, поживем – увидим, и да здравствует капитан Лакюзон!.. Вы, верно, заметили, мессир, что я вверил мой двор его опеке, и да заберет меня дьявол или Бернгард Саксен-Веймарский, ежели сей покровитель хуже других и так уж неугоден доброй святой Деве Марии и великому святому Якову, коих я почитаю всем сердцем! Да и капитан Лакюзон тоже праведник – может, и он станет мучеником. Мучеником свободы!
Нетрудно догадаться, что Жак Вернье, этот верный и добрый, но словоохотливый патриот, решил не давать волю своей болтливости прямо посреди улицы.
Лишь отведя коня новоприбывшего гостя в конюшню – к стойлу, он всецело предался столь милой радости чесать языком, притом беспрерывно.
– Вот, – продолжал он после совсем недолгой паузы, поднося к глазам последовавшего за ним всадника здоровенную кучу овса, – взгляните на это зерно, мессир! Прекрасное, налитое и чистое, как слеза. Из последнего урожая – лучше не сыщешь! Такое достойно даже лошади Карла Лотарингского и коня самого Лакюзона!
Путник отдал должное исключительному качеству овса, но особое уважение и полнейшее расположение Жака Вернье он живо снискал себе тем, что не преминул восхититься округлым крупом и крепкой статью Серушки, ее широкой грудью, лоснящейся шкурой и жилистыми ногами.
После пространных рассуждений о высочайших достоинствах своей несравненной кобылы почтенный трактирщик прибавил:
– А теперь, мессир, когда у вашего коня есть и подстилка, и корм, ничто не мешает нам позаботиться и о вас… Может, закусите?
– Охотно.
– Времена нынче тяжкие, народ редко куда ездит, вот уже неделю с лишним у меня не было ни одного постояльца, да и в кладовке моей, боюсь, пустовато…
– Не берите в голову. Найдется краюха хлеба – мне и этого довольно.
– О, для вас, мессир, и кое-что посытней найдем. Будет вам и холодная похлебка из кукурузной муки, сало и яйца, и курица – вот только шею ей сверну, и головка горного сыра, а чтоб запить все это, будет вам и бутылочка старого арсюрского вина, самого лучшего на свете, как вы, верно, знаете!
– Хозяин, – с улыбкой заметил путник, – да вы совсем не похожи на своих собратьев-трактирщиков. Говорите, что нечем меня потчевать, и тут же обещаете закатить царский пир, меж тем как ваш брат имеет привычку сулить золотые горы, а на самом деле облагодетельствовать самыми жалкими крохами…
– Эх, правда ваша, мессир, – ответствовал Жак Вернье с выражением праведной гордости, – так оно и есть, клянусь честью. Все очень просто. Собратья мои сидят под вывесками – то «Лебедь и Крест»[13], то «Золотое солнце», то «Великий святой Мартин», что ни к чему не обязывает. Они обещают то, чего не могут дать, – что ж, имеют право. Но, когда имеешь честь, как я, написать на стене трактира «У капитана Лакюзона», надо быть последним прохвостом, похлеще шведа или Серого, чтоб не соответствовать… «Положение обязывает!» – говорят благородные люди, и они правы. А я, простой трактирщик, перенявший эту поговорку на свой лад, скажу так: «Вывеска обязывает!» – и я прав, черт возьми!
Путнику оставалось только всецело согласиться с рассуждениями трактирщика. И, выразив свое согласие словом и жестом, он последовал за Жаком Вернье в дом.
Вместе они прошли в кухню.
Напротив входной двери помещался высокий и широкий камин из серого камня, колпак над очагом украшало множество разнообразных вещей: длинноствольный карабин, висевший горизонтально на двух крючьях, раскрашенная гипсовая статуэтка, изображающая святого Якова Компостельского, пара малость поржавевших седельных пистолетов, о которых уже упоминал трактирщик, самшитовая ветка с последней Пасхи и, наконец, большая кавалерийская сабля.
Дверь слева от камина вела в «печную». Так в те времена называли во Франш-Конте, да и называют посейчас, помещение, смежное с кухней и обогреваемое одной каминной печью.
За другой дверью, справа, в темноте виднелись нижние ступени деревянной лестницы, что вела на верхний этаж. Наконец, третья дверь сообщалась с сараем, откуда тянуло ароматным сеном.
На голой, побеленной известкой стене, висела на четырех гвоздях с широкими шляпками большая, хотя и совсем незатейливая, размалеванная синими, красными, желтыми и зелеными красками картинка. На рисунке был изображен покровитель приходской церкви. Каждый год в день какого-нибудь местного праздника к трактирщику приходил деревенский музыкант с украшенной лентами скрипкой, снимал старую картинку и вместо нее вешал новую, точно такую же, а взамен получал пригоршню мелочи – от всего хозяйского сердца. То был взнос, впрочем, совсем необременительный, который, по традиции, взимался со всех франш-контийских крестьян, бедных и богатых.
У противоположной стены осел огромный сервант из полированного ореха – от возраста и дыма он почернел и походил на вековой дуб. На шкафу стояли сверкавшая серебром оловянная посуда и кое-какие фарфоровые статуэтки, простенькие и милые, которые любители того, что принято называть «безделушками», и среди них автор этой книги, сегодня ценят на вес золота, когда посещают аукционный дом на улице Друо.
По обе стороны серванта была развешана кухонная утварь, в том числе охваченные блестящими железными обручами кадушки из довольно мягкого соснового дерева.
Наконец, обстановку кухни завершали два длинных стала, окруженные табуретами на трех ножках.
Полка, подвешенная к потолку с двух концов, прогнулась под тяжестью полудюжины круглых буханок пеклеванного хлеба.
На железном крюке под колпаком камина висел толстый шмат копченого сала; с поперечных шестов, вдоль неотесанных деревянных потолочных брусьев, свисали початки белой кукурузы, которую во Франш-Конте коротко называют «туркой».
Так выглядела типичная кухня деревенского трактира в 1638 году – такой сохранилась она и до наших дней.
В кухне суетилась молодая служанка во франш-контийской косынке на голове; облаченная в коричневую кофту из бумазеи поверх дешевенькой шерстяной юбки в полоску, спускавшейся до крепких лодыжек в синих чулках, она сновала туда-сюда, сотрясая пол тяжелыми, обшитыми овчиной деревянными башмаками, скрывавшими ее широкие, плоские ступни.
Она бегала от камина к столам, от столов – к серванту, то проверяя содержимое чугунка внушительных размеров, в котором что-то нещадно бурлило, то протирая с чисто мужской силой сосновые половицы, то переставляя с места на место плошки и тарелки – одним словом, выглядела она уж больно занятой, хотя на самом деле ничего такого не делала, поступая сообразно с похвальной и неизменной привычкой, свойственной прислуге всех времен и всех трактиров на свете.
Когда в кухню вошел путник, следовавший за Жаком Вернье, служанка застыла как вкопанная, потом сделала легкий реверанс и вперилась в новоприбывшего своими маленькими глазками, которые тут же расширились от любопытства.
– Эй, послушай, Жанна-Антония! – крикнул трактирщик, разгневанный поведением молодой служанки. – Очнись-ка да подбрось лучше добрую охапку хвороста в камин, вместо того чтобы стоять здесь столбом да пялиться на благородного сеньора, ты с ним свиней на пару не пасла.
– А что тут такого, хозяин? – весело возразила Жанна-Антония. – Даже собака имеет право смотреть на епископа…
– Ладно! Ладно! Делай что велят, да попридержи язык.
– Да будет вам, сейчас иду. И все едино собака имеет право…
Жак Вернье раздраженно топнул ногой и таким образом оборвал на полуслове старинную франш-контийскую поговорку.
Служанка прикусила язык и, пожав плечами, отправилась за требуемой охапкой хвороста.
Как только она вышла, трактирщик рассмеялся. Определенно, девица не с самым большим почтением относилась к своему хозяину, а он к ней за такое совсем не придирался.
Поспешим здесь же добавить, что наш трактирщик был вдовцом, и это многое объясняет…
– Молодо-зелено, – проговорил он, – да и ума ни на грош, не говоря уже о воспитании, хотя порядочности и честности нам не занимать. В доме ни соринки, все блестит и сверкает сверху донизу, а случись такая надобность, то мы и пальнуть из ружья можем хоть в шведа, хоть во француза, ей-ей, не вру!.. Да вы присаживайтесь, мессир, вот на этот табурет, поближе к огоньку, да обогрейтесь. Через минуту, когда дурашка подбросит хворосту на уголья, огонь разгорится на славу, яркий, как весенний денек, и красный, как петушиный гребешок.
Между тем путник стянул с себя широкий плащ, в который кутался, и черную фетровую шляпу, с загнутым кверху полем и пером цапли в петлице. Бросил шляпу с плащом на один из столов и подошел к камину.
Это был высокий молодой человек лет двадцати трех – двадцати четырех, красивый, даже слишком, с длинными светло-русыми волосами, волною вившимися у щек. Его отличали безупречный овал лица, немного бледная кожа, правильные, тонкие, по-женски мягкие черты, и если б не шелковистые усики с лихо закрученными вверх кончиками – чисто по-мушкетерски, и главное – если б не пламенный, решительный, даже дерзкий взгляд его больших темно-синих, затененных длинными изогнутыми ресницами глаз, красоте которых могла бы позавидовать любая дама, можно было бы подумать, что перед нами переодетая женщина.
Костюм его напоминал одновременно военный мундир и платье благородного сеньора. На нем был серый камзол, короткие бархатные штаны и сапоги с отворотами, украшенные серебряными шпорами.
Сбоку у него, на сыромятной перевязи, расшитой зеленым шелком, висела длинная, широкая шпага, могущая послужить грозным оружием в ловкой и твердой руке.
Чтобы завершить этот наскоро очерченный портрет, добавим, что ноги и руки всадника отличались изяществом, безусловно, свойственным представителю особого, благородного сословия.
«Вот это, – думал Жак Вернье, пока молодой человек шел к камину, – это вам настоящий сеньор, что так же верно, как и то, что капитан Лакюзон есть величайший человек на свете! И не видать мне места в раю, коли я ошибаюсь, а я верно говорю, да-да, это точно, клянусь всеми чертями в преисподней!»
II. Великая троица
Вскоре объявилась и юная служанка, откликавшаяся на изящное имя «Жанна-Антония», она несла на плече огромную вязанку хвороста, под которой казалась совсем маленькой.
Когда в камин подбросили веток, пламя занялось с новой силой; задорно потрескивая, оно живо озарило всю кухню и заиграло яркими отблесками на лепнине серванта, на выступающих краях оловянной посуды и округлых формах фарфоровых безделушек, раскрашенных в самые невероятные цвета.
Покуда путник устраивался у огня, Жак Вернье с шутками да прибаутками подгонял славную девушку, и не думавшую поторапливаться: она неспешно накрыла на стол, свернула шею курице, разбила яйца для омлета, бросила шматок сала в чугунок с кипящим варевом, спустилась в погреб за бутылкой арсюрского, сплошь облепленной паутиной, – словом, делала все сообразно горделивому девизу трактира: «Вывеска обязывает», – обещавшему многое, и даже больше.
Путник, положив ногу на одну из подставок для дров, опершись локтем на колено, а подбородком – на руку, пребывал в глубокой задумчивости и, казалось, не замечая того, что делалось и о чем говорилось вокруг.
Он очнулся, вздрогнув, только когда трактирщик громким и звонким голосом воскликнул:
– Обед на столе, мессир, и смею заверить, он вас не слишком разочарует.
– Верю-верю, добрый мой хозяин, – отвечал молодой человек, поднимаясь. – Тогда, может, составите мне компанию и пропустите со мной стаканчик столь достойного винца?
– О чем разговор! Ну конечно, мессир! Еще ни разу в жизни я не отвечал отказом на учтивое обхождение. Хоть вы благородный сеньор, а я мужлан, полковник Варроз, однако, уверяет, и я с ним заодно, что старому солдату не грех чокнуться со всеми сеньорами на свете…
– Такое способен сказать лишь человек с трезвой головой и добрым сердцем. Между тем я уже второй раз слышу от вас это имя. Так кто же он такой, этот ваш полковник Варроз? – полюбопытствовал незнакомец.
Жак Вернье бросил на собеседника глупый от удивления взгляд.
– Вы, мессир, – следом за тем сказал он, – вы, должно быть, чужак, прибыли издалека…
– Верно, я здесь чужой, – с улыбкой ответствовал молодой человек, – и прибыл издалека.
– Вы, часом, не француз?
– Нет.
– Может, швед?
– И даже не швед.
– И вы не за шведов и не за французов?
– Не за тех и не за других, уверяю вас.
– Вот и чудесно! Что ж, мессир, полковник Варроз входит в нашу великую троицу.
– Какую же троицу вы имеете в виду?
– Я говорю о Варрозе, Жан-Клоде Просте и преподобном Маркизе, трех наших героях, трех знаменитостях!
– А капитана Лакюзона вы к ним не причисляете?
– Лакюзон и Жан-Клод Прост – один и тот же человек. Пост – его имя. А Лакюзон – прозвище. Вы что, и впрямь не в курсе того, что у нас творится, мессир?
– Насколько мне известно, Франш-Конте славно сражается за свою независимость и вот уже два года как отчаянно сопротивляется Франции, своему грозному, могущественному врагу.
– Да, мессир, и французский кардинал, красное преосвященство Ришелье, бросил против нас свои войска сперва под началом Конде, а после – Виллеруа. Но, поскольку им этого было мало, французы наняли полчища шведов под водительством старого адъютанта Густава Адольфа[14], растреклятого герцога Саксен-Веймарского.
– Знаю.
– А известно ли вам, что, покуда Конде, этот великий военачальник, принц королевских кровей, пятился от стен Доля, предводитель шведов, этой шайки разбойников, разорял наши горные селения, предавая все и вся огню и мечу, убивая детишек и стариков, надругался над девками и бабами, обратил каждый город в груду развалин, а каждую деревню – в кучу пепла?
– Позор! Позор! Настоящие воины так не воюют.
– Да какие же они воины – сущие разбойники и душегубы!.. А дальше дело было так: наши горцы, наши крестьяне вдруг подняли головы, которые им намеревались отсечь. От вершины горной к вершине, от дола к долу разлеталось слово «свобода», его передавали из уст в уста, эхом разнося повсюду. И вот дикий и могучий народ бросил свои поля и леса и взялся за сошники да топоры – заместо оружия. Так поднялось целое войско, и не какая-нибудь шайка разбойников с большой дороги, ничего подобного, ей-богу! Ни один человек из входивших в него не был наймитом – каждый сражался за свою Родину, свой дом и семью. Выходит, это и есть настоящие воины, не в пример французишкам да всяким шведам, черт бы их всех побрал!..
– И несомненно, – прервал его путник, – Варроз, Лакюзон и Маркиз втроем возглавили это войско?
– Угадали, мессир. Сперва наши франш-контийцы выбрали себе в военачальники Жана Варроза, старого солдата, славного, что ваша шпага, искалеченного в двадцати сражениях за время беспрестанных господских междоусобиц, а испанский король произвел его в полковники. Я и сам служил под началом Варроза, мессир, и по праву этим горжусь! Случись вам ненароком повстречаться с ним, скажите ему про Жака Вернье. Варроз взялся сколотить кавалерию, и ему это удалось как ни одному французскому маршалу. В помощники же себе Варроз взял лейтенанта – Жан-Клода Проста, который скоро с ним сравнялся, а то и превзошел его. Ему, нашему капитану Лакюзону, только двадцать два года – вроде как совсем юнец! А на самом деле – мужчина. И какой! Предводительствует нашими партизанами-горцами, их отрядами командует. И как командует! А как они любят его! Причем все без исключения, и все-все, от первого до последнего, готовы за него хоть в огонь, хоть в воду… Да здравствует капитан Лакюзон!
– Но откуда у него это прозвище – Лакюзон?
– Поскольку Жан-Клод Прост беспрестанно заботился о надлежащем порядке в рядах своих партизан и думал о спасении нашей провинции, он часто пребывал в заботах и хлопотах – а слово лакюзон на здешнем наречии означает радение, вот сподвижники и прозвали его меж собой – радетелем. Так что через пару годков, думаю, все забудут Жан-Клода Проста, потому что в народной памяти он навсегда останется капитаном Лакюзоном.
– А что третий? Преподобный Маркиз?
– Он кюре из деревушки Сен-Люпицен, что рядом с Сен-Клод. Добрый христианин, исправный служитель Божий и настоящий франш-контиец. Но главное – он не робкого десятка и с головой на плечах. По призванию – святой. А по храбрости – солдат! А какая умница! Все твердят – министр французского короля, важный кардинал!.. Ха-ха! Да будь наш преподобный Маркиз кардиналом и министром, Ришелье, знамо дело, и в подметки ему бы не сгодился! Наш Маркиз сражается за Франш-Конте со всяким оружием, какое есть у человека и священника. Он сражается мечом и молитвой! И когда ведет в бой наших горцев, в левой руке у него распятие, а в правой шпага. Он взывает к Богу и разит, и Бог, в награду за молитвы, дарует его шпаге победу. Видели бы вы его в такие мгновения – с обнаженной головой, с распущенными волосами, в багряной рясе, подпоясанной кожаным ремнем… ведь перед сражением он всякий раз облачается в красную рясу – она-то и служит ему броней, другой защиты у него нет. Говорят, будто пули отскакивают от этой кроваво-красной рясы, как от стальных нагрудных лат.
– О, вы вправе так говорить! – горячо воскликнул чужак. – Эти истинные патриоты – троица героев, и земля, которая видит их во главе своих защитников, может до последнего предсмертного вздоха надеяться, что будет жива и свободна!
– Но предсмертный вздох не прозвучит никогда! – возразил Жак Вернье. – Это так же верно, как и то, что мы прямо сейчас поднимем стаканы за здравие Лакюзона, а после я самолично спущусь в подвал за другой бутылочкой, и она будет постарше этой лет на пять-шесть, никак не меньше.
Путник ударил краем стакана о кубок трактирщика – они разом пригубили благородное вино, сверкавшее, точно расплавленный рубин, и потом еще не раз повторяли в один голос:
– Здоровье капитана Лакюзона!..
Чуть погодя Жак Вернье спустился в подвал за обещанной второй бутылкой, вернулся к столу, сел напротив молодого гостя, и беседа, прерванная на мгновение, возобновилась.
– А из каких же мест во Франш-Конте родом капитан Лакюзон? – спросил путник.
– С наших гор, мессир, с наших гор! – с гордостью воскликнул трактирщик. – Жан-Клод Прост родом из деревушки Лонгшомуа, что в паре лье отсюда. Дом, где он появился на свет, стоит в Шан-су-ле-Дэм, на опушке рощицы, – это между дардэйской мельницей и деревенькой Комб, и ни один крестьянин, с тех пор как здесь заполыхали войны, не пройдет мимо этого дома, не сняв шляпы и не прочитав «Отче наш» и «Радуйся!..», чтобы пожелать капитану Лакюзону долгих лет жизни и счастья!
– У него большая родня?
– Нет, в том-то и беда. Хоть Просты и не благородного происхождения, род их крепкий и честь их не запятнана. Они, все как один, люди порядочные!.. Но нынче капитан Лакюзон один как перст, один-одинешенек!
– И что, у него нет ни брата, ни сестры?
– Жан-Клод был единственным сыном в семье, и ему было от роду года три или четыре, когда почила его матушка, а следом за нею, года через два, умер и отец.
– Неужели у него совсем не осталось родственников?
В голосе чужака, когда он обратился к трактирщику с последним вопросом, нетрудно было уловить легкую дрожь. Жак Вернье отвечал:
– Остался один, брат его отца, Пьер Прост, в здешних местах его еще называли «врачом бедняков».
– И конечно, дядюшка живет вместе с ним…
– Нет, у бедняги Пьера грустная история, хотя человек он ученый и благородный.
– Грустная?
– Да, как мыкал он горе, так и мыкает.
– Что же у него случилось? – спросил молодой человек, заметно побледнев и поставив на стол полный стакан, который собирался пригубить.
– Лет семнадцать-восемнадцать назад Пьер Прост спровадил на погост жену, которая только-только родила ему дочь. Беда, похоже, довела его до помешательства, и проявилось это довольно скоро, а началось все с того, что он, будучи человеком умным и здравомыслящим, назвал свою дочурку Эглантиной, хотя мог бы назвать Жанной-Антонией или Жанной-Марией, или Жанной-Клодиной, как все. Но это еще пустяки – потом такое было!.. Прошло два или три года, и вот одним чудесным утром в дверь к Пьеру Просту постучал лабазник с мельницы в Дардэ, он вывихнул себе руку, когда грузил мешок с зерном.
– Ну, – проговорил путник, – что потом?
– А дальше ничего, не дождался наш лабазник ни ответа, ни привета, оно и понятно. Ночью врач бедняков вместе с дочкой, бросив дом, как в воду канули. Никто так и не узнал, что с ними сталось, да и родной брат Пьера, похоже, знал не больше других.
– Что дальше?
– Так вот, дальше прошло бог весть сколько времени – лет пятнадцать или шестнадцать, может, чуть больше, может, чуть меньше, а о нашем враче все ни слуху ни духу. Думали, уж не помер ли. Братец его никогда не поминал его имени.
– И что дальше? – снова повторил чужак, который, затаив дыхание, выслушивал все эти подробности, казавшиеся ему, впрочем, незначительными. – Дальше-то что?
– И вот наконец в прошлом году Пьер Прост объявился в наших краях.
– С дочерью?
Трактирщик покачал головой.
– Нет, мессир, – отвечал он, – был он один, то-то я и говорю, как мыкал он горе, так и мыкает. Эглантина, кажись, померла.
– Умерла!.. – глухим, изменившимся голосом проговорил путник, и лицо его сделалось и вовсе мертвенно-бледным. – Умерла!.. Но где?.. Как?..
– Бог его знает. Слух прошел. Люди добрые мне сказали, а они, сами понимаете, слыхали от других. Что до меня, я им верю, хоть и не так, как Евангелию, но не стану утверждать, что те, кто передали мне эту горькую весть, меня не обманули, потому как они и сами могли обмануться, слушая других.
Путник ничего не отвечал: казалось, он уже ничего не слышал.
Покуда досточтимый Жак Вернье произносил последние слова, молодой человек сидел, опершись локтями на стол и закрыв лицо руками, – если можно было бы проникнуть взглядом сквозь его сомкнутые пальцы, мы увидели бы две крупные слезы, застывшие на кончиках длинных ресниц, прикрывавших его синие глаза.
Трактирщик примолк, вопреки неуемной словоохотливости, свойственной его почтенной братии, встал из-за стола, заметив, что чужаку угодно помолчать, снял с крючка один из кобурных пистолетов, висевших по обе стороны от статуэтки святого Якова Компостельского, и присел на скамеечку под каминным колпаком. В свободные минуты он с удовольствием предавался чистке оружия с помощью горстки пепла и двух-трех капель машинного масла.
Так прошло с четверть часа.
Путник поднял голову.
Бледность так и не сошла с его лица, и под глазами появились темные круги.
– Добрый мой хозяин, – молвил он, – давайте, с вашего позволения, рассчитаемся, и я поеду дальше.
– Уже, мессир? Так ведь ваш конь вряд ли успел насытиться и дух перевести. Клянусь всеми чертями, негоже загонять такую добрую животину.
– Пора в путь… так надо.
– Трактир мой – не темница, мессир, ко мне приходят по своей воле и уходят так же. Да только я о коне вашем забочусь, черт возьми! Вот дам ему пить, оседлаю, взнуздаю – и да хранит вас Господь! В добрый путь! И да избавят вас святой Яков Компостельский и капитан Лакюзон от неугодных встреч! Разве что этим я и могу услужить, мессир.
– Ошибаетесь, добрый мой хозяин, вам под силу куда больше.
– Что же?
– Вы можете дать мне проводника.
– А куда вы путь держите, мессир?
– Мне нужно в Сен-Клод.
Жак Вернье в изумлении хлопнул в свои широкие ладоши.
– Помилуйте! – воскликнул он вслед за тем. – Неужто прямо в Сен-Клод?
– Да. Только что тут удивительного?
– А то, что живым вам туда никак не попасть. Вас прикончат, едва вы одолеете две трети пути. Такие вот дела.
– Прикончат, говорите? Кто же и за что? Растолкуйте.
– Запросто. Кто? Шведы или серые. За что? За ваш кошелек и коня, а еще за ваше платье.
– Но, – возразил путник, – я думал, военные действия временно приостановлены и оккупационные войска убрались восвояси, на зимние квартиры.
– Так бы оно и было, несомненно, если б не граф Гебриан, французский сеньор, продавшийся шведам. На прошлой неделе. На прошлой неделе он снова объявился в горах с большим отрядом и взялся за старое – опять начал чинить разбой, надругательство и пожары. У него в руках теперь вся округа, от Нозеруа до Сен-Клода, да и в самом Сен-Клоде он хозяйничает уже как два дня. Так что сами видите, мессир, раз вы не швед и не француз, стало быть, дела ваши плохи.
Молодой человек горько, чуть ли не в отчаянии всплеснул руками.
– Нигде мне не везет! – прошептал он.
Потом, уже громко, прибавил, будто говоря самому себе:
– Даже если мне живым туда не попасть, все едино. Чего, в конце концов, стоит моя жизнь и кто станет меня оплакивать? Да-да, кто? Добрый мой хозяин, – продолжал он, обращаясь к Жаку Вернье, – повторяю, я еду в Сен-Клод и мне нужен проводник.
– Право же, – вслух заметил тогда трактирщик, – честное слово, я умываю руки!.. Да где такое видано!.. Увы!.. Тут уж ничего не попишешь… Тот, кто умеет воспользоваться добрым советом, стоит двух. Но ежели он не внемлет совету, разве виноват тот, кто этот совет дает? К тому же полковник Варроз не советовал мне, как уберечь глупца от его глупости, хотя он и сам навряд ли знает как. Впрочем, как Богу будет угодно. Кто собирается с завязанными глазами сигануть с самой вершины Девичьей скалы, прекрасно знает, что живым ему не бывать. Каждый сам за себя в ответе, ей-богу! А за шведов с их сексен-веймарцем пусть отвечает сам дьявол!
Завершив свой нравоучительный, загадочный монолог, Жак Вернье наконец соблаговолил ответить на просьбу путника.
– Вы хотите проводника, мессир, но он вам без надобности, – сказал он.
– Вы забываете, я не знаю здешних краев.
– Без разницы. Езжайте по дороге, что ведет мимо моего трактира, все время прямо. Потом все в гору да с горы, в гору да с горы… так и доберетесь до Сен-Клода.
– Боюсь, как бы не наткнуться по дороге на помянутые вами напасти. Неужели нет ни одного объездного пути?
– Есть один – через Морбье, Орсьер долину Морез и Лонгшомуа.
– Ну и как?
– Только это едва проторенная тропа, в иных местах еле-еле проходимая во всякое время года, особливо для всадника, а зимой, когда она чуть проглядывает из-под снега, и подавно.
– Дорожные тяготы меня совсем не пугают. Я так считал и считаю: с волей и решимостью никакие физические преграды не страшны. Так что пожалуйте мне проводника, и я незамедлительно трогаюсь в путь.
– Ну хорошо, хорошо, мессир, – ответил трактирщик, – я исполню вашу просьбу, но, перед тем как свернете себе шею, не забудьте себе сказать: «Не повинен в этом добрый Жак Вернье, как только ни предостерегавший меня от напастей!» – и это будет чистая правда.
III. Затерянными тропами
Хотя намерение молодого путника показалось Вернье самой чудной и несуразной из всех глупостей, тем не менее хозяин вышел за порог своего трактира и отправился на поиски проводника.
Как только незнакомец остался один в кухне, которую мы описали и в которой ему так и не случилось отобедать, он перестал бороться с терзавшей его ужасной, мучительной тревогой; на его лице и в отчаянных жестах выражалось глубокое уныние, завладевшее его душой и помыслами.
– Умерла! – шептал он. – Умерла!.. Значит, я ее больше не увижу, дорогую мою, нежную голубку, мою возлюбленную Эглантину. А коли так… если, как они говорят, она оставила этот мир, зачем мне теперь жить и что я отныне буду делать на этой земле, без нее?
Потом, через мгновение, будто желая ободрить себя, он прибавил горячо и убежденно:
– Но нет, нет! Быть того не может! Эглантина жива. Я знаю, чувствую! Разве мои настоящее и будущее не связаны с ее жизнью неразрывными узами? Разве внутренний голос кричал мне: – Эглантина умрет!.. Разве кольнуло мне в сердце, когда она умерла? Разве в снах, ставших для меня неотступными видениями наяву, не видел я, что душа ее является мне, такая же прекрасная и чистая, как она сама, увенчанная первозданными цветами?.. Нет-нет! Не может быть. Эглантина жива. Скорее же в путь! Надо все узнать. Нужно повидаться с тем, кто только и может сказать мне правду. О, Лакюзон, Лакюзон, мой герой, нынче не тебе, а мне больше пристало называть себя радетелем!..
При столь причудливом повороте мысли наш путник улыбнулся: это показалось ему добрым знаком. Он подумал, что на душе у него было бы куда горше, будь Эглантина и правда мертва.
Тут в кухню вошел Жак Вернье.
За ним следовал деревенский мальчуган лет двенадцати-тринадцати, с бледным, худощавым лицом, обрамленным длинными, густыми и белесыми, как мочало, прядями. Чересчур длинный для своих лет и до смешного щуплый, мальчишка походил на те тощие деревца, которые при свежей вырубке местами оставляют – пусть себе живут, так сказать, для подроста. Ноги у него тоже были длинные и тонкие, – точно у цапли – как, впрочем, и руки, которыми он размахивал на ходу, будто мельничными крыльями. Однако лицо его выражало решимость, отвагу и рассудительность.
Платье на нем, совсем уж неподходящее для такой лютой стужи, состояло из драной курточки, прикрытой козлиной шкурой; его короткие штаны, сплошь в прорехах, были просто неприличны и производили то же впечатление, какое произвел бы мальчик из церковного хора, спой он за аналоем куплеты на стишки Грессе[15].
В руке «проводник» сжимал шерстяную шапку в белую, зеленую и красную полоску; его деревянные башмаки на босу ногу были набиты соломой.
– Мессир, – сказал трактирщик, – это Никола Паже, сынок дядюшки Паже, моего кума и достойнейшего христианина. Малыш совсем не глуп, много чего может, и будь он постарше года на четыре или пять, из него вышел бы славный кандидат в партизаны к Лакюзону. Говорю, как на духу. И за один экю он проведет вас верной дорогой. Так что доверьтесь ему, я за него отвечаю, а если Жак Вернье за кого отвечает, за его поверенным можно идти с закрытыми глазами, ей-ей! Вы лучше у полковника Варроза спросите!
– Я от всей души принимаю услуги вашего юного протеже, – ответил путник. – За такое симпатичное личико можно дать не один экю, а целых два.
– Никола, – воскликнул трактирщик, – скажи спасибо благородному сеньору и помоги мне взнуздать его коня!
Через пять минут, щедро расплатившись по счету, молодой незнакомец сел в седло.
Пока Жак Вернье желал ему удачи и доброго пути, Жанна-Антония, черноглазая служанка, стоя на пороге со скрещенными на пышной груди руками, пожирала глазами красавца всадника.
Тот же, мало-помалу отъезжая, расслышал, как трактирщик гневно вскричал:
– Ну, скажи на милость, негодница эдакая, неужели благородный сеньор тебе чем-то обязан, что ты стоишь тут и глазеешь на него, вместо того чтобы начищать посуду?
В ответ Жанна-Антония с нескрываемой насмешкой повторила свою любимую поговорку:
– А что такого, хозяин, даже собака имеет право смотреть на епископа. Ну а посуда ваша никуда не денется.
Определенно, Жак Вернье не был полноправным хозяином в собственном доме.
А что вы хотите от вдовца!
* * *
Неизвестный путник, к которому, надеюсь, – возможно, по ошибке – мои читатели начали испытывать некоторый интерес, не подгонял коня, чтобы его не утомлять, а может, чтобы попросту не обгонять Никола Паже, который, обрадовавшись возможности заработать пару экю, шел вперед, без устали размахивая своими длиннющими руками.
Была, наверное, половина третьего, когда всадник с проводником выбрались из Шампаньоля.
Небо, хмурое и мрачное, затянуло тяжелыми серыми тучами; по земле стелилась полупрозрачная дымка, изменявшая контуры предметов, но не скрывавшая их от взора совсем.
Земля промерзла, и конь, двигаясь по проселку, звенел копытами так, будто ступал по мостовой.
Мальчуган оглашал рождественский сельский воздух задорным посвистом.
Всадник был погружен в свои раздумья, которые открылись нашим читателям чуть раньше в его взволнованном монологе, так что нетрудно догадаться, какова была их природа и сколь извилисто было их русло.
Через два часа пути, проделанного в молчании, незнакомец и Никола Паже оказались у опушки довольно густого мелколесья. Дорога уже давно начала суживаться и в конце концов превратилась в тропинку, по которой с трудом могли бы пройти бок о бок два человека.
В этом месте и сама тропинка как будто обрывалась.
Мальчуган остановился.
– Ну, – спросил всадник, – что такое?
– Вам надо спешиться, мессир, мы подошли к Морбьерскому лесу, дальше вы сможете вести за собой коня только под уздцы, а идти будет трудно: тропка через лес совсем узкая.
Незнакомец в точности последовал указаниям проводника – и двинулся следом за ним к лесной тропинке.
Перед тем как войти в чащу, мальчуган набожно перекрестился.
– Почему ты крестишься? – полюбопытствовал его спутник.
– Потому что поговаривают, мессир, будто в Морбьерский лес приходят совокупляться оборотни со всей округи.
– Ты что, боишься оборотней?
– Нисколечко, мессир, потому как, знамо дело, они ничего не могут супротив человека безгрешного, творящего крестное знамение.
– А сам-то ты видел оборотней?
– Ни разу в жизни. Зато батюшка мой видал однажды, аккурат после того, как исповедался, – и проклятое отродье ничего ему не сделало.
Идти дальше становилось все труднее, и едва начавшийся разговор прервался. Переплетенные ветви заслоняли тропинку на каждому шагу. Господину с большим трудом удавалось их раздвигать, и все равно время от времени они нещадно хлестали его по лицу.
Надвигалась ночь. Довольно резкий и холодный ветер, разгулявшийся с наступлением сумерек, разогнал тучи, скопившиеся за день, и на прояснившемся небосводе, над самым горизонтом, показалась полная луна, большая и красная, как окровавленный щит.
Несмотря на все крепчавшую стужу, незнакомец, хотя ему пришлось сбросить с себя плащ и привязать его к седлу, чувствовал, как по его лицу, стекая со лба, ручьем льется пот.
– Слышь! – вдруг окликнул он проводника. – Это ж не дорога, а бог знает что. Здесь сам черт ногу сломит.
– Чего не скажешь о лесорубах да угольщиках, – ответил мальчуган. – Жители Шампаньоля, когда им нужно в Сен-Дени, идут в обход через Клерво. Но Жак Вернье сказал, что вам было угодно идти этой дорогой.
– Мы вперед-то хоть продвигаемся?
– Еще бы! Ежели не пятимся назад, значит, хоть сколько-то, а продвигаемся.
– А когда выберемся из леса?
– Через час или около того – может, чуть раньше, может, чуть позже.
– Скажи только, ты точно знаешь, что не заблудился?
– О, за это ручаюсь. В Морбьерском лесу я не заплутаю даже с закрытыми глазами. Я частенько хожу сюда по весне за дроздовыми яйцами.
– По крайней мере, – тихонько усмехнулся путник, – здесь мы уж точно никого не встретим – ни злодея, ни благодетеля, только это и утешает.
Паренек, однако, все слышал.
– Ах, мессир, – сказал он, – на Бога надейся, а сам не плошай. Везде хватает и таких людишек, и сяких, которым и скверные дороги нипочем, взять хотя бы серых Лепинассу-Прилипалы или коников капитана Лакюзона.
– А кто такие серые?
– Шайки из Бресса и Бюге, у них там заправляют двое – Лепинассу-Прилипала и Чернявый, и грабят они всех без разбору.
– А почему ты назвал сподвижников капитана Лакюзона кониками?
– Потому что их все так называют. Почем я знаю?
Мальчишке было неведомо то, что известно нам. Слово коник – уменьшительное от контиец, то есть франш-контиец.
Между тем незнакомец продолжал:
– Где же сейчас капитан Лакюзон?
– Да кто его знает.
– Как это? Неужели никто не знает, где его искать?
– Везде.
– Что это значит?
– Когда его ищут в Лон-ле-Сонье, он объявляется в Сен-Клоде… Утром его видят в Муарансе, а он в Шампаньоле, ну а к вечеру уже в Нозеруа. Я же говорю, капитан Лакюзон даже больше, чем человек, потому как найти его одновременно можно там, где есть шведы, серые, французы и прочие враги…
Мальчуган смолк.
«Да кто же он такой на самом деле, этот капитан? – задумался путник. – Что это за человек, который, будучи еще совсем молодым, окружил себя такой почти немыслимой славой и, подобно гомеровским богам, парит над землей в лучезарной дымке?..»
Вслед за тем господин, все такой же безмолвный и задумчивый, взялся дальше прокладывать себе путь сквозь непролазную чащобу.
И вот самая изнурительная часть путешествия закончилась.
Чаща раздалась и мелколесье сменилось высокими деревьями. Мало-помалу и те редели, сбиваясь вдали в отдельные купы.
Опустилась ночь, но в небе сияла луна – своим ярким синеватым светом она озаряла вершины уже близких гор – заснеженные пики Юрской гряды и самое плоскогорье, куда выбрался незнакомец со своим проводником.
На фоне освещенных лунным сиянием горных вершин темный провал лежавшего под их ногами ущелья казался еще более мрачным; но вскоре привыкший к темноте глаз уже мог различить стремительный водный поток, клубящийся белесым туманом вдоль излучин.
Склон – покруче островерхой кровли дома, – что спускался с плоскогорья в глубь ущелья, глядел на север и был сплошь завален снегом.
– Мессир, – молвил мальчуган, – здесь я вас оставлю.
– Что?! – вскричал в изумлении путник. – Ты меня бросаешь? Почему же?
– Потому, мессир, что там, впереди, Орсьер, а я ни за что на свете, ни за какие коврижки не пойду в Орсьер в полнолуние.
– А что такого страшного в твоем Орсьере?
– Там творится шабаш, – отвечал Никола Паже взволнованным, испуганным голосом.
Чужак улыбнулся.
Мальчуган этого не видел, но догадался.
– Мессир, – проговорил он, – такими вещами не шутят, особенно ночью. Иначе и беду недолго накликать!
– Но ведь мы условились, – продолжал чужак, – что ты ведешь меня до самого Сен-Клода и я плачу тебе два экю.
– Правда ваша, мессир, и уж коль я нарушаю свое обещание, вы вольны ничего мне не платить, я буду не в обиде.
– Тогда зачем ты обещал сопровождать меня, если собирался на полпути повернуть обратно?
– Я не думал, мессир, что мы задержимся в пути так долго, и совсем забыл, что нынче полнолуние.
– Да ну! И что теперь прикажешь мне делать, без проводника? Я не знаю этих мест и непременно заблужусь, а то и сверну себе шею, как напророчил Жак Вернье.
– Мессир, – возразил мальчуган, – тут вам нечего бояться. Дальше дорога простая, почти что тракт, и я вам буду без надобности. Здесь только одно опасное место – то, где мы сейчас стоим. Вся загвоздка в ужасном спуске, вашему коню такой, пожалуй, не одолеть, да и от меня помощи ни на грош… А спуститесь в долину Морез, что у нас под ногами, так, считайте, самое трудное позади.
– Но там же на дне ущелья река?
– Да, Бьен… Идите вдоль нее до тех пор, пока не наткнетесь на мельницу. Если прислушаться, и отсюда слыхать, как она скрипит крыльями.
– А дальше?
– За мельницей будет брод, аккурат напротив старой ивы, которая едва цепляется корнями за землю… в том месте и перейдете через речку – глубина там небольшая, от силы фут.
– Точно знаешь?
– Сам не раз переходил – мне воды там по колено. А когда переберетесь на другой берег, подниметесь на горный кряж и пойдете вдоль опушки ельника. Эта тропинка выведет вас к Лонгшомуа. А из Лонгшомуа в Сен-Клод ведет дорога. Только не забудьте, мессир, прочесть молитву, когда пойдете через Орсьер, вдоль общинных земель Жир, а завидите по левую руку яркий свет, так сразу же пускайте коня в галоп и скачите прочь без оглядки… этот свет и есть огонь шабаша.
– Давай сюда шапку, – велел путник.
– Вы что, решили все же заплатить мне два экю? – с простодушным удивлением спросил Никола Паже.
– Да. Вот, держи.
– Ах, мессир! – воскликнул мальчуган. – Я буду горячо молить Бога за вас.
– Ну что ж, – ответил молодой человек, уносясь мыслями к Эглантине, – попроси его избавить меня от самой горькой муки, какую только можно пережить… попроси, чтобы весть, которую мне сообщили сегодня, оказалась ложным слухом!
– Я попрошу его прямо сейчас… и завтра… и потом буду просить, мессир.
– Но где ты собираешься спать этой ночью? Ведь ты же не думаешь возвращаться в Шампаньоль?
– Я пойду в одно местечко, где местные прятались, когда сюда нагрянули шведы с французами, там полно соломы – хватит на целую постель.
– Где же это?
– В Эриссонских пещерах.
– Тогда ладно, доброй ночи, малыш, и удачи!
– А вам, мессир, доброго пути! И да хранит вас Бог!
С этими словами Никола Паже пошел прочь, размахивая своими длинными руками.
А незнакомец меж тем исследовал взглядом головокружительный спуск, который ему предстояло одолеть на пару с конем: склон казался тем более опасным, что был сплошь покрыт снегом.
Путешественник крепко обвил повод вокруг руки, которой придерживал благородное животное, и потянул его за собой. Однако конь, напуганный видом зиявшей перед ним мрачной бездны, долго упирался… потом наконец поддался и, раздувая от ужаса бока и ноздри, тронулся вниз.
Две трети спуска они одолели беспрепятственно, но на последней трети конь поскользнулся, попытался было устоять на насте, но не смог: передние ноги у него разъехались, потом подогнулись, и он стремительно покатился вниз, точно сани на русской горке, увлекая за собой хозяина, так и не выпустившего повода.
Они скатились на самое дно ущелья, и только благодаря случаю, а вернее, чуду, не пострадали – ни тот, ни другой.
Господин снова вскочил в седло с приятным, радостным чувством, впрочем, легко объяснимым, и направился прямиком к мельнице, собираясь дальше переправиться вброд через Бьен в том месте, которое указал ему Никола Паже, – напротив старой ивы.
Отыскав брод без особого труда, он был поражен тем, сколь точно мальчуган ему все описал: в том месте пенная стремнина едва доходила его коню до колен.
IV. Лепинассу, предводитель разбойников
Столь удачная переправа показалась нашему путнику добрым знаком, и он не колеблясь взобрался на другой берег реки, хоть и крутой, но вполне одолимый, который переходил в противоположный склон ущелья.
Примерно с час ехал всадник по горному кряжу и опушке ельника, пока не поднялся на вершину, откуда в бледном свете луны разглядел кровли домов маленькой деревушки, разбросанной по склону лежавшей перед ним широкой и глубокой лощины.
То была деревня Лонгшомуа. Чтобы попасть туда, незнакомцу оставалось только спуститься вниз, что он и сделал без особого труда, поскольку тропинка, хоть и едва различимая, была пологая и свободная.
Чуть впереди, при въезде в деревушку, у опушки ельника, располагался дом, как две капли воды похожий на тот, что мы описали в прологе нашей книги, с тем лишь отличием, что огороженный сад располагался не вокруг него, а за ним. Дверь и окна дома выходили, таким образом, на дорогу.
Неизвестный путник выехал из непроницаемой тени скрывавших его, вместе с конем, густых еловых ветвей и оказался на открытом, а стало быть, освещенном пространстве, как вдруг услыхал леденящий душу звук и резко осадил коня.
В этом звуке слились воедино и бряцание оружия, и невнятный шепот; время от времени его монотонность нарушали отчетливые возгласы и проклятия. Железный скрежет, шепоты и крики исходили как будто из того самого дома, расположенного шагах в сорока-пятидесяти. В обоих его окнах играли яркие блики.
В те времена, когда происходили описываемые нами исторические события, довольно было услышать и это, чтобы догадаться: в доме творится что-то ужасное, грозящее близкой смертью.
Всадник призадумался, не зная что делать, и решил было повернуть обратно, тем более что с его стороны было бы крайне безрассудно ввязываться очертя голову в опасный переплет, даже не представляя себе что к чему.
И он, конечно, повернул бы обратно, если бы не случилось то, что пригвоздило его к месту.
Высокий юноша, весьма изысканной наружности, чье лицо в лунном свете казалось прекрасным, мужественным и гордым, медленно и осторожно обойдя дом кругом, приблизился к одному из окон, откуда можно было заглянуть внутрь. Он застыл как вкопанный и стал прислушиваться, даже не подозревая, что за ним наблюдает наш незнакомец.
Через левую руку у него был переброшен плащ, а в правой он держал широкую серую фетровую шляпу с черным пером; он снял ее, чтобы лучше видеть и слышать. У юноши – поскольку он и впрямь был довольно молод – была красивая голова, которую вполне можно было бы сравнить с головой герцога д’Альбы[16], увековеченного кистью Тициана. Его густые черные волосы локонами ниспадали на плечи; шелковистые черные усы обрамляли рот с подвижными, резко очерченными губами, открывавшими иногда сверкающие зубы. Кожа у молодого человека была не бледная – скорее смугловатая, с теплым оттенком, как у испанца из Севильи или Гранады; на выпуклом лбу проступала крупная вена, пересекавшая его от левой брови до кромки волос. Глаза, очень большие и яркие, казалось, сверкали из глубины глазниц под сильно выступавшими надбровными дугами.
Мы уже упоминали об изысканной наружности новоявленного героя. Однако изящество отнюдь не исключало крепости. Стройная фигура юноши расширялась в груди и плечах – восхитительные пропорции говорили о заключенной в нем недюжинной силе.
На юноше были короткие, облегающие штаны черного сукна, прикрытые до середины бедер голенищами из мягкой кожи, они плотно обтягивали ноги, как бы подчеркивая их безупречную стройность, и спускались к башмакам на толстой кованой подошве. Камзол, такой же черный, как и штаны, был подпоясан кожаным ремнем, на котором висели короткий кинжал и длинноствольные пистолеты. Наконец, на черной кожаной портупее у юноши висела шпага, довольно длинная и тяжелая, с головкой эфеса в виде креста.
Понятно, что описанный нами герой стал свидетелем драматической сцены, дошедшей до своего апогея: на его взволнованном лице читались самые сильные, самые тягостные чувства.
Время от времени он вдруг натягивал шляпу обратно на голову, а руки его ложились на рукоятки пистолетов. При этом его насупленные брови сходились на лбу в форме зловещей подковы, как у героя «Редгонтлета»[17], а глаза вспыхивали мрачным огнем; но уже через мгновение он снова льнул к окну, лихорадочно, со все возрастающим вниманием прислушиваясь к происходящему по ту его сторону.
Между тем наш путник, притаившийся в тени елей, можно сказать, переживал те же самые чувства, что со всей полнотою отражались на замечательном лице черноволосого юноши, и даже проникся к нему внезапной, странной симпатией, объяснимой, впрочем, открытостью, отвагой и поистине рыцарской преданностью, запечатленными в его чертах.
Вдруг дом огласился ужасно пронзительным, дрожащим криком – криком предсмертной муки.
В тот же миг отблески света в окнах полыхнули необычайно ярко.
За зловещим криком последовала скорбная тишина. Но длилась она недолго.
Черноволосый юноша наконец решился.
Левой рукой он взялся за пистолет, а правой выхватил шпагу из ножен и, отступив на три-четыре шага назад, для большего разбега, ринулся в окно, рамы которого с треском сломались, а стекла разлетелись на множество осколков; в следующее мгновение он уже скрылся в доме.
Вслед за столь неожиданным вторжением тотчас послышался оглушительный гвалт, сопровождавшийся отборной бранью, яростными воплями, пистолетными выстрелами и свистом шпаги, безжалостно рассекавшей плоть и дробившей кости.
* * *
А произошло вот что.
За полчаса до случившегося, в первой из двух комнат дома, принадлежавшего, прямо скажем, Жан-Клоду Просту, или, если угодно, капитану Лакюзону, на табурете у камелька, затопленного кореньями, сидел человек лет сорока, маленький и на редкость уродливый, медленно перебиравший четки длинными, узловатыми пальцами.
Этот человек, болезненного вида крестьянин, не способный ни к какому труду, нашел приют и хлеб по милости Лакюзона, проникшегося к нему полным доверием и вверившего его попечению свой дом, где сам он бывал крайне редко.
Человека этого звали Бродягой.
Конечно, бесконечные десятки бусин четок, которые он благоговейно перебирал пальцами, производили на Бродягу усыпляющее действие, ибо веки его мало-помалу налились тяжестью, глаза закрылись, голова, клонившаяся то на одно плечо, то на другое, в конце концов упала на грудь, а четки в это же самое время выскользнули из рук. Он засыпал.
Однако сильный стук в дверь внезапно вырвал его из сладостных объятий дремы.
– Кто там еще? – неуверенно спросил он и, поднявшись с табурета, направился к двери.
– Друг, – отвечали снаружи. – Октройте!
– У друзей есть имена, – возразил он. – Назовитесь, тогда открою.
– Вы меня не знаете, – отозвался снаружи голос, – я от капитана…
– Моего хозяина?
– Да.
– Тогда скажите пароль.
– Капитан называл его, да только я позабыл.
– Тем хуже для вас, я вам не открою, и ступайте своей дорогой.
– Говорю, мне нужно войти, тем более что капитан Лакюзон в опасности и я прибыл от его имени.
Столь решительный ответ поколебал решимость Бродяги.
Однако, прежде чем отворить дверь, он снял ее со старенького крючка, прибитого к стене парой гвоздей.
– Предупреждаю, – сказал он, берясь за щеколду изнутри, – предупреждаю, я вооружен. И ежели вы меня обманули, ежели пришли не от хозяина, вам несдобровать.
– Хорошо… хорошо, – последовал ответ, – договорились. Открывайте же скорей!
Лязгнула щеколда – и дверь отворилась.
В следующий миг в дом с невероятной стремительностью ворвалось человек восемь разбойничьей наружности, вооруженных до зубов и, на манер бретонских крестьян, облаченных в козьи шкуры поверх камзолов серого сукна.
Трое из них набросились на Бродягу, и уже через полминуты бедолага был разоружен, а руки его были скручены за спиной.
– Серые!.. – понуро проговорил он. – Пресвятая Дева Мария, это ж серые!
– Слово-то какое, старый плут! – отвечал человек громадного роста, настоящий Геркулес, видимо, главный над остальными.
Лицо у него было безобразным. Правую щеку, от уголка глаза, до нижней челюсти рассекал шрам, казавшийся глубокой фиолетовой складкой. Саблей же у него была отсечена и часть верхней губы, за которой проглядывали редкие острые зубы, как у хищного зверя.
Две страшные раны, полученные в прошлых стычках, служили своего рода характерной приметой этого человека, и даже дети по всей провинции знали, у кого такое лицо – со шрамом на щеке и изуродованной губой.
Потому-то Бродяга, глянув на говорившего, выкрикнул, а вернее, с хрипом выдавил одно единственное слово: «Лепинассу!»
То был и впрямь грозный Лепинассу – чудовище, у которого даже не было человеческого лица; это он на пару с другим разбойником – Чернявым – командовал шайками наймитов из Бресса и Бюге.
Услыхав, как Бродяга произнес его имя, Лепинассу изобразил жуткую ухмылку, горделивую и самодовольную, при этом его уродливая, рваная губа поднялась вверх.
– Ха-ха! – оскалился он. – Никак, признал меня… что ж, отлично… это облегчает дело, и я тому рад, тем более что время не терпит.
И, обращаясь к своей братии, он со зловещей усмешкой прибавил:
– Эй, вы там, затворите-ка дверь, или не видите, что мне нужно поболтать с этим славным малым?
Серые повиновались.
Лепинассу подсел к камельку, расположившись на том самом табурете, с которого только что поднялся Бродяга.
Он бросил шляпу со вздернутыми полями на длинный стол, стоявший посреди комнаты и, проведя рукой по своей пышной седеющей шевелюре, сказал крестьянину:
– Подойди-ка!
Но Бродяга не мог и шагу ступить: горемыка стучал зубами, ноги у него подкашивались – от страха он был ни жив ни мертв.
Тогда двое бандитов подхватили его под руки и грубо подтолкнули к Лепинассу.
Бродяга пошатнулся, точно пьяный, и, не устояв, повалился на колени.
– Лучшего положения перед тем, как отдать душу дьяволу, не придумаешь! – воскликнул великан. – А именно это и ждет тебя, если не будешь быстро и четко отвечать на вопросы, которые я собираюсь тебе задать.
– Мне ничего не ведомо, – удрученно проговорил крестьянин. – Можете не спрашивать, я навряд ли вам что скажу.
– Ах, выходит, ты ничего не знаешь!
– Нет, головой клянусь.
– Голова твоя сейчас мало чего стоит, да и клятва тебе едва ли что даст. Как звать-то тебя?
– Бродяга.
– Что ж, Бродяга, предупреждаю тебя, если ты и дальше будешь тянуть с ответами на мои вопросы, у меня найдется верный способ освежить тебе память. А чтобы ты скорей вспомнил все, что мне нужно, мои люди перешибут тебе шпагами хребет, так, что горб твой врастет обратно в спину. А потом, когда я возьму нож, чтобы перерезать тебе глотку от уха до уха, уж будь уверен, язык у тебя развяжется сам собой.
Бродяга понуро огляделся кругом и повторил:
– Ничего я не знаю…
– Сейчас поглядим. Здесь есть тайник с деньгами. Где же он?
– Деньги… да откуда же им тут взяться? В доме пусто, хоть шаром покати… хозяин-то мой бедней церковной мыши.
– Зато местные дворяне богаты и ссужают его деньгами на борьбу с нами, уж мы-то знаем. Так где же эти денежки?
– Не знаю.
– Ах, не знаешь, тогда я сейчас тебе помогу вспомнить. Другой вопрос: где Лакюзон?
– Не знаю.
– А Варроз?
– Не знаю.
– А Маркиз?
– Не знаю.
– Стало быть, – заметил Лепинассу добродушным голосом, похожим на ласковое мурлыканье тигра, – ты и впрямь ничегошеньки не знаешь?
– Да ничего… ничего я не знаю!
– Неужели?
– О да… да, верно говорю. Клянусь Девой Марией, ничего я не знаю!
Лепинассу подал знак.
Один из его подручных, с обнаженной шпагой в руке, подошел к Бродяге и сунул острие клинка ему за ворот, между плеч, отчего крестьянин хрипло вскрикнул.
– Вы только поглядите… – угрожающе усмехнулся Лепинассу, – поглядите на этого взбесившегося пса! С него еще шкуру не успели содрать, а он уже воем воет!
В самом деле, шпага разбойника всего лишь распорола Бродяге камзол – от ворота до пояса, но, почувствовав леденящее прикосновение стали, бедолага решил, что ему распороли кожу.
– Посмотрим, что этот старый бирюк запоет совсем скоро, – продолжал Лепинассу.
Из-под распоротой пополам одежды, сползшей на пол с левого и правого плеча Бродяги, показались тщедушные плечи крестьянина и выступающий между ними горб.
При виде такой картины серых охватил приступ неподдельной радости – они тут же принялись обмениваться веселыми шутками.
– Ей-богу, – проговорил вожак, присоединяясь к общему веселью, – вот так урод! Это ж сущее милосердие – выпрямить такой хребет, кривой, как виноградная лоза. Так сделайте же столь благое дело, братцы! На том свете сие вам, как пить дать, зачтется.
Едкая шутка предводителя возымела бешеный успех у серых, и впрямь больших охотников до всяких остроумных выходок.
Обнажив шпаги, они обступили полукругом Бродягу и стали ждать сигнала вожака.
– Полагаю, наш простофиля, – заметил он крестьянину, – не преминет нас предупредить, когда к нему вернется память.
И, обращаясь уже к подручным, продолжал:
– Ну же, братцы, не подкачайте!
Тут одна шпага вскинулась и опустилась… потом другая, за нею третья – и так до тех пор, пока все семь клинков поочередно не обрушились плашмя на смуглую, точно пергамент, кожу несчастного; дальше все повторилось сызнова…
Вскоре каждая шпага оставляла по синеватому рубцу на коже… вскоре каждый клинок, отрываясь от плоти, взмывал вверх с ошметком кожи.
Бродяга сдавленно кричал, извиваясь змеей, будучи не в силах подняться с колен.
А Лепинассу меж тем все твердил:
– Так где же деньги? Где Лакюзон? Варроз? Маркиз?
Бродяга сквозь стоны отвечал одно и то же:
– Почем я знаю…
Тогда Лепинассу, снова обращаясь к серым, говорил:
– Давайте, братцы, валяйте дальше! Сами видите, горбище у него как торчал, так и торчит, а памяти как не было, так и нет.
И шпаги опять то вскидывались, то опускались с дьявольской методичностью и ужасающей скоростью.
Через мгновение сухие, свистящие удары, с каким шпаги мучителей обрушивались на спину жертвы, сменились другим звуком: теперь казалось, будто клинки хлестали по жиже, и после каждого удара она взрывалась красными брызгами, так, что серые, без устали лупившие по багровому месиву то левой рукой, то правой, едва успевали смахивать капли крови со своих лиц.
Бродяга уже не кричал. Члены его свело судорогой. Глаза дико завращались в глазницах. И он ничком рухнул на пол.
V. О черноволосом юноше и белокуром молодом человеке, а также о правосудии капитана Лакюзона
– Черт возьми! Вот дьявол! – проговорил Лепинассу. – Не дай бог, он издох – это не входит в мои планы.
Но мгновение подумав, он прибавил:
– Да брось! Разве от такой малости подыхают? Наш плут, похоже, в обмороке, а может, притворяется… сейчас мы приведем его в чувство.
Следующий жест вожака объяснил его подручным точный смысл только что сказанных им слов. Главарь шайки указал на оцепенелое тело Бродяги и потом на стол, где лежала шляпа Лепинассу с тонким золотым галуном, служившим знаком начальнического отличия.
Серые подхватили несчастного, бесчувственного крестьянина, уложили его на стол и накрепко привязали веревками, коих у одного из них – того, который состоял при Лепинассу в той же должности, что Труазешель и Птит-Андре[18] при добром Людовике XI, было в избытке.
Бродяга все еще не пришле в себя.
– Ну же, – воскликнул Лепинассу, поднимаясь с табурета, с которого он не вставал во время всей предшествующей ужасной сцены, – ну же, пора бы дать нашему бедолаге нюхательной соли!
Та же ухмылка, вернее, тот же мерзкий оскал, о котором мы уже упоминали, как бы подкрепил его слова, придав им еще больше устрашающей убедительности.
Лепинассу извлек из-за пояса длинный каталонский нож и, подойдя к крестьянину, принялся чертить острием у него на груди причудливые знаки, стараясь, чтобы лезвие не слишком глубоко царапало кожу[19].
Потекла кровь. Серые наблюдали за происходящим; они стучали ногами и хлопали в ладоши.
Тут острие ножа наткнулось на мышцу. Боль, понятно, была невыносимой, потому что Бродяга тотчас открыл глаза, как будто к мертвому телу поднесли Вольтов столб[20], и из его кровоточащей груди вырвался глухой стон.
– Ну вот, – заметил Лепинассу, – вот мы и проснулись, милейший. И чувствуем себя живее всех живых, и много лучше, чем когда бы то ни было, не правда ли? Ну так что, к нам вернулась память? Вспомнили, где деньги? Вспомнили, где Лакюзон? И Варроз! И Маркиз! Тогда давайте наконец расскажем все доброму нашему другу Лепинассу.
Губы у крестьянина зашевелились, но не издали ни звука.
Однако ж и по движению его губ мучитель догадался, что Бродяге всего лишь не хватило сил произнести в очередной раз: «Не знаю…»
Лепинассу заскрежетал зубами: им овладела неописуемая ярость.
– Ах, ты ничего не знаешь, – повторил он, – ах, ничегошеньки не ведаешь!
И лезвие ножа впилось на пару дюймов в правую руку несчастного, издавшего истошный вопль.
– А теперь знаешь? – вопросил Лепинассу.
– Нет, нет, нет! – в отчаянии вскричал Бродяга. – Ничего я не знаю, ничего не ведаю!
Лепинассу проткнул ему левую руку так же, как перед тем правую, и снова спросил:
– Ну, теперь-то знаешь?
И снова Бродяга отвечал:
– Не знаю я ничего!
Рассеченное шрамом, безобразное, похожее на маску лицо Лепинассу сделалось мертвенно-бледным; клокотавшая внутри подлого мучителя ярость достигла предела.
Согнутые волосатые пальцы его крепкой руки приблизились к горлу крестьянина, чтобы, как видно, задушить несчастного, но Бродяге перед смертью надо было развязать язык.
И Лепинассу опустил руку.
– Здесь где-то должны быть вязанки хвороста, – сказал он своим подручным. – Найдите и принесите сюда.
Двое серых, достав из очага горящую головешку – вместо факела, отправились шарить по всему дому.
– Разуйте-ка его! – прибавил вожак, указывая на Бродягу, у которого ноги свисали с края стола.
Исполнить его волю не составило труда: на ногах у крестьянина были только грубошерстные чулки да громоздкие деревянные башмаки.
Тут вернулись двое подручных с огромной охапкой сухого терновника, который они нашли в подвале. Даже не спросясь, что делать с этой охапкой, поскольку подобного рода пытки уже давно вошли у них в привычку, они свалили все на пол, под ноги Бродяге.
Лепинассу, сунув обратно за пояс окровавленный нож, которым он только что орудовал, выхватил из руки подручного горящую головешку и сказал крестьянину:
– Последний раз спрашиваю – слушай и отвечай! Где деньги? Где твой хозяин? Где полковник Варроз? И где преподобный Маркиз?
Склонясь над окровавленным телом Бродяги, готового вот-вот испустить последний вздох, он жадно прислушался.
Крестьянин закрыл глаза и молчал.
Лепинассу выждал какое-то время, потом, не говоря ни слова, наклонился ниже и поднес горящую головешку к охапке сушеного терновника – тот вспыхнул, как солома.
Еще через мгновение сверкающее пламя охватило Бродяге ноги.
И тогда несчастный пронзительно завопил не своим голосом: то был жуткий, душераздирающий предсмертный крик, который мы описали раньше.
Бедняга попытался вырваться с такой силой, что разорвал почти все веревки, которыми был связан, и, не переставая брыкаться, пролепетал:
– Потушите огонь… потушите, я все скажу.
Одним ударом ноги Лепинассу разметал кучу горящего терновника по полу.
Бродяга же слабеющим с каждым словом голосом продолжал:
– Что до денег и Лакюзона, знать не знаю… а Варроз с Маркизом…
Договорить он не успел.
В следующий миг оконная рама разлетелась вдребезги вместе со стеклом и черноволосый юноша, с пистолетом в одной руке и шпагой в другой, быстрее молнии обрушился на серых, остолбеневших от ужаса и недоумения.
Одного разбойника он уложил с первого же выстрела, а другого пригвоздил к краю стола шпагой, сверкавшей в его руке, как карающий меч архангела Рафаила; вслед за тем, выдернув окровавленную шпагу из пронзенной груди врага, он принялся молниеносно крушить бандитов налево и направо, оградив руку со шпагой подвижной непроницаемой стальной преградой, озарявшейся время от времени смертоносными вспышками.
Кто-то из серых попытался было распластаться на полу, притворившись раненым, чтобы потом ползком подобраться к неприступному таинственному обидчику и нанести ему коварный удар снизу. Но юноша разгадал уловку, и в тот миг, когда разбойник оказался шагах в трех от него, он размозжил преступнику голову рукояткой другого пистолета.
Теперь перед храбрым юношей осталось только пятеро противников, но среди них был великан Лепинассу, стоивший троих головорезов, по крайней мере по силе.
Незнакомец прислонился спиной к разверзшемуся оконному проему, чтобы не быть неожиданно атакованным сзади; к тому же таким образом он отрезал разбойникам путь к отступлению, ибо, как мы знаем, они заперли дверь изнутри на засов и в сумятице схватки даже не помышляли ее открыть, а если бы даже и вспомнили про нее, все равно им было к ней не подступиться, потому что на пути у них возникла разящая шпага юноши, чертившая в воздухе сверкающие круги.
Одному из серых все же удалось прорваться сквозь эту преграду, но он тут же упал и больше не поднялся.
Трое других опешили. А Лепинассу – напротив: к нему вернулось хладнокровие, и он трезво оценивал события.
– Он один, – воскликнул главарь разбойников, – а нас четверо. Прикончим же его как собаку. Смерть ему! Смерть!
И он выстрелил одновременно из двух пистолетов… Но руки у него дрожали – в незнакомца он не попал.
– Мерзавец! – крикнул ему юноша. – Да я тебя знаю. Ты Лепинассу. Ты свиреп, как волк, и труслив, как заяц. Ты привык убивать из-за угла. Так иди же ко мне. Давай сразимся один на один. Иди же! И если в твоей волосатой груди есть сердце, покажи его!
Но Лепинассу так и не двинулся с места, тогда молодой человек сам кинулся на него. Разбойник не отступил, он, не дрогнув, выдержал удар грозного врага.
И вот уже они вдвоем схлестнулись чуть ли не в рукопашной, пусть один и превосходил другого на целую голову. Хотя незнакомец тоже был роста немаленького, Лепинассу, как мы знаем, был настоящим великаном. Незнакомец наседал так яростно и стремительно, что не передать словами. Острие его шпаги, точно вспышка молнии, сверкало то у груди, то у лица великана, и единственное, что тому оставалось, так это отбиваться тяжелой рапирой от все учащавшихся ударов противника, которые и правда чередовались с молниеносной быстротой, как всполохи в грозовом небе.
Для Лепинассу все кончилось бы плохо, останься он с противником один на один, ибо, вынужденный защищаться, он рано или поздно пропустил бы стремительный выпад, и тот поразил бы его в самое сердце.
Смекнув что к чему, громила снова крикнул своим подручным, которых осталось трое:
– Ну же, прохвосты вы эдакие, скорей на помощь! Видите, он совсем один. Атакуйте его сзади!
При этих словах серые воспряли духом и дружно ринулись на общего врага – но не как люди, а как рассвирепевшие волки.
Поединок становился неравным. Оградившись «железным кругом», парируя удары одновременно четырех клинков, юноша продолжал сражаться, но с отчаянием чувствовал, что уступает. «Ах, – сказал он себе, – вот-вот зазвучит по мне погребальный колокол. Смерть уже близка… Но, по крайней мере, я упокоюсь в могиле, обагренной кровью».
И вот из последних сил он нанес страшный удар, какие щедро раздавали герои средневековых рыцарских романов, и один из разбойников рухнул к его ногам с разрубленной пополам головой.
Лепинассу и двое других попятились. Впрочем, передышка длилась недолго. Вскоре трое разбойников заметили, что силы у незнакомца на исходе, они видели, что его шатает из стороны в сторону и шпага его все больше разит пустоту – беспорядочно и как будто судорожно.
И с торжествующими криками они снова перешли в наступление.
Юноша вверил свою душу Господу и приготовился к смерти.
Но вместо смерти к нему пришло избавление.
Снаружи вдруг послышался окрик:
– Держись! Я здесь!..
В открытый оконный проем ворвался какой-то человек – он выстрелил одновременно из двух пистолетов и сразил наповал одного из серых, потом выхватил шпагу и, встав бок о бок с юношей, бросил Лепинассу:
– Теперь нас двое против двоих. Иди же сюда, если посмеешь!
Но Лепинассу не посмел.
Окно теперь оставалось незащищенным и открывало единственный путь к бегству. Лепинассу воспользовался этим – выскочил наружу и скрылся во мраке; за ним последовал и единственный уцелевший его подручный.
В низенькой комнате остались лежать шесть трупов. Пол был сплошь залит кровью, как на скотобойне. Бродяга, скорчившийся на столе, истерзанный, казалось, испустил дух.
Жуткая сцена резни, при которой мы присутствовали вместе с нашими читателями, длилась много короче, чем мы ее описывали. Всего лишь несколько минут понадобилось, чтобы превратить столько живых людей в бездыханных мертвецов.
Нам думается, вряд ли нужно уточнять, что новоявленный гость, пришедший как нельзя более кстати на выручку черноволосому юноше, был не кто иной, как путник, с которым мы успели познакомиться в трактире Жака Вернье и потом сопровождали его по затерянным тропам из Шампаньоля до Лонгшомуа.
Тот, которого он вырвал из лап смерти, протянул ему руку и с восхитительным простодушием сказал:
– Кто бы вы ни были, француз или франш-контиец, испанец или швед, капитан Лакюзон отныне ваш до гробовой доски!
– Лакюзон?! – изумился наш путник. – Так вы и есть Лакюзон?
– Да, мессир.
– Кто бы сомневался, – продолжал незнакомец, обводя взглядом трупы, – чей еще клинок, кроме шпаги Лакюзона, способен на такое.
Вслед за тем он прибавил:
– Ах, капитан, должно быть, меня свела с вами моя счастливая звезда…
Лакюзон, рассмеявшись, его прервал:
– Ваша счастливая звезда! – повторил он. – А как быть с моей?.. Впрочем, полагаю, мессир, что наши звезды – сестры-близнецы, поскольку, не приди вы мне на выручку, моя звезда этой ночью закатилась бы несомненно. Но я прервал вас, прошу прощения. Вы как будто рады нашей встрече. Могу спросить почему?
– У меня к вам дело, капитан.
– Ко мне? – с некоторым удивлением воскликнул Лакюзон.
– Я собирался в Сен-Клоде, надеясь только там вас и найти или, по крайней мере, придумать способ снестись с вами.
– Что ж, мессир, я перед вами, и, думаю, не стоит повторять, что я всецело ваш и весь к вашим услугам.
– То, что я собираюсь вам рассказать, капитан, займет немало времени, а место, где мы находимся…
– Вы считаете его злополучным, не так ли? Ох уж мне эта скверная, гнусная война – вот вам ее результаты! Мы покинем этот дом, хоть он и мой, но прежде мне нужно исполнить страшный долг. Советую вам выйти первым, мессир, ибо я намерен свершить правосудие, а оно может показаться вам ужасным. Ступайте же, прошу.
– Зачем, капитан? Любое ваше действие может удивить меня, но осудить его я не посмею никогда…
– Будь по-вашему, мессир, в таком случае оставайтесь – будьте свидетелем тому, что сейчас здесь произойдет. И помните, я затеял великое дело и иду к святой цели… помните, измена, и только она, способна подорвать это дело и отвратить меня от намеченной цели. И где бы я ни сталкивался с нею, я давлю ее своею кованой пятой решительно и безжалостно… Оставайтесь же, мессир, и не удивляйтесь, когда увидите меня в обличье обрекающего судьи и разящего палача. Мы живем в такое время и в такой стране, где расправа чинится без суда и следствия, и человеческая жизнь – всего лишь маленькая гирька на весах, мерящих судьбы целой провинции.
Эти слова и торжественность, с какой они были произнесены, показались путнику чрезвычайно любопытными. Какой измены страшился капитан? Какое ужасное правосудие он имел в виду? Какой еще драме должно было послужить сценой это залитое кровью жилище?..
Ответ на эти вопросы не заставил себя долго ждать.
Лакюзон подошел к столу, на котором лежало недвижное, а может, уже бездыханное тело несчастного крестьянина, замученного серыми, подручными Лепинассу. Капитан одним махом рассек наполовину разорванные путы, удерживавшие тело, и, чуть коснувшись его острием шпаги, промолвил:
– Если ты мертв, тем лучше, а если жив – встань!
Заслышав знакомый голос, голос хозяина, Бродяга как будто начал приходить в себя.
Он слегка пошевелился, сомкнутые веки его приподнялись – и он признал Лакюзона.
Но вместо радости, которая, по всей видимости, должна была отобразиться на лице бедняги при виде того, кто избавил его от мучителей, черты его исказились от неописуемого ужаса.
В отчаянном усилии он приподнялся, сполз со стола, оказавшегося для него станком пыток, и пал на колени перед Лакюзоном, сложив руки в мольбе и шепча:
– Пощадите, хозяин! Во имя Спасителя рода человеческого, во имя всемилостивой пресвятой Девы Марии, простите! Я такого понатерпелся…
– Понатерпелся… и предал! – медленно, низким голосом ответил Лакюзон. – А измене нет прощения!
– О, хозяин, если б вы только знали…
– Ладно, скажи все, что ты хочешь мне сказать. Я твой судья и как судья обязан выслушать твое оправдание… если ты в силах оправдаться.
– Я держался, как только мог.
– А надо было до конца.
– Они кромсали мне шпагами плечи… но я ничего не сказал.
– Таков твой долг.
– Они протыкали мне кинжалами руки… и я снова ничего им не сказал.
– И это твой долг.
– Они исполосовали мне ножами всю грудь… и не услышали от меня ни слова.
– И все это твой долг.
– Они запалили костер у меня под ногами, – пролепетал Бродяга, – только тогда…
Он не договорил.
– И тогда, – закончил за него капитан, – у тебя развязался язык.
– Мне изменили силы, хозяин, я так намучился…
– А как же первохристиане? Ведь их обливали кипящей смолой и дегтем, обращали в живые факелы. Разве первохристиане страдали меньше твоего? – отвечал Лакюзон. – И, однако ж, они не отреклись от своего Бога, не изменили вере своей… Думаешь, жаркое пламя костра могло бы развязать мне язык? Думаешь, это принудило бы меня к измене?
– Нет, хозяин… о нет! Но вы же сильны… отважны, а я…
– Слаб и труслив, – закончил за него Лакюзон. – Ты это хочешь сказать, верно?
Бродяга опустил голову на исполосованную грудь.
– Я старый и дряхлый, – проговорил он совсем упавшим голосом.
– И это служит тебе оправданием? – громко воскликнул капитан. – Да ты сейчас наговариваешь на себя похлеще злейшего своего врага… Старый и дряхлый, говоришь? Стало быть, ради спасения своей жалкой душонки, ради короткого продления жизни в своем хилом, уродливом теле – и только ради этого ты собирался выдать Лепинассу и его приспешникам-разбойникам благороднейших людей, главных защитников нашего святого дела! Значит, не подоспей я вовремя… опоздай хоть на час, на полчаса, на несколько минут, и полковнику Варрозу вместе с преподобным Маркизом пришел бы конец, и все по твоей милости, ибо выдать сейчас их убежище означает их погубить… толкнуть на кинжал убийцы, на плаху. Вот что бы ты натворил, не окажись я рядом. Вот преступление, в котором я тебя обвиняю, ибо обличил тебя в том самолично. Ну, что ты на это скажешь?
Бродяга повалился Лакюзону в ноги, что-то невнятно, прерывисто бормоча, – единственное, что можно было все же разобрать из его невнятной речи, так это слово «пощада». Ужас и отчаяние лишили его рассудка.
– Ты предатель! – после короткого молчания продолжал Лакюзон. Тебя осудили и приговорили, и ты умрешь.
– Нет, нет, нет! – вскричал Бродяга, которого от этих слов, произнесенных ледяным тоном, на мгновение бросило в необоримую дрожь. – Я не хочу… не хочу умирать!
Он вскинулся с места и было рванул к двери, как будто собираясь дать деру. Но ослабшие ноги изменили ему – он упал и, в мольбе простирая руки к хозяину, забормотал сквозь слезы:
– Пощадите, пощадите!
– Ты умрешь, – повторил капитан, – так что вверь свою душу Богу.
С этими словами он слегка наклонился, выхватил из-за пояса у одного из убитых разбойников пистолет и разрядил его Бродяге в голову.
Благородный незнакомец вскричал от ужаса и тут же отвернулся.
Лакюзон приблизился к нему.
– Я предупреждал, – заметил он, – это страшно, но необходимо. Случись измене проникнуть в наши ряды, и борьба за Франш-Конте, считай, проиграна. Завтра сюда придут наши люди и предадут все тела земле, а я их предупрежу, что среди убитых они найдут и тело Бродяги, поплатившегося за измену от моей руки… А теперь, мессир, идемте прочь из этой комнаты: мне, как и вам, не терпится покинуть кровавую бойню. На дворе, думаю, ничто не помешает вам поведать мне, что за причины заставили вас отправиться на мои поиски в Сен-Клод.
– Разумеется, уже ничто не помешает, капитан, – ответил незнакомец.
И они вдвоем покинули мрачное жилище.
VI. Рауль
– Где же ваш конь? – осведомился Лакюзон.
– Я привязал его к дереву, – ответил путник. – А вы что же, капитан, пешком?
– Нет, мою лошадь не нужно привязывать. Вот, глядите.
Лакюзон поднес два пальца к губам и негромко, протяжно свистнул.
В ответ тотчас послышался быстрый топот – и вскоре кобыла дивной берберийской масти забила копытом подле своего хозяина.
– Какая восхитительная лошадка! – воскликнул незнакомец.
– Это подарок Карла Лотарингского, – сказал капитан, запуская руку в длинную шелковистую гриву кобылы. – Она признает меня и любит, откликается на мой зов и подчиняется только мне. Непроходимые горные тропы одолевает так же уверенно и твердо, как будто идет по большой дороге, широкой и гладкой, как зеркало. Благодаря своей прыти она дважды или трижды спасала мне жизнь – прорывалась сквозь засады, откуда в нас градом летели пули, и я всякий раз оставался цел и невредим… Наконец, она мне больше, чем лошадь: она мне подруга.
Путнику захотелось приласкать кобылу, последовав примеру капитана, но лошадь молниеносно вскинулась на дыбы, не успел незнакомец коснуться рукой ее гибкой, прямой шеи; ноздри у нее вздулись, и она грозно, со злостью заржала.
– Осторожней! – живо бросил Лакюзон. – Со мной-то она ангел, а для чужаков сущий дьявол. Если мы пробудем вместе какое-то время, она к вам привыкнет, и тогда можете подходить к ней без всякой опаски. А пока ступайте за своим конем, мессир, – пора в путь, время не терпит… А меня ждут – надобно поспешать.
Они вдвоем вскочили в седла.
И некоторое время молча ехали бок о бок.
Незнакомец невольно попал под обаяние, исходившее от этого молодого красавца капитана, которому можно было дать от силы года двадцать два, – обаяние величайшей народной славы, какую он снискал себе среди горцев, прослыв рыцарем-героем священной войны!.. И вот он здесь, рядом, простой и скромный, увенчанный сияющим ореолом почета, которого сам он как будто не замечал, при том что, однако, каждый камень, каждая ложбина, каждый дом в провинции слышали имя этого человека! Раз двадцать союзные войска Франции и Швеции бежали под натиском партизанских отрядов под водительством этого героического военачальника, который первым бросался в атаку и отступал последним. Против необоримой отваги и неустанного упорства этого человека был совершенно бессилен и великий кардинал. Верный делу Испании, служившей для него оплотом свободы, Лакюзон отстаивал каждую пядь своей земли, каждую гору, каждую скалу. Ничто не могло выбить его из седла, обескуражить, сразить! Только он один олицетворял собой древний дух независимости, распалявший кровь целого народа. Лакюзон служил живым и гордым воплощением исконной свободы, знаменем которой он увенчал заснеженные вершины родных гор…
Чем больше незнакомец размышлял над всем этим, тем менее значительным казалось ему его собственное благородство. И стоит ли здесь говорить, что кичливая гордыня почти всегда принижает того, кто ей подвластен. А если тому нужны примеры и имена, то этих примеров и имен у меня не счесть.
Между тем капитан первым нарушил молчание.
– Мессир, – сказал он, – простите, если я нарушил ход глубоких мыслей, поглотивших вас целиком. Но вы предупреждали, что хотите со мной о многом поговорить, а мы скоро будем в краях, где надобно хранить молчание, ибо там за каждой скалой, за каждым кустом, за каждой елью может затаиться враг, а стало быть – опасность. Здесь, конечно, тоже небезопасно, но риск, однако, не столь уж велик. Говорите же, мессир, я готов вас выслушать: человек, спасший мне жизнь, может всецело на меня положиться, если у него есть ко мне просьба, которую я в силах исполнить.
– Капитан, – ответил незнакомец с волнением, отчего голос его дрожал, – положение мое непростое, даже крайне затруднительное. Я должен задать вам один вопрос и открыть кое-какую тайну. Я ни о чем не собираюсь вас просить, а хочу лишь сообщить нечто очень важное, и не только для меня, но и для дела, которому вы служите и которому я тоже хотел бы послужить… но мне недостает смелости, а ждать я больше не в силах. Впрочем, от вашего ответа будет зависеть мое решение, что делать, равно как и мое будущее.
Незнакомец придержал коня.
– Надо же, вы заинтриговали меня до крайности, мессир! – воскликнул Лакюзон. – К тому же мы встречаемся с вами впервые, а ваш выговор и ваша внешность говорят, что вы не франш-контиец и не испанец. Каким же образом могу я одним только словом так или иначе повлиять на ваше будущее? Не понимаю.
– Капитан, – ответил незнакомец, – у вас есть двоюродная сестра…
– А! – бросил Лакюзон, вздрогнув так резко, что дернул за повод, который держал в левой руке, отчего кобыла его отскочила в сторону.
– Так вот, – продолжал незнакомец с сильным волнением, даже не замечая смятения собеседника, – еще в прошлом году ваша сестра жила вместе со своим отцом в маленьком домике в Шойском лесу, под Долем. Потом ваш дядюшка, Пьер Прост, вернулся в горы… вернулся один… а Эглантина, говорят, умерла. Это правда, капитан? Эглантина действительно отошла в мир иной?
Хотя в голосе незнакомца звучала мольба, Лакюзон, однако, медлил с ответом. Казалось, он обдумывал что-то, и складки, прорезавшие его чело, черные брови, сдвинутые в мучительном напряжении, как будто отражали жестокую борьбу, происходившую у него в душе.
– Мессир, – через какое-то время заговорил он, скорее спрашивая, нежели отвечая на вопрос, – если моя сестра и умерла, это наше семейное горе – ее отца и мое, единственных ее родственников, но вам-то какая печаль?
– Боже мой! – прошептал неизвестный, закрывая лицо руками и тщетно силясь подавить рыдания, подступившие к его устам из самого сердца. – Она умерла, теперь я вижу!
Отчаяние, с каким он произнес свои последние слова, снова повергли капитана в дрожь.
– Так вы были с нею знакомы? – живо спросил он.
– Ах! – вскричал незнакомец. – Еще бы!
– Может, вы любили ее?
– О да, да, любил… любил всей душой, всем сердцем… со всем неугасимым жаром первой и последней любви!
– А она… – проговорил Лакюзон, – она вас тоже любила?
– Она любила меня святой сестринской любовью… любила, как мне кажется, с невинной нежностью невесты.
Капитан уронил голову на грудь, две крупные слезы скатились по его внезапно побледневшим щекам – и на какое-то время этот сильный человек вдруг сделался слабым, точно ребенок. Одно лишь слово вмиг сорвало покров, сквозь который он прежде взирал на будущее: ибо в одночасье рухнула одна из величайших надежд всей его жизни. Теперь ему предстояло повергнуть одного из двух идолов, что были заключены в святилище его сердца. До сего дня, до сего часа Лакюзон делил свою душу пополам: бóльшую ее половину он отдавал своей богине – независимости!
А другая принадлежала Эглантине.
Он провозглашал во весь голос то, что начертал и на своем прославленном знамени, – первую свою любовь из двух.
Вторую же, напротив, он прятал в самом потаенном, самом таинственном уголке своего сердца.
Он частенько говаривал себе:
«Когда наступит лето моей жизни, когда я добьюсь своей цели, когда свободной, сильной Франш-Конте будут больше не нужны защитники, когда мне, снова ставшему неустанным тружеником, останется только требовать плату за дневные труды, тогда, став самому себе хозяином и завоевав право повесить мою победоносную шпагу над камином… только тогда я признаюсь Эглантине в любви, которую так долго прятал, только тогда отдам ей эту некогда крепкую руку и это прославленное имя… и только тогда мы с нею, склонясь над детской колыбелью, предадим забвению кровавое прошлое, чтобы отныне помышлять лишь о счастливом будущем, воплощенном для нас в образах светловолосых головок наших спящих детишек…»
Вот о чем думал Лакюзон, когда, подобно молодому тигру, врывался в самую гущу вражеских батальонов, выкашивая их ряды, точно созревшие колосья… вот за какие безмятежные горизонты уносилась его душа, покуда его не знавшая устали рука грозно разила врагов направо и налево.
И вдруг все рухнуло.
Эглантина не любила его… Эглантина никогда не полюбила бы его… Эглантина любила другого!
Удар был жестокий, рана – мучительная, вот почему по бледным щекам этого храброго воина, как мы видели, стекли две слезы.
Но Лакюзон принадлежал к числу тех особых людей, чьи душа и тело, в случае надобности, делаются крепкими, как сталь, и велят сердцам стать нечувствительными, а нервам – железными.
– Тебе… – совсем тихо, но вдохновенно прошептал он, готовый к самопожертвованию, – тебе, святая свобода, только тебе отныне и всецело!..
Складки у него на лбу мигом разгладились, брови раздвинулись, голова вскинулась, и кровь ровно потекла по венам под смуглой кожей.
Капитан Лакюзон снова стал самим собой.
– Мессир, – сказал он, обращаясь к нашему незнакомцу, – вы спасли мне жизнь, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью не положить конец вашему заблуждению и горю прямо сейчас. Эглантина жива!
– Ах! – воскликнул молодой человек, в лихорадочном исступлении схватив капитана за руку и прижимая ее к своему сердцу, – Я знал, да-да, предчувствия меня не обманывали… я знал, у меня остановилось бы сердце, если б оно перестало биться у Эглантины!..
– Но, – продолжал Лакюзон, – надеюсь, вы понимаете, мессир, что после того, как вы мне во всем признались, сказав, что любили Эглантину, а Эглантина любила вас, я вправе услышать от вас и другие признания, более полные… я вправе спросить, кто вы такой, каковы ваши чаяния и надежды.
– Да, разумеется, – у вас есть на то право, – живо ответил молодой человек, – я отлично это понимаю. Мне еще прежде очень хотелось рассказать вам о себе, но, пребывая в ужасных сомнениях, которые вы только что развеяли, я был просто не в силах сделать это.
– Что ж, мессир, теперь, когда силы к вам вернулись, я жду.
– Тогда я начинаю, – отозвался незнакомец, – и запомните, капитан, всему, что я вам расскажу, я могу представить доказательства… Так что ничему не удивляйтесь, сколь бы поразительным поначалу ни казался мой рассказ.
– Я еще совсем молод, – возразил Лакюзон, – но с тех пор как вступил в сознательный возраст, особенно последние года два, мне случалось видеть вещи, на первый взгляд, настолько невероятные, что сейчас удивить меня может разве только чудо. Но, даже если оно и будет явлено мне, я стану уповать на всемогущего Господа, и уж он-то обережет меня от малейшего удивления.
– Еще несколько дней назад, – продолжал незнакомец, – меня звали Рауль Клеман, и я служил лейтенантом кавалерии под началом господина де Виллеруа…
– Француз! – воскликнул Лакюзон, невольно хмурясь. – Значит, вы француз?
– Позвольте, я продолжу, капитан. Это вчера я был французом, как уже вам докладывал, а теперь скажу, кем я буду завтра. Так вот, завтра не будет никакого Рауля Клемана, французского офицера: его место займет франш-контийский барон Рауль де Шан-д’Ивер.
Заслышав это имя, капитан резко остановил лошадь и с нескрываемым недоумением воззрился на своего спутника, чье лицо, красивое и благородное, с мягкими и вместе с тем мужественными чертами, озаряло бледное сияние луны.
– Рауль де Шан-д’Ивер, – взволнованно повторил он. – Вы? Но это невозможно! Великий и могущественный род де Шан-д’Иверов, увы, угас… Последний барон погиб лет двадцать назад, а то и больше, вместе с единственным своим сыном, еще совсем младенцем, – погиб под дымящимися развалинами своего замка, охваченного пожаром.
– Капитан, – возразил путник, которого отныне мы будем называть Раулем, – даже чудо, как вы сами только что сказали, удивило бы вас меньше, вас, безропотно уповающего на покровительство всемогущего Господа. Доверьтесь же ему и ничему не удивляйтесь. А что до чуда, оно касается скорее меня… Я единственный сын последнего барона де Шан-д’Ивера.
– Мессир, – произнес Лакюзон, кладя руку на плечо своего собеседника, – заранее умоляю вас, поймите меня правильно и простите, если углядели что-то обидное для себя в моем сомнении. Невозможно вот так, одним словом, искоренить веру, которой предавался с давних пор, тем более что она подкреплена фактами очевидными и вполне точными. Полагаю, и даже уверен, что у вас и в мыслях нет меня обманывать, но что, если вас самого ввели в заблуждение? Как вам удалось уцелеть в том великом бедствии, что погубило барона де Шан-д’Ивера? Конечно, как я догадываюсь, вы скажете, что это верный слуга, презрев всякий страх, спас вас из огня…
– Верно, управляющий моего отца, порядочный человек по имени Марсель Клеман, и я долго считал себя его сыном. Но что тут удивительного и невозможного, капитан?
– Разумеется, ничего… все очень даже просто. Хотя, впрочем, не все.
– Что же?
– А вот что. Как же вышло, что этот ваш преданный управляющий, человек порядочный и верный слуга, вырвав вас, понятно, ценою собственной жизни, из пламени, охватившего ваш замок… как же он, вместо того чтобы кричать во все горло: «Я спас последнего отпрыска благородного рода де Шан-д’Иверов! Я спас наследника огромного состояния! Вот он, живехонький, хранящий и поддерживающий отныне свое достоинство среди великих франш-контийских баронов!» – скрыл вас во мраке, воспитал, как родного сына, дал вам свое имя… и только теперь, двадцать лет спустя, вы изволите претендовать на титул и наследие ваших предков? Согласитесь, мессир, это кажется невероятным. И среди тех, кому вам случится все это повторить, вы, боюсь, вряд ли найдете благодарных слушателей, которых сможете легко убедить в своей правоте.
– Капитан, – ответствовал Рауль, – мне понятны ваши сомнения, и, вместо того чтобы счесть их оскорбительными, я охотно разделил бы их вместе с вами, если бы старый Марсель Клеман, мой приемный отец, не представил мне бесспорные доказательства, рассеявшие мрак, которым было окутано мое младенчество. И этот пылающий светоч истины скоро воссияет как вам, так и мне, но прежде одно только слово объяснит вам то, что вы считаете невероятным. Он, старый, добрый Марсель, оградил мою жизнь непроницаемым покровом тайны лишь затем, чтобы спасти меня, хрупкое дитя, от лютой ненависти всесильного врага. Эта ненависть распространялась на весь мой род, и целью ее было стереть мое имя, уничтожить мою семью. Пожар в замке Шан-д’Ивер вспыхнул не случайно, а по злому умыслу. И отец мой погиб не по вине злой судьбы, а от руки убийцы.
– Убийцы?! – повторил Лакюзон, уже не пытаясь скрыть ни своего удивления, ни волнения.
– Да! – с жаром воскликнул Рауль. – И скоро я назову его имя. Но прежде вам следует узнать тайные причины совершенного злодейства, а уж потом – кто же был тот злодей. Итак, выслушайте меня, капитан, а дальше решайте сами, кто я такой – заурядный склочник, охочий до чужих имен, или же законный притязатель на достойное место среди равных…
VII. Тристан де Шан-д’Ивер
Рауль начал свой рассказ…
Однако здесь, как мы полагаем, было бы полезнее на некоторое время прервать нашего героя и взять слово вместо него – в интересах нашего повествования.
Такая замена служит двумя целями.
Во-первых, это позволит нам уточнить и поставить на свое место некоторые факты и подробности, неведомые даже самому Раулю.
И во-вторых, это избавит нас от необходимости приводить частые вопросы и реплики капитана Лакюзона, поскольку они помешали бы плавному течению рассказа нашего молодого героя и явно не на пользу послужили бы ему, равно как и его слушателю, да и утомили бы нашего читателя.
Итак, барон Тристан де Шан-д’Ивер – отец Рауля – родился в 1586 году в огромном имении, принадлежавшем его роду во Франш-Конте, в округе Аваль; воспитание он получил весьма скромное, как все дворяне того времени; вслед за тем, будучи призванным ко двору Его Католического величества короля Испании, сообразно рангу, он вскоре получил в командование полк – и в родные края уже наезжал редко и ненадолго.
Тристан де Шан-д’Ивер по праву принадлежал к числу самых очаровательных кавалеристов своего времени. Успехи его были немалые, включая блистательные победы на любовном поприще; однако сердце его, жаждавшее, бесспорно, более сильных ощущений, неизменно оставалось свободным от мимолетных увлечений.
На двадцать пятом году жизни Тристан стал подумывать о женитьбе, но не по любви к какой-то женщине, а по желанию сохранить свой род, когда отец, будучи при смерти, призвал его во Франш-Конте.
Не успел Тристан приехать в отчий дом, как старику стало лучше, – смертельная опасность, пусть ненадолго, отступила.
Вынужденный задержаться на несколько недель в поместье барона де Шан-д’Ивера, Тристан чуть ли не все дни напролет предавался радостям псовой охоты в вековых лесах своих родовых угодий.
И вот однажды пополудни, готовясь загнать бедного оленя, который тщетно пытался скрыться в чаще от преследовавших его гончих, он вдруг услышал неподалеку пронзительные женские крики.
Тотчас же бросив охоту, Тристан пустил лошадь галопом в ту сторону, откуда доносились крики, и вскоре заметил девушку, которую с бешеной скоростью несла кобыла, а за несчастной, заметно отставая, следовали два оторопелых лакея – они кричали: «Стой! Стой!» – неустанно пришпоривая своих лошадей, впрочем, без всякой надежды нагнать резвую беглянку-кобылу.
Мессир де Шан-д’Ивер, положившись на силы своей лошади чистых арабских кровей, которую он привез из Испании, и сократив путь по знакомым тропинкам, опередил строптивую кобылу и схватил ее под уздцы в тот самый миг, когда девушка, обезумев от страха и раскачиваясь в седле, едва не упала в обморок.
Кобыла, остановленная железной рукой, стала на дыбы, но подчинилась. Тристан, спешившись, живо подхватил на руки наездницу, и она, едва оказавшись на земле, лишилась чувств. Тогда молодой барон смог приглядеться к той, которую только что спас.
Она была совсем еще дитя – лет шестнадцати от роду, не больше, белокожая, словно лилия или как чистый горный снег, а волосы у нее были длинные, бархатисто-черные и мягкие, точно шелк. Глаза ее были закрыты, тень от длинных, каштанового цвета ресниц почти касалась верхних кромок скул, выступающих над бледными щеками.
Судя по роскошному наряду девушки, красоте ее лошади, ливреям ее лакеев, она принадлежала к высшему обществу и была не из бедных. Головку рукоятки хлыста, выпавшего из ее обмякшей руки, украшал рельефный герб. Но молодой барон не смог разглядеть, что это был за герб, потому что как раз в это время подоспели двое лакеев.
Один из них, старый, седовласый слуга почтительной наружности, со взволнованным, перепуганным лицом, преклонил колено перед неподвижным телом хозяйки и воскликнул:
– Слава богу, наша барышня всего лишь испугалась!
Затем, он схватил Тристана за руки и, принявшись их целовать, прибавил:
– Благодарю вас, господин барон, ибо вы с Божьей помощью спасли наше дорогое дитя!
– Вы меня знаете? – с некоторым удивлением спросил молодой человек.
– Как же мне не знать господина барона? Мой хозяин – ближайший ваш сосед, он живет совсем неподалеку от замка де Шан-д’Ивер.
– А как зовут вашего хозяина?
– Граф де Миребэль.
– Ах! – отпрянув, промолвил Тристан.
И, спохватившись, продолжал:
– Значит, эта девушка…
– Мадемуазель Бланш, единственное дитя моего хозяина, одного из богатейших сеньоров во всем округе, впрочем, господину барону это должно быть хорошо известно.
– Надеюсь, последствия случившегося не будут серьезными, – вдруг с крайней холодностью проговорил Тристан. – Прошу засвидетельствовать вашей юной хозяйке мое посильное участие в происшествии, к счастью, совсем незначительном, жертвой коего она стала.
И, подобрав шляпу, которую он бросил на траву, господин де Шан-д’Ивер, направился к своей лошади, привязанной к дубу.
– Как, мессир, вы уже уходите? – вскричал старый слуга.
– Ну разумеется. А что мне тут делать, скажите на милость?
– Да вот… я думал… думал, господину барону было бы угодно взглянуть на ту, которую он избавил от смерти, когда она придет в себя.
– Ошибаетесь, дружище, – возразил Тристан. – Мадемуазель де Миребэль не нуждается ни в моих заботах, ни в моем присутствии. Так что отдаю ее на ваше попечение. И желаю всего хорошего!
С этими словами барон поставил ногу в стремя.
А теперь давайте объясним, почему он так повел себя в сложившихся обстоятельствах, тем более что поведение его, согласитесь, выглядит по меньшей мере странным, ведь он, подчеркнем, был человеком учтивым.
Объяснение наше простое.
Все дело в тысячу и один раз повторяющейся, бессмертной истории семей Монтекки и Капулетти. Вот уже не одно столетие бароны де Шан-д’Ивер и графы де Миребэль, ближайшие соседи и могущественные соперники, исполнившись обоюдной ненависти, враждовали меж собой: дрались на дуэли, силой похищали одни других и даже, что греха таить, убивали друг друга.
Воспитанный своим отцом в духе столь безотчетной, непостижимой ненависти, барон вдруг почувствовал неприязнь, оказавшись лицом к лицу с наследницей презираемого рода. Ему и в голову не приходило, что эта наследница, это шестнадцатилетнее дитя, совсем неповинна в замешенных на крови претензиях баронов де Шан-д’Ивер к графам де Миребэль. Он ощутил, как в его венах вскипела родовая ярость, и отвернулся – только и всего.
Впрочем, уехать он не уехал.
В тот миг, когда он, как мы помним, поставил ногу в стремя и схватился левой рукой за вьющуюся волнами гриву лошади, а правую положил на головку передней луки седла, мадемуазель де Миребэль очнулась и, глубоко вздохнув, открыла глаза.
Тристан обернулся.
При виде незнакомца Бланш зарделась, как цветок граната, и попыталась подняться. Но она была еще слаба – и снова упала наземь.
Привлеченный этим впечатляющим зрелищем, господинн де Шан-д’Ивер отпустил поводья, которые сжимал в руке, и подошел к девушке.
– Что случилось? – дрожащим голосом спросила Бланш, обращаясь к престарелому слуге. – Отчего я лежу тут на траве и у меня совсем нет сил, будто я ни жива ни мертва?
– Дорогая барышня, – ответил слуга с непринужденностью, свойственной старой прислуге и сближающей ее с хозяевами, – ваша кобыла увидела дикого зверя, испугалась и понесла вас через лес с такой прытью, что нам за нею было не угнаться. Да вы и сами перепугались и непременно упали бы, ударились о дерево и разбились, если б не господин барон, который перед вами: это он храбро перехватил вашу кобылу и остановил.
– Да-да, – с милой улыбкой проговорила Бланш, – кажется, я припоминаю.
Она с любопытством и признательностью взглянула на Тристана – и на щеках у нее и на лбу снова выступил застенчивый румянец; в порыве обворожительно простодушия она подала барону руку и промолвила доверчиво:
– О, спасибо, сударь… благодарю вас! Для батюшки было бы такое горе, разбейся я насмерть.
После короткого колебания Тристан принял тянувшуюся к нему милую ручку – и тут невольно на него нахлынул порыв новых чувств. Прикоснувшись к тонким белым пальцам девушки, он поднес их к губам с такой живостью, что она, вскрикнув, отдернула руку.
Тристан отпрянул на шаг и в смущении застыл как вкопанный перед этой красавицей, такой юной и такой невинной, а она смотрела ему в глаза с пленяющим выражением признательности и душевной чистоты.
Мадемуазель де Миребэль хоть и была все еще бледна, однако живая краска молодости мало-помалу начала проступать на бархатистой коже ее щек, а на губах у нее уже играла улыбка.
– Сударь… – молвила она.
И на мгновение запнулась.
– Что вам нужно от меня, мадемуазель? – спросил Тристан, стараясь говорить спокойно, но от частого сердцебиения голос у него слегка дрожал.
– Сударь, – повторила Бланш, снова подавая ему руку, просто и грациозно, – вы спасли мне жизнь…
Барон, готовый вновь припасть губами к надушенной перчатке, обтянувшей ручку девушки, вдруг остановился, так и не решившись ее поцеловать.
– Простите меня, – продолжала мадемуазель де Миребэль с ангельским выражением глаз, – согласитесь вы или нет, но кому как не вам я обязана тем, что по-прежнему вижу и эту зелень, такую прекрасную, и это солнце, такое ласковое. Когда лошадь понесла меня через лес, когда у меня голова пошла кругом, когда я бросила поводья и закрыла глаза, мне показалось, что я вот-вот умру, и тут передо мной возникаете вы, мой спаситель. Назовите же ваше имя, сударь, чтобы я могла передать его моему батюшке, и уж мы с ним запомним его навек.
К последней просьбе юной красавицы нельзя было не прислушаться. Молодой барон поклонился и приоткрыл рот. Но, собираясь произнести свое имя, он на миг осекся, устремил настойчивый, едва ли не страстный взгляд на прелестное лицо Бланш, и глаза его внезапно погрустнели.
За это короткое мгновение в голове у него пронесся целый сонм мыслей. Он сказал себе, что еще никогда в жизни не испытывал к женщине столь сильного чувства, которое владело им сейчас. Он сказал себе, что как будто ничто не разделяет его с этой девушкой: ведь она ровня ему и по положению, и по состоянию – но при всем том, стоит ему произнести свое имя – и между ними тут же разверзнутся непреодолимые бездны. Он уже чуть ли не проклинал свое имя, которым так гордился, ибо считал чудовищно несправедливыми все эти родовые предрассудки, с которыми он мирился по сей день. Ему показалось, что какая-то неведомая беда должна разбить его будущее и нанести его сердцу глубокую, неизлечимую рану.
Между тем Бланш по-прежнему ждала ответа от Тристана, и на чистом ее лбу можно было прочесть удивление, вызванное этой необъяснимой заминкой.
Господин де Шан-д’Ивер не мог больше тянуть время. И, опустив глаза, прошептал свое имя. Такое впечатление, будто признавался он в чем-то постыдном, чуть ли не в преступлении, столько было в его голосе смущения и даже страха.
– Ах! – с нескрываемым испугом вскричала Бланш, услышав это имя.
Тристан тотчас угадал выражение, с каким этот короткий возглас сорвался с уст девушки. Он поднял глаза и снова посмотрел на мадемуазель де Миребэль.
В ее лице уже не было видно того нежного доброжелательства и той трогательной признательности, которыми оно лучилось только что. Теперь оно выражало лишь бессознательный, непроизвольный страх.
Тристан почувствовал острую боль – боль телесную и душевную, поразившую его в самое сердце. Он отступил на два-три шага и медленно, чуть слышно произнес:
– Вы сами этого хотели, мадемуазель. И Бог – свидетель, мне было бы лучше смолчать. По крайней мере, так у вас сохранилось бы доброе воспоминание о спасителе-незнакомце, а теперь я для вас человек, достойный лишь ненависти…
– Ненависти?.. – с жаром прервала его Бланш. – О, сударь!
– Ненависти, мадемуазель, – продолжал Тристан. – Мне хорошо известно, сколь ужасной бывает сила иных наследственных предубеждений, которые младенец впитывает с материнским молоком. И, прежде чем увидел вас, я, признаться, разделял эти предубеждения. По-вашему, я всего лишь враг вашей семьи, и мне жаль, очень жаль, но я тому нисколько не удивляюсь. Теперь же, мадемуазель, мы с вами расстанемся и, разумеется, больше никогда не увидимся. Я уношу с собой счастливое чувство, потому что смог оказать вам совсем небольшую услугу, и смею молить вас, мадемуазель, чтобы вы навеки забыли мое имя и больше никогда обо мне не думали.
С этими словами барон низко поклонился девушке и поспешил к своей лошади – она ржала и била копытом.
Он поправил узду и поставил ногу в стремя.
– Прощайте, мадемуазель! – проговорил он, оглядываясь в последний раз.
– Прощайте! – отвечала Бланш так тихо, что Тристан ее не услышал.
Молодой человек, уже в седле, поднес руку ко лбу, будто силясь прогнать навязчивую мысль, затем вонзил шпоры в бока лошади – та подскочила как ошпаренная и, пустившись в галоп, точно молния, вместе со всадником скрылась за поворотом тропинки.
А Бланш, погруженная в раздумья, так и осталась лежать неподвижно под сенью величавого дуба.
Когда к ней подошел слуга и сказал: «Не угодно ли мадемуазель пересесть на лошадь? Господин граф, должно быть, уже беспокоится в связи с ее долгим отсутствием», – Бланш вздрогнула.
Она сделала резкое движение, словно очнувшись от сна, и, запинаясь, произнесла слова, которые, по-всему, отражали ход ее мыслей:
– Мой враг!.. Он… О нет!..
VIII. Ромео и Джульетта
Рассказ Рауля, изложенный славному юноше, ставшему солдатом поневоле, на самом деле всего лишь вводный эпизод в нашей книге. Но не менее важный для внимательных читателей, ведь он связывает неразрывными узами времена, давно минувшие, и настоящие события. Это поможет объяснить, отчего мы вдруг перешли к изложению, впрочем весьма беглому, дивной и деликатной истории – истории о рождении взаимной любви барона Тристана де Шан-д’Ивера и мадемуазель Бланш де Миребэль, ибо, как нетрудно догадаться, на страницах нашей книги должна вот-вот возродиться шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта», краткая, конечно, тем более что вместо обоюдной ненависти наши молодые люди прониклись любовью друг к другу.
Как бы там ни было, по дороге домой, под безобидным предлогом не пугать отца никчемным рассказом об опасности, которой она подверглась, Бланш – что немаловажно – велела слугам хранить полное молчание об утренних событиях.
Но что если на самом деле она велела слугам держать рот на замке ради того, чтобы оградить имя Шан-д’Ивера, имя, уже ставшее ей как будто дорогим, от несправедливых упреков, которыми граф де Миребэль никогда не гнушался осыпать этот ненавистный ему род?
Пусть же проницательность моих прекрасных читательниц поможет им разрешить сей важный вопрос…
* * *
Следующей ночью зарождающаяся любовь и старая родовая ненависть схлестнулись в душе Тристана в яростной схватке.
То он думал покинуть Франш-Конте навсегда – бежать, «унося в сердце своем стрелу, пронзившую его», как писал Бенсерад[21].
То собирался броситься к ногам Бланш и открыться ей в нежданной, необоримой любви, а после, на ее глазах, покончить с собой, если она не согласится разделить его неукротимую страсть.
Легко догадаться, что в подобном расположении духа Тристану было не до сна. И, когда в первых проблесках утренней зари стали меркнуть огоньки свечей, догоравших в массивных серебряных канделябрах, он все еще мерил спальню широкими шагами, так и не сомкнув глаз за всю ночь.
И вдруг сильное перевозбуждение улеглось в душе молодого человека – на смену ему пришла непередаваемая усталость, лишившая его последних сил. Тристан взглянул на портреты баронов, своих предков, особенно строго взиравших на него в холодном свете раннего утра, вгляделся в потускневшие портретные рамы, в суровые лица на холстах, и ему показалось, что безрассудная его страсть к дочери вражьего рода внезапно растворилась вместе с последними следами сумерек, и от этого на душе у него сделалось светло и радостно. «Какой же я дурак! – сказал он себе. – Прощайте, грезы, прощайте!»
И все утро напролет он без устали твердил себе: какое счастье – не знать любви.
Он с легкостью вскочил на коня – в тот же час, что и накануне, только в этот раз совсем один и налегке, без доезжачих и охотничьего снаряжения, и отправился к тому месту, где несколько часов назад ему явился образ юной обольстительницы.
Каково же было его удивление и, скажем, счастье, когда сквозь полог зелени он разглядел девушку, сидевшую на том же месте – на траве, с цветком маргаритки в руке, и рассеянно теребившую ее лепестки. А чуть в стороне, на полянке, выгуливал двух лошадей ее старый седовласый слуга.
Тристан был от них еще далеко.
Заметив Бланш, он осадил коня, потом пустил его в глубь чащобы и там привязал к дереву; вслед за тем, уверенный, что никем не замечен, он, бесшумно проскользнув меж деревьев и кустарников, подобрался к мадемуазель Миребэль, совсем близко.
Бланш была бледна – ей как будто нездоровилось. Синеватые круги, резко очерченные под ее большими глазами, говорили о том, что она тоже провела бессонную ночь. Однако бледность и истома лишний раз подчеркивали выражение ее очаровательного личика, делая его более трогательным и нежным.
Тристан спросил себя: что если девушка переживала ту же внутреннюю борьбу, что и он? Ответ его, легко догадаться, был утвердительным. Он вдруг понял, что любим, и, напрочь позабыв о неодолимых препятствиях, которые, как ему казалось, должны были обратить их взаимную любовь в бесконечную муку, всецело отдался невинной радости безмолвного любования девушкой.
Так, хватило всего лишь нескольких часов, чтобы превратить нашего знатного сеньора, блистательного полковника, человека, чьи ратные успехи, равно как и удачи на любовном фронте, переходили из уст в уста при мадридском дворе… чтобы превратить этого баловня судьбы, прямо скажем, в робкого воздыхателя, не смеющего даже заговорить с предметом своей любви. И наши слова следует понимать буквально, поскольку Тристан оставил свой наблюдательный пост лишь после того, как девушка отправилась домой, так и не догадавшись, что тот, о ком она, возможно, думала, был совсем рядом.
С той поры прошла не одна неделя.
И каждый божий день господин де Шан-д’Ивер прятался неподалеку от той трижды благословенной полянки, куда приходила и Бланш, влекомая зовом сердца. А все вечера напролет он слонялся вокруг ограды парка Миребэлей, и стоило ему заприметить белое платье, порхающее в тени парковых аллей, как он тут же ретировался, полный надежд и опьяненный неземной радостью.
Между тем близился день, когда об этой любви, возраставшей час от часу, уже нельзя было молчать, как невозможно было и скрывать ее. Рано или поздно она должна была переполнить сердце и разлиться безудержным потоком.
Так на самом деле и случилось.
Однажды, когда теплый воздух полнился благоуханием цветущей зелени и пением птиц, а солнечные лучи, проникавшие сквозь густой полог леса, высвечивали на земле причудливые узоры пожелтевших мхов и опавшей листвы, Бланш сидела под кроной старого дуба и по обыкновению перебирала пальцами лепестки маргаритки – цветка неискушенной любви, гадая, должно быть, на будущее.
Доверенный слуга отошел с лошадьми чуть дальше, чем обычно, и Бланш, оставшись наедине с собой, предавалась томным раздумьям, о чем нетрудно было догадаться по выражению ее глаз.
Тристан, томимый безудержным порывом, покинул свое убежище и направился прямиком к девушке. Он трепетал, как робкий мальчишка, на лбу у него выступили капли пота. Плотный ковер мха приглушал его шаги.
– Мадемуазель, – едва выговорил он.
Бланш вздрогнула, вскинула голову. И, узнав господина де Шан-д’Ивера, вскрикнула от удивления; при этом щеки, шею и плечи у нее окутала дивная пурпурная дымка.
– Вы, сударь?.. – промолвила она с нескрываемой застенчивостью. – Вы – здесь?.. О, зачем вы пришли? И что хотите мне сказать?
Таким образом невинная, ничего не подозревающая девушка невольно выдала тайну своих раздумий, ибо, если говорить по чести, появление Тристана в лесу было делом самым что ни на есть обычным, и удивляться, а тем более печалиться, тут было ни к чему.
– Вы спрашиваете, зачем я здесь, мадемуазель? – живо ответил молодой человек. – Я пришел сюда сегодня, как приходил каждый день после первой нашей встречи. Я хожу сюда и, прячась за деревьями, с безмолвным обожанием любуюсь вами. Вы спрашиваете, что я хочу вам сказать, мадемуазель, ну что же…
Тристан не договорил. Бланш поднялась и быстрым жестом призвала его замолчать.
– Довольно, сударь, – сказала она с достоинством, граничащим с надменностью, – боюсь, мне все ясно и я не в силах дальше слушать вас. Я, как видите, одна и ради себя и имени, которое ношу, не должна больше выслушивать ни единого слова… И еще прошу, соблаговолите оставить меня сию же минуту. Как человек в высшей степени благородный вы не можете отказать девушке в просьбе, равной приказу.
– Вы правы, мадемуазель, – ответствовал Тристан. – И раз вы того хотите, я умолкаю и ухожу. Но во имя Неба, во имя вашей матушки, которая печется о вас свыше, позвольте задать вам вопрос, один-единственный. От вашего ответа будет зависеть счастье или горе всей моей жизни.
– Я слушаю, сударь, – сказала Бланш.
– Отлично, – бросил Тристан тихим, взволнованным голосом. – Уж коль вы меня понимаете и знаете, что я вас люблю, позвольте мне прибегнуть ко всем возможным средствам и стереть последние следы безрассудной ненависти, разделяющей наши семьи… и, если я преуспею в столь благородном деле, позвольте мне надеяться…
– На что, сударь? – проговорила с запинкой Бланш.
– На вашу любовь, – ответил Тристан.
Он выговорил эти слова так тихо, что Бланш скорее угадала их, нежели расслышала.
– Сначала преуспейте, – сказала она дрожащим от волнения голосом. – Преуспейте, сударь, а уж тогда, в присутствии моего батюшки, я дам вам ответ.
В ее словах заключалось признание. Ну разумеется, в них угадывалась знаменитая реплика, которую старина Корнель вложил в уста Химены, возлюбленной Сида[22]: «Будь победителем и завоюй меня».
Тристан все понял и, несмотря на предостерегающий жест Бланш, собрался сказать еще что-то, но тут он увидел, как девушка поднесла к губам маленькую серебряную свистульку и дважды свистнула на разный лад – пронзительно и протяжно.
В тот же миг из-за деревьев показалась фигура старого слуги, что есть мочи спешившего на сигнал хозяйки.
Тристан де Шан-д’Ивер отвесил мадемуазель Миребэль низкий поклон и скрылся в лесной чаще.
Бланш провожала его взглядом и, когда он исчез из вида, поднесла обе руки к груди, не в силах унять сердце, бившееся часто-часто.
Вот так трагическая история Монтекки и Капулетти возродилась с поразительной точностью в новом веке.
Джульетта любила Ромео!..
* * *
На следующий день, незадолго до полудня, Тристан де Шан-д’Ивер предстал в дверях покоев своего отца.
Молодой человек облачился в мундир полковника – униформа смотрелась на нем так роскошно и замечательно, что можно было подумать, будто он собрался на прием к Его величеству королю Испании, в высокие кабинеты Эскуриаля[23].
Трое или четверо слуг, в парадных ливреях, сидевшие без дела в передней, при виде его тотчас же вскочили на ноги и почтительно склонились перед ним.
– Ступайте и спросите господина барона, сможет ли он принять меня прямо сейчас, – велел одному из них Тристан.
Слуга вышел, но не прошло и минуты, как он вернулся.
С утвердительным ответом.
Молодой человек миновал две гостиных перед отцовской спальней и прошел к нему.
Овальная спальня отличалась тем, что была обшита тисненой кордовской кожей, к тому же она славилась, причем по всей провинции, своим расписанным фресками, куполообразным потолком. Одну из стен украшал пергамент с тонко выписанным, в изящном обрамлении генеалогическим древом Шан-д’Иверов, какие можно увидеть на миниатюрах средневековых требников.
На других стенах висели семейные портреты, увенчанные жемчужными баронскими коронами поверх двойных гербовых щитов.
В высоком, просторном дубовом кресле, обшитом декоративной тканью с изображениями родовых гербов, возлежал старик, кутавший свое исхудалое тело в полы домашнего халата черного бархата.
Несмотря на дряхлый вид, делавший его похожим на векового старца, барон де Шан-д’Ивер отнюдь не утратил величия и в выражении лица, и во взгляде. Его полностью полысевшая голова и выпуклый лоб, сверкавшие так, будто были выточены из слоновой кости, свидетельствовали о несгибаемой воле старика; брови его, белые как снег, еще сохранили пышность, и, когда он их хмурил, подобно величественному и бесстрастному Юпитеру, это непременно ввергало в трепет окружающих. Наконец, его глаза, неизменно зоркие и молодые, горели, точно угольки, озаряя бледное, изборожденное морщинами лицо.
Тристан подошел к старику, взял его руку и поднес к губам – скорее следуя церемониальному этикету, с каким придворный приближается к монарху, нежели с нежностью, какую сын питает к отцу.
– Добрый день, сударь мой, добрый день, – произнес барон после заведенного приветствия, – сказать по правде, я очень рад вас видеть. Но с чего бы вдруг вы облачились в этот мундир – что сие означает? Неужто ваш полк уже на подходе к воротам моего парка и вы вознамерились его возглавить?
– Мой полк довольно далеко отсюда, господин барон, – ответствовал Тристан, силясь изобразить улыбку. – Я пришел к вам по весьма торжественному поводу, потому и решил выразить вам подобающее почтение, коего вы достойны и коему я ни за что не изменю.
– Вы правы, сударь, – с явным удовлетворением ответил барон, – и я счастлив признать, что вы не из тех неблагодарных чад, которые, не успев опериться, стремятся выйти из-под отеческого крыла. Итак, о чем речь?
– О счастье всей моей жизни.
– Ах-ах! И от чего же, скажите на милость, оно зависит? Вы молоды, обладаете весьма привлекательной наружностью, унаследовали от матери немалое состояние; вы полковник и отпрыск рода Шан-д’Иверов – и, полагаю, скоро, следом за мной, непременно станете грандом первого ранга. Так сыщется ли, говорите не таясь, в этом бренном мире дворянин более счастливый, чем вы?
– Ваша правда, господин барон, и тем не менее только от вас зависит, насколько полным будет счастье, которое вы имеете в виду.
– Как это?
– Мне уже двадцать пять, – начал Тристан.
– Еще бы мне не знать! – воскликнул старик. – Прекрасный возраст, сударь мой, – я и сам не прочь вернуть себе ваши годы!
– Мне наскучили, вы даже не представляете как, все эти мимолетные романы и любовные приключения.
– Уже? – проговорил барон с удивленной и пренебрежительной усмешкой, означавшей только одно: «Черт возьми, сударь мой, да вы меня огорчаете! А я-то был побойчее вашего!»
Между тем Тристан продолжал:
– Мне хотелось бы изведать сладостные радости семейной жизни, невинные прелести законной и взаимной любви.
– Вы говорите, как простой пастух, сударь мой. К чему вы клоните?
– Вот к чему: я подумываю жениться.
– Вот и чудесно! Я был бы рад, если бы у меня в роду, в этом бренном мире, появился маленький отпрыск, прежде чем я отойду в мир иной, где предстану перед Господом. Так женитесь, сударь мой, женитесь себе на здоровье!
– Значит, вы согласны?
– Еще бы, ну разумеется! Вам остается подыскать себе достойную партию, только и всего. Все наследницы во Франш-Конте, хоть Бофремоны, хоть Сен-Морисы, хоть Тулонжоны, почли бы за честь носить ваше имя.
– Но, отец, быть может, вас вполне устроила бы невестка из тех, что я бы сам вам предложил?
– И думать забудьте! В ваших венах течет моя кровь, ваше происхождение столь благородно, что вам не пристало жениться на неровне.
– Неравный брак? Никогда, господин барон! И тем не менее я весь дрожу, не смея выговорить имя той, которую люблю.
– Которую вы любите! – оживился старик. – Неужто, сударь мой, вы влюблены?
– Да, отец, я полюбил на всю жизнь!
Тонкие губы барона искривились в усмешке; он пожал плечами и произнес:
– Мальчишка!
Конечно, было странно слышать из уст дряхлого старика подобную насмешку, тем более брошенную в адрес бравого двадцатипятилетнего полковника в самом расцвете сил.
– Мальчишка! – повторил он.
А затем по-отечески снисходительно прибавил:
– Что ж, продолжайте, сударь мой. Стало быть, вы весь дрожите, не смея выговорить имя той, которую полюбили «на всю жизнь», – на последних словах он сделал ударение. – Неужели она недостойна вас?
– О! – воскликнул Тристан, теряя самообладание из-за столь ничтожного подозрения. – О, отец, и как вы только могли такое подумать? Даже ангелы не могут похвастать такой чистотой, какая свойственна моей обожаемой девочке.
– Замечательно! Хотелось бы в это верить, а узнать имя вашего ангела – уж тем более.
Тристан собрался с духом и с напускным спокойствием, которое разоблачал его взволнованный голос, сказал:
– Та, которую я люблю, отец, приходится единственной дочерью вашему соседу, графу Теобальду де Миребэлю.
IX. Семейные портреты
Произнеся имя возлюбленной девушки, Тристан де Шан-д’Ивер ожидал бури: он приготовился к тому, что отец, придя в ярость, начнет метать громы и молнии – закатит умопомрачительную сцену.
Но ничуть не бывало.
Когда Тристан произнес имя Бланш, престарелый барон с трудом поднялся и, опершись одной рукой на трость с золотым набалдашником, а другой – на локоть сына, повлек молодого человека к красочному полотну с изображением генеалогического древа, о котором мы уже упоминали, – перед ним они оба остановились.
– Вы хорошо видите это, сударь мой, не так ли? – спросил барон, указуя на испещренный геральдическими знаками пергамент.
– Разумеется, – ответил Тристан.
– Знаете, что это за герб?
– Это наш герб, отец.
– А известно ли вам, что означают пышные ветви, что простираются от величественного ствола?
– Наших родственников.
– Так как же, сударь мой, зная все это, вы бесстыдно попираете историю вашего рода?
– Но, отец, я думал…
– Вы плохо думали, сударь. И пусть вы никогда этого не знали, пусть забыли, я, как бы то ни было, готов прийти на помощь вашему невежеству и освежить вам память. Прошу, взгляните-ка сюда!
– Гляжу.
– И что вы видите?
– Красное пятнышко на нашем гербовом щите, ближе к середине генеалогического древа.
– А вон там?
– Такое же пятнышко.
– А чуть выше?
– Еще какие-то пятна.
– Сколько их, сочтите!
Помолчав какое-то время, Тристан отвечал:
– Я насчитал десять штук, отец.
– Их и в самом деле десять, сын мой. И все это – пятна крови. А теперь послушайте, как пролилась эта кровь.
– Пролилась – кровь? – повторил Тристан. – Но мне это известно, отец.
– Неважно, я вам напомню. Итак, слушайте, сударь мой, и на сей раз зарубите себе на носу.
Тристан смолк и с мучительной покорностью склонил голову.
А старик меж тем продолжал:
– Так вот, в благословенном 1442 году Людовик, граф де Миребэль, по прозвищу Черный Кабан, отличавшийся отталкивающей наружностью и особенно – грубыми манерами и нравом, полюбил девушку из нашего рода – Батильду де Шан-д’Ивер, по прозванию Белая Роза. И посватался за нее. Барон, предок мой, ему отказал, и тогда Черный Кабан, придя в ярость, поклялся отомстить.
Месть его не заставила себя долго ждать. Как-то раз, пока барон охотился в компании других сеньоров из округа, Черный Кабан с горсткой вооруженных подручных пробрался в наш замок, похитил Батильду и увез против ее воли с собою на коне, а потом, спустя несколько часов, вернул обратно – обезображенную, обесчещенную, едва живую.
У Батильды было двое братьев. Один – вполне взрослый, другой – еще совсем юный. Старший брат, которого звали Тристан де Шан-д’Ивер, как вас, вызвал подлого Черного Кабана на поединок, но несмотря на божественную справедливость и правоту своего дела он пал от руки презренного похитителя.
И красное пятно, что перед вами, самое первое из всех, знаменует смерть брата Батильды.
Минуло несколько лет.
Черный Кабан женился, и у него родился сын. Юный брат его первой жертвы успел повзрослеть и возмужать. В свою очередь он тоже дрался с Черным Кабаном – и в силу того, что был удачливее или ловчее своего противника, вышел из того поединка победителем, оставив свою доблестную шпагу в груди графа де Миребэля.
Однако ж с последующими поколениями наследственная ненависть не угасла в душах отпрысков двух наших родов. Сын Черного Кабана сражался в поединке с одним из сыновей того из наших, кто убил его отца.
Гектору де Шан-д’Иверу не повезло, и свидетельство тому – второе красное пятно или кровавый знак, коим помечено наше генеалогическое древо…
Мы не станем дальше слушать рассказ старого барона о поединках и мести, передававшейся от отца к сыну, точно роковое наследство, как в роду де Шан-д’Иверов, так и в семействе де Миребэлей.
Эта повесть, полная мрачных событий, заслуживающих внимания разве что самого барона и Тристана, может наскучить нашим читателям, если обременить ее чрезмерными подробностями.
Скажем только, что старик, ведя свое повествование, все больше оживлялся, и голос его, поначалу спокойный и размеренный, мало-помалу зазвучал с поистине юношеской горячностью. Глубокие морщины, избороздившие его лицо, исчезли, как по волшебству, глаза пылали ненавистью и гневом.
– Итак, сударь мой, что вы теперь скажете? – спросил он, когда закончил рассказ.
– Ничего, отец, кроме того, что я, увы, не могу взять в толк, каким образом мадемуазель Бланш, эта шестнадцатилетняя девочка, по вашему мнению, может быть причастна к смертельным распрям между ее предками и вашими?
– Э! – с гневом и презрением вскричал барон. – Вы еще смеете поминать мадемуазель де Миребэль? И как только ее имя запечатлелось на ваших устах после того, что я вам растолковал?
– Потому что оно запечатлелось и в моем сердце, – с дерзновенной твердостью отвечал Тристан.
– Вырвите же его из сердца! – вскричал в ответ старик.
– Ни за что! Просите мою жизнь – и я ее отдам. Только не просите меня жертвовать любовью, я на это не пойду, отец.
Барон обратил на сына взгляд, полный изумления и вместе с тем негодования. Но Тристан не отвел глаза.
Тогда старик, в порыве чувств, продолжал:
– Вы говорите о любви, барон де Шан-д’Ивер. Но любовь ваша порочна! Позорна! Постыдна!
– Постыдна, отец? – воскликнул Тристан, у которого побелели губы.
– Повторяю, сударь, она порочна и постыдна, и потом, чего вы, в конце концов, добиваетесь?
– Я хочу жениться на мадемуазель де Миребэль.
– Что! Дать свое имя праправнучке Черного Кабана? Вручить ей свадебный букет, десятикратно обагренный кровью ваших предков? Заглушить свадебными песнопениями крик мести и ненависти, что рвется из груди каждого отпрыска нашего рода при виде последышей от их проклятого семени? Неужто на это только и устремлены все ваши помыслы?
– Да, таковы мои помыслы, отец, а мадемуазель де Миребэль не в ответе за прошлое, и я люблю ее.
– Ах! – вскричал старик, у которого безудержно тряслись руки, а глаза метали молнии. – Лучше замолчите! Ни слова больше! Да будет вам известно, что сейчас вы заставляете меня усомниться в добродетели вашей матушки. Вы заставляете меня задуматься, уж не плод ли вы порочной любви, ибо, Богом клянусь, истинному Шан-д’Иверу такое и в голову не могло бы прийти.
– Отец, отец!.. – с мольбой в голосе шептал Тристан.
– Молчите! – твердил свое старик. – Молчите и слушайте. Вы носите мое имя, имя которое носили два десятка выдающихся представителей благороднейшего из родов, и носили весьма достойно. И мне, невзирая на вас и на что бы там ни было, надлежит сохранить его незапятнанным. Я никому не позволю, и уж тем более родному сыну, осквернить наш достойный герб. Властью отца, по святому праву, данному мне самим Господом, я запрещаю вам, сударь, впредь помышлять о презренных планах, о которых вы посмели со мной говорить. Я приказываю вам сегодня же покинуть замок и возвращаться в свой полк! Приказываю вам отречься от безрассудных мечтаний, плодов вашего больного воображения! И клянусь перед Богом и вашими предками, если вы не повинуетесь, я прокляну вас при жизни, а когда умру, то восстану из могилы и буду проклинать вас снова и снова.
Высказавшись наконец со все возрастающей горячностью, старый барон исчерпал обуревавшие его страшные чувства и без сил упал в кресло.
Тристан, белый точно призрак, с искаженным лицом, преклонил колено перед стариком и молвил:
– Благословите меня, отец! Я повинуюсь и уезжаю.
Мрачный взгляд барона озарила искра радости.
– Так вы исполните свой долг, сударь мой, – проговорил он. – Вы послушный сын. Поезжайте, благословляю вас и буду молить Бога, чтобы он хранил вас.
Тристан поднялся с колена, поцеловал обессиленную руку отца и покинул его покои, повторяя скорее в сердце, нежели вслух: «Если Бог слышит вас, отец, и я ему небезразличен, пусть он дарует мне скорую смерть!»
Через два часа молодой человек, сменив полковничий мундир на дорожное платье, вскочил на коня и умчался прочь из замка.
Но перед отъездом он наказал верному слуге тайно предать мадемуазель Бланш де Миребэль письмо.
Вот его содержание:
«Мадемуазель,
Неумолимая судьба разделяет нас. Я уезжаю, не повидавшись с вами, ибо, если бы увидел вас еще раз, мне не хватило бы сил, чтобы уйти.
Я уезжаю, увы, навсегда! Забудьте же меня, мадемуазель, и будьте счастливы. Вы были первой моей любовью и останетесь последним сердечным увлечением. Только ваше имя будут шептать мои мертвеющие губы…
Прощайте, мадемуазель! Возможно, разлученные на этой земле, мы однажды воссоединимся на Небесах. Еще раз прощайте… прощайте! Это последнее утешительное слово. Только оно придает мне сил дождаться смерти, не торопя ее…»
Прошел год. И в конце его старый барон де Шан-д’Ивер скончался, оставив сыну свой титул, огромное состояние и, еще того лучше, полную свободу действий. Тристан, сгоравший от любови, как никогда прежде, поспешил возвратиться во Франш-Конте.
За время его отсутствия случилось событие, повлекшее за собой беды ужасные и неисчислимые. Граф де Миребэль обещал руку своей дочери сиру Антиду де Монтегю, владетелю Замка Орла, одному из самых богатых и влиятельных сеньоров в округе Доль.
Однако Тристан, веря, что Бланш все еще любит его, попросил ее руки у графа де Миребэля. Тот отказал Тристану, и, поскольку его отказ вверг Бланш в отчаяние, между отцом и дочерью разыгралась сцена, очень похожая на ту, что мы описали на предыдущих страницах.
Чтобы поколебать упорство отца, Бланш прибегла к оружию, куда более действенному, чем мольбы и слезы. Этим оружием стала печаль, завладевшая девушкой всецело и не замедлившая сказаться на ее облике. Бланш перестала есть и спать. Она ни на что не жаловалась и все больше грустила, угасая на глазах, – можно было подумать, что смерть ходит за нею по пятам. Действительно, казалось, что жизненные соки совсем перестали питать ее.
Граф де Миребэль упорствовал так долго, как только мог, – впрочем, не очень долго, ибо он души не чаял в своем единственном чаде. Слово, данное сиру Антиду де Монтегю, было отозвано, и Тристан, признанный женихом Бланш, уже думал, что счастье его не за горами.
Граф де Миребэль назначил дату бракосочетания влюбленных. На том Тристан убыл в Безансон – за свадебными подарками.
Отсутствовал он всего лишь неделю, и тем не менее отъезд его оказался слишком долгим. Когда молодой барон вернулся в замок Шан-д’Ивер, то обнаружил, что все его надежды разбились в прах – и сгорели, точно молодое деревце, сраженное молнией.
Графа де Миребэля убили, а Бланш исчезла.
Дня за два до того, как Тристан, вернувшись домой, узнал об этой двойной беде, граф с дочерью прогуливались верхом по лесу, в сопровождении одного-единственного слуги, следовавшего чуть поодаль от них.
За поворотом извилистой дороги, пролегавший меж двух рядов вековых буков, отца с дочерью окружили всадники в монашеских рясах с опущенными капюшонами, скрывавшими их лица. Предводительствовал ими рослый мужчина. Он, как и его подручные, был облачен в рясу, но с опущенным на плечи капюшоном.
Его лицо скрывала черная маска.
Сир де Миребэль выхватил шпагу в тщетной попытке оказать сопротивление. И был тотчас сражен выстрелом из пистолета. Вслед за тем один из ряженых монахов передал бесчувственную Бланш на руки человека в черной маске, и захватчики во весь опор пустились прочь, оставив позади себя жуткий след – мертвое тело, истекающее кровью, которая тут же впитывалась в дорожную пыль.
Тристан в отчаянии подал жалобу в высший суд Доля, хотя, памятуя о непреложной судебной истине, логически и досконально объясняющей мотив всякого преступления: «ищи, кому это выгодно», – в убийстве отца и похищении его дочери он винил сира де Монтегю.
Ни одно вещественное доказательство не свидетельствовало против этого могущественного сеньора, но, с точки зрения морали, предположения были более чем основательны – и Антида де Монтегю по подозрению в совершенном злодеянии вызвали в суд, дабы выслушать его и, по возможности, снять с него всякие досужие подозрения.
Надменный сеньор не посмел открыто перечить верховным властям провинции. Он предстал перед судом – но предстал с плохо скрываемым возмущением и угрозами безжалостно отомстить Тристану де Шан-д’Иверу, вынудившему его самым постыдным образом испить из уготованной ему горькой чаши.
Между тем, пока Антид де Монтегю защищался в суде с почти вызывающим высокомерием, власти распорядились учинить обыск в замке Орла. Вести дознание поручили полковнику Варрозу, одному из ближайших друзей Тристана, однако ж дело так ничем и не закончилось. Сир Монтегю, публично признанный невиновным в убийстве и похищении, вернулся в свое поместье и заперся там на два или три года, чтобы дать улечься страстям и чтобы все позабыли об этой темной истории, наделавшей много шуму аж в трех округах. Казалось, он навсегда оставил планы мести, о которых объявил во всеуслышание. Поначалу всех удивляло подобное благодушное спокойствие, совсем не вязавшееся с хорошо известным нравом этого сеньора, а потом о нем и вовсе думать забыли.
Только время способно притупить душевную боль. Душа человеческая не создана для вечных терзаний. Сперва человеку, получившему сердечную рану, кажется, что она никогда не затянется, но проходят часы, дни, годы, и каждый проходящий час, день и год проливает каплю бальзама на кровоточащую рану, и она мало-помалу зарубцовывается.
Тристан де Шан-д’Ивер не стал исключением из общего правила. Сначала ему хотелось умереть, затем он пустил жизнь свою на самотек, ну а в довершение всего горечь, отчаяние и сожаления переросли в его душе в томную грусть.
Наконец, в один прекрасный день он сказал себе, что его род, увенчанный достославными именами предков, не должен на нем закончиться: ведь он был единственным и последним его представителем, – и вот спустя три года после исчезновения Бланш де Миребэль наш молодой барон женился на благородной и очаровательной девице по имени Одетта де Вобекур.
Однако союз их оказался несчастливым. Через одиннадцать месяцев после свадьбы новоиспеченная баронесса де Шан-д’Ивер скончалась, произведя на свет мальчика, получившего при крещении имя Рауль.
Похоже, десница Господня легла тяжким бременем на плечи Тристана.
Минуло два года. И вот однажды ночью, когда бушевала гроза, главные помещения замка Шан-д’Ивер внезапно полыхнули огнем, разгоравшимся с необоримой силой. Многие слуги тогда погибли, тщетно пытаясь остановить неукротимое пламя, подступавшее одновременно со всех сторон.
И на рассвете замок являл собой уже груду дымящихся развалин, среди которых должны были упокоиться тела отца и его сынишки.
Таким образом, род Шан-д’Иверов как будто оборвался раз и навсегда!
В округе говорили – ведь нужно ж было найти разумное объяснение столь сокрушительному бедствию, – что молния ударила в замок одновременно в двух-трех местах, а народная молва, как известно, гласит, что потушить такие пожары невозможно. Люди приняли подобное объяснение, впрочем, вполне убедительное, и воспоминания об этих роковых событиях вскоре растворились в заботах и хлопотах повседневной жизни.
X. Рауль и Лакюзон
Рауль закончил свой рассказ на том самом месте, на котором остановились и мы с вами.
– Ах, – воскликнул Лакюзон, – теперь все ясно! Стало быть, вы считаете сира Антида де Монтегю виновником пожара в замке Шан-д’Ивер и гибели барона Тристана, то есть, по-вашему, этим двойным злодеянием он совершил двойную же месть.
– Да, – ответил молодой человек, – я считаю сира де Монтегю виновным. Я обвиняю его в поджоге и убийстве точно так же, как мой отец обвинял его в похищении и кровопролитии… и теперь, когда вы выслушали мою историю до конца, вы тоже будете считать его виновным и, подобно мне, признаете, что ни один, даже самый лютый злодей, вздернутый рукой палача, не заслуживает более позорной смерти, чем этот презренный сеньор!
– Продолжайте, – только и сказал Лакюзон.
И Рауль заговорил вновь:
– Накануне того злополучного дня, а вернее, проклятой ночи, управляющий моего отца, Марсель Клеман, о котором я уже говорил, вернулся вечером из соседней деревушки, где он навещал своих знакомцев. Он видел, как один из наших слуг, из самых младших в замке, долго разговаривал с каким-то подозрительным типом, который, когда они прощались, сунул ему в руку не то пригоршню серебряных монет, не то кошелек.
Марсель окликнул того слугу и стал расспрашивать.
Слуга ни в чем не признавался и на все вопросы отвечал дерзко.
Тогда Марсель объявил ему, что завтра же утром его рассчитает и отправит на все четыре стороны.
– До завтра еще дожить надобно… – усмехнулся в ответ слуга. – А в округе замков хватает, помимо вашего. Не тот, так другой.
Марсель, на беду, не придал никакого значения его словам, хотя за их грубостью таилась не столько бравада, сколько угроза. Выпроводи он изменника в тот же час, злодеи-поджигатели наткнулись бы на запертые наглухо ворота, которые, как они надеялись, им откроют и в которые вместе с ними проникнет зло и беда.
Так вот, посреди ночи Марсель, которому мешали спать раскаты грома, вдруг заметил, как непроглядную темень вдруг озарила зловещая красная вспышка, и в следующее мгновение его спальню стало заволакивать густым, удушливым дымом.
В первую секунду ему почудилось, что в замок ударила молния, и он кинулся к окну…
Вход на передний двор замка охраняли трое или четверо человек в масках, и у каждого в одной руке была шпага, а в другой – факел. Еще несколько человек, тоже в масках, бегали точно угорелые по коридорам замка, потрясая факелами. И оставляя за собой огонь – везде и всюду.
Марсель был слугой верным и честным. Он родился в нашем доме и в некотором смысле был членом нашей семьи – он жизнь отдал бы за моего отца. Марсель живо оделся. Сунул за пояс охотничий нож, пистолеты и опрометью кинулся по потайной лестнице к покоям барона де Шан-д’Ивера.
И в тот самый миг, когда он собирался отдернуть гобелен, скрывавший одну из дверей в спальню хозяина, ему послышался хорошо знакомый голос, повергший его в трепет, – голос сира Антида де Монтегю, выкрикнувшего в припадке исступленной радости: «Волку заткнули пасть! Ищите теперь волчонка, перережьте ему глотку и бросьте в огонь! Пусть здесь все заполыхает ярким пламенем! Хочу, чтобы к завтрашнему утру камня на камне не осталось от их проклятого логова!»
В ответ послышались неразборчивые голоса, потом все стихло – топот удалился.
Марсель отдернул гобелен и вошел в спальню. Там уже все занялось огнем: и гардины, и драпировка и мебель. Вся спальня была объята пламенем.
Марсель бросился к отцовской постели. Она была пуста и вся в крови.
«Они убили его! – в отчаянии прошептал верный слуга. Что ж, тогда, по крайней мере, я спасу сына и его состояние».
Острием охотничьего ножа Марсель поддел замок занявшегося огнем шкафа, где, как он знал, хранились бесценные вещи. Из шкафа он извлек кованый ларчик и вместе с ним пробежал тайными проходами, известными только ему одному, ко мне в спальню, где я тихо и мирно спал в своей колыбели, и куда злодеи еще не добрались.
Он схватил меня в охапку прямо так, завернутого в одеяло, и, заслышав быстро приближающиеся шаги, сиганул из окна второго этажа в парк – при падении он вывихнул левую ногу. Но, невзирая на острую боль, ему достало мужества дотащиться с двойным грузом до густой купы деревьев, что росли посреди лужайки в двух-трех сотнях метров от замка. Там он затаился и стал ждать.
Тем временем пожар полыхал уже вовсю: подхваченные неумолимым натиском бури, языки пламени вздымались до самого неба, окрасившегося в цвет крови, и озаряли парк и всю округу яркими бликами, сродни отблескам солнца.
Вдруг на фоне сверкающей огненной стены возник силуэт рослого всадника – он восседал на великолепном скакуне, и на лице у него была черная маска… слышите, капитан, черная маска! Всадник осадил коня, повернулся лицом к огню и зычно крикнул: «Ну что, Тристан де Шан-д’Ивер, что ты теперь скажешь? Будешь ли ты и в этот раз жаловаться господам судейским в Доле?»
Вслед за тем, пустив коня в галоп он свернул за угол замка и скрылся из вида.
Этого человека, хоть он и был в маске, Марсель Клеман признал – не только по голосу, но и по стати, манерам и поведению. То был Антид де Монтегю – этот человек в черной маске. Убийца графа де Миребэля! Похититель Бланш! Губитель моего отца!
Мне остается прибавить еще самую малость, капитан… Надо мной нависла смертельная угроза. Мое имя стало для меня смертельным приговором. Узнай сир де Монтегю, что я жив, мне пришел бы конец. Марсель Клеман отлично это знал – и решил скрыть мое настоящее имя даже от меня самого. Он отвез меня во Францию, выдав за своего сына, и вбил мне в голову, что я француз.
В кованом ларчике, который этот примерный управляющий спас вместе со мной, лежали все бумаги, удостоверяющие титулы моих предков и мое собственное происхождение. Там же хранились и все семейные бриллианты Шан-д’Иверов, то есть почти что миллионное состояние.
Марсель воспитывал меня как благородного сеньора, а когда мне исполнилось восемнадцать, он отдал меня на воинскую службу. И я все считал его моим отцом. И вот спустя год, когда мой полк был направлен на осаду Доля, Марсель, не желая, чтобы я воевал против моих соотечественников, раскрыл мне тайну моего рождения. Он поведал мне все, что я рассказал вам, передал все бумаги, удостоверявшие правоту его слов, и прибавил, что самому Господу было угодно осенить мое чело непреложной родовой печатью. Благодаря моему полному сходству с отцом, любой, кто когда-то знавал Тристана де Шан-д’Ивера, глядя на меня, сказал бы, что это он собственной персоной.
Исполнив таким образом свой долг до конца, достойный слуга, достигший к тому времени весьма преклонного возраста, тихо почил, счастливый тем, что однажды я смогу вернуть себе имя и титул моих предков.
Итак, капитан, я рассказал вам историю моей жизни. Теперь вы все знаете. И мне остается лишь повторить то, что я говорил, когда начал свой рассказ: так кто же я, заурядный выдумщик или же истинный дворянин? Ответьте!
Лакюзон протянул Раулю руку.
– Барон де Шан-д’Ивер, – сказал он, – добро пожаловать в наши свободные горы! Франш-Конте, ваша колыбель, от моего имени приветствует вас и принимает как самое дорогое из своих чад. Я полагаюсь на вас, Рауль де Шан-д’Ивер, и рассчитываю, что вы последуете по героическим стопам Реджинальда, вашего предка, когда-то сражавшегося во главе вооруженных вассалов, солдат Генриха IV, и вышедшего победителем из той борьбы.
– Благодарю, капитан! – с воодушевлением отвечал молодой человек. – Я постараюсь оправдать ваше доверие и имя, которое ношу.
– Вы официально покинули французское войско?
– Да, вот уже месяц как я передал шпагу и командование в руки господина де Виллеруа.
– Хорошо. Нельзя оставлять за собой ни малейшей тени измены. А теперь у меня есть к вам вопрос.
– Задавайте, капитан. Я готов дать ответ на любой ваш вопрос.
– Откуда вы знаете Эглантину?
– Год назад, как я уже говорил, меня направили во Франш-Конте в составе французского войска. Я участвовал в осаде Доля. Маркиз де Виллеруа, при котором я состоял в адъютантах, иногда отряжал меня с поручениями к частям, рассредоточенным по деревням и лесам Шо. И как-то раз случай привел меня к дверям дома, где жили ваш дядюшка и ваша кузина. Так я увидел Эглантину. Так я ее полюбил. Старику отцу и его молодой дочери нужен был покровитель, который оградил бы их от оскорблений и посягательств солдатни, уверенной, что на вражеских землях дозволено все. И этим покровителем стал я. Мне посчастливилось оказать кое-какие услуги вашему дядюшке – он проникся ко мне благодарностью и принимал в своем доме как сына. То была счастливая пора. Эглантина без умолку говорила мне о вас, рассказывала, какой вы смелый, какой вы герой и какой благородный – истинно рыцарь; она породила в моем сердце горячее желание познакомиться с вами и подружиться. Но вот настал день расставания. Мне надлежало вместе с главнокомандующим возвращаться во Францию. И в тот день Эглантина сказала мне: «Если дом наш будет пуст, когда вы вернетесь, поезжайте в горы, разыщите капитана Лакюзона, моего двоюродного брата, и доверьтесь ему – расскажите все-все без утайки. Он меня очень любит и точно так же полюбит вас и проводит вас ко мне». На том я отбыл. А когда вернулся, несколько дней назад, то увидел, что дом ее действительно опустел. Тогда я вспомнил слова Эглантины. До меня дошли слухи, что вы в Сен-Клоде, и я отправился разыскивать вас там, а повстречал в Лонгшомуа.
– Но почему, – удивился Лакюзон, – ни дядюшка, ни его дочь ничего мне о вас не рассказывали?
– Боже мой, – воскликнул Рауль, – неужто она меня забыла!
– Нет, – возразил капитан, – если Эглантина кому и отдаст свое сердце, то раз и навсегда. Просто дядюшка с кузиной, полагая, что вы француз, не захотели мне признаться, что подружились с французом.
На мгновение воцарилась тишина, потом Лакюзон продолжал:
– Меня много чего беспокоит, Рауль. Вы хорошо все обдумали? Вы богаты и благородны, а Эглантина девушка бедная, не бог весть какого происхождения и обездоленная. К чему вам такая любовь?
– Не понимаю вас, капитан, – живо ответил Рауль. – К чему мне такая любовь? Ну конечно, тут нечего скрывать: я хочу, чтобы Эглантина стала баронессой де Шан-д’Ивер, если вы не считаете меня недостойным породниться с вами.
– Значит, вы просите у меня руки моей кузины?
– Определенно, и я сегодня же попрошу о том и ее отца, если увижу его. А нет – так завтра.
– Отныне, Рауль, – взволнованно проговорил капитан, – вы мне брат! Вам угодно знать, где сейчас Эглантина. И я скажу: она в Сен-Клоде – прячется и сию минуту, пока я разговариваю с вами, конечно, стоит на коленях перед распятием, омывая его слезами, и молит Бога спасти ее отца, который не сегодня завтра умрет.
– Умрет! – в изумлении повторил Рауль. – Кого вы имеете в виду? Кто должен вот-вот умереть?
– Пьер Прост.
– Умрет! – повторил про себя молодой человек. – Но почему? Он что, ранен? Или сражен настолько опасным недугом, что его не спасти и часы его уже сочтены?
– Он не ранен и не болен. Он в заточении. И обречен.
– Обречен!.. За какое же преступление его осудили и каким судом?
– Известно ли вам, что два дня тому Сен-Клод захватил сир де Гебриан со шведами?
– Да, я узнал об этом в Шампаньоле.
– Безоружный, не готовый к нежданному вторжению город не мог защищаться – и был разграблен. Многие досточтимые горожане заплатили жизнью за тщетное сопротивление, других же бросили в темницу. И Пьер Прост, дядюшка мой, оказался в числе последних. Его арестовали как лазутчика – его, живое воплощение лояльности! Его заковали в цепи и бросили в «каменный мешок», в городском монастыре, а завтра утром поведут на казнь.
– Ах! – вскричал Рауль. – Они не посмеют!
Лакюзон пожал плечами.
– Не посмеют? – возразил он. – На площади Людовика XI уже сложили костер. Никто не верит в это нелепое обвинение в шпионаже, все думают, это лишь предлог. Кому-то угодно, чтобы мой дядя умер: он же мне родственник, и его смерть должна устрашить горцев.
– Какая низость! – пробормотал Рауль.
– Да, низость. А от темницы до костра путь не такой уж близкий, как кажется.
– Так вы надеетесь спасти Пьера Проста?
– Эх, если б не надеялся, неужели, думаете, держался бы как ни в чем не бывало? Еще бы, конечно, надеюсь. Не я ли неизменно оказываюсь там, где нужно спасти безвинного и послужить святому делу?
– Возможно, я смогу вам помочь.
– Вы, Рауль?
– Да, я, и если не как франш-контийский барон Рауль де Шан-д’Ивер, то уж по крайней мере как французский офицер Рауль Клеман.
– Каким же образом?
– Я часто виделся с графом де Гебрианом у маркиза де Виллеруа и знаком с ним. Он не знает, что я больше не состою в союзной ему армии. Зато он знает, что генерал некоторым образом мне благоволил и не откажет, если я попрошу его помиловать отца Эглантины.
– Помиловать! – горячо воскликнул Лакюзон. – Просить помилования!.. Умолять!.. Заклинать!.. Склонить голову перед шведом!.. Нет, нет, Рауль, никакого помилования такой-то ценой. Да и дядюшка счел бы, что это слишком дорогая плата за его жизнь. К тому же не на просьбы я уповаю, а на кое-что получше.
– И что вы намерены делать?
– Увидите…
Он снова смолк.
Вскоре двое всадники выехали на возвышенность, откуда их взору открылась великолепная картина, освещенная тусклым светом бледной луны. Перед ними простиралась долина, где лежал город Сен-Клод; на горизонте возвышались вековые ели, венчавшие хребты скал, словно мрачно-зеленые стены, что вздымались вдоль берегов Бьен до вершин Сетмонселя.
Дорога, которой наши путешественники намеревались следовать дальше, тянулась, резко поворачивая, вдоль склона горы Сенкетраль. В глубине долины чернела громада города.
– Рауль, – вдруг спросил Лакюзон, – когда вы думаете вернуть себе имя своих предков?
– Когда отомщу за отца, – ответил молодой человек. – Когда убийца-поджигатель сполна заплатит за кровь и пожар.
– Я ждал такого ответа. Кому же вы намерены мстить?
– Кому? – удивленно переспросил Рауль. – Кому же как не злодею, натворившему столько бед! Кому как не презренному Антиду де Монтегю! Я с огнем и мечом явлюсь к нему в Замок Орла, и вы мне поможете, правда же, брат? Ибо только так я смогу исполнить мой священный долг.
Лакюзон покачал головой.
– Рауль, – сказал он, – я хочу, я обязан отплатить за ваше доверие той же монетой и не могу скрывать от вас правду. Я отдал бы жизнь за вас, случись такая надобность, но вам не стоит рассчитывать на меня, уж коль вы задумали мстить Антиду де Монтегю. Больше того, я буду стоять на его стороне, то есть против вас, а если и не против вас, то, по крайней мере, за него.
– Против меня, брат! Против меня – на его стороне! – вскричал Рауль. – Не может быть!
– И тем не менее это правда.
– Но почему?
– Потому что, когда общая беда нависла над всеми нами, личные разногласия и злоба, сколь бы ужасны ни были их причины, должны быть забыты. Потому что не должно быть врагов среди тех, кто служит одному делу, по крайней мере на то время, пока это дело под угрозой. Потому что теперь Антид де Монтегю, владетель Замка Орла, один из самых пламенных и влиятельных борцов за свободу Франш-Конте. Из числа его вассалов я пополняю свои партизанские отряды. Это он дает нам деньги, провизию и оружие, когда мы лишаемся всего. Это он кормит и оберегает матерей, сестер и дочерей крестьян, взявших в руки оружие. Наконец, там, в замке Орла, расположен главный штаб горцев, где разрабатываются все военные операции. Так что сами видите, Рауль, услуги, которые нам оказывает Антид де Монтегю, действительно огромны, и если для вашего рода этот благородный сеньор злодей, то для меня он святой!
– Понимаю вас и не могу с вами не согласиться, – ответил Рауль. – Я подожду… я буду ждать спокойно и терпеливо, хотя, возможно, долго ждать мне не придется. Придет день, брат, и вы сами отдадите мне этого человека и станете на мою сторону, чтобы его сокрушить, ибо Господь не был бы справедлив, если бы позволил похитителю, поджигателю и убийце и впредь скрываться за личиной вашего верного и преданного союзника. Попомните, капитан, мои слова: тайное чутье подсказывает мне, что Антид де Монтегю подлец и изменник. И еще попомните: однажды я вам это докажу!
Лакюзон хранил молчание.
Он не знал, что ответить на эти слова, исполненные неумолимой, безжалостной логики. К тому же ему показалось весьма сомнительным, что Господь соблаговолил бы воспользоваться этой подлой, преступной рукой, чтобы вершить великие, благородные дела.
В это время двое всадников выехали на берег Бьен, протекающей по дну долины совсем неподалеку от укреплений Сен-Клода.
Лакюзон повернул лошадь налево, оставляя город по правую руку, и вскоре подъехал к опушке густой рощицы, в которую углубился в сопровождении Рауля.
Не успели они проделать под лесным пологом и двадцати пяти шагов, как услышали сухой, металлический скрежет, каким сопровождается зарядка мушкета.
Вслед за тем послышался окрик:
– Стой, кто идет!
– За Сен-Клод и Лакюзона! – откликнулся капитан.
XI. Пара незатейливых куплетов. – Сен-Клод
– А, это вы, капитан! – продолжал тот же голос, что встретил их окриком: «Стой, кто идет!»
Из кустов выбрался франш-контийский партизан, облаченный в тот же костюм, что и предводитель горцев, и схватил под уздцы лошадь своего командира.
– Слезайте, Рауль, – сказал капитан, спешиваясь.
Рауль повиновался, и горец отошел в лес, уводя с собой лошадей.
Лакюзон остановился и спросил своего соратника:
– Есть новости?
– Никаких, капитан.
– А что в городе?
– Шведы с серыми разграбили винные погреба, не обошли и монастырские, опустошали их вечер напролет и сейчас, верно, нарезались до чертиков.
– Хорошо. Ступай.
Затем капитан свернул на дорогу, что вела в Сен-Клод, и на выходе из рощицы обратился к своему спутнику:
– Теперь, Рауль, ни слова! Старайтесь не ступать на гальку и придерживайте шпагу, чтоб не билась о стволы пистолетов. Враг везде и всюду: впереди, сзади – со всех сторон. Малейший шум может спровоцировать пальбу: мы превосходная мишень для мушкетов. Спустимся к реке – надо держаться поближе к ивам, чтоб лунный свет не выдал нас.
Соблюдая все меры предосторожности, о чем предупреждал франш-контиец, они вдвоем вышли к тому месту, где Бьен, несшая свои воды по каменистому руслу, образовывала крутой извив, за которым в ста пятидесяти – ста шестидесяти метрах уже начиналась городская стена. Глубина реки в этом месте была не больше полуфута.
– Стой! – шепнул капитан, остановившись за узловатым стволом огромной ивы и удерживая Рауля за руку рядом с собой.
Через полминуты он поднес ладони к губам и крикнул по-совиному, да так ловко, что Рауль невольно вскинул глаза в поисках ночной птицы, которая, наверное, затаилась в ветвях старого дерева.
Лакюзон, заметив это движение, наклонился к своему спутнику, и едва разборчиво шепнул ему в ухо пару слов:
– Это сигнал.
– Что он означает?
– Мы здесь.
– Ответ будет?
– Да.
В тот же миг, в подтверждение слов капитана, послышался другой крик совы – не иначе, как прямо из города, – правда, приглушенный расстоянием.
– И что теперь? – спросил Рауль, стараясь говорить тише.
– Подождем.
– Чего?
– Увидите.
И Лакюзон поднес палец к губам, призывая спутника к молчанию. Рауль затаил дыхание.
Луна освещала часть рухнувшей крепостной стены – прямо напротив двух наших друзей. Огромная башня с разрушенными зубцами отбрасывала смутную тень на остатки укреплений.
Караульный, швед, с мушкетом на плече неспешно ходил взад-вперед по площадке длиной не больше двухсот шагов. Ствол его мушкета, эфес шпаги, рукоятки кинжала и пистолетов посверкивали в лунном сиянии, когда часовой выходил на освещенную часть крепостной стены, – и все эти блики мгновенно угасали, стоило ему войти в тень старой башни.
Еще около четверти часа шведский караульный в полном одиночестве продолжал монотонно расхаживать туда-сюда. Вслед за тем на стене, в лунном свете внезапно возникла другая фигура – будто намеренно, чтобы ее лучше было видно, потом она так же неожиданно скрылась в той части укреплений, которую поглощала тень. Прошла пара секунд. Караульный повернулся к новоприбывшему спиной.
И тут с башенной площадки, из тени, послышался дрожащий, сдавленный голос, вернее, пение:
Граф Жан, уж час заветный наступает, Уж солнце горизонт ласкает, И колокол как будто бы рыдает, Уж соловей в листве знай распевает, И розы цвет благоухает В долине, где поступь моя затихает. Ищу тебя я тщетно во мгле. Граф Жан, я здесь, приди же ко мне!Когда стихла последняя нота куплета, караульный, сначала застывший в изумлении, скорым шагом направился к затененному месту, откуда слышалось пение.
Ветром до слуха Лакюзона и Рауля донесло невнятные обрывки оживленной перепалки – потом лязгнуло железо – раздался глухой, неопределенный шум.
Все произошло меньше чем за минуту.
Шведский солдат, с мушкетом на плече, появился опять – и снова стал в караул. Только теперь он почему-то был выше ростом.
Тут издалека послышался окрик:
– Часовым – не спать!
Ему, уже ближе, вторил другой, сиплый окрик:
– Часовым – не спать!
Потом еще один, и еще.
Солдат, которого капитан с Раулем не теряли из вида, повинуясь военному предписанию, действующему в захваченных городах, во всю глотку проорал, повторяя привычный приказ:
– Часовым – не спать!
Тот же крик, подхватываемый другими голосами, постепенно отдалялся и звучал все глуше.
Когда он совсем стих, караульный вдруг остановился, весьма бесцеремонно прислонил мушкет к бойнице и, скрестив руки на груди, затянул второй куплет незатейливой песенки:
Пастушка под покровом тьмы Возлюбленного пастушка искала, Вся в белом сквозь ночную мглу бежала, Между деревьями, что на пути ее росли. Звезда от водной глади свет свой отражала, И ветерок чуть слышно все шептал в ночи, И эхо в скалах повторяло: Граф Жан, я здесь, скорее же приди!– Это Гарба, – едва слышно выпалил Лакюзон. – Там, на стене пока никого. Идемте, Рауль.
Они вдвоем покинули убежище под сенью ивы, перешли Бьен вброд, не замочив и колен, и вскоре оказались у подножия стены – вернее, башни. Вдоль стены, прямо к их ногам соскользнула веревочная лестница.
– Я полезу первый, – сказал капитан, хватаясь за лестницу. – Вы за мной…
Так, друг за дружкой, они взобрались на край башни, обрамленный замшелыми зубцами.
Чуть в стороне на площадке валялась какая-то темная куча.
– Что это, Гарба? – спросил Лакюзон.
– Это, капитан? – отвечал тот, к кому был обращен вопрос. – Да ничего особенного. Тело шведа, который мешал мне петь.
– Что нового?
– Ничего, капитан.
– Где узник?
– Под охраной.
– А полковник с преподобным?
– Вас дожидаются.
– Казнь не отложили?
– Нет. Палач во всеоружии. Недостает только огня и жертвы.
– А наши где?
– Здесь.
– Все?
– Да.
– Отлично. Ступай вперед. Идем в дом на главной улице…
* * *
Здесь мы считаем необходимым дать читателям точное представление о городе Сен-Клод, где должны произойти некоторые важные события нашего рассказа. И наилучшим способом, как нам думается, было бы привести дословно то, что писал об этом историческом месте видный литератор (из него нам многое приходится заимствовать) господин Луи Жуссерандо в «Змеином алмазе», одном из своих замечательных произведений, посвященных Франш-Конте семнадцатого века.
Итак, предоставим ему слово:
«Надо, – пишет он, – быть прокаженным, внушающим страх и отвращение ближним, или законченным злодеем, бегущим от правосудия людского, или же святым отшельником, воодушевленным религиозным чувством, евангельской верой, присущими отцам церкви, чтобы всего лишь помыслить о том, как можно прожить жизнь в этом захолустье.
Подобные мысли приходят в голову всякому, кто впервые попадает в Сен-Клод.
Представьте себе три высокие, шестисотметровые горы, расположенные треугольником; на середине подъема склон одной из этих гор переходит в продолговатое плато, ограниченное с одной стороны остроконечным утесом, который бог весть почему называется Девичьей скалой, а с другой – неприметной тропой, ведущий в глубь долины. На этом-то уступе и построили город.
Две трети года занесенный снегом, городок открывается взору путешественника лишь с близлежащих вершин, и угадывается он только по огромным дымящим трубам. Долгие зимы не щадят ни одно растение вокруг. Только вечнозеленые лишайники, цепляющиеся за эту голую скалу, нарушают однообразную белизну окружающего ландшафта.
Дороги, почти невидимые из-за громадных сугробов, едва позволяют спуститься на дно горной бездны: здесь слишком велика опасность сбиться с пути и сорваться в пропасть, откуда уже нет возврата.
Вот почему на тамошних горных пастбищах не увидишь ни коров, ни пастухов, а на равнинных лугах не встретишь ни овец, ни баранов, ни коз с набухшим, отвислым выменем, взбирающихся на пригорки и пощипывающих траву да цветы у самшитовых зарослей.
Отовсюду слышится лишь воронье карканье, волчий вой, крик орла и прочей хищной птицы, кружащей в поисках пищи и возвращающейся к себе в гнездо либо в печали, либо в радости, в зависимости от исхода охоты.
Человек же сидит дома, в кругу семьи, поглощая провизию, заготовленную в лучшее время, и ждет весны, точно умирающий с голоду нищий, уповающий на подаяние богача.
Это захолустье, самое глухое в Юрский горах, некогда выбрал для себя один святой пустынник, прибывший сюда для того, чтобы в тиши и покое предать забвению мирскую суету и порочные страсти человеческие. Святого звали Ромен, и жил он в те времена, когда на земле секванов[24] только-только было утверждено христианство.
Пустынь его называлась Кондат, а вскоре рядом с ним поселился и его брат Люпицен. Но прошли годы, и это уединенное пристанище уже не могло вместить всех ревностных христиан, уходивших туда толпами, и тогда новоприбывшие стали селиться в местечке под названием Лесон, которое позднее получило имя Сен-Люпицен, в честь одного из основателей.
После смерти святого Ромена Люпицен вернул в Кондат верующих, коих возглавлял, и основал общину, которая со временем могла потягаться в довольстве с самыми зажиточными монастырями в Европе.
Но, увы! Неужели человеческой натуре и впрямь свойственно губить самые прекрасные начинания?
Неужто закон природы действительно требует, чтобы даже самые святые помыслы приносились в жертву честолюбию и корысти? Святой Ромен утвердил это место для молитв, исполненных истинной веры. Ибо только вера и любовь к Богу направляла его шаги. Он основал храм, сводом которому служили неоглядные небеса, стенами – бескрайние ельники, а алтарем – голая скала. Затерянный в своей пустыни, где единственной пищей ему служили коренья, а единственным питьем – родниковая вода, он жил только помыслами о Царстве небесном, куда ведет тернистый путь, который необходимо проделать человеку, дабы в конце его обрести отдохновение от тягот земных.
Но вот он умер, и последователи, забыв его пример, превратили сию обитель благочестия в могучий оплот феодальной иерархии.
Нажившись за счет богатых приношений, какие паломники всех мастей складывали к стопам святого Клода, архиепископа Безансонского, родившегося в Браконе, близ Салена, и почившего в 696 году, монахи сего монастыря приобрели обширные владения, понастроили замков для их защиты, призвали к себе в услужение вооруженных наемников, вассалов и крепостных. Они обложили десятиной и оброком всю округу, они чеканили свою монету, заручились в Бургундском государстве охранными грамотами и правом выносить окончательные решения.
Одним словом, сия скромная пустынь, некогда служившая прибежищем бедному отшельнику, за несколько столетий превратилась в один из богатейших монастырей в Европе, а его обитатели – в наглых землевладельцев, которые дошли до того, что требовали ото всех, кто желал к ним присоединиться, грамоты, удостоверяющие их принадлежность к старинным дворянским родам…»
* * *
А теперь мы просим наших читателей любезно последовать за нами в одну из комнат в первом этаже маленького домика, тесного и приземистого, расположенного неподалеку от площади Людовика XI, на краю главной городской улицы.
Эта комната, которую мы не станем подробно описывать, была обставлена довольно скромно. Колпак камина украшало большое распятие, помещавшееся рядом с заженной медной лампой; в очаге горели коренья. Перед камином, друг напротив друга, сидели двое, опершись локтями на разделявший их стол пиренейского дуба.
Один из них был священником. Он пребывал в том возрасте, в котором, считается, наступает полный расцвет сил. Его лицо, красивое и открытое, с заостренными чертами, несло печать неукротимой энергии, и единственное, что его сейчас омрачало, так это тень озабоченности и тревоги.
Его визави, облаченный в военный мундир, очень похожий на тот, что носил капитан Лакюзон, был крупным, приятной наружности стариком атлетического сложения, плечи которого ничуть не согнулись под бременем прожитых лет. У него были довольно выразительное лицо, седые, словно посеребренные, волосы, коротко остриженные по моде шотландских пуритан, и длиннющие седые же усы. Его большие голубые глаза сверкали живым, ярким огнем, как у юноши. Его глубокомысленный, проницательный взгляд, словно в рассеянности, остановился на одной из потолочных балок; лоб нахмурился; губы непроизвольно сжались. Все в нем выдавало мрачную озабоченность, поглотившую и священника.
Они не обменялись ни словом.
Соборный колокол пробил два удара – звонкие железные ноты раскатились в разные стороны, сотрясая воздух.
От внезапного звона священник и солдат разом вздрогнули.
– Два часа! – вскричал последний. – Уже…
– Полковник, – спросил священник, – вы чем-то встревожены, не так ли?
– Еще бы! Ему следовало быть здесь в полночь. Он обещал. Знает ведь – время не терпит. Да и палачи ждать не будут. Должно быть, его задержало что-то непредвиденное. А непредвиденное таит угрозу, тем более что шведы с серыми хозяйничают в горах и на равнине.
– К тому же он один, – прибавил священник.
И через мгновение прибавил:
– Помолимся!
Он тот час же встал с табурета и, повернувшись к распятию, начал молитву.
Но не успел он произнести первых ее слов, как она была услышана.
Снаружи в дверь тихо постучали, потом еще раз… и еще.
Старый солдат кинулся к двери.
– Кто там? – спросил он, перед тем как открыть.
Ему ответствовал голос капитана:
– За Сен-Клод и Лакюзона!
– Это он! – облегченно вздохнув, проговорил священник.
Дверь отворилась. Капитан с Раулем прошли в комнату.
Сопровождавший их Гарба ретировался, направившись к площади Людовика XI.
XII. Троица
– Добро пожаловать, Жан-Клод! – в один голос воскликнули священник с полковником.
– Благодарю, отец мой! Благодарю, полковник! – отвечал Лакюзон. – Кажется, я припозднился?
– На два часа с лишним. Мы уж начали беспокоиться, не случилось ли чего.
– И беспокоились вы не напрасно, ибо я едва не угодил в смертельную ловушку. Впрочем, об этом позже. Скажу только, вы бы точно больше никогда меня не увидели, если б сам Бог не послал мне на выручку этого благородного человека, – так что считайте его моим спасителем.
И Лакюзон вывел вперед Рауля, который по совету капитана до поры скрывал свое лицо за воротом плаща.
Старый солдат и священник взяли молодого человека за руки, каждый за одну, и пожали их с чувством глубокой, сердечной признательности.
– Рауль, – воскликнул Лакюзон, – вы обменялись рукопожатиями с двумя героями, живым воплощением отваги и верности! Вот полковник Варроз, а вот преподобный Маркиз. Теперь же, когда вы знаете, кто эти двое, пусть и они узнают, кто вы такой. Прежде всего откройте им свое лицо, а потом представьтесь; все, что вы им скажете, я готов подтвердить, и они могут и должны мне верить.
Рауль скинул плащ, а широкополую шляпу, надвинутую на лоб, бросил на стол.
Варроз с изумлением, едва ли не с ужасом, воззрился на внезапно открывшееся ему лицо.
Он крепко схватил священника за руку и, отступив назад на два-три шага, глухим голосом вопросил:
– Возможно ли, преподобный? Возможно ли такое? Неужто мертвецы нынче могут восстать из могил, запечатанных двадцать лет тому, и предстать перед нами живьем, как в те времена, когда Господь крикнул упокоившемуся Лазарю: «Встань и иди!»
– О чем это вы, полковник? – искренне удивился преподобный Маркиз. – Что-то я вас не пойму.
– Как, разве не видите: прямо перед вами, недвижный и безмолвный, стоит образ или призрак моего погибшего друга… Тристана де Шан-д’Ивера?
Преподобный Маркиз, не знавший барона лично, не нашел, что сказать.
Рауль решил сделать это за него.
– Полковник Варроз, – взволнованно проговорил он, – ваши глаза и сердце обманывают вас лишь наполовину. Вы действительно видите перед собой Шан-д’Ивера. Но только не своего старого друга, а его сына, явившегося вам вместо отца, – Рауля вместо Тристана.
– И я повторяю, полковник, – подтвердил Лакюзон, – все, что он сказал, – правда, и я с полной уверенностью отвечаю за каждое его слово.
– Ах, – прошептал Варроз, воздевая к распятию сложенные вместе руки, – хвала Богу! Хвала за то, что он принес мне такую радость на старости лет! Рауль де Шан-д’Ивер… один из Шан-д’Иверов… сын Тристана! Последний из этого великого, доблестного рода! Он жив, я вижу… О Рауль… мальчик мой, сынок!..
И старый солдат схватил молодого человека за руки, притянул к своей груди, прижал к сердцу и принялся безудержно целовать, прерывисто и невнятно бормоча, а по его обветренным щекам катились слезы радости и умиления.
Капитан Лакюзон с преподобным Маркизом молча наблюдали за этой сценой, такой прекрасной и трогательной, и сами едва сдерживали переполнявшее их волнение.
– Шан-д’Ивер! – шепнул Лакюзону священник. – Это знаменитое имя. Оно разносится по всей провинции, подобно гласу гедеоновой трубы под стенами Иерихона. И этот молодой человек – наш?
– Душой и телом.
– И его родовое знамя будет развеваться среди наших штандартов?
– Нет, отец мой, это невозможно. Рауль отдаст нашему делу свою отвагу, разум, шпагу, но начертать свое имя на наших знаменах он не может. Потому как ему приходится, по крайней мере до поры, скрывать тайну своего рождения.
– Но почему?
– Скоро скажу, а вернее, он сам все расскажет.
Покуда преподобный Маркиз и капитан чуть слышно вели меж собой этот разговор, Варроз, сделав над собой усилие, ослабил объятия, из которых все это время не выпускал Рауля, и, смахнув со щеки последнюю слезу тыльной стороной своей огромной ладони, сказал:
– Прости меня, сынок, за такой чересчур горячий прием, что совсем некстати. Лить слезы – удел женщин, а не старых вояк. Но я не мог сдержаться. Поймите, я так любил вашего отца! И ваше с ним странное сходство перенесло меня в пору моей юности. Вы воскресили в моей памяти столько горьких и приятных воспоминаний! Сам Бог сохранил вас, Рауль. И добро пожаловать в ряды борцов за свободу Франш-Конте!
– Благодарю, полковник Варроз! Спасибо, благородный друг моего отца! – воскликнул Рауль. – И скоро я постараюсь доказать вам, что я не только лицом похож на Тристана де Шан-д’Ивера.
Полковник собирался ему что-то ответить, но преподобный Маркиз встал между стариком и молодым человеком и, положив руку на плечо Раулю, сказал:
– Барон де Шан-д’Ивер, или как вам сейчас угодно себя называть, вы нам сын и брат, ибо вы спасли жизнь нашему сыну и брату Жан-Клоду Просту. Отныне у нас все общее. Вы будете разделять с нами наши беды. А если Господь благословит наше дело, вам достанется и часть нашей победы. Если же, напротив, Господь, не поддержит его, вас погребут вместе с нами под полотнищем нашего поверженного знамени. Ну а пока забудем о себе – подумаем об узнике, который, сидя в темнице, считает минуты перед тем, как его поведут на казнь.
– Преподобный Маркиз, – возразил капитан, – зачем поминать казнь, когда Лакюзон уже здесь и готов принять бой?
– Палачи тоже не дремлют, и в восемь утра Пьер Прост должен умереть.
– Ну что ж, в восемь утра Пьер Прост будет мною спасен, а нет, так я умру вместе с ним.
– Мы умрем вдвоем, капитан, – воскликнул Рауль, – мы будем вместе и в спасении, и в смерти!
– Шведы тоже начеку, – продолжал священник, – казнь сородича капитана Лакюзона для них праздник и торжество. Потом, давеча в городе видели Черную Маску, а это, сами знаете, для нас неизменный знак беды.
Услыхав из уст Маркиза эти два слова: «Черная Маска», – Рауль содрогнулся. Он собрался было расспросить его, но Лакюзон не дал ему времени.
– Э, – с горячностью проговорил он, – да что мне шведы с серыми! Что мне Гебриан с Черной Маской? Значит, говорите, они соберутся вокруг костра, как на праздник? Что ж, ради бога! Я не стану их разочаровывать. У них будет праздник – яркий от крови, обещаю! Пускай себе смолят факелы! Клянусь Айнзидельнской Богоматерью, я залью их костер кровью!
– Шведов много, – продолжал Маркиз.
– А я когда-нибудь вел счет врагам? Да и какая разница, сколько их. Каждый мой горец стоит десятка шведов, и горцы всегда со мной.
– Но как они попадут в город?
– Они уже здесь – со вчерашнего дня.
– Все?
– По крайней мере столько, сколько нужно. Гарба, только что оставивший меня, отдаст им последние мои наставления и приказы.
– У шведов чересчур горячий военачальник, к тому же, говорят, граф де Гебриан неплохой тактик.
– Что ж, если у шведов один военачальник, у горцев их трое! И нынче утром, как только пробьет роковой час, они увидят над своими головами и красную мантию преподобного Маркиза, эту хоругвь великих сражений, и седые усы Варроза, и шпагу Лакюзона… А Маркиз, Варроз и Лакюзон, возможно, стоят больше, чем Гебриан.
– Он прав, – согласился полковник, – тысячу и один раз прав! Я с ним заодно, потому что верю ему. Неужели, черт возьми, вы думаете, что шведы, эти разбойники и наемники, которые воюют за деньги, смогут противостоять, будь их хоть двадцать на одного, неумолимому натиску наших вольных бойцов, у которых одна цель – сокрушить позорный костер? Повторяю, преподобный Маркиз, мальчишка верно говорит.
– Надеюсь, полковник, коли вы так полагаете, – ответствовал священник.
И, дав Лакюзону знак преклонить колени, он возложил на него руки и промолвил:
– Призываю на голову твою Божье благословение всем сражающимся, и если ты потерпишь неудачу в своем дерзновенном предприятии, умри прощенным и вознесись прямо на небеса!
– Благодарю, отец мой, – поднимаясь с колен, проговорил Лакюзон.
И вслед за тем пожал руки сначала священнику, потом полковнику.
Подобный союз, нерушимый и благородный, освящал эту троицу и делал ее такой сильной.
Рауль де Шан-д’Ивер с восхищением наблюдал за этими прекрасными товарищами и говорил себе: какой бы великой ни делала их народная молва, руководимая гласом Господним, – vox populi, vox Dei![25] – когда видишь их вблизи, они кажутся воистину великими.
С улицы послышались шаги – они быстро приближались.
Четверо наших героев, собравшихся в низенькой комнатенке, разом смолкли и прислушались. Рядом с домом шаги стихли – и в дверь трижды негромко постучали, в точности как незадолго до этого – капитан.
– Кто там? – спросил Варроз.
Снаружи ответили:
– За Сен-Клод и Лакюзона!
Дверь отворилась.
Новоприбывший был облачен в монашескую рясу. Надвинутый капюшон полностью скрывал его лицо.
– Dominus vobiscum[26]! – твердым, звонким голосом проговорил он.
– Amen[27]! – ответствовал преподобный Маркиз.
– И да пребудет с вами мир, возлюбленные братья мои, – прибавил монах, сбрасывая капюшон, скрывавший его приятное, полнощекое лицо с красными губами, какое не увидишь ни на одном из мрачных и восхитительных полотен Доминикино[28], Лесюера[29] и Сурбарана[30], этих великих подвижников от живописи.
– Клянусь честью, – воскликнул Варроз, – это же добрейший брат Мало!
– Какими судьбами, брат? – спросил Маркиз. – И почему в этот ночной час вы не с капитулом?
– Увы, – с печальным вздохом проговорил монах, – капитула больше нет.
– И где же вы теперь собираетесь?
– В ратуше… не в самом лучшем месте для нас. Шведы изгнали нас из нашей обители – теперь там обрел пристанище граф де Гебриан. Эти горе-вояки разграбили нашу казну, опустошили подвалы… Да отвернется от них Господь!
Преподобный Маркиз невольно передернул плечами.
– Э, – проговорил он довольно резко, не в силах сдержаться, – разве Богу нужна ваша казна с подвалами? Когда-то кубки были из дерева, а монахи пили воду. И исправно служили Господу… Но прости, брат, я знаю, мое мнение противно вашему. Давай же вернемся к тому, что побудило тебя прийти сюда. Ведь ты здесь неспроста?
– Конечно, конечно, я пришел неспроста, – ответил монах, слегка смущенный резким замечанием строгого священника. – Я пришел… я собирался…
– Успокойтесь, брат мой, а я еще раз прошу простить меня за излишнюю резкость – не берите мои слова в голову. Итак, мы вас внимательно слушаем.
– Ну так вот, – начал брат Мало, – наш настоятель поднял меня ночью, едва я успел заснуть, и поручил мне без промедления прибыть в темницу к Пьеру Просту, которого должны казнить в восемь утра на площади Людовика XI, и принять его последнюю исповедь. Темница эта находится аккурат в подземельях нашей обители. Туда я, собственно, и направлялся, раздумывая, как вам рассказать о данном мне поручении, и памятуя о том, что вы тоже хотели бы передать кое-что на словах бедному Пьеру Просту. Но я так ничего и не придумал. Я даже не знал, что вы в Сен-Клоде, а это, согласитесь, с вашей стороны, крайне неосторожно, ибо таким образом, как говорится, вы сами лезете в волчью пасть. Впрочем, это касается только вас самих. По дороге, свернув на главную улицу, я случайно повстречал Гарба и рассказал ему о своих затруднениях. А он, зная мою порядочность и набожность, хоть я и охоч до старого, доброго винца из наших подвалов, – он дал мне пароль, показал, где вас найти, и вот я здесь. Весь к вашим услугам. Коли надо, я охотно отдам голову свою на отсечение, лишь бы вытащить из переплета этого достойного и честного малого – Пьера Проста. Ведь он, когда еще пользовал бедняков, излечил меня от нестерпимых болей в коленке. К тому же я знаю: это мой долг, – прибавил брат Мало с некоторой горечью. – Но я готов на все, а это кое-что да значит для монаха, который больше не пьет из деревянного кубка и почти не разбавляет вино водой.
– Ах, брат Мало, брат Мало! – с воодушевлением воскликнул преподобный Маркиз. – Вы честнейший и достойнейший из членов святой братии, и я решительно отрекаюсь от тех опрометчивых слов, за которые уже просил у вас прощения. Окажите же мне честь, брат мой, и дайте вашу руку.
– Вот, держите, мессир святой отец. Хоть вы меня давеча и кольнули малость, да я на вас не в обиде…
– Правда?
– Клянусь именем великого святого Мало, моего покровителя! А теперь говорите скорее, что мне надлежит передать Пьеру Просту.
– Скажите ему, чтобы не впадал в отчаяние… скажите, что из каземата в вашем монастыре до костра на площади Людовика XI путь не так уж близок, как думают палачи… скажите, что между топором и плахой есть промежуток, имя которому – свобода!..
– Ах, – радостно прошептал монах, – так, стало быть, вы еще надеетесь?..
– Я надеюсь на Бога, брат мой, – ответствовал преподобный Маркиз.
– На Бога и на наши шпаги! – воскликнул Варроз. – Костру Пьера Проста не видать огня – спросите хоть капитана Лакюзона!
Заслышав свое имя, капитан, который наблюдал за происходящим с видимой рассеянностью и, казалось, не прислушивался к разговору, вдруг очнулся от оцепенения, сковавшего если не его тело, то мысли, подошел к монаху и сказал:
– Стало быть, брат Мало, вы направляетесь в темницу к моему дяде?
– Да, капитан.
– По воле вашего настоятеля?
– Да, капитан.
– И в темнице вас ждут?
– Конечно, потому как о моем приходе там предупреждены.
– И вы знаете пароль?
– Больше того.
– То есть?
– У меня и пропуск имеется.
– Кем он подписан?
– Самолично графом де Гебрианом, капитан.
– Не покажете ли мне вашу бумагу, брат Мало?
– Вот, пожалуйста.
Монах достал из-за пояса – обыкновенной веревки, которой была перевязана его ряса, сложенный вчетверо листок и передал его Лакюзону. Капитан развернул его и прочел:
«Приказываю пропустить этой ночью в каземат к приговоренному Пьеру Просту монаха, предъявителя сего предписания, дабы монах и приговоренный могли говорить друг с другом, свободно и без свидетелей, в течение часа.
Выдано в Сен-Клоде 20 декабря 1638 года.
Де Гебриан».– Отлично! – проговорил капитан, ознакомившись с пропуском.
– А теперь мне пора, – сказал брат Мало. – Верните пропуск.
– Он вам без надобности.
– Как это – без надобности? Как это?.. Как?.. Меня же без него не пропустят.
– В каземат к брату моего отца нынче ночью пойдете не вы.
– А кто же, позвольте вас спросить, капитан?
– Я, – с холодной решимостью ответил Лакюзон.
XIII. Монах
Брат Мало в полном недоумении воздел руки и глаза к потолку, как будто только что услышал невероятную глупость и спрашивал себя, уж не рехнулся ли его собеседник.
– Но послушайте, капитан, – через мгновение воскликнул он. – Уж не думаете ли вы…
– Вот именно, как раз это я и думаю… И никаких разговоров – все решено, бесповоротно!
– Вы рискуете – и ради чего? Неужели думаете, что стража вас пропустит?
– А почему бы и нет?
– Да потому, что в пропуске черным по белому написано, что выдан он монаху, а не капитану.
– Брат Мало, – с улыбкой заметил Лакюзон, – похоже, этой ночью вас лишили не только сна, но и рассудка. Разве вы еще не поняли, что я намерен прямо сейчас опровергнуть старую поговорку?
Глаза у брата Мало расширились еще больше.
– Какую еще поговорку? – спросил он.
– Простую: «На ком клобук, тот и монах».
– Ах, – пролепетал Мало, – значит, вы хотите опровергнуть эту поговорку…
– Да. Догадались – как?
– Нет.
Лакюзон рассмеялся.
– Эх, брат Мало, – воскликнул он следом за тем. – Блаженны нищие духом!..
– Quiam regnum coeli habebunt! – заключил монах. – Ибо, говоря по-простому, им принадлежит царство небесное.
– И я вам обещаю там почетное место, добрый мой брат, – продолжал Лакюзон. – Ну а раз уж вам надобно разложить все по полочкам, уясните себе наконец: я переодеваюсь в вашу рясу, набрасываю на лицо капюшон, и шведским стражникам, когда я предъявлю им пропуск за подписью их главнокомандующего, будет все едино, кто скрывается под этим капюшоном – капитан или монах.
– Погодите-погодите, – бросил монах, – а ведь это неплохая мысль!
– Иногда и меня неплохие мысли посещают, – не переставая смеяться, заметил Лакюзон. – А эта – совсем простая, и осуществить ее легче легкого. Ну же, брат Мало, давайте сюда скорей вашу рясу: сами только что сказали – время не ждет.
Святой брат уже было начал живо развязывать веревку, служившую ему поясом. Но преподобный Маркиз его остановил.
– Жан-Клод, – сказал он, – затея твоя безрассудна. Мы с Варрозом обязаны помешать этому всей данной нам властью, и мы действительно остановим тебя.
– Почему же, отец мой? – мягко спросил Лакюзон.
– Потому что, когда великие, святые интересы связаны с человеком, который, возглавив правое дело, не принадлежит более самому себе, этот человек, рискуя жизнью без нужды, совершает не просто глупость, а преступление. Во что бы ты ни рядился, Жан-Клод, ты рискуешь собой, вознамерившись проникнуть в самое логово наших безжалостных врагов и уж тем более – в темницу к дядюшке. Так что, капитан Лакюзон, человек, стоящий во главе партизанских отрядов горцев, человек, чье имя, только одно имя, служит символом борьбы и победы, не должен рисковать без всякой на то надобности.
– Отец мой, – ответил капитан, – вы не вправе усомниться ни в моем расположении к вам, ни в уважении к вашему опыту, ни в почтительном отношении к вашим словам. Но вам известно и то, сколь твердой становится моя воля, когда дело касается долга. Так вот, мой долг – проникнуть нынче ночью к Пьеру Просту, брату моего отца, и передать, что защитники его не дремлют и что он еще увидит, как они, с оружием в руках и готовые к бою, встанут щитом между ним и костром на площади Людовика XI. Вы говорите – риск. Но разве я виноват, что мне нравится рисковать? Ах, если б надо было всего лишь, как обычно, бросаться со шпагой наголо на французов или шведов в ответ на призыв: «Караул, Лакюзон!.. На помощь, Лакюзон!..» – я, наверно, подчинился бы вам. Но нынче ночью меня ждет не обычная опасность – совсем другой риск. Посмел бы я когда-либо еще проникнуть в логово к тем, кто назначил награду за мою голову? Осмелился бы спуститься по длинным лестницам в подземелье и, согнувшись под низким сырым сводом, стоять и слушать, как скрежещут ключи в тяжелых замках, а потом войти в каземат, зная, что за мной захлопнется дверь? Нет, никогда! А стало быть, не пытайтесь меня удержать, полковник Варроз и преподобный Маркиз, ибо это не в ваших силах! И пусть это приключение будет самым прекрасным из всех приключений Лакюзона!
– Мальчишка! – воскликнул священник. – И ради столь ничтожной прихоти ты готов рисковать жизнью?
– У меня есть и другая причина, – возразил капитан, – она покажется вам серьезной и убедительной. Однажды дядюшка сказал мне вот что – я повторю это слово в слово: «Если ты когда-нибудь узнаешь, что мне угрожает смертельная опасность, поспеши мне на помощь, Жан-Клод, ибо я знаю одну очень важную тайну и мне нужно успеть открыть ее тебе прежде, чем я покину этот мир». Вот видите, преподобный Маркиз, видите, полковник: это твердая воля моего дядюшки – и я как добрый его племянник не могу ее не исполнить.
– Тогда ступай! – проговорил священник, побежденный последним доводом Лакюзона. – А нам ничего не остается, как молить Бога, чтобы он хранил тебя.
– Молитесь, и да услышит вас Господь! – сказал капитан. – Ибо Господу вряд ли когда приходилось слышать мольбы столь благородного и святого человека.
И, обращаясь к монаху, с явно скучающим видом наблюдавшему за происходящим, прибавил:
– Брат Мало, я жду вашу рясу…
Не прошло и минуты, как наш капитан превратился в самого настоящего монаха.
– Ну что, можно меня узнать в этом наряде? – спросил он, набросив на лицо капюшон.
– Нет, если только шведы не проявят бдительность, – отвечал преподобный Маркиз, – и все же я боюсь…
– Через час я вернусь, дабы на душе у вас было спокойно.
– Захватишь пистолеты?
– Нет, с ними опасно, а пользы никакой.
– Возьми хотя бы кинжал.
– Охотно. Спрячу его в рукаве, благо он широкий… вот так. А теперь прощайте, вернее, до скорого свидания!
Капитан Лакюзон вышел из комнаты, а четверо наших героев: Маркиз, Варроз, Рауль и брат Мало – разместились на табуретах возле очага.
Все четверо молчали.
Полковник Варроз и преподобный Маркиз думали о Лакюзоне.
Рауль де Шан-д’Ивер – о Эглантине.
Добрый же брат Мало не думал ни о чем: он спал.
* * *
Как мы обмолвились выше, в казне Сен-Клодского аббатства хранились немалые богатства – дары, которые почтительные паломники всех сословий издревле складывали к раке с мощами святого епископа, уповая на его всемогущее заступничество.
Всевозможные слухи и народная молва рисовали эти подношения и вовсе несметными – подобными сказочным сокровищам: неисчислимым грудам золота, серебра и драгоценных камней, хранившимся в заколдованных подземельях из арабской сказки «Аладдин и волшебная лампа».
И желание, впрочем, легко объяснимое, запустить руку в сундуки, битком набитые монастырскими сокровищами, в немалой степени подвигло графа де Гебриана на захват Сен-Клода.
Как нам известно, несмотря на отчаянное сопротивление горожан ему это удалось.
Ну а покуда шведы с серыми спешили утолить свою безумную жажду грабежа, разбоя, а то и кровопролития, среди всего этого гибельного погрома в захваченном городе случилось очень важное для нас событие, оставшееся, однако, совершенно незамеченным.
Шайка серых, числом с дюжину, оставив всякую надежду поживиться чем в Сен-Клоде (что, как мы скоро убедимся, совсем не входило в привычку у этих горе-вояк), подалась за городскую окраину и, перебравшись вброд через Бьен – в известном нам месте, напротив которого Гарба сбросил веревочную лестницу Лакюзону и Раулю, – быстро взобралась на противоположную гору, поросшую лесом, где вскоре и затерялась.
Шайку возглавлял уродливый великан Лепинассу; однако в этот раз заправлял всем не он, а один из его спутников, которому бандит беспрекословно подчинялся.
Это был довольно рослый человек. Его лицо было скрыто под железной маской, обшитой черным бархатом. Маска покрывала его голову целиком, как шлем средневекового рыцаря, – и волосы, и даже шею. Этот таинственный человек, участник всех захватнических войн во Франш-Конте, был героем множества легенд, которые люди, трепеща от страха, пересказывали друг дружке зимними вечерами у камелька. Никто, как утверждала молва, не видел лица этого человека; никто не знал его имени; никто не знал, где он живет.
Подобно африканским шакалам и громадным, плешивым стервятникам, которые всегда стремятся туда, где пахнет смертью и кровью, Черная Маска являлся насмерть перепуганным горцам в тех местах, где вершилась резня и полыхал огонь пожарищ, и являлся он неизменно в окружении мерзкого вида телохранителей из числа самых кровожадных серых во главе с Лепинассу. Народ считал Черную Маску существом сверхъестественным – чуть ли не демоном во плоти, вынужденным скрывать свое лицо потому, что оно нечеловеческое.
Возможно, суеверный страх, который он внушал людям, служил ему самой надежной защитой, но, как бы то ни было, осторожности ради он показывался везде и всюду неизменно в окружении шайки верных подручных.
Самые дерзкие и неустрашимые храбрецы, включая самого Лакюзона, не раз клялись узнать наконец, что это за человек, который прячет лицо за черной маской. Но ни отвага, ни упорство, ни знание местности – ничто не могло помочь преследователям. Загадочного человека настигали раз двадцать, шли за ним по пятам целые дни напролет – загоняли, точно зверя, стараясь не упустить из виду, но Черная Маска всегда внезапно исчезал, как дым или призрак, не оставляя за собой никаких следов… В самом деле, ну как тут не поверить в некое сверхъестественное вмешательство!
В день взятия Сен-Клода Черная Маска вошел в город победителем, а вскоре, как мы знаем, он покинул город вместе с Лепинассу и его шайкой и скрылся в горах.
– Кстати, – спросил он походя у изуродованного главаря шайки, – вы по крайней мере уверены, что мы не опоздали?
– Уверен, монсеньор… о, будьте спокойны!
– Значит, вы не сомневаетесь в точности данных вам сведений?
– С чего бы мне сомневаться, ежели я своими глазами видал…
– Его самого?
– Вот прямо как вас, монсеньор. А дело было так. С неделю тому Железная Нога, помощник Лакюзона, и этот растреклятый Гарба, его ординарец, горнист и правая рука, с полдюжиной коников выслеживали меня и двух моих людей – Тренсакиля и Франкатрипа. В лесу мы разбежались в разные стороны, чтоб сбить со следа этих проклятых ищеек; что до меня, я затаился в непролазной чаще, у подножия громадной, почти отвесной скалы. Надвигалась ночь – и мне нечего было бояться. Вылезаю я из своего убежища и собираюсь двигать дальше, как вдруг слышу слабый шорох у себя над головой. Поднимаю голову и вижу: на верхушке скалы, над елями, вьется белая струйка дыма. Обхожу скалу: с трех сторон она неприступна – подступиться к ней можно только с одного боку. Взбираюсь по крутой тропинке до самого верха – а там хижина, ну прямо орлиное гнездо. Подхожу ближе, заглядываю внутрь сквозь щели в двери, меж плохо пригнанных досок, и вижу: сидит там у огня человек, и в отсветах пламени узнаю я Пьера Проста, которого когда-то в округе звали Врачом бедняков.
– Вам, верно, померещилось, Лепинассу.
– Клянусь честью, монсеньор, хотите поспорить на двадцать экю золотом против моей головы, так я согласен.
– Так ведь Пьер Прост лет двадцать тому как в воду канул.
– Какая разница, монсеньор! Человек уходит и приходит, если не успеет окочуриться… и он вернулся.
– Как вы узнали?
– Шепнули добрые люди. Пьер Прост объявился аккурат три месяца назад.
– Один?
– Да, монсеньор.
– А его дочь… ну эта, Эглантина?
– Я подумал, вам будет интересно, монсеньор, и стал разнюхивать.
– Ну и что же вы разнюхали?
– Эглантина умерла в долине, в окрестностях Доля.
– Коли все действительно так, дела обстоят наилучшим образом. Нам долго еще?
– Вон та самая скала… а там, наверху, и хижина.
– Скажите своим, чтоб попридержали языки и чтоб тише воды, ниже травы. Его нельзя упустить.
– Будьте покойны! Возьмем его тепленьким. А дальше что, монсеньор?
– Препроводим его в Сен-Клод и бросим в темницу. Он будет осужден как лазутчик, и через три дня его сожгут живьем на площади Людовика XI.
– Ну и ну! – бросил Лепинассу, разводя руками.
– Вас это удивляет? – спросил Черная Маска.
– Сказать по чести, да, монсеньор.
– Почему же?
– Потому что, когда надобно избавиться от кого-то неугодного, самый простой и лучший способ – пустить ему пулю в башку или всадить нож в брюхо… Мертвые не разговаривают!
– Вы правы, так и в самом деле было бы лучше, но нам нужно, чтобы Пьер Прост умер на глазах у всех, под звон колоколов, на костре. Мы надеемся, что публичная казнь родственника капитана Лакюзона произведет должное впечатление на горцев и собьет с них спесь похлеще всякого разгрома… А вот если б вы привели нам самого Лакюзона, или Варроза, или Маркиза… Помните, за голову каждого из этой троицы обещано по тысяче экю золотом!
– Деньги немалые, монсеньор, ради такого куша и впрямь не жалко расшибиться в лепешку… Но тише! Вот и хижина. Так что лучше синица в руках, чем журавль в небе – в смысле, дядюшка заместо племянника.
Лепинассу велел подручным окружить дом, а сам вышиб дверь одним ударом приклада своего мушкета.
И уже через пять минут Пьера Проста, связанного по рукам, с кляпом во рту вели, а вернее, волокли в город.
Черная Маска, пока разбойники исполняли его приказы, стоял в стороне, но не так далеко, чтобы Пьер Прост не мог его не заметить.
По прибытии в Сен-Клод несчастного эскулапа бросили в самый глубокий подвал монастыря, и, пока его вели все ниже в мрачную, сырую глубину подземелья, он слышал, как Черная Маска под страхом смерти наказывал шведским солдатам, выбранным в охранники заключенного, не пускать к нему никого, кроме исповедника, если пленник потребует его в свой последний час.
Пьер Прост с невозмутимым спокойствием и безграничной решимостью воспринял постигший его удар. Он догадывался, откуда пришла беда, и, уверенный, что только величайшее из чудес может избавить его от гибели, воспринимал эту смерть как нечто, уготованное его прошлым.
Его удивляло лишь одно обстоятельство: то, что казнить его особо не спешили. Он был мягок и терпелив со своими стражниками, хоть и не обмолвился с ними ни словом. Он почти беспрерывно молился, находя в молитве утешение и отдохновение.
Иногда, впрочем, его лоб хмурился – при мысли о чем-то, что мучило старика. Рука его судорожно сжималась и ложилась на грудь. На губах появлялась горькая улыбка, и он шептал: «Боже, о Боже, тогда уж пусть эта тайна умрет вместе со мной!..»
XIV. Тайна Пьера Проста
Между тем время шло. Истекли два дня и две ночи, а Господь как будто не слышал мольбы Пьера Проста.
И вот на третий день, утром, горцу учинили показной допрос, после которого он узнал то, что в городе было уже давно известно: его приговорили к смерти как лазутчика и должны были сжечь живьем на следующее утро, на рассвете.
С этой минуты мысли Пьера Проста отвратились от земных дел: душа его оторвалась от всего, что было связано с этим миром, и теперь он, проживший свой век праведником, готовился к одному – к смерти.
– Когда ко мне пришлют обещанного исповедника? – спросил он у одного из стражников, которые отвели его обратно в темницу.
– Нынче ночью, – ответил солдат.
Настала ночь – все звуки дневной суеты, раздававшиеся под сводами просторных помещений аббатства и слабым, отдаленным эхом доносившиеся до узника, мало-помалу стихли.
К полуночи Пьер Прост уже мог расслышать только медленные, монотонные шаги караульного, ходившего взад-вперед возле двери узкого низенького «каменного мешка», где, лежа на куче соломы, пленник дожидался прихода священника, своего утешителя.
Шли часы, но ничего не происходило.
Пьер Прост уже начал опасаться, что Черная Маска, остерегавшийся всего и вся, изменил свое решение и исповедник не придет.
Наконец немногим позже трех часов утра узнику послышался вроде как отдаленный шум, и угасшая было надежда вернулась к Пьеру вновь. Он оперся на локоть и, затаив дыхание, весь обратился в слух.
И вот шум послышался уже более отчетливо. К «каменному мешку» приближались шаги нескольких человек.
«Не может быть, чтобы это был палач, – подумал Пьер Прост. – Тогда, может, священник?..»
Шаги стихли. В замке заскрежетал ключ – лязгнул затвор – дверь отворилась.
На пороге появился монах в сопровождении двух солдат – у одного из них в руке была лампа.
– Это он и есть, – сказал солдат монаху, указывая на Пьера Проста и ставя лампу на пол. – Времени у вас час, так что скорей исповедуйте его и отпустите ему грехи.
И они с товарищем вышли, с усмешками и нарочито громким скрежетом снова запирая дверь на ключ.
– О, отец мой, – проговорил Пьер Прост, сложив руки, – я ждал вас и взывал к вам, как обреченный на смерть узник ждет, взывая к жизни и свободе.
– И я действительно верну вам жизнь и свободу, – ответил монах тихим голосом, который вверг узника в дрожь.
– Кто же вы? – спросил он, задыхаясь от волнения.
– Тише! – проговорил монах. – Тише! Знайте, за этой дверью, хоть она и закрыта, наверняка есть уши – они ловят каждое наше слово.
И, подняв одной рукой лампу, которую швед оставил на каменном полу, священник поднес ее к своему лицу, а другой рукой отбросил назад капюшон, скрывавший до сих пор его черты.
– Жан-Клод… – пробормотал Пьер Прост, – ты… мальчик мой… ты здесь!
– Тише, дядя, – повторил капитан, – одно неосторожное, громкое слово, и мы оба пропали.
– Так, значит, это правда, дорогой ты мой… – продолжал узник с нескрываемым волнением… – ты не мог оставить меня умирать, не дав мне в последнее утешение обнять тебя еще раз! О, благодарю тебя, благодарю! Вот так ты обрадовал меня! Отныне мне и смерть не страшна!
– Говорю же, дядюшка, я верну вам жизнь и свободу.
– Свободу!.. Жизнь!.. – вторил ему Пьер Прост. – Неужели это возможно? Ведь через несколько часов – или не знаешь? – вынесенный мне приговор должны привести в исполнение.
– Через несколько часов, дядюшка, те, кто вас приговорил, окажутся на вашем месте. Бог милостив!
– Но как?
– Не спрашивайте, у нас очень мало времени. Только одно скажу: надейтесь! – и даже когда вы окажетесь на костре, за частоколом огня и в клубах дыма, я снова скажу: надейтесь!.. А сейчас, дядюшка, нельзя упустить ни одной мелочи. Господь держит в руках жизнь человеческую, но Он же способен и нарушить даже самые благие и, казалось бы, успешные начинания. Когда-то вы говорили мне про некую страшную тайну, которую храните, и велели мне прийти к вам, чтобы узнать ее, если вам будет угрожать смертельная опасность. Так вот, опасность уже нависла над вами, потому я здесь и готов выслушать вас.
– Тогда слушай и постарайся, чтобы тайна эта обратилась в твоих крепких руках в оружие против человека, обрекшего меня на смерть! Этот самый человек, в чем я ничуть не сомневаюсь, как бы больно это ни было, состоит в числе самых грозных врагов свободы Франш-Конте.
– Кто он?
– Черная Маска, – ответил Пьер Прост.
– Как! – в изумлении вскричал молодой человек. – Неужто Черная Маска сыграл какую-то роль в вашей жизни?
– Да, мальчик мой, и не только в моей, но и в жизни моей семьи, к которой принадлежишь и ты.
– Странно… – прошептал Лакюзон.
– Да, но куда более странно другое, во что ты вряд ли поверишь. Впрочем, скоро ты все узнаешь и увидишь: в событиях, о которых я собираюсь тебе рассказать, правда будто нарочно обретает самые прихотливые формы. Да уже по первым словам ты сможешь судить об остальном: Эглантина мне не родная дочь!..
Капитан воззрился на Пьера Проста с таким видом, который определенно означал только одно: уж не помрачился ли у вас рассудок, дядюшка?
Между тем врач обездоленных ничуть не стушевался под взглядом племянника, лишь слегка покачал головой и сказал:
– Нет, мальчик мой, я в здравом уме, хотя на мою долю выпали столь тяжкие испытания, что любой, и покрепче моего, мог бы запросто помешаться умом. Сейчас увидишь. Но, поскольку, как ты сам говоришь, у нас очень мало времени, позволь я буду говорить, а ты не станешь меня перебивать: ведь очень важно, чтобы ты узнал мою тайну от начала до конца.
Капитан согласно кивнул, и Пьер Прост повел свой торопливый рассказ начиная с событий, произошедших в ночь на 17 января 1620 года и знакомых читателю из пролога нашей книги.
– …В течение двух лет после той жуткой ночи, – сказал он в заключение, – ничто не нарушало безмятежного покоя, которым я наслаждался в моем маленьком домике в Лонгшомуа. Хотя призраки из прошлого то и дело являлись мне… По ночам я вдруг просыпался от внезапных приступов ужаса, и мне всякий раз чудилось, будто мою постель и колыбельку с Эглантиной обступают кровопийцы… Мне казалось, что рано или поздно Черная Маска пожалеет, что доверился мне, и решит раз и навсегда похоронить тайну, единственным хранителем которой был я. Это убеждение, поселившееся в моей голове, как навязчивая мысль, терзало меня беспрестанно. Впрочем, боялся-то я не за себя, а за дорогую моему сердцу малютку, которую полюбил всей душой и окружил поистине отцовской любовью. И вот, поклявшись во что бы то ни стало избавиться от бесконечных тревог, я решился покинуть родные края, окружив свой отъезд, а вернее, бегство, непроницаемым покровом тайны.
Я разыскал брата – твоего отца, Жан-Клод. Я поведал ему о своих скорбных делах, хотя истинную их подоплеку раскрывать не стал. Сказал только, что ушел ночью, а дом бросил без призора. Я попросил его притвориться, будто он, как и все, ни сном ни духом не знает, где я собираюсь затаиться, а после, по прошествии года или двух, постепенно и половчее распустить слух, что я умер.
Все произошло так, как мне хотелось. Горцы, знавшие меня и любившие, читали «De profundis…» и ставили свечки за упокой моей души. А потом про меня забыли. О тайном моем убежище знали только Варроз, Маркиз да твой отец, а тебе об этом сказали, когда ты повзрослел и, несомненно, уже мог хранить секреты.
Короче говоря, я думал никогда не покидать той хижины в Шойском лесу, куда ты порой приходил меня проведать. Но, когда французские войска вторглись на нашу землю, над Эглантиной, моей раскрасавицей, нависла угроза. Месяц с лишним мы жили под защитой прекрасного и благородного юноши, французского офицера по имени Рауль Марсель, который, думаю, полюбил дорогую мою дочь – полюбил самой почтительной и сдержанной любовью. К несчастью, тот офицер был принужден покинуть Франш-Конте и последовать за господином де Виллеруа, своим главнокомандующим, так мы лишились заступника, на покровительство которого уповали.
Потом какое-то время я надеялся, что мне удастся отвести опасность от Эглантины, если я буду прятать ее от посторонних взглядов. Но это оказалось невозможно! Она нет-нет да и попадалась на глаза другим офицерам, не отличавшимся ни скромностью, ни почтительностью, и они, все как один, считали ее прехорошенькой. Подслушав однажды по чистой случайности их разговоры, я смекнул, что они вознамерились похитить ее и обесчестить самым постыдным образом. И в тот же день мы с Эглантиной подались горными тропами к преподобному Маркизу, и я попросил его приютить мою дочь, выдав ее за свою племянницу. Через три месяца я вернулся в горы один, пустил слух, что дочь моя умерла на равнине, и поселился в заброшенной хижине на одной из горных вершин, глядящей на город. Уж там-то, думал я, мне ничто не угрожает, хотя у меня все же было предчувствие, что беда идет за мною по пятам, и оно меня не обмануло… А остальное ты знаешь. Три дня назад серые из шайки Лепинассу, которым на самом деле верховодил Черная Маска, схватили меня и, связав по рукам и ногам, приволокли сюда.
– Что, дядюшка! – вскричал Лакюзон. – Ими заправлял Черная Маска – этот таинственный, неуловимый тип? Тот самый, за которым я охотился не переставая и все без толку… тот, с которым вы были в ночь на 17 января 1620 года?
– Да, он самый.
– Вы точно это знаете, дядюшка?
– Как и то, что верю в Бога. Я признал его с первого взгляда. По голосу. По жестам. Говорю тебе, это он – сеньор из того замка, куда меня привезли силой, и там, в одном месте на своде, должен остаться отпечаток моей перепачканной кровью ладони. Да и кто, кроме него, может преследовать меня с такой исступленной ненавистью! Кому еще, как не ему, столь горячо хотелось бы стереть в порошок меня, а заодно и страшную тайну, которую я знаю.
– Но тогда, – суть слышно прошептал Лакюзон, поглощенный новой мыслью, что пришла ему в голову, – тогда этот сеньор в черной маске, получается, и есть тот самый тип, о котором мне рассказывал Рауль де Шан-д’Ивер! О, неужели? Нет-нет, не может быть! Это невозможно, ведь Рауль уверяет, что старина Марсель признал в нем сира де Монтегю… а Антид де Монтегю – один из самых рьяных борцов за нашу свободу!.. У меня от всего этого голова идет кругом… О, кто же даст мне ключ ко всем этим темным тайнам! Кто сорвет этот покров! Кто, наконец, столкнет меня лицом к лицу с загадочным негодяем в маске и со шпагой в руке!
После короткого молчания, длившегося не больше одной-двух секунд, капитан уже громче продолжал:
– А что же та вещица, дядюшка, – медальон, который тогда передала вам несчастная мать, – он сохранился у вас?
– Конечно. Я с ним никогда не расставался.
– Где же он?
– У меня на груди, и я тебе его отдам.
Пьер Прост распахнул камзол, сорочку и сорвал с шеи шнурок, на котором висел кожаный мешочек с медальоном внутри.
– Вот, держи, – сказал он, передавая вещицу Лакюзону, – и уж коль мне суждено умереть от руки этого человека, пусть медальон поможет тебе отомстить за меня.
Капитан хотел было что-то сказать – но услышал шум, и слова застыли у него на устах.
Час уже прошел, и шведские солдаты вернулись в «каменный мешок» за монахом.
– Прощай, и, уж наверно, навсегда! – проговорил Пьер Прост, горячо обнимая племянника.
– А я, дядюшка, – быстро прошептал молодой человек, пока открывалась тяжелая, кованая дверь, – я говорю вам: до скорой встречи! Надейтесь же, надейтесь!
С этими словами он накинул на голову капюшон рясы и снова скрыл лицо.
Вошли шведы.
– Надейтесь, брат мой! – уже громко повторил капитан в третий раз. – Да умиротворит Господь вашу душу!
И он последовал за двумя стражниками.
Когда он покидал аббатство, монастырский колокол пробил пять часов утра. Хотя рассвет только-только занимался, на площади Людовика XI, вокруг костра, воздвигнутого накануне, уже собралась толпа взволнованных зевак. Все спешили занять лучшие места на предстоящем скорбном спектакле, который жителям Сен-Клода бесплатно давало пресловутое военное правосудие под давлением неумолимой воли таинственного человека в черной маске.
Среди толпы, тут и там шныряли горцы из партизанских отрядов Лакюзона. Они переоделись до неузнаваемости и надежно спрятали оружие под своими «маскарадными» нарядами.
Капитан, проходя мимо, узнавал каждого из них в лицо, но ни с одним не обменялся ни словом, ни жестом. Он поспешил вернуться в приземистый домишко на главной улице, где его ждали полковник Варроз, преподобный Маркиз, Рауль де Шан-д’Ивер и предобрейший брат Мало, так радевший за сохранность монастырской казны и старых добрых вин из монастырских подвалов.
Прибавим, что после ухода капитана наш монах так и не проснулся, хотя все это время его жизнь висела на волоске. Так же, впрочем, как и жизнь Лакюзона, которому он отдал свою рясу и пропуск, и брат Мало это знал.
История рассказывает нам о необузданной выходке Тюренна[31], который накануне битвы спал на пушечном лафете. Или, может, мы вправе заключить, что верный служитель Господа повел себя не менее героически, чем «победитель» при Мальпаке[32]?
Впрочем, мы предоставим читателю право решить этот вопрос самому.
XV. Эглантина
Когда, постучав трижды в дверь и ответив паролем на вопрос полковника Варроза «кто там?», капитан в монашеском облачении вошел в низенькую комнату, Маркиз, Варроз и Рауль не смогли сдержать радостного возгласа, от которого добрый брат Мало тут же проснулся.
Сон, скажем прямо, заставил нашего монаха позабыть обо всем.
– Что, уже заутреня? – пролепетал он, протирая глаза. – А по мне, так вроде рановато еще… Все торопишься, братец мой пономарь.
– Ну как, Жан-Клод? – оживленно спросил преподобный Маркиз.
Капитан вместо ответа приложил палец к губам, показывая взглядом на Мало. Будто желая тем самым сказать: «Ни слова, не при монахе же…»
Затем, обращаясь уже к святому отцу, он прибавил:
– Еще раз благодарю вас, брат мой, вы оказали всем нам великую услугу, и мы этого никогда не забудем, уж поверьте! А теперь забирайте назад вашу рясу и возвращайтесь без оглядки в ратушу. Ваш настоятель, верно, уже волнуется, что вас так долго нет. И позвольте дать вам один добрый совет, последовав которому вы точно не раскаетесь.
– К советам завсегда стоит прислушиваться, особенно к добрым, – ответил монах. – Так я слушаю вас, капитан, и мотаю на ус.
– Что ж, брат мой, запритесь поскорей на все замки и запоры да не вздумайте любопытства ради, на свое несчастье, объявиться нынче утром на площади Людовика XI, чтобы поглазеть на казнь Пьера Проста.
– Довольно, капитан, имеющий уши да услышит. Я за дверь ни ногой, и носа не высуну, а ежели все сладится, чего я желаю, то я уж от души гряну «Gaudeamus igitur!..»[33]
С этими словами брат Мало переоблачился в свою рясу, нахлобучил капюшон и, откланявшись, покинул дом на главной улице.
Как только за ним закрылась дверь, преподобный Маркиз воскликнул:
– Ты виделся с дядей?
– Да, я ему все рассказал, так что он ждет нас и надеется оказаться на свободе.
– И не напрасно, – подтвердил Варроз.
– Э, – спросил священник, – а что за тайну он хотел тебе поведать?
– Она касается всех нас, – ответил капитан, – и, думаю, поможет нам выйти на след чудовищной измены.
– Измены? – переспросил Маркиз.
– Да, ибо скоро мы точно узнаем, что за злой гений скрывается за черной маской.
– Ах, – в крайнем удивлении промолвил священник, – так, значит, дядя говорил с тобой о Черной Маске?
– И он рассказал мне достаточно, чтобы я убедился в одном: этот человек, этот презренный негодяй, ради какой-то тайной корысти снюхавшийся с нашими врагами, – один из именитейших сеньоров в здешних краях.
– Так кто же он, этот сеньор?
– Скоро узнаем, преподобный Маркиз. Узнаем, клянусь!
– У тебя есть доказательства, подозрения?
– Подозрений нет, зато есть доказательства.
– Какие?
– Слушайте!
Коротко пересказав изумленным, не на шутку встревоженным товарищам слова Пьера Проста и показав им медальон, украшенный бриллиантовой розой, Лакюзон сорвал железную цепочку, обрамлявшую его шляпу, прицепил к ней медальон, повесил его себе на шею и с чувством прибавил:
– Пусть эта вещица сверкает на моей груди до тех пор, пока я не отыщу след бедной женщины, которой когда-то принадлежала эта роза, и, если понадобится, я обыщу все замки в трех округах, пока на своде в одном из них не найду след окровавленной ладони.
– В таком случае, – с глубочайшим волнением проговорил Рауль де Шан-д’Ивер, – отправляйтесь в Замок Орла. Там и найдете то, что ищете.
– Что! – в один голос вскричали полковник Варроз и преподобный Маркиз. – Вы обвиняете Антида де Монтегю?
– Да, – отвечал Рауль, – и капитан Лакюзон скажет вам – почему.
– Рауль, – резко заметил Лакюзон, – глядите! Нынче ночью вы рассказали мне о постылых злодеяниях, совершенных против сира де Миребэля и его дочери, против вашего отца и вас самого, и вы считаете, что их зачинщиком был владетель Замка Орла. Так вот, я признаю, что ваши тяжкие подозрения действительно могут быть правдой. Но я сказал вам, и вы, конечно, это помните, что сегодня Антид де Монтегю стал самым твердым оплотом нашей борьбы за свободу. Когда-то, не исключаю, ревность, жажда мести и могли толкнуть владетеля Замка Орла на неблагонравные поступки, но за это он ответит сполна перед Богом. И если двадцать лет тому человеком в черной маске был Антид де Монтегю, то будьте уверены, как и мы, что сегодня под такой же маской скрывается совсем другой человек. И я призываю в свидетели преподобного Маркиза и полконика Варроза…
– Что до меня, – ответил Варроз, – я думаю и скажу то же, что и Жан-Клод.
– А я, – в свою очередь вставил преподобный Маркиз, – замечу, что патриотические настроения Антида де Монтегю и его преданность нашему делу не подлежат ни малейшему сомнению.
– И что вы на это ответите, Рауль? – спросил Лакюзон.
– Только одно, капитан, и я вам уже это говорил нынче ночью: я подожду.
После его слов наступило долгое молчание.
Наконец его нарушил Лакюзон:
– Который час?
– Только что пробило шесть, – ответил священник.
– В таком случае, – сказал капитан, – у нас еще есть время обсудить и другие дела. Быть может, они не столь великие, как судьба нашей земли, но и не менее важные. А поговорить я хочу об Эглантине.
Рауль де Шан-д’Ивер смекнул, что вопрос касается и его тоже, – он вздрогнул, щеки и лоб его на мгновение покрылись ярким румянцем.
Лакюзон был единственным, кто заметил его взволнованность, и, обращаясь к Варрозу с Маркизом, продолжал:
– Не кажется ли вам, что именно сейчас необходимо и полезно открыть Эглантине тайну ее рождения? И, поскольку у нее нет родни, не будет ли благородно и своевременно сказать ей, что мы с нею не родственники – что тот, кого она почитала за родного отца, и тот, кого считала своим братом, чужие ей люди?
– Нет, ни в коем разе! – вскричал Маркиз. – В этом нет ни необходимости, ни благородства. Пусть бедное дитя не ведает того, что стало известно нам, и пусть пребывает в своем неведении как можно дольше. Таково мое мнение.
– И мое, – сказал Варроз.
– Чудесно! – продолжал Лакюзон. – Стало быть, так и порешим. Но есть еще один вопрос, не менее важный.
– Какой?
– Вот какой: скоро нам предстоит сделать ставку в страшной игре, где на кону будет не только жизнь моего дядюшки, но и жизнь нас троих. Мы должны выиграть, и, думаю, так оно и будет – я в этом почти уверен. Но нужно все предусмотреть: ведь если один шанс из ста будет против нас, мы можем потерпеть поражение. Через два часа мы либо победим, либо умрем…
– Такое нам не впервой, как мне кажется, – прервал его Варроз.
– Прошу прощения, полковник, но не так уж часто случалось нам троим рисковать вместе. А вернее – никогда, и так до сего дня, пока смертельная опасность не нависла не только над нами, но и над Пьером Простом. И я клоню вот к чему: если мы падем в бою, если нынче вечером ни один из нас не выживет, что тогда будет с Эглантиной, ведь она останется совсем одна, об этом вы подумали?
– Ах ты, дьявол! – пробубнил Варроз. – Мне такое и в голову не пришло.
– Если, как ты говоришь, случится худшее, – после недолгого раздумья ответил преподобный Маркиз, – Эглантина найдет надежный и почтенный приют в монастыре Благовещения в Бом-ле-Дам.
– Разумеется, да только она не сможет там долго находиться.
– Почему? Ей ничто не помешает принять постриг и посвятить свою жизнь служению Господу.
– А кто вам сказал, что в этом ее призвание?
– Эглантина – девушка благочестивая, и мирская суета, думаю, ей чужда.
– Эглантина – ангел, я и сам прекрасно знаю! – воскликнул капитан. – И тем не менее смею утверждать, что монастырская жизнь – совсем не ее удел.
– Она сама тебе это сказала?
– Да что вы! Но у меня есть все основания думать, что так оно и есть.
– И какие же это основания, позволь спросить?
– Пожалуйста. Эглантина влюблена – и любима.
– Уж не в тебе ли все дело? – воскликнул священник, воззрившись на Лакюзона.
Сделав над собой неимоверное усилие, чтобы не выдать растерянности, в какую вверг его этот вопрос, капитан отвечал:
– Нет, преподобный Маркиз, не во мне… да и разве я свободен? Разве могу любить кого-то, кроме моих горцев и свободы?
– Что ж, – допытывался священник, – тогда в ком?
– В благородном молодом человеке, который уже спас мне жизнь и желает разделить с приемной дочерью деревенского врача свое знаменитое имя и великое состояние… – в Рауле де Шан-д’Ивере.
– Рауль, мальчик мой, – проговорил Варроз со слезами умиления на глазах, – так ведь это же прекрасно! Если это от всего сердца, от всей души… Вот поступок, достойный сына Тристана!
– Рауль, – сказал в свою очередь преподобный Маркиз, пожимая молодому человеку руку, – вы полюбили сироту, и за это вам скоро воздастся. Эглантина даст вам то, что стоит куда дороже всех гербов и сокровищ на свете! Приданым за нею будет ее красота, юность и невинность… Она даст вам счастье!
Раулю казалось, что, полюбив эту девушку, пожелав взять ее в жены, он сделал вещь, столь же простую, сколь и естественную – и не ошибся. Он совсем не понимал, при чем здесь похвалы и поздравления Варроза и Маркиза, и от этого почувствовал сильное смущение, если не сказать унижение. Но при всем том, однако, он ощутил живую и глубокую радость, ибо понял: теперь-то уж ничто не должно помешать его союзу с Эглантиной.
На душе у него стало еще радостнее, когда он услышал, как Лакюзон сказал священнику:
– Не будет ли вам, как и мне, спокойней за ее будущность, если, отправившись на рисковое дело – на площадь Людовика XI, вы оставите наше дорогое дитя на попечение жениха, почти что супруга, который с любовью позаботится о ней и оградит от любой опасности?
– Конечно, – ответил преподобный Маркиз, – а поскольку я умею читать твои мысли, то отвечу и на слова, которые ты не успел произнести: ступай же за Эглантиной!
Лакюзон направился к двери в соседнюю комнату.
Рауль де Шан-д’Ивер, ничуть не сомневавшийся, что девушка находится в этом же доме и что его отделяет от нее всего лишь утлая перегородка, почувствовал удар в самое сердце – удар, похожий на электрический разряд. Его лицо дважды становилось то бледным как мел, то красным как маков цвет. Глядя на него, старый полковник улыбнулся, а преподобный Маркиз в душе восхитился юношеским пылом и бурей чувств, разом отразившихся на благообразном лице молодого человека, точно в зеркале.
– Эглантина! – позвал капитан, негромко постучав в дверь.
– Кузен? – ответил мягкий, чарующий голос. – Ты меня звал?
– Ты спала?
– Нет. Разве могла я уснуть в такую ночь?
– Тогда иди же сюда, дорогое мое дитя. Преподобному Маркизу, полковнику Варрозу и мне нужно с тобой поговорить.
– Сейчас иду…
Дверь открылась – и в комнату вошла Эглантина.
То была восхитительная стройная девушка, обладавшая изысканной и вместе с тем безыскусной красотой. Простенькое платье горских крестьянок лишь подчеркивало ее непередаваемую грациозность. Плотная фланелевая юбка в черно-красную полоску спускалась до лодыжек, оставляя неприкрытыми лишь маленькие стопы: грубые шерстяные носки на толстой подметке не могли скрыть их поразительного изящества. Коричневый корсаж из коломянки[34] с тонким вырезом облегал ее прекрасную грудь. Узкая шапочка черного бархата едва держалась в густой копне ее темных волос, заплетенных в две толстые косы, спускавшиеся чуть ли не до пят.
Большие, выразительные глаза, голубые и ослепительно-ясные, мягко лучились на ее нежном, тронутом печалью, бледном лице, хранившем следы недавно пролитых слез. Вокруг глаз легли синеватые круги, говорившие о горестных заботах, терзавших ее в долгую, бессонную ночь.
Когда девушка вышла из своей спальни в комнату, ее взгляд сперва остановился на преподобном Маркизе, тут же протянувшем ей руку, так что она не заметила Рауля, который стоял в стороне с бешено бьющимся сердцем.
– Дитя мое, – обратился к ней священник, – мы хотим сообщить тебе добрую весть.
Глаза у Эглантины заискрились.
– Какую же? – воскликнула она. – Что-нибудь об отце?
– Да, – ответил Маркиз. – Жан-Клод, нарядившись монахом, недавно проник к нему в темницу.
– Храбрый мой кузен! – прошептала девушка.
– Он принес узнику надежду, – продолжал священник, – сказал, что через несколько часов тот будет на свободе… с нами… в наших руках.
– На свободе!.. В наших руках!.. – едва ли не с грустью повторяла Эглантина. – О Боже, Боже мой, прямо не верится. По-моему, это слишком хорошо – разве такое возможно?
– Нет ничего невозможного для тех, кто, как мы, обладает несгибаемой волей, непоколебимой решимостью и полной, безоговорочной верой в Бога, защитника праведных дел. А посему, дитя мое, я тебе от всей души говорю то же, что Жан-Клод сказал твоему отцу: надейся!
– Я верю вам, верю, – твердила девушка. – Мне очень хочется верить… и надеяться, ведь это так прекрасно! А я столько плакала, столько страдала!..
– А теперь, дитя мое, – продолжал священник, – мне остается сообщить тебе еще одну весть, и, как мне кажется, тоже добрую.
Эглантина смотрела на священника с искренним удивлением.
– Что вы хотите этим сказать? – вопросила она. – Я не пойму, отец мой.
– Не оставила ли ты там, – продолжал Маркиз с отеческой нежностью, – не оставила ли ты там, в Шойском лесу, какую-нибудь привязанность… или воспоминание?
Эглантина залилась краской, опустила свои прекрасные глаза и ничего не ответила.
– Дорогая кузина, – сказал тут Лакюзон, – не стоит скрывать от нас дорогие тебе сердечные тайны. Милые, как твое лицо. И чистые, как твоя душа. Ты влюблена, и мы это знаем. Но добрый ангел, что хранит тебя, не вправе краснеть ни за один твой поступок, ни за одну мысль. Ты влюблена, и твой избранник – человек с благородным сердцем. Он достоин тебя.
– О кузен, – горячо воскликнула Эглантина, невольно поддавшись неодолимому женскому любопытству, – кто же тебе такое сказал?
Она запнулась на полуслове.
– Смотри! – ответил капитан.
И подтолкнул Рауля вперед.
XVI. Площадь Людовика XI
У энергичных людей всех времен почти всегда обнаруживается свойство натуры, которое притягивает драматургов XIX столетия. Эта черта характера приводит героев к самым неожиданным развязам и эффектным сценам.
Подобное утверждение может показаться странным нашим читателям, и тем не менее нам не составило бы ни малейшего труда подкрепить его многочисленными примерами.
Именно на такой эффект рассчитывал наш капитан, когда вот так – неожиданно представил молодого барона де Шан-д’Ивера Эглантине, которая очаровательно вскрикнула, прошептала имя «Рауль» и закрыла ручками зардевшееся лицо.
Капитан с улыбкой наблюдал за ними обоими. Преподобный Маркиз в душе молился, призывая на них благословение Господа, оберегающего непорочную любовь. А Варроз знай себе накручивал седые усы, выказывая таким образом несказанное довольство и вспоминая годы минувшей юности, овеянной благоуханием былой любви.
– Дорогая Эглантина, любимая моя, – проговорил Рауль, преклонив колено перед девушкой, – с тех пор как мы расстались, я жил только одной мыслью, только одним желанием: мыслью приблизиться к вам, желанием обрести вас вновь. И вот ваш кузен, ваш брат, капитан Лакюзон, может сказать вам, что я готов был умереть, ибо думал, что вас уже нет на этом свете.
Эглантина робко подняла глаза – но не на Рауля, так и стоявшего на одном колене, а на преподобного Маркиза.
– Но как… – едва внятно спросила она, – я могу его любить – его… Рауля… его… француза?
Ответ взял на себя Лакюзон:
– Он не француз, – сказал капитан, – он благородный франш-контиец, один из наших! Люби же его, сестрица, люби всем сердцем, ибо, клянусь, он того заслуживает!
– Да, дитя мое, ты можешь любить его, – заметил в свою очередь преподобный Маркиз. – Не опускай же глаз и не стыдись, дорогая девочка, ибо с этой минуты Рауль твой жених, и скоро ты станешь его женой перед Богом и людьми. Люби, потом что любовь есть дар небесный… люби, потому что все в мире есть любовь, потому что, не будь любви, великий творец мироздания, к прискорбию своему, увидел бы, как бесплодное его творение неумолимо гибнет. Люби, потому что таков всеобщий закон, а любовь есть заповедь Божья… люби, потому что ты любима и только в любви, святой и чистой, сможешь черпать радости юных своих лет и воспоминания всей жизни!
Последние слова преподобный Маркиз произнес с легким волнением.
Эглантина и Рауль в едином порыве стали перед ним на колени и в один голос проговорили:
– Благословите нас, святой отец!
Священник возложил одну руку на черные, как смоль, волосы Эглантины, а другую – на белокурую голову Рауля.
– Будьте справедливы, будьте праведны, будьте сильны и будьте счастливы! – сказал он. – Вот что я прошу для вас у Господа.
– А сейчас, – воскликнул Лакюзон, пока наши влюбленные поднимались на ноги, – дай Бог, чтобы Пьер Прост был жив и оказался на свободе, чтобы завтра мы отпраздновали свадьбу уж как следует, не так, как у нас вышло нынче утром со слегка омраченной помолвкой.
– Дай-то Бог! – разом ответили Варроз и Маркиз.
Слабый, тусклый луч света уже проник сквозь квадратики оконных стекол в комнату, затмевая слабеющий огонек лампы, готовый того и гляди погаснуть.
– Близится час, – сказал полковник, подпоясываясь ремнем с крепкой шпагой.
– Мы будем вовремя, – отвечал Лакюзон.
Он приоткрыл дверь на улицу и наскоро огляделся.
Мимо двери валом валила толпа горожан и крестьян-горцев – все они двигались в одну сторону, к площади Людовика XI.
Капитан услыхал знакомый слабый, мягкий посвист – почти в ту же минуту из толпы выбрался человек и тут же проскользнул в дом.
То был Гарба, ординарец и правая рука предводителя горских партизан, – так, насколько нам известно, называл его сам Лепинассу.
– Знаешь дом Железной Ноги? – спросил его Лакюзон.
– Ну да, капитан, – в самом конце спуска Пуайа, аккурат напротив фонтана.
– Сколько тебе нужно времени, чтобы управиться туда и обратно?
– Полчаса, не больше.
– Проводишь туда вот этого сеньора и племянницу преподобного Маркиза – и мигом сюда.
С этими словами Лакюзон указал на Эглантину с Раулем.
– Хорошо, капитан, – ответил Гарба.
Рауль отвел Лакюзона в угол комнаты и резко, будто с укоризной сказал:
– Как же так, капитан, вы намерены избавиться от меня в ту самую минуту, когда вам предстоит сражаться? Неужели вы держите меня за девицу или малое дитя? Я желаю разделить с вами опасность, а своим отказом вы нанесете мне смертельное оскорбление, и я не прощу его даже брату!
– Мальчишка, – отвечал Лакюзон, – вы забываете, я видел вас в деле, так неужто вы полагаете, будто я сомневаюсь в вашей храбрости?
– Нет, поскольку вы даже не подали бы мне руки, будь я трусом. Но я буду в обиде, если не разделю с вами грядущей смертельной опасности.
– Стало быть, вам угодно сопровождать нас к площади Людовика XI и принять бой вместе с нами?
– Я этого требую, и вы не вправе мне отказать.
– Будь по-вашему! И да свершится ваша воля, а не моя! – с горечью промолвил Лакюзон. – Что ж, идемте, и тогда, если мы погибнем, и вы вместе с нами. Эглантина потеряет вас, едва успев обрести. Тогда Эглантина останется одна-одинешенька, и ее некому будет защитить от грубой, пьяной солдатни, распоясавшейся в захваченном городе. Но что вам до этой бедняжки! Вы помышляете о своей легко уязвимой гордыне, о ненасытной жажде крови!.. Идемте же, барон де Шан-д’Ивер, и да хранит Господь оставленную в печали бедняжку!
Рауль опустил голову, лоб его на мгновение нахмурился, губы сжались – все это отражало жестокую борьбу, кипевшую у него в душе.
– Капитан, – наконец сказал он, – вы правы, признаю. Идите же и спасите отца, а я позабочусь о дочери.
– Отлично, Рауль! Прекрасно! Я снова узнаю вас, – воскликнул Лакюзон. – Поверьте, отвага порой заключается в том, чтобы удержать шпагу в ножнах.
Дав троим защитникам ее отца поцеловать себя в лоб, Эглантина закуталась в просторную коричневую доху, похожую на ту, в которые и сейчас холодными зимами облачаются франш-контийские крестьяне. Рауль спрятал оружие под полами своего плаща и укрыл часть лица за воротом. И наши влюбленные последовали за Гарба, который повел их к дому Железной Ноги, а Лакюзон, Варроз и преподобный Маркиз тем временем стали собираться на площадь Людовика XI.
* * *
В XII веке площадь Людовика XI представляла собой всего лишь просторный внутренний двор, вокруг которого возвышались величественные и прекрасные здания Сен-Клодского аббатства. Безупречное единообразие фасадов и богатое убранство уже в те времена принесли им славу. Во двор глядел и главный вход в собор, что позволяло монахам скрытно попадать в церковь через сводчатые галереи, которые опоясывали монастырь и связывали меж собой все его главные постройки. А вход с центральной городской улицы загораживали массивные, крепкие ворота, вверенные неусыпному присмотру брата-привратника.
С противоположной стороны был другой вход, а значит, там имелись еще одни ворота, обычно запертые, – они открывались лишь по особо торжественным случаям, когда, к примеру, ленники приходили выплачивать десятину. Число же ленников было немалое, и, чтобы не стеснять их широкий поток, необходимо было сделать для них отдельный вход и выход.
С тех пор как шведы под водительством графа де Гебриана захватили город и изгнали из монастыря всех монахов, тихо и мирно живших там вот уже не одно столетие, о былом строгом внутреннем распорядке и бдительном брате-привратнике осталось одно воспоминание. Ворота сорвали с петельных крючьев и порубили топорами – все говорило о том, что теплое местечко привратника будет снова занято еще не скоро. В монастыре разместился главный штаб шведского войска, а покои самого настоятеля облюбовал себе граф де Гебриан. И для того, чтобы сей благородный воитель мог, не сходя с места, наблюдать за казнью Пьера Проста, площадь Людовика XI и была выбрана лобным местом.
Наши читатели, разумеется, вправе спросить, с какой, собственно, стати имя этого французского короля присвоено одной из площадей враждебного Франции города. И сейчас мы постараемся в нескольких строках объяснить им что к чему.
Как известно, в ту пору, когда Людовик – будущий Людовик XI – был еще только дофином, при дворе то и дело случались заговоры, цель которых была возвести его на отцовский престол – вместо Карла VII.
После провала очередной интриги сосланный в подвластную ему Дофине[35] Людовик узнал, что его отец, желая раз и навсегда покончить с преждевременными честолюбивыми устремлениями своего отпрыска, отрядил против него войско под водительством Антуана де Шабанна, графа де Даммартена.
Из «Мартиньенских летописей» мы узнаем, что дофин, предчувствуя поражение, спасся бегством, сохранив таким образом себе свободу, а то и жизнь. Будучи уверен, что найдет прибежище и добрый прием у своего родственника – герцога Бургундского, отца графа де Шароле, ставшего позднее Карлом Смелым, Людовик прибыл в государство этого принца, остановившись по пути в Сен-Клоде.
Разумеется, в те времена французский дофин не отличался противной королям скаредностью, ставшей впоследствии одной из отличительных черт его натуры, и возложил богатые подношения к высокочтимой раке великого святого Клода. Франш-контийские монахи исполнили желание именитого гостя и увековечили память о его посещении, назвав его именем самую красивую из городских площадей, когда Людовик стал королем.
Из Сен-Клода дофин направился в Брюссель, где жена и невестка Филиппа Доброго, герцогиня Изабелла, и госпожа де Шероле, оказали ему прием, достойный законного сына французского короля.
Чуть погодя герцог Бургундский передал ему во владение Сенаппский замок, расположенный на берегу реки Диль, в Брюсселе. Именно там будущий Людовик XI, наш благочестивый король, бесперечь преклонял колена перед свинцовыми и оловянными фигурками, что украшали его колпак и олицетворяли святых и Богоматерей, и заполнял свой досуг сочинительством сборника фривольных, даже непристойных историй, прославившихся под названием «Сто новых новелл» и позднее изданных Антуаном де Ла Салем[36].
Итак, площадь Людовика XI, которую мы описали выше, за час до казни Пьера Проста наводнила публика двух соротов.
Здесь – шведские солдаты, серые, французы, всякие иноземцы, наконец, и враги, злобные, неуемно-буйные, рукоплещущие в предвкушении казни, с видом знатоков обсуждающие, насколько искусно сложен костер.
Там, напротив, – горожане и горцы, собравшиеся на рассвете со всей округи, поскольку граф де Гебриан, уверенный в своей силе, распорядился, чтобы ворота Сен-Клода были открыты всем и каждому начиная с шести утра. Горожане с крестьянами сбились в безмолвную толпу, мрачную, угрюмую. Они пришли посмотреть, как будет умирать их ближний, несправедливо осужденный. Они оплакивали его и дрожали за самих себя, потому как в это смутное время, когда единственным законом и единственной же справедливостью был произвол, никто не мог быть уверен, что завтра не разделит участь Пьера Проста.
Соборный колокол пробил восемь часов.
После первого удара толпа всколыхнулась, подобно пшеничному полю под внезапным порывом ветра.
После последнего удара громыхнули барабаны, а за ними грянули трубы.
Скорбная процессия тронулась в путь.
Посередине фасада одного из описанных нами зданий, окружавших площадь Людовика XI, были величественные ворота – к ним вела широкая лестница с четырьмя ступенями. Над воротами, увенчанными гербом аббатства, возвышался каменный балкон, поддерживаемый водосточными трубами в форме фантастических животных и украшенный, будто оплетенный мраморным кружевом, ажурными столбиками и трилистниками. С этого балкона можно было охватить одним взглядом всю площадь.
Через эти ворота, расположенные под балконом, и шла процессия, сопровождавшая врача бедняков к месту казни.
Когда на верхней ступени лестницы показались барабанщики и трубачи, возвещавшие скорбной своей музыкой, что за ними следом стражники ведут осужденного на смерть, шведские солдаты, с мушкетами на плечах, окружили возведенный посреди площади костер и, грубо оттеснив зевак, выстроились двойной цепью от костра до ворот, оставив таким образом свободный и достаточно широкий проход для стражников и палачей.
Пока толпа откатывала в стороны под беспорядочными ударами ружейных прикладов, на нее напирали сзади – действие это был спланировано и осуществлялось с такой ловкостью, что шведские солдаты ничего не замечали.
Одетые, как крестьяне-горцы, молодые, крепкие парни, с раннего утра топтавшиеся на площади Людовика XI, но державшиеся в сторонке от костра, пропускали мимо горожан, теснимых шведскими солдатами графа де Гебриана, а сами тем временем один за другим неспешно и с оглядкой вставали на место беглецов. Так, по двое или по трое, они оказались за спиной каждого шведа, когда охрана выстраивалась в круг и в цепь, раньше, чем взводный лейтенант скомандовал «на караул».
Лица у всех этих горцев были честные и благодушные; в их спокойном поведении, в глазах, горевших разве только от любопытства, не чувствовалось никакой враждебности.
С полдюжины горожан, оказавшихся посмышленее других, сразу разглядели Гарба и Железную Ногу среди этой кучки спокойных зевак. Они тихонько перешептывались друг с дружкой: «Тут того и гляди заварится каша!» – и спешили незаметно покинуть площадь Людовика XI, решив переждать грядущие события в домашней тиши.
Между тем процессия продвигалась все дальше нарочито медленно, так, чтобы все могли рассмотреть ее в мельчайших подробностях и хорошенько запомнить увиденное. Пьер Прост, с обнаженной головой и связанными за спиной руками, шел решительным, твердым шагом меж двух подразделений солдат под командованием великана Лепинассу. Справа и слева от осужденного следовали палачи в красном, с горящими факелами в руках.
Врач бедняков держался гордо и уверенно – он шел с высоко поднятой головой. Его взгляд, обращенный к толпе, не выражал ни малейшей тревоги: скорее то был взгляд победителя, шествующего торжественным маршем, нежели осужденного, идущего на смерть.
Конечно, Пьер Прост верил храброму Лакюзону и его слову; конечно, он надеялся на обещанное избавление. Но он знал и то, что затея с его освобождением, крайне безрассудная, может провалиться – так что своим спокойствием он был обязан не надежде на спасение, а скорее глубокому внутреннему спокойствию и своей чистой совести, а также твердому желанию показать друзьям и недругам, как умирает праведник.
Притихшая, подавленная толпа в страхе наблюдала за процессией. Даже шведы помалкивали, не находя в себе наглости и смелости измываться над героической стойкостью обреченного на смерть.
Пьеру Просту осталось пройти несколько шагов до первой ступеньки, ведущей на костер.
Вдруг со всех сторон послышался оглушительный ропот – внимание толпы, только что сосредоточенное на осужденном, молниеносно переключилось на другое.
На балконе, до сих пор пустовавшем, появились новые участники драмы, и среди них – странный человек, живая, страшная загадка, давно приковавший к себе внимание франш-контийцев и возбуждавший их неутолимое любопытство.
Всемогущий, таинственный сеньор, дворянин в черной маске стоял неподвижно рядом с графом де Гебрианом, закутавшись в плащ.
– Черная Маска! Черная Маска! – разом повторяли тысячи голосов на площади, и люди взглядом и жестом показывали на мрачного незнакомца, выражая ему свою ненависть и страстное желание мести.
Невозмутимо сносивший огонь этих взглядов, Черная Маска, со скрещенными на груди руками, всем своим видом демонстрировал надменность и пренебрежение к толпе. Разве ему было дело до поднявшегося ропота? Разве ему было дело до ненависти бессильного скопища народа? Он явился сюда, чтобы собственными глазами увидеть: жертва от него никуда не денется. Он явился сюда, чтобы полюбоваться, как в разгорающемся пламени костра будет умирать Пьер Прост – невольный хранителель зловещей тайны. Через несколько минут его мучитель будет доволен. Через несколько минут врач бедняков обратится в пепел…
Это, и только это интересовало Черную Маску. А на остальное ему было наплевать.
Как и все на площади, Пьер Прост поднял глаза и обратил взгляд на балкон. Губы осужденного искривились в презрительной усмешке, он на мгновение остановился и, повернувшись к своему грозному, призрачному врагу, крикнул:
– Гляди, не рано ли празднуешь победу? Тайна той ночи – на 17 января 1620 года – не умрет со мной!
Но его слова утонули в криках толпы – Черная Маска не расслышал ни единого звука, слетевшего с уст приговоренного. Пьер Прост двинулся дальше.
Заминка, о которой мы упомянули лишь коротко, и впрямь продолжалась совсем недолго.
Граф де Гебриан подал знак. И снова грянули барабаны и трубы.
Пьер Прост подошел к ступеням, что вели на костер, и стал твердо подниматься вверх – без помощи палачей, сопровождавших его.
XVII. Костер
Посреди костра возвышался столб с железным ошейником, или обручем. Палачи закрепили кольцо на шее осужденного и оставили одного, прикованного к этому «позорному столбу», установленному на площадке, которая должна была вот-вот превратиться в пылающую печь.
– Ничего не вышло! – прошептал Пьер Прост, обводя долгим, прощальным взглядом примолкшую, мрачную толпу. – Ничего не вышло!..
Оторвавшись мысленно от земли, он перестал думать о тех, кто, казалось, покинул его, и обратился всей душой к Господу.
Один из палачей повернулся к балкону, ожидая дальнейших распоряжений.
Граф де Гебриан переговорил с Черной Маской и подал ожидаемый знак.
Оба палача встряхнули факелами, чтобы раздуть огонь посильнее, и поднесли их к вязанкам хвороста, переложенным сосновыми пнями, из которых был возведен костер.
Вдруг мертвую тишину вспорол пронзительный свист.
Первые ряды толпы тут же заколыхались.
Шведские солдаты, стоявшие кругом и цепью, качнулись под напором горцев, которые, удерживая каждого из них, приставили им к горлу по острому ножу.
В ту же минуту на костер взобрались трое человек, топча походя горящие факелы, народ захлопал в ладоши и закричал от радости, увидев, как рядом с Пьером Простом возник полковник Варроз, потрясавший своей тяжелой шпагой, как преподобный Маркиз сбросил с себя темный плащ, скрывавший его пурпурную мантию, а Лакюзон принялся развязывать цепи ошейника и резать веревки, которыми были стянуты руки осужденного.
Когда капитан покончил со своим делом и когда Пьер Прост, наконец свободный, смог пожать одеревеневшими руками руки своих спасителей, толпа взревела с удвоенной силой, подобно громовому раскату или пушечному выстрелу.
В самом деле, перед взором опьяненной радостью толпы предстало грандиозное, восхитительное зрелище. Он был прекрасен, как песнь «Илиады» или одна из драм старика Корнеля, рыцарский героизм этой троицы, пожертвовавшей собой ради спасения ближнего, вставшей рядом с ним, подобно тройному щиту, и объединенной, согласно данной клятве, одним желанием – спасти осужденного на смерть или умереть вместе с ним.
Варроз, этот рослый, седовласый старик, непоколебимый, как одна из тех гор, что стоят незыблемо, покрытые вечными снегами, замер с гордо вскинутой головой, положив руку на плечо врача обездоленных.
Преподобный Маркиз, воздев глаза к небу в благодарственной молитве, походил на пророка, одержимого решимостью воина. Его бледное лицо сияло в отсветах пурпурной мантии. Одной рукой он поддерживал Пьера Проста, который, казалось, совсем обессилел от нахлынувшего на него чувства свободы.
Перед ними, со шпагой в руке, с радостным и гордым блеском в глазах, с торжественной улыбкой на губах, стоял Лакюзон – он еще никогда не был так силен и так опьянен пламенным чувством победы.
Горцы, грозные и невозмутимые, держа на острие своих ножей жизни растерявшихся солдат, молча наблюдали за происходящим – а на готическом балконе граф де Гебриан и Черная Маска застыли, будто в оцепенении, не веря своим глазам. Толпа уже ревела в полном исступлении:
– С Рождеством! С Рождеством! Да здравствует Лакюзон!..
Граф де Гебриан не был трусом, но, оказавшись в столь неожиданном положении и охватив одним взглядом происходящее, в отличие от нашего пространного рассказа, вершившееся за считаные мгновения, живо смекнул, что его солдаты, все как один, оказались во власти горцев. Сейчас капитану Лакюзону достаточно сделать один жест – и начнется повальная резня, и тогда уж ни одному шведу не суждено будет выбраться живым из Сен-Клода.
Граф на мгновение задумался, не зная как быть дальше, но гордыня вельможи в нем быстро одержала верх над осмотрительностью военачальника, и он громовым голосом воскликнул:
– Именем Божьей Матери! Где же ваша отвага! Огонь, солдаты – шведы и французы!
Но ни один человек не мог ему подчиниться – ни один человек даже не шелохнулся.
Между тем капитан Лакюзон, спустившись по лестнице с верхней площадки костра, остановился и, повернувшись к балкону, громко, но спокойно крикнул:
– Граф де Гебриан, как видите, мы сильнее! Не пытайтесь устроить здесь кровавую бойню – вам же будет хуже: сегодня я не враг, а освободитель! Мне нужна только одна жизнь – моего дяди, и по моей воле не прольется ни капли крови. Пусть ваши люди сложат оружие и дадут нам уйти, мы же, клянусь честью солдата, никому не причиним зла… А завтра, если угодно, мы можем встретиться с вами в честном бою, и я дам вам шанс взять реванш за ваше сегодняшнее поражение…
Лакюзон не успел договорить, как шведы, не дожидаясь приказа своего командующего, дружно побросали мушкеты наземь.
Сир де Гебриан, понимая, что лучше уступить неизбежности, смолчал.
Лакюзон расценил его молчание как согласие и, отсалютовав графу шпагой, вышел вперед – за ним следовал Пьер Прост, которого с двух сторон поддерживали Варроз и преподобный Маркиз. Толпа расступалась перед ними.
Все, казалось бы, должно было закончиться без кровопролития.
И тут прогремел выстрел.
Капитан обернулся. Пьер Прост, потеряв опору, упал, обливаясь кровью, бившей из смертельной раны у него на груди.
Он простер слабеющую руку в сторону балкона, и губы его едва различимо прошептали:
– Это он… он…Черная Маска…
Лакюзон, вздрогнув, поднял глаза. Таинственный незнакомец медленно убирал за пояс дымящийся пистолет. Пьер Прост был мертв.
Капитан воздел руку над его безжизненным телом.
– Брат отца моего, ты будешь отмщен! – проговорил он.
Потом дрожащим от ярости голосом, подобным гласу трубы Судного дня, он прокричал:
– Измена! Ко мне, франшконтийцы! Лакюзон! Лакюзон и месть!..
Бросив свой боевой, призывный клич, капитан, вместе с Гарба, Железной Ногой и двумя или тремя партизанами кинулся к монастырским воротам – прямиком на лестницу, что вела на балкон, где все еще стояли Черная Маска и граф де Гебриан.
В эту же секунду две сотни шведов, пронзенные ножами горцев, рухнули, как подкошенные. Их товарищи, которыми командовал Лепинассу и которые рассеялись в толпе, пытались снова собраться вместе; они палили из пистолетов и мушкетов и кричали:
– Шведы, шведы, сюда!..
Все разом смешалось. А Лепинассу меж тем как сквозь землю провалился.
Через несколько мгновений площадь Людовика XI являла собой ужасное, поистине устрашающее зрелище. Здесь развернулась не обычная стычка солдат, сошедшихся под разными знаменами, а рукопашный бой, схватка один на один, когда превосходство зачастую зависит не столько от силы, сколько от храбрости и ловкости. Коротко говоря, горцы брали верх.
К тому же знаменитый посвист Лакюзона, красная мантия преподобного Маркиза, вызывавшая, как мы уже говорили, везде и всюду таинственный, суеверный трепет, смерть Пьера Проста, не казненного, а убитого, – все это ввергло шведов в неописуемый ужас. И они дрогнули еще до боя.
Однако эти доблестные воины – солдаты и наемники – были и решительны, и храбры; да и потом, зная, что им не стоит ждать милости от своих заклятых врагов, они не желали, чтобы им без сопротивления перерезали глотки, как баранам. Ну а раз им было суждено умереть, то жизнь свою они решили отдать за дорогую цену.
С полдюжины горцев окружило преподобного Маркиза, который, стоя чуть ли не на коленях, держал на руках безжизненное тело Пьера Проста.
Полковник Варроз, метавшийся в самой гуще врагов, точно гомеровский герой, вращал своей длинной шпагой с неистовой силой, и каждый ее удар приходился в цель.
Вскоре это уже была не схватка, а настоящая бойня. Бежать шведам было некуда: двойной частокол обнаженных шпаг преграждал оба выхода с площади Людовика XI. Сломленные численным превосходством и неудержимым натиском горцев, они падали один за другим, а победители, опьяненные льющейся кровью и лютой ненавистью, крушили все вокруг, вымещая свой пыл даже на трупах, когда не осталось живых врагов.
Все произошло меньше чем за десять минут.
Лакюзон с горсткой товарищей оказался у высоких ворот с гербом и свистнул своим знаменитым посвистом. Горцы перестали рубить налево и направо и поспешили на его зов.
– Ну что? – спросил его Варроз, вытирая окровавленную шпагу, изрядно затупившуюся о черепа, которые она раскалывала без всякой жалости. – Где Черная Маска?
– Бежал, трус! – гневно ответил капитан. – Бежал и запер за собой ворота. А покуда мы их высаживали, он успел улизнуть из аббатства. Но я найду его, клянусь честью! Да-да, найду, и тогда…
Он не договорил.
– Тихо! – резко бросил полковник. – Слышишь?
Лакюзон прислушался.
С главной улицы донесся какой-то гомон: крики отчаяния, ровный солдатский шаг, звон оружия и барабанная дробь – сигнал к бою.
В то же время один из горцев, охранявших расчищенный от шведов выход с площади, подбежав к Лакюзону, сказал:
– Капитан, шведы и серые на подходе!
Это Лепинассу, воспользовавшись первыми минутами сумятицы и общего смятения, бежал из монастыря через внутренние галереи за подмогой. И вот теперь вернулся – и не один.
– Шведы! Серые! – повторил Лакюзон. – Тем лучше, ребята. К бою! К бою! Я обещал дяде пышные похороны. Помогите же мне исполнить обещание! Всем заряжать оружие! Построиться в три шеренги! И ждать!
Горцы подчинились, исполнив приказ с восхитительной, благоразумной поспешностью, которая всегда была свойственна партизанам-горцам. Эта тройная шеренга выросла неодолимой преградой между преподобным Маркизом и наступающим неприятельским войском.
Лакюзон встал справа от шеренги. Варроз – слева.
Наступила долгая, глубокая тишина. Люди Лакюзона вскинули мушкеты на плечо, как охотники, изготовившиеся к стрельбе.
И вот на площадь бодро, но беспорядочно высыпала колонна шведов и серых.
Лакюзон подпустил ее на расстояние мушкетного выстрела и свистнул, дав сигнал открыть шквальный огонь.
Горцы, подобно вандейцам[37] в 1793 году, хорошенько целились, прежде чем стрелять, и редко били мимо. Первая вражеская шеренга была сметена. Вторая устояла под неплотным огнем, но отступила, – вслед за тем густые клубы дыма окутали площадь, раненых и убитых.
– Перезаряжай! – крикнул Лакюзон. – Обождем немного…
Утренний ветерок разогнал дымное облако, скрывшее сражающихся; шведские барабаны снова дали сигнал к бою – и вражеская колонна заняла оставленные позиции.
Но вместо повторного сигнала «огонь!» капитан издал яростный клич и в одиночку ринулся вперед.
Мгновение назад он заметил во главе первой неприятельской шеренги Лепинассу – одного, с непомерно длинной рапирой в огромной ручище… рапирой, больше похожей на тяжеленный меч, каким орудовали в бою наши предки, держа его обеими руками, и какой в наши дни поднимет, и то с трудом, не всякий крепыш.
Горцы – с одной стороны и шведы с серыми – с другой было бросились на выручку своим командирам. Но тут же, будто по обоюдному согласию, остановились, не иначе как решив стать простыми зрителями скорого поединка.
В те времена, как известно, командиры противоборствующих сторон нередко сходились в поединке, давая своим воинам передышку и возможность стать свидетелями своеобразной рыцарской схватки, в которой показывали доблесть и умение наносить противнику ловкие, сокрушительные удары.
Оружием Лепинассу служила рапира, который он размахивал над головой, короткий кинжал с острым треугольным клинком и пара пистолетов.
У капитана была только шпага. Пистолеты он уже успел разрядить, а кинжал – сломать, когда пытался открыть ворота, захлопнувшиеся за Черной Маской, так что проку от клинка не было никакого.
Лакюзон кинулся на Лепинассу с криком:
– Мерзавец… разбойник… мародер… дважды изменник и трус! Может, ты и сейчас решил дать тягу, как давеча ночью в Лонгшомуа?
– Ежели я и дам тягу, ты это увидишь, – отвечал великан. – А когда увидишь, никому уже не расскажешь.
Свои слова он подкрепил таким страшным ударом рапиры, что капитан неминуемо пал бы замертво, ибо никакая защита не могла остановить или хотя бы замедлить падение увесистого клинка.
Лакюзона спасла только несравненная проницательность и гибкость.
Рапира Лепинассу не успела обрушиться ему на голову: капитан, резко отпрянув в сторону, ушел из-под удара – рапира рубанула пустоту, и покуда великан снова собирался с силами, его противник стремительным уколом пронзил ему левую руку – из раны брызнула кровь, обагряя рукав его серого камзола.
– Если так и дальше дело пойдет, я мигом перекрашу в красный цвет твой камзол заодно с портками! – бросил Лакюзон, занимая оборонительную позицию. – И будут они у тебя покраше мантии преподобного Маркиза. Я изрешечу тебя, как шумовку у наших добрых хозяюшек.
– Давай, попробуй! – огрызнулся Лепинассу, скрежетнув зубами. – Ну же, давай!
Пользуясь своим гигантским ростом и неимоверной силищей, помноженной на бешеную ярость, он нанес Лакюзону несколько прямых и боковых ударов подряд – справа налево и слева направо, и с такой стремительностью, что за движениями его оружия, незримо рассекавшего воздух, было не углядеть.
Капитан, даже не пытавшийся отражать его выпады, то и дело уклонялся от кружащей в воздухе рапиры, и этом наносил неприятелю ответные удары, с каждым разом все более точные. Его вытянутая правая рука, сведенная, как пружина, становилась все тверже, его шпага разила, точно молния – и вот уже новое кровавое пятно расходилось на сером камзоле противника.
Лепинасу прикусил язык – только беспрестанно скрежетал плотно сжатыми зубами; из его груди вместе с прерывистым дыханием вырывались приглушенные завывания.
Усталость брала свое.
Лакюзон хотел одним разом покончить с уродливым предводителем серых, верным прихвостнем Черной Маски, и, улучив мгновение, когда Лепинассу замешкался, поднимая рапиру, он нанес ему прямой удар в грудь.
Впрочем, выпад был преждевременный – капитан поступил неосмотрительно: удар достиг цели, но рана оказалась не очень глубокой – великан устоял на ногах и, ударив в ответ рапирой по шпаге капитана, сломал ее, как будто она была стеклянная.
Лакюзон остался без оружия.
Шведы победоносно закричали – горцы вторили им криком отчаяния и ужаса.
Варроз, Гарба, Железная Нога и другие хотели было броситься на выручку своему капитану, но они все равно бы не успели, если бы Лакюзон, изловчившись непостижимым образом, вдруг не обратил преимущество Лепинассу в свою пользу.
Отшвырнув подальше бесполезный обломок шпаги, обломившейся всего в паре дюймов от крестообразного эфеса, он ринулся на великана, обхватил его руками за пояс, а ногами – за бедра и попытался повалить наземь.
Лепинассу, не ждавший столь внезапной атаки, тоже отбросил рапиру: теперь он уже не мог ею воспользоваться. Разбойник понимал: на новом этапе его схватки с горцем – схватки, которая должна закончиться смертью одного из них – ему остается рассчитывать только на свою поистине бычью силу. Случись ему прямо сейчас выхватить кинжал или пистолет, он запросто прострелил бы Лакюзону голову или вонзил бы клинок ему меж лопаток по самую рукоять. Но кинжал с пистолетами торчали у него за поясом, а железная хватка капитана не позволяла ему дотянуться до них.
Как бы то ни было, Лепинассу успешно сопротивлялся силе Лакюзона, так что капитану не удавалось даже сдвинуть с места это мощное, тяжелое тело, не то что завалить наземь. Великан стоял не шелохнувшись, точно Геркулес Фарнезский. Его было не одолеть даже троим крепким молодцам сразу.
Это могло бы продолжаться нескончаемо долго. Лепинассу замер как вкопанный, хватка капитана не ослабевала ни на йоту – противник был буквально зажат в тиски. Оба единоборца не проронили ни звука – только свистящее дыхание вырывалось у них сквозь стиснутые зубы.
Тогда Лепинассу пришла в голову мысль – вот какая. Сперва он подумал сломать капитану грудь, сжав его что есть мочи своими ручищами, но был слишком высок, и обхватить молодого человека половчее у него не вышло.
Тогда он решил задушить соперника.
То был неплохой способ и самый верный. К счастью, Лакюзон вовремя раскусил хитрость великана – и с силой уперся головой ему в грудь. Но Лепинассу не дрогнул – твердо вознамерившись уничтожить врага, он стал всем своим весом давить на плечи Лакюзона, силясь добраться до его шеи.
Капитану, определенно, пришел бы конец, если бы серому удалось добраться до его горла, тем паче что пытка с помощью «испанского воротника», оставлявшая жертве не больше четырех секунд жизни, была детской забавой в сравнении с железной хваткой великана.
Чувствуя смертельную опасность, Лакюзон решил отчаянно сопротивляться, веря в свою победу. Улучив минуту, когда колосс приподнялся, теряя равновесие, чтобы покрепче надавить обеими руками ему на плечи, капитан собрал все свои силы, напряг нервы и мышцы и, почти оторвав Лепинассу от земли, толкнул его, опрокинул и сам упал на него.
Равновесие сил в поединке снова изменилось – на сей раз удача была на стороне капитана, хотя она и казалась призрачной, поскольку Лепинассу мог одним мощным, необоримым рывком снова вскочить на ноги.
Но великан думал лишь об одном – поскорее выхватить из-за пояса кинжал, благо теперь это получилось бы сделать беспрепятственно. Бандит размахнулся – и над головой Лакюзона сверкнуло лезвие.
Капитан мигом ослабил хватку и, вцепившись в ручищу, державшую кинжал, навалился на другую руку Лепинассу, чтобы обездвижить ее, – так он попытался не столько обезоружить великана, сколько заставить его пронзить себя своим же кинжалом. Лепинассу смекнул, что дело его плохо, и принялся извиваться змеей, сучить ногами и отчаянно вырываться; в конце концов ему удалось приподняться вместе с Лакюзоном, а вслед за тем и подмять его под себя.
Капитан, понимая всю безнадежность своего положения, тем не менее продолжал удерживать руку Лепинассу, занесшую кинжал над его головой…
Кто же кого одолеет? Кто из них двоих спасует первым? Теперь все зависело от упорства противников. Свидетелей этой необычной схватки, с той и другой стороны, вдруг невольно пробила дрожь. Будто по чьему-то знаку, они нарушили безмолвный договор о перемирии и накинулись друг на друга: горцы – чтобы прикончить Лепинассу, а шведы – чтобы избавиться от Лакюзона.
Словом, поединок должен был неминуемо закончиться гибелью обоих противников.
События разворачивались вокруг этих переплетенных тел, хотя и борющихся, но практически обездвиженных. Картина была ужасающей. Шведы с горцами, оттесняя друг дружку от своих вожаков, оставляли вокруг места ожесточенного поединка окровавленные тела убитых.
Полковник Варроз, которого уже раз десять отбрасывали в сторону, издал клич горцев: «Лакюзон! Лакюзон!..» – сделал еще одну попытку и, пробившись сквозь толпу шведов, оказался в каких-нибудь двух метрах от капитана и Лепинассу.
Великан чуть повернул голову, заметил седые усы и сверкающую шпагу старого солдата и захотел нанести смертельный удар первым, прежде чем умереть самому: напрягшись изо всех сил, отчего у него даже хрустнули кости, он выдернул ручищу с кинжалом из цепких рук капитана.
В то же время дюжина шведов накинулась на Варроза, и ему, вскипевшему от ярости, ничего не оставалось, как отступить.
Капитану, казалось, пришел конец. Уже вскинутый кинжал Лепинассу готов был обрушиться и пронзить храборому юноше горло.
И тут на площади Людовика XI объявился еще один воин – но не швед и не горец, если судить по его наряду.
В неудержимом порыве он расталкивал и сбивал с ног всех, кто попадался ему на пути.
– Лакюзон! Лакюзон! – воскликнул он в свою очередь и, подскочив к Лепинассу, вонзил шпагу по самую гарду великану меж лопаток, пригвоздив его к земле.
Тот выронил кинжал, изрыгнул с последним вздохом проклятие и отдал душу дьяволу, который сотворил его по своему образу и подобию.
Новым участником схватки, появившимся на месте поединка как нельзя вовремя, оказался Рауль де Шан-д’Ивер – он уже второй раз за последние сутки спас жизнь Лакюзону.
– Спасибо, брат! – только и сказал ему капитан, резко вскочив на ноги.
И, схватив увесистую рапиру Лепинассу, вместо своей сломанной шпаги, воскликнул:
– Вперед! Вперед! Смерть им! Смерть!..
Снова став во главе горцев, он накинулся на шведов, потрясенных смертью своего предводителя, и те, сломленные первым же натиском, побросали оружие и обратились в бегство, полагаясь только на быстроту своих ног.
Партизаны, вложив шпаги в ножны, преследовали их, подобно лавине, паля им вдогонку из мушкетов и пистолетов.
Меньше чем через минуту на площади Людовика XI не осталось никого, кроме преподобного Маркиза и четырех-пяти горцев, его телохранителей, которым он наказал перенести тело Пьера Проста в собор.
– Двое из вас, останьтесь со мной, – распорядился потом священнослужитель. – Поможете мне отдать последний долг этой благородной жертве. Остальные возвращайтесь к Варрозу и капитану и передайте, что здесь мне уже ничто не угрожает, а еще скажите: если мы не свидимся нынче вечером в доме на главной улице, то завтра я разыщу их в Гангоновой пещере.
Горцы тут же принялись исполнять волю одного из своих предводителей.
Когда они вышли из собора, где провели всего-то несколько минут, перед ними предстало довольно странное, если не сказать весьма забавное, зрелище.
Горожане словно воробьи: они быстро впадают в панику, но куда быстрее приходят в себя. Сразу же вслед за полным разгромом шведов часть добрых обитателей Сен-Клода, разбежавшихся по домам и затаившихся там после выстрела Черной Маски, снова вернулась на площадь Людовика XI.
Среди груд мертвых тел, устилавших землю, они отыскали безобразный труп Лепинассу. И отволокли его к костру. Затем, не без усилий, затащили его на верхнюю площадку. Прислонили к подобию позорного столба, возвышавшегося посреди площадки. Приковали к нему труп цепями, закрепив на шее железный ошейник.
И наконец подожгли хворост.
Покуда белые клубы дыма и раздвоенные языки пламени все плотнее окутывали уродливый труп великана, жители города взялись за руки и, топчась по лужам крови, принялись водить хоровод – столь велика была радость, которую они испытали при мысли, что навсегда избавились от этого мерзкого и ужасного солдафона.
Конечно, нынче утром все премного удивились бы, если бы им сказали, что на этом костре сожгут не Пьера Проста, а Лепинассу.
Но человек предполагает, а Бог располагает.
XVIII. Повешенная
А теперь пора объяснить нашим читателям, как случилось, что Рауль де Шан-д’Ивер, которому Маркиз, Варроз и Жан-Клод Прост доверили заботу об Эглантине и который, как мы видели, ушел вместе с нею и Гарба в безопасное место, вдруг как нельзя более кстати оказался на площади Людовика XI – подобно Deus ex machina[38], выражаясь словами античных поэтов, – и спас капитана от кинжала Лепинассу.
Впрочем, объяснить это нетрудно.
Рауль с Эглантиной, под водительством Гарба, быстрым шагом добрались за пятнадцать-двадцать минут до той части города, которая называлась спуском Пуайа. Это была не совсем улица, а скорее скопище лачуг, разделенных меж собой фруктовыми садами. Лачуги и сады размещались на крутом склоне холма, неподалеку от крепостной стены, на которую накануне ночью взбирались Лакюзон с Раулем.
Жилище Железной Ноги представляло собой убогую одноэтажную хибару в две комнаты, сложенную наполовину из едва обтесанного камня, наполовину из дерева. Напротив двери располагался источник с холодной, прозрачной водой, бивший с тихим журчанием из скалы меж трех громадных орехов и ручьем вливавшийся дальше в Бьен.
– Вот и наше пристанище, – сказал Гарба, – хоть и неказистое и убогое, зато безопасное.
Он отворил дверь, закрытую только на щеколду, и прибавил:
– Входите. Вот здесь, изнутри, есть задвижка, так что можете запереться. Сидите тихо и не высовывайтесь, потому как скоро на площади Людовика XI будет жарковато.
С этими словами Гарба, с чисто горской учтивостью, поднес руку к своей меховой шапке, развернулся и, не теряя времени понапрасну, отправился прочь по крутой тропинке спуска Пуайа.
Как только Рауль с Эглантиной прошли в дом, молодой человек запер дверь на внутренний засов, как посоветовал Гарба.
Нашим читателям может показаться странным, что двери в здешних домах запираются изнутри, а не снаружи. Однако дело это в здешних краях самое что ни на есть привычное: все объясняется убогостью самого жилища.
Если хозяин оставался дома, он запирался на засов, чтобы никто не мешал ему работать или спать. Когда же он, напротив, выходил из дому, принимать меры предосторожности было вовсе не обязательно: он отлично знал, что, покидая дом, он не оставлял там ничего, что можно было бы украсть.
Железную Ногу, прежде чем он стал командиром одного из партизанских отрядов Лакюзона и получил свою кличку, под которой его знала вся округа, звали Антуаном Гате. Он был корзинщиком – и немудрено, что обе комнатенки в его хижине были завалены вязанками ивовых прутьев, неочищенных и уже обструганных, корзинами, плетенками и разными заготовками.
Рауль не без труда отыскал среди всего этого хлама место, где могла бы присесть Эглантина. Сам же он примостился напротив нее на углу трухлявого стола.
Возможно, будь мы записными романистами с богатым воображением и будь мы вправе по своему желанию погружаться в бездны своей фантазии, мы могли бы изобразить здесь трогательную сцену между нашими молодыми героями: полюбившие друг друга и надолго разлученные судьбой, они встретились вновь при странных, неожиданных обстоятельствах…
Но мы, в первую голову, историки и как служители истины должны признать, что в бедной хижине, давшей приют Эглантине и Раулю, царила глубокая тишина. Разумеется, их сердца внимали друг другу, хотя уста безмолвствовали. Но разве могло быть иначе?
Эглантина, бледная и печальная, сидела, опустив глаза, и тихо проливала слезы. Она думала о том, что вот-вот завяжется решающая схватка, когда самые дорогие ее друзья будут рисковать жизнью ради нее и Пьера Проста, и предугадать, чем все закончится, было невозможно. Лакюзон, Варроз и Маркиз могли погибнуть, так и не успев спасти врача обездоленных.
Мысли Рауля были такими же мрачными, как и у его суженой. Молодой человек с глубокой горечью думал, что схватка будет проходить без него и что, пока он прячется с девушкой в запертой хижине, три человека, которых он почитал больше всех героев на свете, не исключено, прольют свою кровь за славное дело…
Он утешал себя, повторяя, что благородный мужчина всегда на своем месте, когда печется и безопасности женщины. Он повторял слова Лакюзона: «Отвага порой заключается в том, чтобы удержать шпагу в ножнах». Он убеждал себя в том, что оберегать Эглантину от смертельной опасности все равно что защищать свое собственное счастье… Но тщетно. Рауль не мог найти достаточно веских причин, чтобы убедить себя во всем этом и утешиться, и оттого острота его сожалений вынуждала юношу забыть о любви.
И тут случилось то, что отвлекло его от горестных раздумий.
Рядом с домом вдруг послышались шаги и голоса… Крики, проклятия и стенания прерывались взрывами хохота, надолго заглушавшими отчаянную мольбу.
Рауль вскочил из-за стола и подошел к окну, выходившему на дорогу. Квадратные оконные стекляшки покрывал толстый слой пыли, и рассмотреть сквозь них что-нибудь было невозможно. Молодой человек протер носовым платком кусочек оконного стекла размером с монету, приложился к нему глазом. И увидел по ту сторону улицы, или дороги, как угодно, – возле фонтанчика под вековыми орехами группу из четырех человек.
Это были трое мужчин и одна женщина. Трое мужчин, с физиономиями висельников, были облачены в серую униформу головорезов Лепинассу. А женщина, лет пятидесяти пяти – шестидесяти, высокая и сухопарая, была в рубище, какое увидишь разве что на самых обездоленных франш-контийских крестьянах. Седые волосы, выбившиеся из под драного платка, спутанными прядями падали ей на плечи; ее лицо, когда-то даже привлекательное, исказилось в ужасе и отчаянии.
Женщина, упав перед солдафонами на колени, заламывала руки и сквозь рыдания что-то прерывисто бормотала. А серые отвечали на ее причитания и всхлипы лишь злобными усмешками и раскатистым хохотом. Время от времени несчастная с мольбами пыталась схватить одного из солдат за колени, надеясь смягчить его, разжалобить, но головорез только грубо и брезгливо пинал ее, словно боялся испачкаться.
Один из серых отошел от товарищей, размотал веревку, раз пять или шесть обмотанную вокруг пояса, вскинул голову и со знанием дела стал осматривать низкие ветви ореха, до которых легко можно было дотянуться. Скоро он высмотрел подходящую. Тут же ловко взобрался на дерево и привязал веревку одним концом к ветке, а с другого конца связал удавку.
Покончив с этим делом, он спустился и, как расслышал Рауль, сказал своим спутникам:
– У Лепинассу с товарищами будет костер. А у нас виселица, да еще какая! Вот будет потеха! Сейчас поглядим, какую рожу скорчит эта ведьма, когда отправится на тот свет к мессиру Сатане, своему хозяину и повелителю.
При этих словах двое серых захлопали в ладоши и стали тыкать шпагами несчастную старуху, которая, все так же стоя на коленях, продолжала молить их о пощаде, несмотря на то что ее мольбы, очевидно, ничуть не трогали их черствые души.
Наконец она, похоже, поняла, что у нее не осталось никакой надежды, и перестала стенать и плакать. Ее лицо застыло, словно мраморная маска; обеими руками он убрала с глаз космы, поднялась с колен и, выпрямившись, стала перед палачами как вкопанная.
– Ну же, старая, – обратился к ней один из них. – Давай ступай к виселице! Ну же, пошевеливайся!..
Несчастная твердым шагом подошла к болтавшейся веревке. Один из серых, тот, что с особым рвением подходил к своему делу, подкатил поближе здоровенный булыжник, высотой в фут, и установил его точно под удавкой.
– Вот тебе приступок, на нем ты будешь ближе к небу, ведьма! – бросил он. – Давай взбирайся!
Старуха повиновалась.
Серый приподнялся на цыпочки и нацепил удавку на шею несчастной.
Чтобы отправить ее в вечность, оставалось лишь выбить камень у нее из-под ног.
– Ах ты! – сказал себе Рауль, чувствуя, как кровь вскипает у него в жилах. – Я не намерен терпеть, как у меня на глазах собираются расправиться с несчастной старухой, я не могу бросить ее в беде…
Скинув плащ и удостоверившись, что шпага у него под рукой, он велел Эглантине запереть за ним дверь и живо выскочил из дому.
Серые воззрились на него с недоумением и любопытством и на мгновение отвлеклись от своего постыдного занятия.
В одной из предыдущих глав мы уже описывали костюм Рауля: он являл собой, скажем так, нечто среднее между офицерским мундиром и камзолом дворянина. Серые решили, что обладатель такого костюма мог быть офицером из главного штаба графа де Гебриана, и приветствовали его по-военному.
Молодому человеку не очень-то хотелось связываться с этими подонками: их было больше, и преимущество явно было на их стороне. Он решил воспользоваться тем, что его так запросто, по ошибке, приняли за другого, подошел к серым, не вынимая шпаги из ножен, и сказал:
– Какого черта вы тут делаете, братцы?
– Сами видите, господин офицер, – отвечал один головорез, – решили вот малость позабавиться.
– Позабавиться над престарелой женщиной?
– Это не женщина, господин офицер.
– А кто же?
– Ведьма.
– Кто вам такое сказал?
– В Сен-Клоде каждая собака это знает. Местные зовут ее не иначе как Маги-ведьма[39].
– И кто же приговорил эту ведьму?
– Мы сами. Мы вынесли приговор и сейчас приводим его в исполнение.
– Вы, часом, не судьи, не инквизиторы?
– Господин офицер, мы серые и состоим под началом капитана Лепинассу, а серые Лепинассу стоят всех судей и инквизиторов, вместе взятых. Мы решили повесить ведьму, значит, так тому и быть. А вы ступайте своей дорогой, коли такой нежный и боитесь глядеть, как эта чертова дочь будет болтаться на конце веревки.
– Надеюсь, Господь простит меня! – надменно воскликнул Рауль. – Вы как будто сказали, чтобы я шел своей дорогой, не так ли?
– Именно так, – заносчиво отвечал серый.
– А что, если мне угодно остаться? Что, если мне не по нраву ваша затея?
– Обойдемся и без вас, только и всего.
– Да ну?
– А то! Так мы порешили, и у нас есть на то причины.
– Это мы еще поглядим, причем сей же час. Приказываю вам освободить эту женщину, и если вы не подчинитесь по доброй воле, придется заставить вас силой.
Серый, к которому главным образом обращался Рауль с самого начала, скрестил руки на груди и, посмотрев молодому человеку в лицо, грубо и надменно заявил:
– Это мы сейчас поглядим, кто вы, черт вас возьми, такой и с какой стати хозяйничаете тут и суете нос не в свое дело.
– Вам без надобности знать, кто я такой, – возразил Рауль, – зато предупреждаю: если не подчинитесь, то сведете знакомство с моей шпагой.
– Ну что ж, – бросил головорез, – давайте, пожалуй, обнажим шпаги, чтобы малость сбить с вас спесь, ретивый молокосос.
И, выхватив рапиру, он прибавил, обращаясь к товарищу, взявшему на себя роль заправского палача:
– А ты, Лимассу, кончай со старухой!
Почтенный Лимассу тотчас повиновался и пинком выбил булыжник из-под ног несчастной жертвы.
Рауль со шпагой наголо бросился на серого с быстротой молнии. Негодяй попытался отбиться, призвав двоих товарищей на помощь.
Они подскочили – но слишком поздно. Шпага молодого человека пронизала грудь мерзавца насквозь, и он замертво рухнул наземь.
При виде этого двое его сообщников развернулись и что есть духу дали деру, бросив Рауля с трупом товарища и телом несчастной, бившейся в петле в предсмертных судорогах.
Молодой человек поспешил перерубить веревку.
Мнимая ведьма повалилась без чувств на землю.
XIX. Пожар
Рауль склонился над телом несчастной, казавшимся безжизненным, и приложил руку к ее сердцу. Оно слабо билось. Последняя минута, когда душа, высвобождаясь из земной оболочки, воспаряет к небу или летит в ад, для нее еще не настала.
Молодой человек опустился на колени перед фонтанчиком, устроенным в нескольких шагах в стороне, зачерпнул пригоршню воды и обрызгал ею мертвенно-бледное лицо и шею старухи.
Пока он занимался своим милосердным делом, где-то неподалеку громыхнула пара выстрелов, и две пули просвистели в нескольких линиях[40] от виска Рауля. Он живо повернул голову – заметил два белых облачка на фоне сумрачного неба над обвалившейся стеной, в полусотне шагов слева, и сразу смекнул, откуда в него стреляли.
Это были двое серых, попытавшихся отомстить за смерть своего товарища.
Рауль направился в их сторону и, увидев, как они дернули прочь по склону холма, выстрелил им вслед из пистолетов – но не попал, солдаты были уже далеко.
Когда он вернулся к старой Маги, то обнаружил, что она уже поднялась и села на твердой, мерзлой земле. Старуха полностью пришла в себя, и во многом благодаря холодной воде, которой Рауль ее освежил.
– Как вы себя чувствуете, бедняжка моя? – спросил Рауль.
– Как нельзя лучше, мессир, – отвечала та хриплым после петли голосом.
И довольно грамотно, в изысканных выражениях, никак не вязавшихся с ее нищенским облачением, прибавила:
– Даже не знаю, мессир, как вас благодарить за ваш благородный поступок, ибо вы рисковали жизнью ради какой-то несчастной, и к тому же незнакомки, до которой вам вряд ли было дело.
– Я всего лишь исполнил свой долг, – возразил Рауль, – помешав негодяям совершить злодеяние.
– Увы, – проговорил старуха, – мы живем в такое время, когда далеко не всякий знает смысл слова «долг». Блаженны те, кто его не забыл!
– Что же такого вы им сделали и почему они хотели с вами расправиться?
– Ничего я им не сделала, мессир. А расправу надо мной они хотели учинить по прихоти своей, забавы ради, как они сами сказали… точно дети малые, для которых забава – утопить несчастного щенка.
– Но почему они называли вас Маги-ведьмой?
– Потому что меня все так называют в округе.
– А почему вас так называют?
– Потому что живу я в бедности, одиночестве и печали, а бедность, одиночество и печаль вынуждают подозревать тех, кто несет на себе это бремя тройной беды.
– Могу ли я что-нибудь сделать для вас?
– Вы и так сделали немало, мессир, сохранив мне жизнь, за которую я по глупости своей цепляюсь… Бог весть почему, ибо что значит жизнь без привязанностей? Впрочем, одну услугу вы все же можете мне оказать – последнюю, единственную…
– Какую же?
– Дайте мне руку, мессир, ибо без вашей помощи, боюсь, я не встану. Упав наземь, я лишилась последних сил.
Рауль сделал то, о чем его просила старуха.
Поднявшись на ноги, та впервые посмотрела ему в лицо.
Недолго задержав на нем свой взор, она вдруг глухо вскрикнула и в изумлении отпрянула.
– Что такого уж странного вы разглядели во мне? – спросил Рауль.
– Ничего, мессир, ничего… Мне просто показалось… Нет-нет, ерунда какая-то… Меня все преследует один образ, и я вижу сходство с ним в первом встречном, хотя на самом деле ничего подобного нет и в помине.
– О каком таком сходстве вы говорите? – воскликнул молодой человек, не скрывая своего волнения. – Неужто мое лицо напомнило вам кого-то из знакомых?
– Да, по крайней мере мне сперва так показалось… но я обозналась. К тому же что такое сходство? Да и тот, о ком я подумала, давно умер, а вместе с ним угас и его род.
Рауль, полагая, что старуха имела в виду Тристана де Шан-д’Ивера, собрался расспросить ее подробнее, но она не дала ему времени.
– Мессир, – сказал она, – по вашей одежде мне трудно судить, на чьей вы стороне – шведов ли, французов или, может, франш-контийцев.
– Я за франш-контийцев, – ответил Рауль, – и у меня нет ни малейшей причины это скрывать. Но почему вас одолевают сомнения?
– Потому что я всеми опозорена, осмеяна и гонима, так что хоть шведы, хоть французы, хоть горцы – они мне все одно враги. И вы единственный, кто за долгие годы моих мытарств проявил заботу обо мне. А стало быть, я на той же стороне, что и вы, мессир. И может статься, – только не смейтесь! – что старая Маги, или Маги-ведьма, как меня прозвали, еще сослужит вам добрую службу, на какую вы сейчас и не рассчитываете.
Рауль сдержал улыбку, но про себя решил, что бедная старуха, ясное дело, не в себе.
Через мгновение та прибавила:
– Хотелось бы узнать ваше имя, мессир, уж я его никогда не забуду и стану поминать во всех молитвах.
– Меня зовут Рауль, – ответил молодой человек.
– Благодарю, – проговорила старуха. – Рауль – прекрасное имя. И оно мне по душе.
Вслед за тем, не проронив больше ни слова и не дожидаясь новых вопросов, Маги, невзирая на свои годы и на пережитые напасти, связанные с падением и беспамятством, быстрым и как будто уверенным шагом удалилась.
Рауль собирался вернуться в хижину Железной Ноги к Эглантине, которая, стоя у окна и припав одним глазком к щелке на стекле, протертой в слое пыли молодым человеком, в сильной тревоге следила за всем, что происходило на дворе.
Он уже было направился к двери, как вдруг услыхал шум, принесенный ветром со стороны площади Людовика XI, содрогнулся и, застыв как вкопанный, насторожился.
Это стрелял из пистолета Черная Маска.
За этим выстрелом, как мы помним, почти сразу же последовала пальба шведов и серых, затерявшихся в толпе, а дальше все смешалось…
Горцы начали крушить врага налево и направо.
Ошибиться или обознаться, заслышав поднявшийся гвалт, было невозможно. На площади закипело побоище.
Треск мушкетных выстрелов подействовал на Рауля, как сигнал трубы на боевого коня.
Молодой человек забыл обо всем на свете: и о своем обещании, и о данном ему поручении, и даже о самой Эглантине – с этой минуты он думал лишь об одном: его друзья сейчас рискуют жизнью, а он торчит здесь, вместо того чтобы спешить им на помощь.
В следующее мгновение он уже взбирался бегом по крутому спуску Пуайа, а еще через какое-то время – мчался по лабиринту узких улочек, что вели на площадь Людовика XI. Но не успел он углубиться в этот лабиринт и на полсотни шагов, как совершенно сбился с дороги. Дома кругом одинаковые. Ни одного указательного знака. А народ, в страхе метавшийся вокруг, пробегал мимо, оставляя его вопросы без ответа – будто не слыша его и не замечая.
Между тем мушкетная пальба все нарастала, и Раулю, то и дело натыкавшемуся на тупики, не могущему, несмотря на все усилия, приблизиться к шуму, звавшему его, нашему Раулю казалось, что он сходит с ума…
Наконец, когда он уже совсем было впал в отчаяние, когда за воцарившейся вдруг мертвой тишиной последовали оглушительные крики вперемежку с барабанной дробью и новыми громовыми выстрелами – за поворотом какой-то улочки, пониже густой завесы дыма, он вдруг увидел перед собой широкое пространство, посреди которого кипела беспорядочная кровавая схватка.
Это была площадь Людовика XI.
В то же самое время он услышал крики:
– Смерть Лакюзону! Смерть!.. Да здравствуют Швеция и Франция!
Им вторили другие возгласы:
– Смерть Лепинассу! За Сен-Клод и Лакюзона!
Рауль вклинился в кучу схлестнувшихся меж собой противников. Он рвался туда, где куча была плотнее, где было опаснее всего…
Как мы уже знаем, он успел вовремя – и второй раз спас жизнь капитану Лакюзону.
* * *
После победы, а вернее – настоящего триумфа на площади Людовика XI, капитан и Варроз, во главе горцев, в безудержном запале бросились преследовать побежденных – впрочем, об этом, мы кажется, уже упоминали.
Рауль последовал за ними.
Жестокая схватка перенеслась в город, все ворота которого были перекрыты, чтобы никто не улизнул. Шведы, загнанные врагами в ловушку, точно разъяренные волки, метались в поисках убежищ, но все без толку. Напрасно они бросали оружие, напрасно умоляли на коленях, барабаня кулаками в двери домов, крича, что они сдаются, и моля о пощаде. Сердца горцев и горожан переполняли ненависть и жажда мщения – состраданию в них не было места.
Еще недавно шведы-победители не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. И вот справедливость, пусть и ужасная, восторжествовала: теперь никто не щадил шведов-побежденных.
Между тем некоторым из них удалось сплотиться, и, оставляя после себя кровавые следы, они стали в одном месте пробиваться к городским воротам, охранявшимся горцами. В конце концов им удалось прорваться за ворота, но Лакюзон, не хотевший, чтобы его люди рассредоточивались, приказал не преследовать беглецов.
Граф де Гебриан и Черная Маска как сквозь землю провалились – никто не знал, куда они подевались и где их искать.
Отныне город Сен-Клод перешел в руки победителей, враг был изгнан – уж теперь-то он оправится нескоро.
Лакюзон с Варрозом, отдав последние распоряжения, собирались вернуться вместе с Раулем на площадь Людовика XI, где должны были встретиться с преподобным Маркизом.
Но тут по городу разнесся слух о некоем зловещем предзнаменовании.
Наблюдатель, денно и нощно несший дозор на соборной колокольне, вдруг ударил в набат – колокол загудел заунывным гулом; а набат – это бронзовая птица, порхающая с одного колокола на другой, так что вскоре зловещий зов подхватили все колокола сен-клодских церквей, слившись в один тревожный плач и стон.
В то же время со всех сторон в небо взметнулись густые клубы черного дыма, окутывая город огромным сумрачным покрывалом.
И по городу разнесся крик, соединивший в себе тысячи возгласов, повторявших одно:
– Горим! Горим! Горим!
Пожар был последним жутким воспоминанием, которое шведы оставили по себе в многострадальном городе. Они мстили даже в своем поражении, а чтобы последняя их месть была всеохватной и грозной, они подожгли Сен-Клод с четырех сторон. А в городе, где не хватало воды, где улицы были совсем узкие и две трети домов – деревянные, всякое сопротивление бедствию, любая борьба с ним были уже обречены на неудачу. Надо было бежать, чтобы не оказаться погребенным под дымящимися руинами.
Лакюзон с Варрозом не скрывали своего уныния и отчаяния.
К ним подскочил какой-то горец в обгоревшей одежде, с опаленными волосами, запыхавшийся, как видно, от долгой и быстрой беготни.
– Капитан, – дыша с трудом, проговорил он, – огонь везде и всюду. В нижнем городе и по улицам уже не пройти.
Затем, повернувшись к Раулю, находившемуся рядом, он прибавил:
– Я прямо с Пуайа… хибара Железной Ноги полыхает, как вязанка сухого терновника…
Лакюзон с Раулем, вздрогнув, переглянулись.
– Эглантина!.. Где Эглантина? – вскричал капитан, хватая за рукав своего благородного спасителя.
– Мы спасем ее… – пробормотал Рауль с замершим сердцем, – спасем…
– Ах вы, несчастный!.. – продолжал Лакюзон. – Ах вы, бедолага! Вы бросили ее… Надо было спасать ее, а не меня!
С этими словами он опрометью кинулся в сторону Пуайа – словно земля горела у него под ногами. Рауль и несколько горцев последовали за капитаном, хотя за ним было не угнаться.
Когда Лакюзон, оставив позади себя охваченные пожаром улицы с ярко полыхавшими развалинами домов, добежал до жилища Железной Ноги, его взору открылось жуткое зрелище.
Хижина, почти целиком сложенная из дерева, полыхала, точно жерло вулкана: широкие плоские камни, которые служили кровлей и назывались во Франш-Конте «плитами», обвалились внутрь, а горящий остов выступал на фоне черного дыма как бесформенная раскаленная глыба. Языки пламени вырывались наружу сквозь щели в медленно тлевшей двери.
«Почему же дверь заперта? – недоумевал Лакюзон. – Эглантина, наверно, убежала, иначе и быть не может!»
И, приблизившись к двери, он толкнул ее острием шпаги. Обуглившееся дерево треснуло от удара, но дверь не поддалась. Лакюзон не мог сдержать крика ужаса: он понял, что дверь снаружи заколочена.
Двое серых, подручных Лепинассу, выстрелив в Рауля и не попав, выждали, когда он уйдет, задумали новое злодеяние и поспешили исполнить свое черное дело.
Ударом плеча капитан вышиб треснувшую дверь и собрался было проникнуть внутрь, но устремившийся ему навстречу огненный вал заставил его, ослепленного, едва не задохнувшегося, попятиться.
– Эглантина, Эглантина, любимая моя сестренка! – вскричал он, от отчаяния теряя голову. – Неужели это правда! Неужели так оно и есть! Ты пропала… погибла, и я тебя больше не увижу!
И тут, будто из-под земли, донесся голос:
– Я здесь, братец… здесь, я жива, спаси же меня!
В первое мгновение, заслышав этот голос, и впрямь доносившийся, будто из-под охваченной пламенем земли, Лакюзон решил, что ему почудилось, послышалось… что это какой-то обман, наваждение.
Но он быстро смекнул, что Эглантина, видя, как ее со всех сторон обступает пламя, должно быть, нашла путь к спасению и путь этот, поскольку дверь была заколочена снаружи, вел в подпол.
Обычно в то время (да и нередко в наши дни) в бедняцких домах Франш-Конте в подпол вел люк, вырезанный прямо в полу одной из комнат в первом этаже, ближе к входной двери: когда закладывали фундамент, под ним оставляли сводчатую клеть, застилая ее сверху полом. Люк же находился аккурат над этим погребом.
Так вот, каким-то чудесным образом обрушившаяся кровля не повредила люк. Потолочные брусья, обвалившись друг на дружку, сложились на полу хрупким помостом, который и прикрыл сверху люк, однако и это своеобразное перекрытие уже горело вовсю и грозило обвалиться в любую минуту.
Эглантина, укрывшись в подполе, где совсем нечем было дышать, отчаянно звала на помощь.
Но как ее спасти?
Как проникнуть в это пылающее горнило? Как пробиться сквозь пламя, вдыхая раскаленный воздух? И как, наконец, – если даже и удастся добраться до девушки – как вытащить ее из этого гигантского, всепожирающего костра, сквозь который ее еще нужно было вывести наружу?
Ни единого настоящего, серьезного шанса спасти девушку, казалось, не было, а между тем с каждой минутой страшная угроза все нарастала – смерть все приближалась…
Все эти мысли, точно вспышки молнии, проносились в голове капитана.
И тут снова послышался голос Эглантины – она кричала:
– Брат, я задыхаюсь… я умираю, брат… Иди же! Приди скорей! Спаси меня!
Лакюзон хлестал себя по лицу, рвал на себе волосы. Он искал выход…
Вдруг его глаза засияли – из сведенного судорогой горла вырвался торжествующий крик – капитан, подобно Архимеду, невольно воскликнул:
– Эврика! Эврика!
Он нашел выход!..
XX. Жребий
Лакюзон развернул плащ, который намотал себе на левую руку наподобие щита. Бросился к фонтану и сунул плотное, тяжелое полотнище в воду.
Тут подоспели Рауль, Железная Нога, Гарба и другие горцы.
Им пришлось пробираться через развалины дома, который едва не рухнул на них за поворотом к спуску Пуайа, – множество препятствий задержали их.
– Где она? – крикнул Рауль, обращаясь к капитану. – Где же?
– Там, – ответил Лакюзон, указывая рукой в самое пекло.
Рауль кинулся туда.
– Держите его! – живо велел Лакюзон. – Он и сам погибнет, и ее не спасет.
Гарба с Железной Ногой схватили молодого человека за руки и так и удерживали, несмотря на его отчаянное сопротивление и крики.
– Оставьте меня! – с яростью твердил он. – Дайте мне хотя бы умереть вместе с нею!..
У одного из горцев был плащ. Капитан схватил его и сунул в фонтан, как и свой собственный.
Затем, завернувшись в это покрывало, с которого ручьями стекала вода, и пониже надвинув на лицо капюшон, так, чтобы видеть только, куда ступаешь ногами, он подхватил свой плащ, который перед тем смочил водой еще раз, и проник в дом. Задержав дыхание, презрев страх, он кинулся в бушевавшее пламя, откинул крышку люка – и скрылся в подполе под возгласы восхищения и ужаса свидетелей этой героической и жуткой сцены.
– Эглантина!.. – звал он, быстро спускаясь по лесенке. – Эглантина, я здесь… Эглантина, сестренка, ты где?..
Девушка не отвечала.
Среди невыносимого жара, задохнувшись в спертом, тяжелом воздухе погреба, она лишилась чувств и упала ничком на дымящийся земляной пол.
Не теряя времени, Лакюзон закутал ее в другой плащ, точно мертвую в саван, взлетел вместе с нею вверх по ступеням, и снова ринулся в самое пекло, клокотавшее и свистевшее, подобно кратеру Везувия или Этны.
В ту самую минуту, когда он, переступив порог с бесценным грузом на руках, едва не рухнул в объятия Рауля, остов хижины, пока еще державшийся, с оглушительным треском обрушился, завалив обломками люк в подпол.
Еще какое-нибудь мгновение – и подвал охваченного пожаром дома стал бы могилой для Эглантины и капитана.
– О, друг мой, брат мой… – бормотал Рауль, глотая слезы радости, – я спас вам жизнь, и вы заплатили мне за это сполна!
И он принялся горячо пожимать Лакюзону руки, а потом притянул его к груди и сжал в пылких объятиях.
Покончив с первыми излияниями несказанной радости, молодые люди откинули полы защитного плаща и увидели прелестное лицо Эглантины.
Девушка была бледна, но пламя не опалило ни единого черного, как смоль, волоска на ее голове; грудь ее вздымалась ровно – казалось, будто девушка спала.
– Пригоршня воды приведет ее в чувство, – сказал капитан. – Зачерпните немного в фонтане, Рауль, и смочите виски нашей дорогой девочке.
Рауль уже собрался воспользоваться этим средством, и впрямь очень действенным, но не успел. В эту минуту к ним подоспел горец, несшийся вниз по склону холма, точно на крыльях. Подобно марафонскому воину, он, казалось, готов был испустить дух, замерев перед Лакюзоном. Однако, сделав над собой неимоверное усилие, он все же выпалил:
– К оружию, капитан! Там, на дороге в Лонгшомуа, снова собрались шведы с серыми… и выдвинулись к городу. Они уже близко. Меня послал к вам полковник Варроз… он вас ждет.
– Братцы, – громко воскликнул Лакюзон, – слыхали? Вперед! За Сен-Клод и Лакюзона!
И, повернувшись к Раулю, он прибавил:
– Брат мой, надеюсь, теперь вы понимаете, что вам с нами никак нельзя. Берите Эглантину на руки и пробирайтесь по спуску Пуайа к крепостной стене. Там вы найдете потайной ход – по нему выйдите к броду через Бьен, где нынче ночью нас дожидался Гарба. Потом доберетесь до опушки леса у подножия горы, затаитесь в чаще, за вон за той гигантской елью, что видна отсюда, и будете там меня ждать. Надеюсь, вы хорошо все поняли, не так ли?
– Да, – ответил Рауль.
– Тогда ступайте, и да хранят вас Господь с Айнзидельнской Богоматерью! Скоро увидимся, тем более что я рассчитываю живо покончить с этим сбродом проходимцев и разбойников. Змеюга отрастила себе хвост и собирается опять жалить – мы же размозжим ей башку, раз и навсегда!
И, еще раз пожав Раулю руку – на прощание, капитан вместе с горцами ушел прочь и скоро скрылся за поворотом дороги.
Молодой человек, оставшись наедине с Эглантиной, теперь думал только об одном: как можно скорее покинуть этот забытый, будто проклятый Богом, город, который война и огонь в считанные часы обратили в усеянные трупами руины.
Он приподнял свою невесту, обхватил ее стан левой рукой, так, чтобы голова бедной девушки покоилась на его груди, и быстро двинулся вниз по извилистой тропе, что должна была вывести его к потайному ходу. Он уже сделал несколько сот шагов и увидел внизу крепостную стену, а по ту сторону стены – луг, через который протекала Бьен, за лугом же, вдалеке, проглядывал лес, давая надежду на верное убежище. Он собирался миновать одинокую лачугу, сложенную из глины и сучьев, у которой был до того неприглядный вид, что шведы, по всей видимости, даже пожалели огня, чтобы ее спалить.
Но внезапно дверь в лачугу отворилась – и перед Раулем возникли двое, явно вознамерившиеся преградить ему дорогу.
Эти двое, он сразу узнал их, были товарищами серого, убитого им за час до того.
– Ха-ха! – злобно усмехнулся один из них, отвесив нижайший, издевательский поклон. – А вот и наш благородный красавчик, заступник ведьм!
– Разве не видишь, – подхватил другой, – он несет на руках свою возлюбленную, прекрасную Маги, и несет, никак, на шабаш.
– О-хо-хо! Чтобы предаться любовным утехам посреди пепелища, оставшегося от города, где дьявол готовит себе жаркое из ребрышек добрых христиан. Ей-богу, ну и хват!
– Наш щеголь втюрился в Маги, а настоящая любовь ни перед чем не отступится!
– Сдается мне, коли ему дорога его шкура, он запросто позаимствует у ведьмы метлу и ускачет на ней прочь, как на коняге…
Покуда головорезы обменивались меж собой грязными шутками, Рауль покрепче обхватил левой рукой Эглантину, чье лицо было по-прежнему скрыто плащом Лакюзона, а правой выхватил шпагу.
– А ну, прочь с дороги! – ледяным, решительным тоном произнес он.
– Вот, значит, как, благородный наш сеньор? А если нет?
– Тем хуже для вас. В таком случае поспешите вверить свои души Богу, потому что сейчас вы умрете!
– О-хо-хо! И кто же нас убьет?
– Я.
– Тогда подойди ближе, красавчик. Ну что, Лимассу, покажем ему, где раки зимуют?
Один из серых сам двинулся на Рауля, тыча в его сторону острием рапиры.
Молодой человек занял оборонительную позицию, но, когда он приготовился скрестить с противником шпаги, Лимассу вдруг трусливо заскочил ему за спину и со всей силы хватил его рапирой по голове.
Рауль пошатнулся, выронил оружие, попытался устоять, удерживая Эглантину, но ему показалось, что земля уходит у него из-под ног, и он вместе с ношей рухнул, как подкошенный, прямо посреди дороги.
– Эвон как, – бросил Лимассу, – а ударчик-то нехилый!.. Что скажешь, Франкатрипа?
– Нехилый, нехилый… Контиец получил сполна. Думаешь, дал дуба?
– Еще бы!
– А что, ежели для пущей верности всадить железяку ему в брюхо дюймов эдак на шесть? Что скажешь, Лимассу?
– Обижаешь, приятель.
– Да ну! Чем же?
– Тем, что предлагаешь добить убитого. После моих ударов, сам знаешь, никто не выживает.
– Э, дружище, не кипятись, у меня и в мыслях не было тебя оскорблять. Да, кстати, веревка при тебе?
– Как всегда. А тебе зачем?
– Уж теперь-то возлюбленный нашей Маги нам не помеха – и поделом ему, – а мы с тобой давай-ка продолжим потеху – повесим ведьму еще разок.
– Ага, неплохая идея! А у тебя, дружище, башка и впрямь варит, как я погляжу.
– Что верно, то верно, варит иногда, да еще как!
– Кто бы сомневался… а вот и дерево, почти под рукой, недалеко тащиться.
– Погляди-ка, она даже не шелохнется – валяется ну прямо как колода, наша старушка Маги. Может, и правда дух испустила?
– Не может быть! Неужто обвела нас вокруг пальца?
– Давай-ка глянем на ее рожу.
Лимассу наклонился и откинул полу плаща.
– О-хо-хо! – воскликнул он не своим голосом, а глаза у него чуть не вылезли из орбит от изумления. – Черт возьми, надо же!
– Ну, что там еще? – полюбопытствовал Франкатрипа. – Да что такое?
– Эй, так ведь это ж не ведьма.
– Да ну! А кто ж тогда?
– Сам погляди.
Франкатрипа, отошедший в сторонку, чтобы осмотреть дерево – годится ли для виселицы, мигом вернулся обратно.
– Черт возьми! Ну и ну! – изумился он в свою очередь.
– Что скажешь?
– Вот так находка! Это самая смазливая девка из всех, что я когда-либо видел.
– Узнаешь ее?
– Нет, право слово. Говорю же, вижу ее первый раз в жизни.
– Ну-ну, зато я знаю, что это за птица.
– Да неужели!
– Ну да. Это ж племянница преподобного Маркиза.
– Сродственница нашего врага? Ура!
– Остается бросить жребий, – немного помолчав, сказал Лимассу, – кому достанется эта красотка.
– Как это так? – вскричал Франкатрипа. – Тут и спору нет.
– Что это значит?
– А то, что у меня на нее все права.
– У тебя?
– Конечно, у меня.
– Интересно, какие же?
– А не я ли в лоб напал на этого сеньоришку?
– Ну да, после того как отскочил подальше от его шпаги – у него даже ни царапины.
– Может, оно и так, зато я столкнулся с ним лицом к лицу, а ты хватил его исподтишка.
– Уж конечно! И хватил так, что из него дух вон. А раз я укокошил того, кому принадлежала красотка, знать, теперь она моя по праву. Таково мое слово, и я за него постою.
Франкатрипа покрутил ус.
– Она не твоя, – возразил он следом за тем.
– А чья – скажешь, твоя?
– Почему бы и нет?
– Ну что ж, раз ты положил на нее глаз, попробуй отбери, и весь разговор.
– Еще раз говорю, отдай мне красотку добром!
– Ни за что, клянусь всеми чертями!
– Тогда, раз ты отказываешь отдать ее добровольно, я заберу ее силой.
– Попробуй!
– Хоть сейчас!
И два добрых товарища кинулись друг на дружку с рапирами наголо.
Сделав два-три выпада, Лимассу отступил, воткнул рапиру острием в землю и дико расхохотался.
Франкатрипа воззрился на него с недоумением.
– Что тут такого смешного? – спросил он.
– Смешного? – переспросил Лимассу. – Просто мы ведем себя, как два барана. Норовим перерезать друг дружке глотки вместо того, чтобы решить все полюбовно.
– Интересно – как?
– Давай-ка, вместо того чтобы пырять друг друга, сыграем наудачу. Ведь у тебя есть в кармане костяшки?
– У меня есть волчок – это одно и то же.
– Ну что, годится мое предложение?
– Да уж, вполне.
– Ладно, тогда пошли в лачугу и сыграем.
Головорезы подхватили Эглантину и вместе с нею протиснулись в низенькую дверцу лачуги, все убранство которой состояло из убогой лежанки, колченогого стола да пары табуретов.
Уложив девушку на лежанку, они уселись за стол – напротив друг друга.
– Как будем играть? – спросил Франкатрипа, доставая из кармана волчок.
– У кого больше выпадет, ежели не возражаешь.
– Нет уж. Это слишком быстро.
– Тогда как?
– В три броска, и у кого выпадет ближе к двадцати четырем, тот и выиграл.
– Идет.
Франкатрипа положил волчок на стол. Это была восьмигранная костяшка с черными точками вместо цифр на каждой грани – от единицы до восьмерки.
– Валяй, ты первый!
Лимассу схватил волчок и крутанул. Тот крутился долго – и в конце концов лег на бок.
– ВОСЬМЕРКА! – вскричал Лимассу.
Волчок, вздрогнув напоследок, подскочил и упал на другую грань.
– ЕДИНИЦА! – торжествующе проговорил Франкатрипа. – А ЕДИНИЦА – это тебе не ВОСЬМЕРКА.
Лимассу хватил кулаком по столу.
– Твоя очередь! – с мрачным видом буркнул он.
Волчок покружился и упал на СЕМЕРКЕ.
– Теперь я, – пробормотал Лимассу.
И, снова крутанув волчок, воскликнул:
– ВОСЬМЕРКА! У меня ВОСЬМЕРКА! Теперь-то уж точно, ни дать ни взять.
– Ну да, только все вместе выходит ДЕВЯТКА, а у меня еще две попытки против твоей одной. Бьюсь об заклад, сейчас выброшу больше ТРОЙКИ. У тебя есть монеты?
– Несколько пистолей.
– Где взял?
– В кармане одного бедолаги в Сен-Клоде.
– Он что, так тебе и отдал?
– О, сперва я позаботился о том, чтобы его прикончить, а уж потом… все вышло как-то само собой.
– Тогда спорим?
– Давай.
– На сколько?
– На три пистоля. Вот, ставлю.
– Принято. И я ставлю три.
Франкатрипа схватил волчок и резко крутанул.
– ДВОЙКА! – через какое-то время проговорил он.
– Я выиграл! – воскликнул Лимассу, загребая себе монеты. – Теперь мой ход, решающая попытка, ведь очков у нас поровну – ДЕВЯТЬ НА ДЕВЯТЬ.
Лимассу сыграл – выпала ПЯТЕРКА.
У Франкатрипа – только ТРОЙКА.
Лимассу выиграл.
– Девка моя! – весело бросил он, поднимаясь из-за стола.
– Тебе крышка! – вскричал в ответ Франкатрипа, выхватив из-за пояса пистолет и почти в упор всадив пулю в лоб товарищу. – Ах ты, проклятая скотина! – не унимался он, тщательно обшарив карманы у Лимассу и достав оттуда пригоршню монет. – Эта девка – племянница преподобного Маркиза, а стало быть, ей цены нет как заложнице. Ты это знал и еще хотел с нею позабавиться! Ах ты, дурак набитый! Осел безмозглый! Такая добыча дорогого стоит – Черная Маска отвалит мне за нее целый куш золотом. А с золотом все девки твои, с вином в придачу.
Закончив свой короткий монолог, Франкатрипа взвалил себе на плечи Эглантину, так и не пришедшую в себя. Вслед за тем он выбрался из лачуги и быстрым шагом двинулся вниз по спуску Пуайа к потайному ходу, о которому Лакюзон рассказывал Раулю.
Как только он ушел, из зарослей дрока, позади жалкой лачуги, выбралась старуха и подошла к молодому барону де Шан-д’Иверу, который так и лежал посреди дороги, словно бездыханный.
Это была Маги-ведьма.
Часть вторая Замок Орла
I. Маги-ведьма
Острое ощущение холода наконец вывело молодого человека из глубокого беспамятства.
Он приоткрыл глаза и увидел – словно сквозь густую пелену – женскую фигуру, стоящую перед ним на коленях.
Это, как мы сказали, была Маги-ведьма – она старалась помочь Раулю так же, как и он помог ей, омывая ему виски и рану на голове холодной водой. Бесспорно, таким сильным ударом Лимассу мог бы раскроить пополам даже самый крепкий череп, но, по счастью, клинок в руках разбойника дрогнул и пришелся плашмя, так что молодой человек отделался лишь ушибом и неглубокой ссадиной – в противном случае рана оказалась бы смертельной.
Когда Рауль пришел в себя, голова у него все еще была тяжелая, как у всякого, очнувшегося после тягостного сна, и он не мог вспомнить, что с ним произошло.
– Где я? – слабым голосом прошептал он, поднеся руку ко лбу, который Маги сбрызгивала, выжимая воду по капле из намоченной тряпицы. – Где я и что со мной?
– Мессир Рауль, – ответила старуха, – вы угодили в коварную ловушку. На вас подло напали сзади и оставили умирать здесь, в конце спуска Пуайа. Волею случая, а вернее, Провидения, я своими глазами видела, кто совершил это злодеяние, и была счастлива в свою очередь оказать услугу человеку, который спас мне жизнь. Я Маги-ведьма.
Покуда Маги говорила, в голове Рауля стало проясняться – воспоминания роем нахлынули на него.
– Ах! – вскричал он, приподнимаясь, в то время как его мертвенно-бледное лицо исказилось от ужаса и отчаяния, а кровь от пронизавшей его дрожи застыла в жилах. – Помню… помню пожар… капитана Лакюзона… Эглантину… О Боже, Боже, Эглантина! Где она? Что с нею? Вы знаете, добрая женщина? Во имя неба, скажите, если знаете, что с нею сталось?
– Увы, мессир, племянницу преподобного Маркиза похитили.
– Те самые злодеи, да?
– Один из них, тот самый презренный негодяй, который не поделил добычу со своим напарником и убил его из пистолета.
– Господи, для нее же это бесчестье! Смерть! Потому что этот мерзавец сперва надругается над нею, а потом убьет, как хотел убить меня.
– Успокойтесь, мессир Рауль, похититель племянницы преподобного будет беречь ее как зеницу ока.
– Вы и в самом деле так считаете, добрая женщина? Правда?
– Больше того, я в этом совершенно уверена.
– Откуда же у вас такая уверенность? Говорите же! Скорей!
– Я своими ушами слышала, что сказал разбойник, похитивший девушку. Эглантина нужна ему не как женщина, а как заложница, и он вознамерился продать ее за большую цену самому грозному врагу борцов за свободу Франш-Конте.
– Кто же этот враг?
– Черная Маска.
Рауль, лежавший до сих пор недвижно, разом вскочил на ноги и попытался устоять – но он был слаб, и его качало, так что ему пришлось опереться на плечо Маги.
– Черная Маска! – повторил он. – Вы сказали – Черная Маска?
– Да, сказала.
– Вы знаете человека, который скрывается под этой маской?
– Знаю.
– Вам известно его имя?
– Известно.
– А известно, где он прячется?
– Да.
– Стало быть, вы знаете, куда переправят Эглантину?
– Знаю, как и все остальное.
– И вы расскажете мне все, что знаете, не так ли?
– Расскажу… но не только вам одному.
– Почему же?
– Потому что есть человек, которого эти страшные тайны интересуют не меньше вашего, и ему должно все узнать заодно с вами.
– Кто же он?
– Ваш друг, капитан Лакюзон.
– Вы правы, – ответил Рауль, – Лакюзон должен знать все. Идемте же, не будем тратить время понапрасну, он, верно, уже дожидается меня в условленном месте.
Маги покачала головой.
– Что это за место? – вслед за тем спросила она.
– Капитан показал мне гигантскую ель на лесной опушке, обращенной к городу.
– Когда он назначил вам встречу?
– Перед тем как мы расстались. Не больше часа назад.
– Мессир Рауль, – проговорила старуха, – минул не один час с тех пор, как вы впали в беспамятство. Сейчас уже светит луна, а не солнце. Время за полночь – капитана Лакюзона уже нет в условленном месте.
– Тогда где же он?
– Там, где он договорился встретиться с Маркизом и Варрозом, – в Гангоновой пещере.
– Вы знаете дорогу в эту пещеру? Говорят, пробраться туда могут только горские партизаны.
– Знаю.
– И уверены, что не заплутаете меж тех опасных троп?
– Уверена.
– Когда отправляемся в путь?
– Хоть сейчас, если вам достанет силы идти.
– Сила – это воля, – возразил Рауль. – У меня есть воля, твердая и непоколебимая, а значит, есть и сила.
Маги достала из своей переметной сумки краюху черного хлеба и маленькую флягу.
– Поешьте немного, – сказала она вслед за тем, – и хлебните водки. Тогда и пойдем.
Рауль хлебнул из фляги и поел, и, хотя пища была проста и скудна, к нему тем не менее вернулись силы и он почувствовал себя бодрее.
– А теперь пошли, – сказала Маги.
И она направилась к потайному ходу в крепостной стене.
Молодой человек последовал за нею – поначалу шаг его был тяжеловатым и нерешительным, но вскоре стал твердым и уверенным.
Потайной ход, оказавшийся открытым, вывел их в долину, к берегу Бьен.
– Дорога нас ждет неблизкая, – сказала Маги. – И я хочу, чтобы вы поберегли свои ноги, мессир Рауль, так что не слишком-то поспешайте. Однако ж в Риксуз надобно попасть затемно. Дальше нам предстоит миновать две деревни – Авиньонне и Вальфен, а в тех краях шалят серые, и я боюсь, как бы не нарваться на их шайку… Впрочем, капитан Лакюзон нынче задал им в Сен-Клоде такую трепку, что они, должно быть, затаились по укромным местам и только и ждут, как бы поскорей улизнуть из здешних мест… А за Вальфеном бояться уже нечего.
– А шведы? – спросил Рауль. – Они-то где?
– Им взбрело в голову сызнова вступить в бой и вернуться в город, несмотря на пожар. Капитан Лакюзон и полковник Варроз с горцами выбили их оттуда и потом гнались за ними аж до Лонгшомуа. Так что сейчас, ежели их не подвели ноги, они уже совсем далече…
– Они, конечно же, снова соберутся с силами.
– Может, и так, но не слишком быстро. Думаю, они поспешат сперва в Нантюа, а оттуда прямиком в Клерво. Но что их там ждет: город-то лежит в развалинах, да и жителей в нем осталось раз-два и обчелся? Вам, должно быть, известно, что в тех краях находятся обширные владения и замок баронов де Шан-д’Иверов? Ах, если б был жив благородный барон Тристан или его сын – уж эти храбрые сеньоры сумели бы отрезать шведам дорогу к отступлению… ни одного не выпустили бы живьем из наших краев!
– Вы как будто с теплом и привязанностью отзываетесь о роде Шан-д’Иверов, – заметил Рауль, – хотя он давно угас и имя его уже позабыто.
– Позабыто?.. – повторила Маги. – Чтобы такое имя и было позабыто? Да вы что, мессир! Пройдет и двадцать лет, вырастет нынешнее поколение, а за ним другое… и дети наши, и дети детей наших будут помнить и чтить это имя до тех пор, покуда не угаснет последняя искра признательности в сердцах горцев.
– Неужели Шан-д’Иверы сделали столько добра?
– Они сделали его столько, сколько большинство прочих сеньоров натворили зла. И это еще мало сказано. Они не один век слыли благодетелями в здешних краях – такое не забывается, мессир! О, ну почто сгорел дотла старый замок? Почто плющом поросли руины его когда-то величавых башен? Почто благороднейшая кровь в наших краях пролилась под кинжалом злодеев? О, барон Тристан и ты, бедное дитя, на кого мы возлагали столько надежд, чистый побег на таком прекрасном древе, когда же придет тот, кто отомстит за вас?
Говоря все это, Маги мало-помалу оживилась, и голос ее, поначалу сиплый и едва различимый, вдруг стал звонким и торжественным, словно у пророчицы. Высокая фигура мнимой ведьмы распрямилась, длинные седые пряди заколыхались на ветру, глаза засверкали – и она вся вдруг засияла в ореоле странного величия, горестного и вместе с тем вдохновенного.
Рауль, слушая ее, чувствовал, как у него нещадно колотится сердце.
Уже раз двадцать он готов был прервать ее и воскликнуть:
– Нет, добрая женщина, этот род не угас! И ветвь, которая, как вы думаете, обломилась, вскоре расцветет вновь. И восстанет из мертвых дитя, которое вы так горько оплакиваете. Потому что я Рауль де Шан-д’Ивер!
Но он поборол жестокое искушение, едва не выдав себя, и, решив дать себе время совладать с бурей чувств, нахлынувших на него, замедлил шаг, чтобы Маги оказалась впереди.
Словно охваченная исступлением, в которое ввергли ее мысли и воспоминания, старуха какое-то время шла, не замечая, что осталась одна.
Но вскоре, не слыша ровных шагов своего спутника, она обернулась и увидела, что Рауль заметно поотстал.
Она тотчас вернулась к нему.
– Что, мессир, рана беспокоит вас? – спросила она. – Может, вы устали и не в силах дальше идти?
– Нет, – ответил молодой человек, – рана – пустяк, я ее уже почти не чувствую, да и ночная прохлада мне на пользу. Ноги же у меня крепкие, и усталость им нипочем. Просто мне почудились сзади шаги, и я остановился послушать.
Маги навострила ухо.
– Вы обмишурились, – через какое-то время молвила она. – Я хоть и стара уже, но привыкла жить под открытым небом, да и спать в лесу на подстилке из сухих листьев мне случалось не раз, и чувства у меня обострились до крайности. Глаз у меня острее, чем у любого франш-контийского лучника… я и среди ночи отличу, кто бредет – волк или лисица… а голос человеческий узнаю издалека даже сквозь жалобные причитания ветра… Говорю вам, мессир, вы ослышались – позади нет ни одной живой души.
– Тогда идемте, – предложил Рауль.
– Пошли!
И молодой человек со старухой двинулись дальше, держась бок о бок; они долго шли, не обмолвившись ни словом, хотя думали, быть может, об одном и том же.
Они миновали две деревни, о которых говорила Маги, но с опасностью ни в одной не столкнулись. В Риксуз они пришли в шесть утра – довольно сказать, что еще стояла глубокая ночь и крестьяне спали в своих накрепко запертых домах.
– Теперь, мессир, – сказала Маги, когда они оставили позади деревенскую окраину, – повторю, нам больше нечего бояться серых. Так что, ежели вы подустали, мы можем спокойно забраться в сарай на отшибе – до него, помнится, отсюда будет пол-лье – и часок-другой поспать там в тиши да покое, чтобы поднабраться силенок.
– Спать? – вскричал Рауль. – Да какой тут сон, когда нужно отыскать и спасти Эглантину! Это было бы слабостью, если не сказать трусостью, которую не простила бы себе даже женщина. Нам далеко еще?
– Да, мессир, далеко… еще очень далеко, и если дорога покамест была гладкой, скоро она станет и впрямь непролазной.
– Так что же? Раз другие по ней проходят, раз вы сами по ней ходили не раз, значит, это под силу и мне.
– Тогда пошли, мессир, и да сохранит всемилостивый Бог вам силы, дабы были они под стать вашей отваге!
Спустя еще пару часов быстрой ходьбы перед взором путников предстала колокольня деревни Сен-Лоран.
Маги остановилась.
– Мессир, – промолвила она, – вы, верно, успели проголодаться?
– Да, – ответил Рауль, – у меня уже почти сутки маковой росинки во рту не было, не считая краюхи хлеба, которой вы угостили меня нынче ночью… но, раз надо, я могу и потерпеть: мне не важно, с чем бороться – одолею усталость, справлюсь и с голодом.
Маги порылась у себя в суме – и нашла там лишь фляжку, на три четверти пустую.
– Только и всего, – прошептала она.
Потом, уже громко, спросила:
– У вас есть с собой деньги, мессир?
– Да.
– Отлично, тогда будет на что купить хлеба. Дайте мне одну монету, и в Сен-Лоране получите то, что нужно…
Тут Рауль принялся обшаривать карманы. Но тот карман камзола, где еще накануне лежал увесистый кошелек, набитый золотом, оказался совершенно пуст.
– Я потерял кошелек! – воскликнул он, когда лишний раз удостоверился, что другие карманы у него тоже пусты.
– Нет, мессир, – заметила Маги, – вы ничего не теряли, вас попросту обчистили.
– Кто же?
– Один из разбойников, что давеча напали на вас. Готова побиться об заклад, потому как поверить в другое трудно.
– Что же делать?
– Не берите в голову, мессир, и эта беда поправима. Коли голодны, значит, насытитесь.
– Что вы задумали?
– О, дело выеденного яйца не стоит, так что и объяснять не надобно. Сейчас мы с вами расстанемся.
– Расстанемся? – удивился Рауль. – Но как же я без вас отыщу дорогу?
– Расставание будет недолгим. Видите там впереди часовню – это в деревне Сен-Лоран?
– Да.
– Там только одна улица – вернее, сама деревня – два ряда домов по обе стороны дороги, так что не ошибетесь… там и слепой пройдет.
– И что?
– А вот что, мессир. Я пойду вперед, а вы, минут через пять, следом за мной… встретимся через сотню метров за крайним домом в деревне.
– Но почему бы вам не пройти по деревне вместе со мной? Может, вы стыдитесь своего рубища и думаете, я настолько ничтожен, что посмею краснеть рядом с вами?
– Нет, мессир, ничего такого я не думаю и даже не сомневаюсь в вашем благородстве и добросердечии. Однако надобно сделать так, как я говорю.
– Но можно хотя бы узнать, почему вы придаете такое значение вещам, казалось бы, совершенно пустячным?
– Потому что так надо.
– Тогда хотя бы намекните на разгадку, удовлетворите мое любопытство.
– А ежели скажу, вы позволите мне сделать так, как я хочу? Что бы то ни было?
– Да.
– Обещаете?
– Клянусь честью!
– В таком случае, мессир, раз уж теперь не в вашей воле отговорить меня от задуманного, я могу сказать вам все как есть. Хлеб, который нам так нужен и который я не смогу купить, придется мне выпрашивать как милостыню. Я пройдусь с протянутой рукой по Сен-Лорану, и уж в каком-нибудь доме милосердная душа даст мне то, что нужно. А вы, мессир, человек благородный, по крайней мере с виду, хоть я и не знаю вашего имени, и сами понимаете – негоже сеньору показываться крестьянам за компанию с нищенкой…
И, не дожидаясь, что скажет в ответ Рауль, Маги быстро зашагала прочь, изредка поглядывая назад, чтобы убедиться, что молодой человек не бросился за нею вдогонку, несмотря на свое обещание.
II. Призрак
Рауль, глубоко тронутый решимостью бедной женщины, готовой без колебаний пожертвовать ради него своей жизнью, не спеша двинулся по дороге, что вела в Сен-Лоран, прошел через всю деревню и в нескольких сотнях метров от последнего дома снова встретился с Маги – она сидела на обочине и ждала его.
Женщина поднялась ему навстречу.
– Вот видите, мессир, – сказала она, раскрывая суму, – остались еще в горах добрые люди. Жители Сен-Лорана хоть и небогаты, однако ж стоило мне постучать в двери только трех домов, и мне ни в одном не отказали – так что тут хватит если не на княжеский пир, то, по крайней мере, на знатный завтрак путешественника.
В суме нашлось полбуханки большого круглого пеклеванного хлеба, шмат копченого сала и головка сыру, который нынче называется грюерским.
– Ах, – с воодушевлением ответил Рауль, – еще ни у одного князя не было такого роскошного пиршества, потому что еще ни одного князя не терзал такой волчий аппетит.
Он присел на придорожный откос и принялся уплетать за обе щеки.
Кто бы там что ни говорил, а голод всегда правит человеком, когда он молод, когда провел в дороге не один час и когда, что, впрочем, бывает редко, даже любовь и треволнения не в силах заглушить желание утолить его во что бы то ни стало.
– Ну вот, – сказал Рауль, насытившись, – теперь я бодр и полон сил, не то что давеча ночью, когда мы покинули Сен-Клод. И сейчас, клянусь, я могу идти без остановки до самого вечера.
– Слава богу, мессир, вам не придется идти так долго. Надеюсь, до Гангонской пещеры мы доберемся еще до полудня.
– А откуда у нее такое название? – полюбопытствовал Рауль.
– На горском наречии гангонами называют колокола – должно быть, по их характерному звону, и слово это звучит, будто колокольный перезвон.
– Но при чем тут пещера?
– При том, что ежели прислониться ухом к каменной стене той самой пещеры, то можно услышать чистейший звон колоколов.
– Чем же это объяснить?
– Может, кто и знает, но я нет… Ну что, мессир, может, тронемся в путь-дорогу?
– Я готов.
Пройдя примерно с три четверти лье, Маги остановилась.
– Мессир, – сказала она, – дальше у нас по пути должен быть Шо-дю-Домбьеф, но, думаю, нам туда не надо.
– Куда же нам тогда?
– Возьмем влево, повернем к Бонльейскому лесу, – вон, видите зеленую кромку в восьмушке лье отсюда? – я там каждую тропинку знаю. Идемте. И ничего не бойтесь – обещаю, не заплутаем.
– Готов следовать за вами, как за самим Провидением, ведущим меня за руку. Хотя в последнем случае я не стал бы полагаться на него всецело.
Старуха взглядом поблагодарила Рауля и, пройдя через все поле к опушке леса, скрылась вместе со своим спутником под кронами высоких вековых деревьев, венчавших огромную, почти кругом отвесную, остроконечную скалу, громоздившуюся на краю лощины, где некогда размещалось знаменитое Бонльейское аббатство.
Подойдя к самому краю каменного пояса, Рауль остановился, охваченный смешанным чувством изумления и восхищения. Никогда прежде не случалось ему видеть подобное зрелище – грандиозное и вместе с тем прекрасное.
Поросшее зеленью ущелье со всех сторон обступили отвесные скалы, будто сложенные руками титанов из отдельных каменных глыб – то сверкающих, то блеклых гранитных громад, увенчанных частоколом вековых черно-зеленых елей. Корни деревьев цеплялись за голый камень, точно орлиные когти. В глубине ущелья виднелись руины аббатства, подступавшие к берегу озера, такого же глубокого и синего, как озера в Зеленой Шотландии[41].
Обрушившиеся колоннады и малые арки, обвалившиеся своды, увитые плющом, словно покрытые королевской мантией, эти развалины подле незыблемых скал и неувядаемой зелени как нельзя лучше показывали всемогущество Создателя и безмерную слабость Его созданий.
Рауль замер на месте в благоговейном, трепетном восторге.
– Да что с вами, мессир? – спросила Маги.
– Смотрю, – ответил он, – любуюсь…
– Сегодня не время любоваться – идемте, прошу вас.
Старуха решительно спустилась в расщелину – своего рода вымоину, прорытую в каменистой породе потоками дождевых и талых вод за тысячи лет и спускавшуюся с вершины скалы в лощину. Подобные расщелины на отлогих песчаных берегах Бретани и Нормандии называются висячими долинами.
Через несколько минут трудного, но неопасного пути Маги с Раулем вышли к берегу Бонльейского озера. Здесь протекал прозрачный, как горный хрусталь, и холодный, как талый лед, ручеек – он петлял, журча, меж многочисленных неровностей узкой, почти сплошь поросшей зеленью ложбины, которая с противоположного берега вела в Монастырскую лощину. Так называлось место, где лежала в руинах Бонльейская обитель.
Какое-то время Маги с Раулем шли вдоль ручья, который с рокотом, похожим на ворчание разозлившегося ребенка, разбивался на тысячи белопенных брызг, то и дело натыкаясь на большие и малые валуны, устилавшие его ложе. С той поры и по сей день этот ручей зовется Эриссон.
Мало-помалу ущелье расширялось перед нашими путниками, деревьев, облепивших его склоны, становилось все меньше – и вот, за крутым поворотом взору Маги и Рауля открылась широкая живописная долина, скрытая с одной стороны скалистой грядою, на вершине которой они стояли полчаса назад.
– К Гангонской пещере, – сказала Маги, – нас выведет ручей, но не все так просто…
– То есть как? Неужели тропа там настолько опасная, что вы боитесь?
Маги медленно покачала головой.
– Не в этом дело, – вслед за тем ответила она.
– Что же тогда?
– Нам придется идти мимо Замка Орла.
Рауль вздрогнул.
– Замок Орла!.. – глухим голосом повторил он. – Неужели до него так близко?
– Он торчит на самой высокой горе, к которой мы подходим, как орлиное гнездо, отсюда и его название.
– Но почему вы так его остерегаетесь?
– Не спрашивайте меня больше ни о чем, мессир. Покамест я не могу, вернее, не хочу ничего говорить.
– Что ж, придется считаться с вашим нежеланием говорить, равно как и с вашими тайнами. Идите же куда хотите, а я за вами.
– Видите там впереди, в паре сотен шагов от нас, провал в земле, по которой мы идем?
– Скорее чувствую, чем вижу.
– В том месте ручей Эриссон обрывается с высоты скалы в глубокую впадину. Мы спустимся в нее и пойдем по узкому, мрачному ущелью, которое сворачивает точно к тому месту, куда нам нужно… оно открывается за лощиной, где мы сейчас находимся.
Старуха и молодой человек снова двинулись в путь – молча.
Через полчаса они оказались в дальнем конце ущелья, о котором говорила Маги.
Справа, где обрывалась скала, начинался дернистый склон, хоть и достаточно крутой, но вполне проходимый.
– А можно ли, – спросил Рауль, – с высоты этого склона разглядеть Замок Орла?
– Можно, – ответила Маги. – Но вам-то зачем это нужно?
Ответа старуха не получила: Рауль, стрелой полетевший вперед, был уже далеко. Она поняла, что окликать его бесполезно, присела на каменную глыбу и стала ждать. А Рауль, одолев между тем половину горного склона, остановился и оглянулся назад.
Прямо перед его взором высилась величавая главная башня замка Антида де Монтегю, возникшая, будто из облаков. Он впился в эту исполинскую громаду взглядом, исполненным жгучей, непреходящей ненависти. И вдруг побледнел и зашатался – то ли от изумления, то ли от неописуемого ужаса, потом перекрестился и кинулся бегом вниз по склону, по которому только что поднимался.
– Какой-то вы бледный, мессир, – заметила Маги. – Что это с вами?
– Странно… – пробормотал Рауль.
– Что же вас так взволновало, мессир? Что случилось? Что вы там увидели?
– Призрака, – ответил Рауль, – призрака в белой дымке, пронизанной солнечными лучами.
– Призрака?.. Привидение? Да где?
– В замке Орла… на верхушке самой высокой башни.
– Вам привиделось, мессир.
– Нет-нет, все было на самом деле. Я видел… ясно видел. Верно говорю!
– Может, это было просто полотнище флага, развевавшееся на ветру?
– Нет, это была человеческая фигура – призрак женщины. У меня острый глаз – как у орла, и, несмотря на большое расстояние, я разглядел под белыми покровами бледное лицо… оно было мертвое.
Маги тоже перекрестилась.
– Ах, – проговорила она вслед за тем, – все возможно, даже невозможное, ведь Замок Орла – место проклятое!
И уже совсем тихо прибавила:
– А хозяин Замка Орла вдвойне проклят: он сущий дьявол!
Не сказав больше ни слова, Маги снова тронулась в путь. Рауль, погруженный в свои мысли, молча последовал за нею.
Они вошли в главную долину – дальше двинулись вдоль берега Менетрю-ан-Жу, потом перебрались через нее по камням, разбросанным тут и там по ее руслу: Эриссон уже расширился и успел превратиться в реку, – и вскоре вышли к окраине долины. На другом ее конце возвышалась еще одна лесистая гора.
– Почти пришли, – проговорила старуха. – Здесь начинаются таинственные владения, которые служат прибежищем партизанам-горцам… здесь же начинаются и неисчислимые трудности. Десятки тропинок, переплетенных меж собой и расходящихся в разные стороны, точно пряжа на веретене прядильщицы, и куда ведут они – один Бог знает… но так легко сбить со следа врагов, вздумай они нагрянуть нежданно-негаданно… Так какую же тропинку выбрать нам? Попробуй разберись, а вернее, угадай! Тут только чутье поможет… Но раньше-то я находила, вот и сейчас отыщу. Идемте!
Согнувшись в три погибели – до самой земли, и высматривая только ей ведомые следы, она решительно вступила в чащобу, точно ищейка, преследующая дичь. И чутье, а может, наблюдательность, ее не обманули – она выбралась на нужную тропинку… И тут, будто с неба, грянул голос:
– Стой! Кто идет?
Рауль вскинул голову и увидел горца на выступе скалы: тот держал мушкет навскидку, готовый открыть огонь.
– Отвечайте! – решительно велела Маги. – Скажите пароль.
– За Сен-Клод и Лакюзона! – проговорил Рауль.
– Куда идете?
– К капитану, он ждет меня.
– А эта женщина?
– Она со мной.
– Проходи!
Горец поднес к губам рожок наподобие пастушьего и пронзительно громко прогудел один раз, после чего скрылся из вида, и кругом снова стало тихо.
Рауль впервые увидел горца в партизанской форме. Она была незатейлива: облегающие короткие штаны, закрытые кожаными гетрами, которые, обтягивая ногу, доходили сверху до бедер, а внизу – до башмаков на толстой кованой подошве; плотный сюртук с широкими фалдами, сужающийся в талии; кожаный пояс с кинжалом и пистолетами; шпага на широкой кожаной портупее; круглая черная фетровая шляпа с загнутым кверху полем.
– Да уж, – шепнула Маги, – охрана у Лакюзона добрая. Тому, кто вздумал бы застать капитана врасплох, надобно иметь орлиные крылья, и то, думаю, пуля горца сбила бы его на лету.
Легкая тропинка, по которой Рауль со старухой шли до сих пор, начиная с этого места становилась довольно опасной. Едва различимая, она тянулась по откосу остроконечной скалы, обрывающейся в пропасть, сплошь скрытую туманом и испарениями. Местами тропка превращалась в неровную лесенку и заканчивалась узкой закраиной, шириной не больше фута, стиснутой сверху и снизу совершенно гладкими глыбами высотой по меньшей мере двести футов. Прямо под нею с оглушительным грохотом низвергался в бездонную пропасть водопад.
– Мессир, – сказала Маги своему спутнику, – не смотрите вниз и не оглядывайтесь назад, только вперед, ступайте твердо и спокойно, попробуйте представить себе, что идете по широкой дороге, где даже пьяному есть где развернуться.
Рауль последовал ее совету и спустя несколько минут одолел тяжелейший переход.
– Теперь можете остановиться и оглядеться, – продолжала старуха.
Молодой человек невольно побледнел, глянув на узкий, скользкий карниз, по которому только что прошел.
– Дело привычки, – заметила Маги. – Горцы Лакюзона, да и он сам проходят здесь во всякое время дня и ночи. Могут и с закрытыми глазами… Ну вот, мы почти и пришли.
– Где же пещера?
– В полулье отсюда, не больше, на этом же склоне горы, но нам все равно еще дважды предстоит перейти Эриссон.
– Зачем?
– Затем, что чуть подальше тропинка резко обрывается. Впрочем, сами увидите.
Снова начался лес.
Они ступили на узенькую тропинку, что вела от скалы прямо к ручью, который становился здесь бурным потоком, уже не ворчавшим, как капризный ребенок, а ревевшим, как разъяренный лев.
Наконец они вышли к тому месту, где Эриссон, стиснутый скальными отвесами, обрывался грохочущим водопадом в пропасть.
III. Тайна черной маски
Через поток был переброшен довольно шаткий мостик из ствола ели с обломанными сучьями – по нему-то и предстояло теперь перебраться на ту сторону.
На другом берегу стояли двое горцев. Один из них нагнулся, готовый по первому же сигналу тревоги сбросить ствол в бездну. Другой, приложив мушкет к плечу, он крикнул:
– Стой! Кто идет?
– За Сен-Клод и Лакюзона! – отозвался Рауль.
– Проходи!
Как и первый дозорный, горец протрубил в рог, висевший у него на шее, только не единожды, а дважды.
Рауль, дрожа всем телом, перебрался по опасному мостку, шатавшемуся под ним из стороны в сторону, после чего был вынужден признать, что даже нацеленные на него шпаги и мушкеты не устрашили бы его так, как смертельные опасности, подстерегающие человека в горах на каждом шагу.
Тропинка петляла вдоль русла потока по крутому склону, заваленному тут и там огромными камнями, сложенными наподобие лестницы. Грубые ступени спускались к водоему, куда со стофутовой высоты обрушивался Эриссон и откуда, чуть дальше, он вытекал настоящей стремительной рекой.
– Нам туда… – сказала Маги, останавливая своего спутника на скользком краю водоема и повышая голос, чтобы рев клокочущего потока не заглушал ее слова.
– Туда? – изумился Рауль. – Да ведь это невозможно! Вода бурлит возле скал, точно в дьявольском котле. Тут и самый рисковый пловец разобьется тысячу раз, если вздумает переплыть поток.
В эту минуту, словно в подтверждение его слов, со сверкающего края водопада в кипящую бездну рухнул громадный дуб, должно быть, вырванный с корнем бурей, – и ни одна его ветка не показалась на поверхности воды. Неведомые глубины поглотили гигантское дерево целиком.
– Глядите! – крикнул Рауль. – Вот видите?
Маги схватила его за руку.
– Закройте глаза, – велела она, – и ступайте за мной.
Рауль повиновался.
Через две-три секунды старуха как будто замерла на месте – Рауль почувствовал, как его обдало пронизывающим холодом, точно порыв ледяного зимнего ветра хлестнул его по лицу. Он открыл глаза и осмотрелся.
Маги завела его под водопад, и они вдвоем оказались на узком выступе между скалой и каскадом струй, слившихся в сплошной водяной занавес. За прозрачным потоком, однако, нельзя было разглядеть, что происходило по ту сторону. Бежавшая со скал вода освежала воздух, и потому на тесной площадке гулял ледяной ветер и царил пронизывающий холод, укусы которого так остро почувствовал Рауль. Поток разбивался о скалы во влажную пыль, точно туман покрывавшую выступ, где стоял Рауль, и делавшую камни скользкими, как лед.
Юноша резко вырвал руку из пальцев Маги и решительно двинулся на другой берег.
Когда он ощутил, как его лоб овеял вольный ветер, когда миновал струи водопада, которые словно опутали его, пытаясь задушить, его охватило сладостное чувство: он будто снова вернулся к жизни.
– Вот и пришли, – сказала Маги. – Гангонова пещера вон там, среди скал по-над леском, куда мы вошли.
– Слава тебе, Господи! – воскликнул в ответ Рауль. – Давно уж пора, а то силы у меня почти на исходе.
Не успели старуха и молодой человек сделать и нескольких шагов меж безлистых деревьев, как перед ними, словно из-под земли, выросли трое.
Один из троицы был Гарба.
– А, мессир! – обратился он к Раулю. – Как же вы припозднились и как же вас там дожидаются!
– Предупредите капитана, что я здесь, прошу вас!
– Предупредить? Думаете, он не ведает, что вы наконец пришли?
– Откуда же ему знать?
– Ни один чужак не ступит во владения партизан так, чтобы разведчик мигом не сообщил в Гангонову пещеру о его появлении. Так что капитан еще час назад знал, что вы объявились на берегах Эриссона.
– Ну что ж, тогда поспешим к нему.
Гарба пошел впереди.
Сразу за леском виднелся отлогий склон, увенчанный громадной, остроконечной скалой. На верху склона, у подножия отвеса, зияло широкое сводчатое отверстие, ведущее в мрачную глубину скалы.
Это и был вход в Гангонову пещеру.
Пещера открылась Раулю с Маги во всем своем великолепии, достойном кисти Сальватора[42] или Рембрандта. Под ее сводами расположилась не одна сотня горцев – кто по одиночке, кто группами – в самых разных и самых живописных позах. Одни спали, как убитые, на соломенных тюфяках, закутавшись в овчинные балахоны. Другие, сидя на камнях или деревянных колодах, чистили клинки рапир и стволы мушкетов. Наконец, третьи разместились посреди пещеры вокруг сложенного из хвороста костра, дым которого причудливыми струями поднимался к своду. Над огнем, на трех перекрещенных вверху кольях, висел котел, в котором кипел бульон из целого барана.
А в углу пещеры, в импровизированных загонах из перевязанных жердей блеяли, пожевывая сено, живые бараны и овцы – словно в подтверждение того, что сподвижники Лакюзона обеспечены провиантом на много дней вперед.
Двое вооруженных дозорных расхаживали туда-сюда, меряя четким шагом ширину входа в пещеру: они то встречались лицом к лицу ровно посередине этого расстояния, то расходились, обратясь друг к дружке спиной, с четкостью часовых солдат.
– А где же капитан? – спросил Рауль, внимательно осмотревшись по сторонам.
– Это пещера для рядовых, – с улыбкой пояснил Гарба, – а сейчас я проведу вас в покои командира. Только у меня приказ провести вас одного, мессир Рауль. А женщине придется обождать здесь.
– Это же она привела меня сюда, – горячо возразил молодой человек. Без нее я бы пропал ни за понюшку табаку. Ей нужно срочно переговорить с Лакюзоном – пусть она тоже пройдет.
– Нельзя: приказ есть приказ! Скажите об этом капитану, пускай он сам распорядится.
– Да-да, мессир, – поспешила вставить Маги, – поторопитесь! Расскажите капитану все, что знаете, и он не преминет позвать и меня.
– Идемте же, мессир, – еще раз позвал Гарба.
Рауль последовал за своим проводником – тот повел его в глубь пещеры. Справа от них виднелась выдолбленная в камне лестница – она вела в грот, располагавшийся над первой пещерой и хорошо освещенный: свет проникал туда через расселину, похожую на узкое, продолговатое окно, откуда простиравшаяся внизу долина была видна как на ладони.
В этом гроте, вокруг дубовой колоды, служившей столом, на соломенных тюфяках сидели Лакюзон, Варроз и Маркиз. Полковник и священник пожали Раулю руку – Лакюзон же заключил его в крепкие объятия.
После горячих рукопожатий и объятий Лакюзон первым делом спросил:
– Эглантина… где Эглантина? Почему вы пришли один?
– Не судите меня, брат, – живо отвечал Рауль. – Я разлучился с нею по воле злодея, коварно напавшего на меня со спины. Но у нас есть средство узнать, куда он дел несчастную, которую похитил, и мы разыщем ее, клянусь вам!
– Средство? – спросил преподобный Маркиз. – Почему же вы не прибегли к нему раньше?
– Потому что это тайна, и тайну эту знает одна женщина, но она согласилась открыть ее мне только в присутствии капитана.
– Что за женщина?
– Вы знаете ее под прозвищем Маги-ведьма.
– Маги-ведьма! – повторил преподобный Маркиз. – Эта нищенка!.. Бродяжка, если не сказать хуже!.. И вы ей поверили?
– Полностью и безоговорочно!
– Чем же она заслужила ваше доверие?
Рауль коротко рассказал о том, что случилось прошлым днем и ночью и о том, какую роль во всем этом сыграла Маги.
– Он прав, – согласился капитан, выслушав рассказ, – я и сам готов поверить этой женщине.
Лакюзон кликнул Гарба, ждавшего на лестнице и велел ему незамедлительно привести Маги.
Покуда ординарец исполнял приказ, капитан объяснил Раулю, что накануне, не найдя его в условленном месте и будучи вынужден отойти со своим отрядом подальше от города, он оставил там горца, которому наказал дождаться Рауля и проводить его вместе с Эглантиной в Гангонову пещеру.
Однако молодой человек так и не объявился, хотя горец, должно быть, дежурил там до сих пор.
Тут появился Гарба вместе с Маги.
– Женщина, – обратился к ней преподобный Маркиз, – подойдите и ничего не бойтесь. О вас ходит дурная молва, о чем красноречиво свидетельствует ваше прозвище. Но Господь читает в человеческих душах, и ваша душа, быть может, не так уж темна, вопреки тому, что о вас говорят. Потом, кем бы вы ни были, мы обязаны отблагодарить вас за все, что вы сделали для мессира Рауля, нашего друга. Вы поступили достойно.
– Я лишь исполнила свой долг, – смиренно ответствовала Маги. – Господь велит нам платить добром за зло. Я же отплатила добром за добро, только и всего. И не заслуживаю даже похвалы. Друг контийцев, оказавшийся человеком благородным, рисковал своей головой ради жизни никчемной и всеми презираемой Маги-ведьмы. Так что отныне Маги готова отдать за этого благородного сеньора и за контийцев свою кровь, жизнь и даже душу!
– Признательность есть благородная и святая добродетель, но доказывать ее пристало не словами, а делами. Вы хорошо начали – продолжайте.
– Я готова на все.
– Вы сказали мессиру Раулю, что знаете, куда подлый похититель увел Эглантину?
– И это правда. Я действительно знаю.
– Вы также сказали, что готовы в присутствии капитана Лакюзона назвать имя Черной Маски и место, где он скрывается.
– Свое слово я сдержу.
– Вот капитан Лакюзон, вот полковник Варроз, а я, как вы, верно, догадались, преподобный Маркиз. Вы согласны говорить в присутствии нас троих?
– Да, преподобный мессир, не только согласна, но и желаю.
– Ну что же, в таком случае говорите, и обещаю, вы будете щедро вознаграждены.
Маги покачала головой.
– О, преподобный мессир, – проговорила она, – я намерена поступать впредь так же, как поступала раньше, вовсе не ради наград.
– Говорите же, повторяю, а Господь отплатит вам на Небесах за все, что вы сделали на земле.
– Вы обещаете верить всему, что я буду говорить?
– Обещаем, если вы поклянетесь во спасение своей души говорить только правду.
– Во спасение своей души, преподобный мессир, клянусь, что с моих уст не слетит ни одного слова лжи.
– Я принимаю вашу клятву, женщина, и от имени моих товарищей, равно как от своего собственного, обещаю исполнить вашу просьбу.
– И вы обязуетесь отомстить изменнику, которому тот презренный серый продал вашу племянницу? Обязуетесь ли вы покарать его, кем бы он ни был?
– Кем бы ни был он, мы покараем его! – отвечал Маркиз. – Клянусь распятием, на которое возлагаю руку, что справедливость восторжествует!
– Клянусь моими седыми волосами! – воскликнул Варроз.
– Клянусь моей шпагой! – сказал капитан.
– А я клянусь именем Эглантины! – в свою очередь подхватил Рауль.
Маги обвела пристальным взглядом четверых друзей, ждавших в тревоге, когда она наконец заговорит.
Потом, через несколько мгновений, старуха перевела взгляд на расселину, через которую в пещеру проникал свет. Там, в туманной дали, на фоне серого неба проступали мрачные очертания Замка Орла.
Маги вскинула руку – и простерла ее в сторону зловещего замка.
– Эглантина там, – громко произнесла она вслед за тем. – Там ищите ее – и найдете.
– Где же это? – в один голос вопросили Лакюзон, Варроз и Маркиз.
Рауль сразу все понял – и смолчал.
– В замке Орла, – без колебаний отвечала старуха. – Туда, в Замок Орла серый по имени Лимассу увел ее нынче ночью, чтобы продать как заложницу самому презренному из всех изменников – сеньору Антиду де Монтегю.
– Антиду де Монтегю?! – в изумлении повторил преподобный Маркиз. – Женщина, хорошенько думайте, прежде чем говорить.
– Коли я лгу или клевещу, – горячо возразила Маги, – пусть Господь, который все слышит, ниспошлет гром и молнию на мою голову, дабы изобличить меня во лжи!
Даже если бы гром и молния, которые призывала старуха, и низверглись бы на Гангонову пещеру, они не потрясли бы наших героев так, как слова Маги.
На лицах горских триумвиров[43] обозначилось крайнее недоумение.
Только у Рауля на губах была заметна торжествующая улыбка. Его ничто не удивляло, для него не было ничего неожиданного в громких обвинениях старухи. Но он не хотел вмешиваться – по крайней мере пока – и хранил молчание.
Полковник Варроз, насупив брови и сверкая глазами, крутил свои длинные, жесткие седые усы.
Преподобный Маркиз смотрел на Маги так, словно хотел проникнуть взглядом в самые потаенные глубины ее души.
Лакюзон сидел, опустив голову.
– Но, – наконец воскликнул он, – если вы говорите правду, женщина, и если Эглантина действительно в замке Орла, значит, она спасена.
– Спасена? – переспросила Маги, удивленно воззрившись на капитана и будто пытаясь угадать по выражению его лица смысл только что произнесенного им слова, который она не поняла. – Спасена?.. – повторила она. – Как спасена?.. Кем?..
– Антид де Монтегю наш верный союзник, он твердый оплот нашего дела, – возразил капитан.
Лицо Маги вдруг исказилось, губы побелели, глаза полыхнули огнем.
– Антид де Монтегю – верный союзник?!! – хрипло переспросила она. – Неужто вы совсем забыли Господа и ослепли, и ничего не видите?.. Антид де Монтегю – ваш союзник!.. И друг!.. Он… он… человек в черной маске!..
– Ну что, – проговорил Рауль, не в силах больше сдерживаться, – вот видите? Видите? Я же говорил.
– И я говорю, – вскричал полковник Варроз, вскочив на ноги и опершись рукой на гарду своей длинной шпаги, – говорю, что эта женщина права! Говорю, что предчувствия Рауля не обманули! А еще я скажу, что Антид де Монтегю – изменник!
Рауль кинулся к полковнику и горячо пожал его крепкие, мужественные руки – руки старого друга его отца.
– Осторожней, полковник! – заметил преподобный Маркиз. – Неугасшие злые воспоминания способны жестоко вас обмануть, сделав несправедливым. Вы же когда-то презирали Антида де Монтегю, так?
– Ну да, конечно, черт возьми! Я презираю его до сих пор и сейчас заявляю об этом открыто, хотя уже двадцать лет как прячу ненависть глубоко в сердце. Да, я ненавижу Антида де Монтегю, ненавижу и презираю. И если я столько лет молчал и сдерживался, если пытался, нет, не простить его, а хотя бы все забыть, то жертвовал всем своим существом, памятью, убеждениями, привязанностями только ради беззаветной любви к моей родине! Но всякий раз при виде владетеля Замка Орла во мне вскипало чувство протеста, отторжения… И внутренний голос не говорил мне, а кричал: «Вот он, похититель Бланш! Вот он, убийца Тристана! Вот он, поджигатель Шан-д’Ивера!..» Я тщетно пытался переубедить себя, боролся с недоверием, но всегда оказывался побежденным. Между тем, однако, я молчал, приказывал себе хранить маску спокойствия на лице, в то время как в душе у меня бушевала злость и кипела ненависть. Тогда я говорил себе, как вы: «Может, он нам и правда верный союзник?..» Но сегодня – все, больше не могу, прочь все сомнения! Похититель, убийца, поджигатель – он же предатель нашего дела, наших надежд, товарищей. Этот вероломный сеньор, надевавший черную маску, чтобы скрыть свои злодеяния в прошлом, надевает ее и сейчас, чтобы так же коварно предать и свою родину. Убийца де Шан-д’Ивера расправился с Пьером Простом и вступил в сговор с Лепинассу. Я обязан отомстить за двух наших друзей, за нашу отчизну, за нашу приемную дочь! Ненависть и возмущение переполняют меня. И да пробьет наконец час расплаты!
– Да, – вторил ему Рауль, – расплаты, расплаты!
– Ну что, Жан-Клод, убедился? – спросил капитана Варроз.
– Еще нет, – ответил тот. – Я хочу испытать в последний раз…
– Кого?
– Я самолично пойду в Замок Орла.
– И поведешь за собой горцев?
– Нет, пойду один, и с одним только оружием – шпагой.
– И что будешь делать?
– Поговорю с сиром де Монтегю. Скажу ему в лицо все то, в чем его обвиняют, и узнаю правду по его глазам и голосу.
Маги зловеще расхохоталась.
– Капитан Лакюзон, – бросила она. – Это легко сказать… Что ж, пойдите в Замок Орла – один и без оружия. И скажите Антиду де Монтегю в лицо, что вы знаете тайну Черной Маски… Но, как только вы это ему скажете, тем же вечером окажетесь в темнице. Поутру же владетель Замка Орла, которому уже нечего будет скрывать, переправит вас под надежной охраной в долину и передаст французам или же их дружкам-шведам. А еще через день граф де Гебриан либо маркиз де Виллеруа сделают с вами то, что маршал Бирон сделала в Арбуа, в 1575 году, с Жозефом Морелем, по прозвищу Маленький Принц: они велят подвесить вас к самой красивой ветке, сядут рядом завтракать и вот уж потешатся, когда к десерту вы испустите дух… Так идите же, капитан, ступайте! Только не вздумайте перед уходом сказать товарищам своим «до свидания!». Скажите лучше «прощайте!» – таков мой совет, потому что на этом свете вы с ними больше не свидитесь.
Когда Маги закончила свою речь, на мгновение наступила тишина.
Ее нарушил преподобный Маркиз:
– Женщина, – сурово и чинно проговорил он, – вы отдаете себе отчет в серьезности ваших обвинений?
– Вы что же, преподобный мессир, – ответила старуха, – думаете, легко нести околесицу, стоя, как я, одной ногой в могиле, тем более что во спасение моей души с меня взяли клятву говорить только правду?
– И вы готовы повторить все, что только что сказали?
– Готова.
– Стало быть, вы утверждаете, что Эглантина сейчас находится в замке Орла?
– Да, утверждаю.
– И вы утверждаете, что человек в черной маске – не кто иной, как сеньор Антид де Монтегю?
– Да, сто раз да!
– Следовательно, вы утверждаете, что Антид де Монтегю, выдающий себя за нашего союзника и вступивший в сговор с нашими заклятыми врагами, подлый изменник?
– Да, я обвиняю его в коварной измене и дам голову на отсечение, если вдруг окажется, что все мои обвинения – ложь.
– И давно он встал на путь измены?
– Давно.
– И вы давно об этом знали?
– Да.
– И все это время молчали?
– А что мне было говорить?
– Как, вы знали, что нас предали и продали, женщина, и не предупредили?!
– Да с какой стати? – невозмутимо спросила Маги.
Преподобный Маркиз воззрился на нее с глубочайшим удивлением.
IV. Решение
– Да, – повторила Маги, – с какой стати? Или, может, до сего дня, пока я не отплатила добром одному из ваших едва ли не ценой своей жизни, горцы не были мне врагами, как серые или шведы? Что могло заставить меня встать на сторону одних в ущерб другим – меня, кого и те, и другие как только не оскорбляли, не обижали? Или люди капитана Проста не называли меня Маги-ведьмой, как вояки де Гебриана с разбойниками Лепинассу? Почему же все они, точно сговорившись, дразнили меня этим прозвищем? Разве я кому сделала плохое, я, бедное, безобидное существо? Предупредить вас – но как? Или вы можете себе представить, как убогая останавливает кого-то из ваших начальников посреди городской улицы, на большой дороге или в лесу?.. С каким презрением он оттолкнул бы ее и крикнул: «Прочь с дороги, ведьма! Ступай отсюда, по тебе давно плачет виселица или каторга! Иди ко всем чертям!» А если бы Маги, набравшись храбрости, захотела открыть вам глаза и заявилась в ваше логово и вы увидели бы ее в лесу, по ту сторону водопада, увидели, как она, в рубище, с сумой наперевес, ищет к вам дорогу… если бы кто-нибудь из ваших крикнул: «Стой! Кто идет?» – разве назвала бы она пароль? Нет. Мушкетная пуля навсегда похоронила бы в ее душе тайну Черной Маски… Предупредить вас! Нет, преподобный мессир, я не могла, не должна была и не хотела… Теперь же я на вашей стороне, душой и телом, кровью и сердцем. Я за вас, целиком за вас – распоряжайтесь же мной! Вчера я не принадлежала никому. И ради спасения тех, за кого сегодня отдала бы жизнь, еще несколько часов назад я бы пальц о палец не ударила.
Маги смолкла.
«Чудачка!» – подумал про себя преподобный Маркиз.
– Она права, – проговорил Варроз.
– Если человек так говорит, значит, он не лжет! – не совладав с собой, воскликнул Лакюзон.
– И я это подтверждаю и клянусь честью и памятью отца, что она говорит чистую правду, – сказал в свою очередь Рауль.
– Что ты решил, Жан-Клод? – спустя мгновение спросил капитана Маркиз.
– Теперь я почти уверен – Антид де Монтегю – действительно изменник и Эглантина сейчас в замке Орла.
– И что?
– Как «что»! Разумеется, ее нужно спасать. Надо как можно скорее вызволить ее из лап этого злодея – Черной Маски.
– Давайте призовем наших к оружию, – живо предложил полковник, – и двинемся все дружно на Замок Орла.
Лакюзон покачал головой.
– Плохой способ, – возразил он.
– Отчего же?
– Потому что вести открытую и честную войну с изменником и вероломным врагом глупо. Потом, напасть на Антида де Монтегю в лоб, как предлагает полковник, значит погубить Эглантину.
– Погубить? – переспросил Варроз.
– Да, и вот почему. Эглантина заложница владетеля Замка Орла. Почуяв неладное, Антид де Монтегю использует бедную девочку против нас и при первом же штурме пригрозит повесить ее на бойнице самой высокой своей башни. Так что помочь ей можно не жестокостью, а хитростью. Еще раз говорю, я пойду в Замок Орла один, как хотел.
– То есть проникнешь туда тайком? – спросил Маркиз. – Без ведома сира де Монтегю?
– Вот именно, тайком и без ведома…
– Но как ты попадешь в эту крепость, куда и мышь не проскочит?
– Пока не знаю. Надеюсь, Господь надоумит – подскажет верный способ.
– Способ! – воскликнула Маги. – Я сама вам подскажу.
– Вы, женщина? – удивился священник.
– Сегодня, – продолжала мнимая ведьма, – в Замок Орла сойдутся платить повинности все ленники, и будет их тьма-тьмущая. Там до вечера будет не протолкнуться: селяне понагонят повозок, скотины… Почему бы и капитану не проникнуть в замок со всей этой братией, переодевшись в крестьянина-горца и замазав себе лицо до неузнаваемости соками трав, которые я знаю?
– Надобно будет предупредить ленников, – заметил преподобный Маркиз, – а это небезопасно.
– Посвятить в это дело можно только одного человека, – возразила Маги, – того, кто предан вам до гробовой доски, и вы его отлично знаете: это отец вашего Гарба. Он состоит в ленниках у владетеля Замка Орла, потому как живет в деревне Менетрю-ан-Жу. Пусть он захватит с собой капитана, выдав его за батрака, прибывшего намедни с равнины.
– Верно, – согласился Лакюзон, – годится. Это просто, только бы не опоздать.
– Сейчас около часу дня, – продолжала Маги, – а телеги будут катить туда до вечера.
Капитан свистнул знакомым нам посвистом: то был сигнал и призыв.
Прибежал Гарба.
– Твой отец собирается нынче в Замок Орла? – спросил его Лакюзон.
– Да, капитан.
– В котором часу?
– Давеча он говорил мне, что уедет с фермы в три часа.
– Что за оброк он повезет?
– Сена три копны, семьдесят пять экю, четыре мешка ячменя да три мешка пшеницы.
– Отлично. Давай бегом к нему, перехвати его хоть на ферме, хоть по дороге и скажи, пусть прикинется, будто у него незадача какая случилась: ось у телеги сломалась или там ярмо у быка треснуло – словом, пускай задержится под любым предлогом и дожидается меня у Со-Жирара. Все понял?
– Да, капитан.
– Валяй, да поживее!
Гарба по-военному отдал честь и удалился.
– Будешь переодеваться? – спросил Варроз.
– Нет. Другая одежда будет мне мешать, да и ни к чему мне этот маскарад. Теперь у меня есть верный способ незаметно попасть в замок.
– Будь осторожен!
– Не беспокойтесь. Своей жизнью я, может, еще и рискнул бы, но мне предстоит спасать Эглантину, а малейшая оплошность может дорого обойтись и ей, и мне, так что осторожность прежде всего.
Лакюзон снял портупею со шпагой и сунул за пояс кинжал и пистолеты.
– Капитан Лакюзон, – заметила тут Маги, – вы предусмотрели далеко не все.
– Что же я упустил?
– Как я догадываюсь, вы намерены проникнуть в Замок Орла тайно, как враг. И ежели вас раскроют, а это не исключено, то будут обходиться с вами, как с врагом. Что же вы тогда будете делать?
– Защищаться, черт возьми!
– Их больше – против них вам не выстоять.
– Ясное дело, но уж, по крайней мере, я отдам свою жизнь не задешево.
– Несколько не сомневаюсь. А что станется с пленницей Эглантиной, когда вас убьют?
Капитан ничего не ответил.
А Маги, немного помолчав, продолжала:
– Вам нужна надежда на спасение – лазейка, чтобы сбежать. И я дам вам эту надежду – подскажу лазейку. Вы ведь часто бывали в замке Орла, так?
– Да, частенько.
– Тогда слушайте и хорошенько запомните, что я скажу. Между широкой эспланадой, где помещаются постройки замка, и вершиной скалы, что служит основанием главной башни, есть зазор, что-то вроде расселины, которую так и не заделали. Над этой расселиной соорудили свод – как бы в продолжение эспланады. Так вот, посреди свода есть отдушина – ее пробили для стока воды и сверху просто прикрыли решеткой – в камень ее так и не вмуровали. Решетка и отдушина расположены в нескольких шагах от входа в башню, с края засаженной деревьями земляной насыпи, откуда по полуразвалившейся лестнице можно попасть на Водосборный двор. Смекаете, к чему я клоню, капитан?
– Так точно.
– Стало быть, вы понимаете, какую выгоду решительный человек может извлечь из этой лазейки. Прошмыгнуть в ту расселину – дело нехитрое: довольно снять сверху решетку, да и шириной она с дымоход, а вот зацепиться там хоть руками, хоть ногами, чтобы не провалиться прямиком к основанию стены замка, не так-то просто. К тому же потом надобно еще спуститься в долину, а спуск там почти отвесный… впрочем, такому молодцу, как вы, все нипочем, тем более что это, еще раз говорю, единственный ваш шанс на спасение.
– Благодарю, женщина, – горячо отозвался Лакюзон, – спасибо! Но откуда вам все это известно? Вы что, жили в замке Орла?
– Мне известно не только это, но и многое другое, – ответила Маги, – но объяснять, что да откуда, сейчас не время, да и права допрашивать меня у вас нет. Может, как-нибудь потом я сама открою вам то, что скрываю сейчас. Но этот день пока не пришел.
– Можете оставить ваши тайны при себе, – ответил Лакюзон, – я и так вам обязан и еще раз благодарю вас от всего сердца и от имени всех наших.
Вслед за тем, повернувшись к трем своим товарищам, он пожал каждому руку и, преклонив колено перед преподобным Маркизом, обратился к нему с такими словами:
– Я ухожу, так благословите же меня и помолитесь за мою душу и за душу той, которая меня ждет!
Священник возложил руки на благородную голову Лакюзона.
– Ступай, сын мой, – молвил он, – и да благословит тебя всемилостивый Господь! Пусть Он хранит тебя и вернет обратно!
Капитан быстрым шагом удалился.
– Женщина, – сказал тогда преподобный Маркиз, обращаясь к Маги, которая как будто прислушивалась к удаляющимся шагам Лакюзона, – я тоже думаю, что вы не лжете, и, в конце концов, только поверив вам, Жан-Клод Прост решился на это смертельно опасное дело, где ловушки, верно, подстерегают его на каждом шагу. И не сочтите за оскорбление то, что я сейчас вам скажу. Ибо я подчиняюсь законам войны. Ваша жизнь будет зависеть от судьбы капитана – вы останетесь здесь до его возвращения.
– Иным словами, я пленница?
– Да и нет. Обращаться с вами будут самым почтительным образом, но уйти отсюда вы не сможете.
– Ладно, преподобный мессир. Пусть ваше недоверие будет платой за мою доброту, я не в претензии. К тому же Бог всемогущ, и Его воля исполнится скорее вашей.
– Что вы хотите этим сказать?
– То, что говорю, преподобный мессир, и не ищите в моих словах потайного смысла.
Преподобный Маркиз не настаивал – он позвал Железную Ногу.
– Уведите эту женщину, – велел ему священник. – Она оказала нам величайшие услуги и какое-то время останется у нас. Накормите ее, если она голодна, и напоите, если хочет пить, да постелите ей побольше свежей соломы, если она захочет спать.
И совсем тихо он прибавил:
– И чтоб глаз с нее не спускали – ни на миг! Вы за нее в ответе.
Командир горцев увел Маги – через какое-то время она уже лежала в глубине пещеры на соломенном тюфяке и, казалось, спала мертвым сном. Двоим горцам было велено приглядывать за ней, и, повинуясь приказу, они расположились в нескольких шагах от старухи, взяв ее под свой надзор.
V. Замок Орла
Прежде чем последовать вместе с нашими читателями в Замок Орла, о котором уже не раз говорилось с самого начала этой книги, мы вынуждены описать кое-какие особенности здешней местности, чтобы читатель понял, о чем у нас дальше пойдет речь.
От высокой горы, что громоздится над Илайской долиной, начинается хребет, который еще называют вторым Юрским плоскогорьем. Эта самая гора разделяет Илайскую долину и Со-Жирар, один из водопадов Эриссона, и образует громадный уступ, увенчанный округлыми холмиками, меж которых петляет дорога из Мореза в Лон-ле-Сонье.
В начале XIV века Жан де Шалон, дабы защитить Банльейскую обитель и проход к ней – настоящие юрские Фермопилы[44], повелел возвести Замок Орла в той части холмистого горного плато, что лежит слева от дороги.
К подножию скалы, образующей как бы громадную каменную стену, поднимается крутой песчаный откос усеянный мелким булыжником. Слева и спереди от неровной линии, образованной холмами, возвышается скальный выступ, остроконечный и очень высокий, как будто водруженный рукою циклопа, настолько четко он отделен от основной каменной громады.
На этой-то вершине – или игле – некогда и воздвигли главную башню и нарекли ее Игольной.
Человеческая мысль приходит в замешательство, стоит только представить себе, как дерзок был тот, кто первым задумал построить крепость на вершине этой практически неприступной скалы. Жан де Шалон мечтал о недосягаемом месте. И мечта его осуществилась: среди облаков возникла рукотворная цитадель.
Когда строительство закончилось, он назвал свое детище замком Орла, и название это подходило крепости как нельзя лучше: ибо до сих пор единственным владыкой здешних поднебесных высей был орел.
Замок занимал не все обширное плато, венчавшее гору, однако его со всех сторон окружал пояс крепостных укреплений. Прежде чем попасть сюда, надо было одолеть один за другим два подъемных моста и двое сводчатых ворот, защищенных опускными решетками. Главный вход, оснащенный первым подъемным мостом, располагался со стороны деревни Шо-де-Домбьеф. Вторые ворота и мост вели на эспланаду, посреди которой возвышался сам замок – великолепное здание с засаженной высокими деревьями земляной насыпью, сообщавшейся с Игольной башней.
Слева от эспланады, и со стороны дороги, располагалось просторное здание, где размещались латники[45]. Справа и над дозорным путем находилось другое здание, отведенное для берейторов и шталмейстеров, пажей и прислуги.
Судя по руинам всех феодальных замков, сохранившихся до наших дней в графстве Бургундском, главная замковая башня имела квадратную форму. Иголная же башня, быть может, за единственным исключением, была круглая. Впрочем, своей особенностью она была обязана, несомненно, форме скалы, на которой стояла.
В этой башне, довольно высокой, в каждом этаже имелось по одной лишь комнате. С этажа на этаж вела лестница, вырубленная в толще стены. На вершине башни была окруженная зубчатыми стенами площадка, над которой развевался господский флаг, – и с этой площадки, с высоты по меньшей мере полтора тысяч футов, открывался вид не только на долину, по которой струил свои воды Эриссон, но и много, много дальше.
На последнем холме горного уступа размещалась жилая постройка для жен владетелей Замка Орла с их чадами. Окна здания глядели на долину. Поскольку Антид де Монтегю никогда не был женат, эта половина замка скоро пришла в полное запустение. Туда можно было попасть по своеобразному продолжению земляной насыпи, разделенному пополам запирающейся решеткой, которую обычно держали открытой.
Лестница, тоже оснащенная тяжелой решеткой в верхней части, вела во двор между женской половиной и крепостной стеной. Его называли Водосборным двором, потому что когда-то посреди него в скальной породе был вырублен большой водосборник для хранения дождевой воды.
Из женской половины в этот двор, располагавшийся на уровне кухонных помещений, хлебных амбаров и фуражных складов – словом, всех помещений, где хранились подати, – вела узкая, почти сгнившая дверца, некогда заколоченная. Слуги могли попасть на двор за водой для нужд замка по сводчатому проходу, который вел сюда из кухонь и конюшен.
Партизаны-горцы, равно как и все честные люди, с оружием в руках защищавшие свободу Франш-Конте, в душе высоко ценили Антида де Монтегю, владетеля Замка Орла.
И это объясняется просто.
Как мы помним, Лакюзон сказал Раулю де Шан-д’Иверу слова, которые повторил бы любой воюющий за свой край: «Теперь Антид де Монтегю – один из самых влиятельных борцов за свободу Франш-Конте, – говорил капитан. – Из числа его вассалов я пополняю свои партизанские отряды. Это он кормит и оберегает матерей, сестер и дочерей крестьян, взявших в руки оружие».
И Антид де Монтегю действительно все это делал.
Однако большинство добрых селян не разделяли подобное мнение, потому как свою преданность великому делу народного освобождения этот богатый и благородный сеньор выказывал им же во вред.
Да, он поставлял провиант и оружие партизанам капитана Лакюзона…
Да, он набирал в своих владениях и среди своих вассалов людей, которых, отрывая от плуга, силой превращал в солдат…
Да, он заботился о дочерях и женах этих новоиспеченных вояк…
Да, он тысячу раз доказывал свою верность присяге, принесенной Испании, вернее, провинции Франш-Конте, поклявшись до последнего вздоха защищать ее от всяческих злонамерений со стороны Франции.
Однако ж при всем том он увеличил поборы во всех своих обширных владениях, включая оброки и подати, которые ленники были обязаны выплачивать ему натурой.
Все новые подати и десятины каждый божий день прибавлялись к прежним налогам, и без того непосильным.
Его управляющие объезжали округу, перерывая вверх дном все дома до самой последней убогой лачуги, дабы убедиться, что ленники не оставили себе пусть самую малую толику от излишков, причитавшихся хозяину.
Даже опустошительная война не могла служить оправданием для отказов или задержки податей. А потребность в них, казалось, росла вместе с жизненными тяготами.
Нельзя сказать, что вассалам хозяина Замка Орла недоставало чувства патриотизма, вовсе нет. За свободу Франш-Конте они были готовы пожертвовать, притом от всего сердца, последним человеком, последним экю – но все эти повинности кровью и золотом они хотели бы уплачивать добровольно, а необходимость покоряться чужой воле только разбудила в них протест против жестокой тирании и все возраставших непосильных поборов их сюзерена.
Так что, если они и связывали имя Антида де Монтегю с досточтимыми и дорогими их сердцу именами Лакюзона, Маркиза и Варроза, истинных героев и освободителей, то лишь скрепя сердце и непременно с глухим, затаенным ропотом…
Мало-помалу физические тяготы породили всевозможные домыслы. Со временем вокруг Замка Орла возникла странная атмосфера тайны и ужаса. Антид де Монтегю стал неизменным героем жутких рассказов, больше похожих на страшные легенды. Для горцев, охочих до всяких чудес, грозный сеньор сделался героем почти фантастическим, и в деревнях, на вечерних посиделках, люди поминали это зловещее имя всегда с трепетом.
Неужели все эти странные слухи, причудливые истории и впрямь имели под собой какое-то основание?
Чуть погодя мы это, конечно же, узнаем.
* * *
Оставим полковника Варроза, преподобного Маркиза и Рауля де Шан-д’Ивера молиться за благополучный исход дерзкого предприятия, задуманного Лакюзоном.
Оставим Маги-ведьму спать беспробудным сном под надзором двух горцев.
Оставим Гарба, спешащего на встречу со своим отцом.
Оставим капитана, поджидающего отца Гарба у Со-Жирара.
Оставим, наконец, всех наших героев в их безудержном стремлении ускорить ход событий и перенесемся на горную вершину – к первым наружным воротам Замка Орла.
Было около трех часов пополудни – к этому времени в окрестностях замка собралось несчетное число крестьян со всей округи. Одни толпились пока еще у подножия кряжа; другие медленно поднимались вверх по косогору вместе с тяжело груженными повозками; наконец, третьи длинной чередой, один за другим тянулись к подъемному мосту, чтобы, попав в замок, выплатить возложенные на них подати деньгами и натурой.
Время от времени в движении очереди случалась заминка, покуда приказчик осматривал, подсчитывал и взвешивал: скотину, деньги, фураж и всевозможный провиант – словом, все, что привезли ленники.
Какие-то вооруженные люди, у первого подъемного моста, следили за порядком на въезде и выезде.
На вершину кряжа только-только поднялась дородная, крепкая баба лет тридцати пяти – сорока, настоящая кумушка-здоровячка, в наряде горской крестьянки. В руке у нее была длинная, легкая палка с острым железным наконечником, которой она погоняла двух здоровенных черных, остророгих волов, тянувших повозку, груженную соломой, мешками с хлебом и картошкой.
– Слава тебе, Боже милостивый! – проговорила она на местном наречии, которое мы переводим. – Наконец-то мы с моею скотинкой добрались до места и скоро сможем оглядеться вокруг без всякой опаски ослепнуть… А-а, это вы, дядюшка Бренике? Доброго вам дня! Как живете-можете?
Последние ее слова были обращены к престарелому крестьянину, сидевшему на большом камне на обочине и жадно поедавшему внушительный ломоть пеклеванного хлеба.
– Да вроде бы ничего, матушка Готон, а вы? – отвечал старик, к которому обратилась крепкая баба. – А что это вы там себе нашептывали под нос, матушка Готон?
– Что надо, то и нашептывала… а вернее сказать – когда же закончится этот чертов подъем? Мы уж со скотинкой моей не чаяли, когда доползем.
– Не смею перечить, матушка Готон, но вы, кажись, говорили что-то про опаску ослепнуть…
– Да, говорила, ну и что с того?
– Отчего же так?
– Ах, неужели, дядюшка Бренике, вы подумали, будто я собираюсь заглядываться на Игольную башню?
– А почему бы и нет?
– Господи Иисусе, а вы-то сами на нее заглядываетесь?
– Я? Да я с нее глаз не сводил всю дорогу, пока поднимался, – с этой Игольной башни. А еще я всю дорогу спрашивал себя: вот, ежели б кому случилось свалиться с эдакой высотищи, успел бы он прочесть «Отче наш…», «Верую!»[46] и «Исповедуюсь!»[47], а главное – принять покаяние, перед тем как умереть в благодати?..
– Увы мне! – воскликнула матушка Готон. – Так вы взбирались на нее?
– Ну да, черт возьми!
– И что там видали?
– Ничего такого.
Матушка Готон дважды благочестиво перекрестилась.
– И благодарите Бога за это, по крайней мере, – проговорила она следом за тем.
– За что благодарить-то?
– За то, что он оградил вас от величайшей опасности.
– Какой такой опасности?
– Ежели б вас увидел призрак, вы бы разом ослепли.
Крестьянин опустил ломоть хлеба, в который собирался впиться зубами, и малость побледнел.
– Призрак!.. – повторил он, поднимаясь. – Стало быть, там водится привидение?
– Как! Неужто вы не знаете?
– Нет… о, да нет, не знаю.
– Ну да, там водится привидение, – продолжала матушка Готон, – такое белое-белое, высотой сто футов.
– И где же? Что оно делает? Когда его видят?
– Оно расхаживает по площадке, на верху башни.
– И часто?
– Почти каждый божий день.
– Ах ты боже мой!
– Такие вот дела, дядюшка Бренике. Днем, ежели смотреть со стороны долины, оно походит на дымку человеческой формы и как будто парит в воздухе.
– Это точно, матушка Готон?
– Раз я говорю, значит, так оно и есть.
– И стоит его увидеть, как тут же слепнешь?
– Верно. Послушайте, не далее как нынче утром…
– Вы сами видали?
– Да нет же, коли глаза у меня в целости. Но я видала того, кто видал его.
– И он ослеп?
– Как будто ему пальнули из мушкета прямо в лицо!
Крестьянина бросило в дрожь.
– Где ж с ним это случилось – беда-то такая? – спросил он дрожащим голосом.
– Недалече от Со-Жирара. Я пошла искать моих козочек, взобралась на пригорок – глядь, а по ложбинке идет какой-то малый, симпатичный такой, право слово, и одет, как сеньор. А с ним старуха-нищенка, ну в точности Маги-колдунья… ей-ей, она самая. И вдруг он как кинется на гору, ну прямо чокнутый, и давай пялиться на Игольную башню…
– А там привидение?
– Ну конечно… и малый тот сразу в крик… схватился обеими руками за глаза и покатился с горы, точно ком.
– Он что, ослеп?
– На оба глаза.
– А вы что, матушка Готон?
– А я, знамо дело, наутек, жизнь-то дороже. Вы небось поступили бы так же, верно, дядюшка Бренике?
– Ну да, ну да, конечно…
Тут толпа ленников оживилась. Вереница, было остановившаяся, двинулась своим чередом.
Матушка Готон, погоняя быков, двинулась дальше – беседа, едва начавшись, прервалась.
Мы решились предложить эту беседу вниманию наших читателей потому, что она как нельзя лучше показывает несусветные, лишенные правдоподобия слухи о замке Орла, укоренившиеся в сознании горцев.
VI. Подати
Выехав на эспланаду, крестьяне выстраивались в два ряда так, чтобы между ними оставалось свободное пространство – от одних ворот до других. Здесь размещали повозки со скотиной.
Приказчик держался впереди этой вереницы. По выражению его лица, напыщенному, чопорному, самоувернному и непомерно гордому, сразу было видно, что к своим обязанностям он относился с исключительной серьезностью.
То был старик лет шестидесяти, толстый и маленький, с широченными плечами и бычьей шеей. Над широким лоснящимся лицом приказчика, в красных пятнах, число коих и цвет выдавали в нем большого поклонника доброго винца, сияла лысина, на которой, впрочем, спереди сохранились три пучка седых кудряшек – последние следы некогда пышной шевелюры. Один такой пучок торчал на макушке, и еще два – чуть повыше висков. Его серовато-белесые глаза прятались под густыми, кустистыми бровями, пока еще черными, как смоль; нижняя губа, толстая и чувственная, свисала едва ли не до подбородка. Голова у приказчика была непокрыта; на нем был широкий плащ, который с трудом сходился на выпирающем животе и держался лишь на шерстяном шнуре. На коротком красном носу приказчика сидели очки без дужек, крепко обжимавшие переносицу. Он просматривал длинный список с именами всех ленников и пометками, кто, чего и сколько должен.
Время от времени он обмакивал облезлое перо в свинцовую чернильницу, которую поваренок держал перед ним на расстоянии вытянутой руки.
Словом, по этому портрету, скорее комичному, чем отталкивающему, можно с полной уверенностью заключить, что ретивый служака был вылитый монах из романов Рабле.
Однако, если полностью довериться такому описанию, можно с легкостью ошибиться. Физиономия у приказчика была презабавной – верно, но вместе с тем выражение у нее было грозным. Взгляд серых глазкок, бесстрастных и даже хищных, пронизал насквозь. Своею отвислой губой он напоминал Каракаллу[48] или Нерона. А злобным лицом, с грубыми чертами, – больше походил на тигра.
Такому извергу доставляло несказанную радость видеть слезы у тех, кто проливал их по его милости. При этом он держался непоколебимо, как не ведающий сострадания палач с холодным, бесчувственным сердцем, – и владетель Замка Орла, назначивший его взимать поборы, не ошибся в выборе.
Скоро мы увидим, как приказчик справлялся со своими обязанностями.
Сверившись со списком, он выкликал ленников, число которых к этому времени заметно поубавилось, поскольку было уже далеко за полдень.
– Жан-Мари Гу, с фермы Шармон! – возглашал он.
– Мы тут, – ответил смуглый человечек, чье обветренное лицо, со шрамом от ножа, выдавало в нем чистокровного испанца.
Он вел за собой двух волов, запряженных в телегу, за которой плелась на привязи корова, а вместе с нею четыре барана.
Приказчик метнул взгляд на телегу, потом на скотину и, уткнувшись глазами в список, продолжал:
– Пять мешков пшеницы, два – ржи, три – ячменя, шестьдесят фунтов копченого сала, один окорок, пятьдесят экю наличной ходовой монетой, полуторагодовалая корова, телившаяся, четыре годовалых барана, исправных, нестриженых… Все при тебе?
– Да, мессир, все-все. А вот и полсотни экю для довеску.
Крестьянин извлек из кожаного кошелька одну за другой серебряные монеты, передал приказчику, и тот со звоном опустил их в висевшую у него на боку мошну.
– Значит, Жан-Мари Гу, говоришь, здесь все… А потребного ли веса твои мешки? Откормлены ли твои бараны?
– О, уж за это ручаюсь.
– Ну конечно, вы завсегда ручаетесь, для вашего брата это раз плюнуть. А вот мы сейчас возьмем да поглядим…
Приказчик подал знак.
Слуги мигом опорожнили телегу и перегрузили все на чашу огромных весов, предназначенных специально для замера.
Крестьянин с тревогой следил за происходящим.
Вес оказался точным. Осмотренные следом за тем бараны были признаны упитанными, а их шерсть – длинной и мягкой.
Телегу снова загрузили.
– А ферма у тебя, видать, знатная, Жан-Мари Гу, – заключил приказчик.
– Пока не жалуюсь, мессир, только все постоянной заботы требует… вот трудами праведными и сводим концы с концами.
– Под конец года наверняка что-нибудь да остается про запас, а, Жан-Мари?
– Не так чтоб уж очень много, мессир, разве что самая малость.
– А вот монсеньор другого мнения. Он увеличивает повинность на десять экю, десять мешков пшеницы, четыре меры картошки и на пару баранов.
– Но, мессир!.. – вскричал крестьянин, потрясенный до глубины души.
– Да будет, будет тебе! – не дав ему договорить, продолжал приказчик. – Дело решенное. И чтоб в следующем году все было тютелька в тютельку, не то!..
Вслед за тем он зычно прибавил:
– Жан-Мари Гу с фермы Шармон – принято!.. Следующий!
Глубоко опечаленный крестьянин хлестнул быков и покатил телегу в замок. Приказчик же, заглянув в свой список, продолжал делать свое дело:
– Пьер-Антуан Конте из Гранж-Фокона: восемь мешков овса, свинья весом три сотни, бык – восемь сотен, три сотни экю наличной ходовой монетой.
– Вот, – отвечал седовласый старик со сгорбленной спиной, которую он, как видно, не разгибал всю свою жизнь.
– При тебе все?
– Все, мессир.
– А деньги?
– Вот.
– Хорошо. Разгружаем – взвешиваем.
Вес признали удовлетворительным. Старику тоже объявили о повышении поборов. Объявление было произнесено торжественно, и телега его покатила дальше.
– Франсуа Тери с фермы Птит-Шьет, – продолжал свое приказчик. – Пятнадцать мешков пшеницы, четыре – муки, шесть – овса, три – ячменя, пять буасо[49] картошки, бык весом восемь сотен, четыре годовалых барана, исправных, нестриженых, три десятка откормленных куриц, сорок фунтов масла, четыре тысячи фунтов сена, пятьдесят экю наличной ходовой монетой…
Ответа «вот» не последовало.
Приказчик вскинул глаза – и вместо старика-ленника, как ожидал, увидел перед собой прелестную девицу, бледную и дрожащую, утиравшую раскрасневшиеся глазенки кончиком платочка из хлопка.
– Эй, – грубо вопросил он, – а ты кто такая?
– Я дочь Франсуа Тери, – пролепетала бедная девочка.
– А где твой папаша?
– Дома.
– Почему не явился сам?
– Ему невмоготу.
– Как это!.. Что такое!.. – вскричал приказчик, подтянувшись на своих коротких ножках, точно разъяренный, расхорохорившийся петух. – Он не имел права! Что ж это значит? С него причитается! И где же его оброк?
Вместо ответа девица ударилась в слезы.
– Разве можно! – не унимался человечек, топнув ногой. – Уж, часом, не потешиться ли над нами вздумали! Франсуа Тери из самых зажиточных наших ленников! Оброк… где оброк?
– Увы, мессир, пришли серые…
– Серые пришли? Ну и что?
– И вынесли все подчистую, обобрали нас до нитки. Спалили риги и фуражные склады. Угнали быков, баранов… все-все унесли!
– И папаша твой позволил им хозяйничать у себя вот так, преспокойно, и даже не посмел перечить?
– О, он защищал наше добро, мессир… даже в драку полез. И дрался, как настоящий солдат. Одного из моих братьев тяжело ранили. А отцу проткнули шпагой бедро.
– Тем хуже для него. А как насчет оброка?
– У нас ведь больше ничего не осталось, мессир, говорю же, серые все вынесли или сожгли…
– Даже полсотни экю?
– Увы, мессир, мы думали продать быков с баранами и выручить деньги…
– И твой папаша надеялся, что ему все с рук сойдет?
– Он надеялся, что монсеньор сжалится над ним. Он так и лежит в койке – из-за раны: уж больно она донимает его.
– Что ж, тогда передай своему папаше, от меня, что ежели через неделю он не заплатит все сполна, то отправится в казематы замка – уж там-то он живо встанет на ноги.
– Помилуйте, мессир, во имя Неба! – пролепетала девица сквозь слезы. – Сжальтесь над нами!
– Ты слышала? Срок – неделя!
– Но, Господи всемогущий, как же нам управиться за такой срок?
– Меня это не касается – отстань! Через неделю – слыхала?.. Следующий!
Провожая взглядами девицу, которая от отчаяния рвала на себе волосы и била себя по лицу, ленники, выстроившиеся на эспланаде, тихо зароптали.
– Что это я слышу! – вскричал приказчик, выйдя из себя и хватив ладонью по списку; сунув потрепанное перо за ухо, он обвел всех вокруг грозным взглядом своих белесых глазенок. – Что такое я слышу! Вы что же, мужланы, хотите, чтоб стража намяла вам бока, а то ишь расхорохорились! Ежели еще услышу от кого хоть слово, глядите, монсеньор всем удвоит подать!
Угроза мигом подействовала – и вновь стало тихо, словно по мановению волшебной палочки.
И в этой мертвой тишине можно было слышать, как муха пролетит.
Между тем приказчик продолжал перекличку:
– Вдова Готон Клеман, с фермы Илай! – выкликнул он. – Так, шесть мешков пшеницы, четыре буасо картошки, сорок экю наличными, бык весом восемьсот, головка сыру весом тридцать фунтов!
– Вот, вот, мессир, – отвечала, выходя вперед дородная, крепкая баба, с которой мы уже успели познакомиться: это она рассказывала старику Бренике легенду о белом призраке Игольной башни.
При виде этой бой-бабы, лицо у приказчика смягчилось, исполнившись доброжелательства.
– Ах-ах, кумушка моя, – проговорил он, кокетливо прилизывая три свои волосинки, – а вот, стало быть, и вы?
– Как видите, мессир, я к вашим услугам, – ответила матушка Готон, сделав легкий реверанс.
– А как там наш должок, матушка?
– У меня все с собой.
– Так уж и все?
– Право слово, ежели чего и недостает, то самой малости, грешно и говорить.
– И все же давайте-ка поговорим. Так чего там у нас недостает?
– Сыру.
– Ну и ну! Как же это так?
– Понимаете, это не моя вина. Сами знаете, мне, как и всем в деревне, приходится носить молоко на сыроварню в свой черед. А коровушек моих сглазили, и они, бедняжки, перестали доиться. Но наш монсеньор кюре заговорил их да водицей святой окропил – и они снова стали дойными. Уж дайте мне немножко времени!
– И сколько же?
– Недельку.
– Даю две.
– Благодарю сердечно, мессир!
– А я, как только соберусь в Илайскую долину, непременно загляну к вам с приветиком, кумушка моя.
– Мне будет только за счастье и в радость.
– Вдова Готон Клеман, – крикнул приказчик, – принято!.. Следующий!
Вслед за тем он кликнул:
– Жак-Реми Гарба, из Менетрю-ан-Жу!.. Три тысячи сена, семьдесят пять экю, четыре мешка ячменя, три мешка пшеницы…
Никакого ответа на оклик не последовало.
– Как! – удивился приказчик. – Как! Гарба нет, что ли?
– Будет с минуты на минуту, мессир, – выходя вперед, сказал какой-то крестьянин.
– Почему опаздывает?
– У его телеги сломалось колесо недалеча от Со-Жирара. Починит и тогда подъедет.
– Ладно, займемся им в последнюю очередь.
И приказчик принялся за других ленников.
Давайте предоставим ему заниматься его нелегкими трудами, а сами перенесемся во внутренний двор замка.
С эспланады повозки одна за другой подъезжали к крыльцу с длинной лестницей, что вела к парадной двери главного здания. Антид де Монтегю стоял на верхней ступени крыльца, и каждый ленник, проходя мимо, задерживался, чтобы приветствовать его и дать ему осмотреть хозяйским глазом привезенные подати. Вслед за тем повозки сворачивали направо, выезжали на дозорный путь и останавливались на Водосборном дворе. Там слуги их быстро разгружали и распределяли провиант по складам и хранилищам. После этого повозки, порожняком, сворачивали на ту же дорогу, по которой прибывали, катили обратно через всю эспланаду и выезжали из замка.
К тому времени, когда мы приблизились к владетелю Замка Орла, уже смеркалось – день клонился к вечеру, и вереница повозок незадолго перед тем закончилась.
– Это еще что такое? – спросил Антид де Монтегю одного из шталмейстеров, находившихся рядом. – Если все кончилось, почему стража не возвращается, почему не заперли ворота?
Шталмейстер поспешил разузнать что к чему и через некоторое время вернулся на пару с приказчиком.
– Монсеньор, – смиренно, с глубоким почтением доложил тот, – мы ждем еще кое-кого…
– Кто же этот дерзкий плут, заставляющий себя ждать?
– Монсеньор, это Реми Гарба из Менетрю-ан-Жу.
– Отец ординарца Лакюзона?
– Он самый, монсеньор. Впрочем, у него есть оправдание за проволочку.
– Какое же?
– По дороге с ним случилась незадача: на подъезде к Со-Жирару у его телеги сломалось колесо.
– Пусть пеняет на себя, перед дорогой надобно все проверять.
– Что же делать, монсеньор?
– Пусть стража возвращается, и запирайте ворота!
– А как же Гарба, монсеньор?
– Пусть завтра приходит.
Приказчик уже собрался удалиться, чтобы исполнить волю хозяина, как вдруг в эту самую минуту с эспланады донесся звонкий, красивый голос: звучал первый куплет песенки, которую горцы Лакюзона переняли у обитателей долины. Песенка эта родилась в Брессе, и партизаны заводили ее лишь тогда, когда хотели посмеяться над брессанцами, которых они ненавидели и презирали всей душой.
А пел голос вот что:
Когда весна приходит в дом, Когда все яблони цветут, Когда поля и пустоши кругом Благоуханием своим зовут, Красавцы парни и девицы, Степенные и озорницы, Мечтают всласть повеселиться.– Мессир приказчик, – крикнул издалека кто-то из прислуги, – а вот и Гарба из Менетрю-ан-Жу пожаловал!
– Ладно, иду.
И приказчик было собрался обратно на эспланаду.
VII. Хозяин замка Орла
Антид де Монтегю его остановил.
– Нет, – сказал он, – ждите здесь, а Гарба пусть приведут на передний двор замка – подати взыщите с него при мне.
Слуга побежал передать опоздавшему требование господина графа.
И вскоре песенка зазвучала совсем близко:
Идем со мной, голубушка моя, Идем скорей, зову же я тебя. Там, за серой пустынной землей Лежит маленький рай неземной. Идем со мной, осчастливь же меня. Там сочной земляникой усеяны поля, Там счастливы будем мы – ты и я.В эту минуту появилась груженная сеном телега, запряженная парой волов, которых погонял стрекалом наш певец.
– Э, – воскликнул тут Антид де Монтегю, – это ж не Гарба-ленник, а Гарба-ординарец!
– Сын заместо отца, монсеньор, к вашим услугам, – отвечал малый, стягивая с головы шапку и останавливая волов, – что отец, что сын – одно и то же…
– Как же это вышло?
– Все просто, монсеньор. Повстречал я отца у Со-Жирара, глядь, а у него там поломка случилась, да и сам он весь какой-то хворый, вот я его и подменил, чтоб на него не гневались за опоздание.
– Так ты что же, капитану сегодня не надобен?
– Похоже, так оно и есть, монсеньор, раз он отпустил меня до завтра.
– А сам-то он где сейчас – в Гангоновой пещере?
– Нет, монсеньор, нынче утром подался куда-то.
– Один?
– С полковником Варрозом, преподобным Маркизом и шестью десятками горцев.
– Должно быть, на вылазку?
– Кажись, так, монсеньор.
– И куда же?
– Капитан мне не докладывал.
– А когда вернется, знаешь?
– Нынче ночью, монсеньор.
Покуда владетель замка и ординарец вели меж собой этот разговор, стало совсем темно.
– Монсеньор, – сказал тут приказчик, – угодно ли вам будет, ежели мы начнем взвешивать сено и мешки?
– Только не сегодня, – ответил Антид. – Уже давно пора поднимать мосты и запирать ворота. Вот завтра все и взвесите.
– А с телегой как быть?
– Пускай отвезут ее на Водосборный двор и распрягут.
– Монсеньор, – сказал тогда Гарба, – я хотел бы попросить вас об одной милости.
– Какой?
– Дозвольте отвести моих волов в стойло и оставить там на ночь, а я прекрасно переночую и в телеге, на сене.
– Что до волов, не возражаю, а вот ты – другое дело. Ночью посторонним в замке не место, кто бы они ни были.
– Видите ли, монсеньор, завтра на рассвете мне велено быть уже в Гангоновой пещере.
– В таком случае отправляйся ночевать к своему отцу в Менетрю-ан-Жу, а завтра пусть он сам забирает свою телегу с волами.
– Хорошо, монсеньор.
– А когда увидишь капитана Лакюзона, полковника Варроза и преподобного Маркиза, передай, что мои чувства к ним неизменны – так было и будет всегда.
– Непременно передам, монсеньор.
– А теперь ступай, мой друг.
Гарба ударил валов стрекалом и повел их к дозорному пути, а сам походя запел дальше:
Поспешим же, душа моя, Уж скоро весна пройдет, За нею настанет осенняя пора, Так что время больше не ждет. Весна же нас без удержу зовет. Так поспешим! И я скажу тебе там то, Что рассмешит тебя сильней всего.Телега выкатила на Водосборный двор. Наш малый распряг волов, бросил телегу посреди двора и, перед тем как отбыть восвояси, произнес довольно громко, будто обращаясь к самому себе:
– Ну вот, самое трудное позади… Удачи!
Вслед за тем он вернулся на дозорный путь, прошел через передний двор, эспланаду, подъемные мосты и всю дорогу все звонче и звонче напевал:
Над зелеными полями жаворóнок Крылышками машет и поет: люблю! В роще славка гомонит спросонок, Все порхает да свистит: фью-фью! Вот и мы, как ласточки, с тобой, Аки горлицы, томимые тоской: Любви не ведом благостный покой.Спускаясь с горы, Гарба все пел и пел свою незатейливую песенку: пятый куплет, за ним шестой, седьмой (всего же их насчитывалось тридцать два!..).
Мало-помалу голос его становился тише – и в конце концов совсем затих вдали.
* * *
Прошло немало времени после того, как отзвучал последний куплет брессанской песенки Гарба и как наш удалец спустился в долину.
Церковный колокол в Менетрю-ан-Жу пробил десять часов, холод стоял собачий, луна пряталась за плотным облачным занавесом, покрывавшим небо.
Латники, которые сдерживали днем толпу ленников, уже давно вернулись в здание, служившее им казармой. Цепи, поднимавшие тяжелые мосты, натянулись втугую; подъемные решетки со скрежетом опустились в пазы; массивные ворота, глухо лязгнув в петельных крюках, затворились.
Свет в господском доме мало-помалу везде погас, кроме одной комнаты. Замок погрузился в глубокую тишину и непроницаемую тьму.
И вот теперь мы попробуем вместе с нашими читателями проникнуть в просторную гостиную, расположенную сразу за караульным помещением в главном замковом здании, предназначенном для его владетеля.
Эту гостиную, которая в наши дни могла бы показаться непомерно большой, венчал куполообразный потолок, украшенный росписью незамысловатой, впрочем, старинной и потому ценной, принадлежащей, вероятно, кисти кого-то из учеников Орканья[50], сбившегося однажды с дороги в Юрских горах. Художник думал изобразить души праведников, проходящих через искупление грехов в чистилище. Заметим, однако, что искаженные лица у фигур, корчащихся в страшных муках среди раздвоенных языков кроваво-красного и ярко-желтого пламени, напоминали скорее проклятых, нежели Божьих избранников.
Напротив входной двери помещалась наружная застекленная дверь, выходившая сразу на земляную насыпь, что вела к Игольной башне. Четыре окна глядели на площадку перед казармой латников и на Водосборный двор: владетель Замка Орла мог наблюдать за происходящим вокруг прямо из гостиной.
Посередине филенки, с левой стороны, располагался высокий, увенчанный гербом камин из отшлифованного камня. Над камином, чуть наклоненное вперед, висело венецианское зеркало размером два на два фута, в раме из шлифованного хрусталя – предмет неслыханной роскоши по тем временам. Под зеркалом стояло единственное украшение каминного колпака – громадный серебряный кубок тончайшей чеканки, выполненной одним из соперников флорентийца Бенвенуто Челлини[51], а может, и самим великим мастером. На боках кубка были изображены рельефные гербы дворянского рода Водри, который, не имея наследников по мужской линии, стал домом Монтегю, поскольку отец нынешнего хозяина Замка Орла женился на последней и единственной носительнице фамилии Водри. Этот огромный сосуд вмещал добрых полторы пинты[52] вина. И последний барон де Водри осушал его в один присест.
Стыд и позор на все времена вырождающимся бражникам, нашим современникам, потягивающим мелкими глотками вина лучших марок, к примеру, «Шато-Лафит» или «Шамбертен» из бокальчиков тонкого стекла едва ли не с наперсток и упивающимся в стельку уже на четвертой бутылке! Куда же канули те времена, когда Бассомпьер[53], не найдя кубка достойной меры, пил из своего ботфорта за процветание тринадцати кантонов[54]? Ах, кто мы в сравнении с нашими отцами и кем станут наши сыновья в сравнении с нами?..
Однако не подумайте, будто в этом шутливом наблюдении мы поем хвалу невоздержанности, вовсе нет: мы всего лишь восхваляем поистине сверхчеловеческую силу непоколебимого здоровья наших добрых предков!..
Но вернемся к делу…
Стены гостиной, в которой мы оказались, были до потолка обшиты гобеленами с изображением скорбных сцен и героев Священного Писания: гибель евреев, поклонявшихся Медному змею, избиение младенцев, Саул и Аэндорская ведьма, Лазарь во гробе…
По обе стороны от входной двери бросались в глаза два портрета в полный рост на дубовых панелях, в немного потускневших от времени позолоченных рамах, украшенных богатой лепниной. На этих портретах были изображены, в надменных позах и с высокомерными лицами, последний представитель рода Водри и первый отпрыск семейства Монтегю.
Наконец, на филенке справа, между двумя окнами, виднелись простенькие часы под округлым колпаком в виде гербового шлема, накрывавшего их целиком, и с единственной стрелкой на белом фаянсовом циферблате с синими циферками. Часы висели в восьми футах над полом, а их тяжелый маятник монотонно покачивался у самого пола, едва не касаясь его.
Рядом с камином, перед высоченным креслом, увенчанным гербом рода Монтегю, помещался круглый полированный дубовый стол, покрытый довольно дорогой скатертью, вывезенной с Востока, должно быть, во времена Крестовых походов.
В кресле, вперившись в очаг, где пылал огонь, полулежал властитель Замка Орла.
В то время, когда происходили события нашего рассказа, описанные нами с исторической достоверностью, Антиду де Монтегю было где-нибудь лет пятьдесят, однако, даже вглядевшись внимательно в черты лица и фигуру этого почтенного сеньора, определить его возраст, наверное, было бы нелегко. Очень высокого роста, безупречного сложения, он держался прямо, как юноша, и его мощный, гибкий торс на удивление ладно держался на крепких бедрах. Наделенный невероятной ловкостью и необычайной физической силой, он взбирался по горным тропам, считавшимся непроходимыми, со скоростью и проворством охотника-горца. Он смог бы, подобно Милону Кротонскому[55], разорвать живого льва своими руками.
Его открытое лицо отличалось правильными, красивыми чертами и тем не менее с первого же взгляда оно внушало отвращение и даже страх – и все, должно быть, из-за резко очерченной горбинки на его орлином носу и хищного, жестокого выражения темно-зеленых, почти черных глаз.
Его вьющиеся матово-черные волосы, без блеска и совсем без седины, расходились на бледном лбу, едва тронутом морщинами.
Дополняла же его своеобразную внешность длинная, полная борода.
К такому резко очерченному лицу, в котором читались двоедушие и властность, вполне пошел бы тюрбан восточного деспота.
Андтид де Монтегю был в камзоле коричневого сукна; длинные гетры мягкой кожи облегали до середины бедер его крепкие ноги.
Как мы уже говорили, он полулежал в большом кресле и следил рассеянным взглядом за мимолетными искорками, сверкавшими в очаге.
Слуга, стоявший чуть поодаль – в трех-четырех шагах, ждал его распоряжений.
Прошло несколько минут.
Хозяин Замка Орла вдруг вскинул голову и сказал слуге:
– Ступай за пленницей.
Тот скользнул в наружную застекленную дверь, выходившую, как мы помним, на земляную насыпь.
Во время его отсутствия Антид де Монтегю принялся мерить шагами гостиную: опустив голову, скрестив руки на груди, он ходил туда-сюда с видом глубоко озабоченного человека.
Но вот вернулся слуга – с собой он привел девушку.
Стоит ли уточнять, что этой девушкой была Эглантина?
Невеста Рауля де Шан-д’Ивера остановилась в нескольких шагах от господина Замка Орла и так и замерла перед ним в молчании. На ее бледном, осунувшемся лице были заметны следы недавних слез. В ее прекрасных, хоть и покрасневших, глазах под опухшими веками читались горе и тревога, вызванные тем, что она оказалась в положении пленницы.
Однако в ее взоре, скрытом длинными ресницами, нет-нет да и вспыхивали проблески надежды.
Антид де Монтегю впился в нее долгим, странным взглядом – пристально-неподвижным.
– Девушка, – сухо проговорил он вслед за тем, хотя в голосе его не чувствовалось ни суровости, ни угрозы, – выслушайте меня!
Эглантина подняла голову.
Выражение ее лица тотчас изменилось: брови сдвинулись, взгляд сделался колким, на губах появилась гордая ухмылка, к бледному лбу, из глубины возмущенного сердца, прихлынула кровь. Ее красота, такая мягкая и чистая, вдруг исполнилась величия и властности, сделав девушку ослепительно-прекрасной. В ту минуту ее можно было бы назвать рассерженной королевой.
Даже сам владетель Замка Орла не смог не восхититься столь чудесным превращением.
– Я слушаю вас, мессир, – твердо сказала девушка, – и готова вам отвечать.
– Вы бы много дали, чтобы выйти отсюда, не правда ли? – продолжал сеньор.
– Ошибаетесь, мессир.
– Как! Неужто плен не кажется вам тяжким?
– Он наполняет меня радостью и гордостью. Когда столько храбрецов и благородных сеньоров беззаветно жертвуют собой ради святого дела освобождения родины, как может бедная девушка не гордиться тем, что вместе с ними жертвует своей свободой, а если понадобится, то и жизнью?
– От ваших слов веет фанатизмом, – с натянутой ухмылкой возразил Антид де Монтегю.
– Нет, мессир, это всего лишь самопожертвование.
На мгновение воцарилась тишина.
– Если вы поклянетесь… если поклянетесь на Евангелии во спасение своей души, сдержите ли вы ваше слово?
Эглантина пожала плечами.
– А если я спрошу вас, мессир, – воскликнула она вслед за тем с нескрываемым пренебрежением, – спрошу, как вы сами относитесь к людям, которые сначала дают клятву, а потом изменяют ей?
– Итак, если я верну вам свободу при условии, что вы поклянетесь никогда и никому, даже священнику на исповеди, не рассказывать, где вы были, смею ли я рассчитывать…
Эглантина тут же прервала сеньора.
– Не продолжайте, мессир, – ответила она, – это бесполезно.
– Что вы хотите этим сказать?
– Не стоит требовать с меня клятвы, которую я ни за что не выполню.
– Так вы отказываетесь поклясться, что будете хранить полное молчание?
– Да, мессир.
– Почему же?
– Потому что первым делом, будь мне дана свобода, я пошла бы и рассказала героям, которые считают вас своим другом, кто такой на самом деле Антид де Монтегю, хозяин Замка Орла.
– Поостерегитесь, девушка!
– Чего же, мессир?
– Вы моя пленница. И свободы, которой вы гнушаетесь, вам, возможно, придется ждать ох как долго.
– Вы устанете этого ждать раньше меня, мессир. У несправедливости есть предел, а у смирения – нет.
– Стало быть, вы исполнены смирения и готовы ко всему.
– Да, мессир, я исполнена смирения и готова ко всему, даже к смерти.
– И вы готовы без сожаления попрощаться со всеми, кто любит вас и кого любите вы, ведь вы их больше никогда не увидите?
– Будущее зависит не от вас или от меня, мессир, оно в руках Божьих.
– Значит, вы с легким сердцем готовы со всем расстаться?
– С легким или тяжелым – какая разница, лишь бы не пасть духом.
– Хорошенько подумайте, девушка, ведь это, быть может, навсегда…
– Ну и пусть навсегда, – твердо ответила Эглантина.
И с улыбкой прибавила:
– Быть может…
От выражения, с каким она произнесла эти слова – «быть может», Антида де Монтегю бросило в дрожь.
– На что же вы надеетесь? – вскричал он.
– На Бога, мессир!
– Бог ничего не сделает для вас.
– Кто знает…
– Я не боюсь ни Бога, ни людей! – резко бросил властитель замка.
– Это кощунство и ложь! – возразила Эглантина. – В тот день, когда Богу будет угодно избавить меня от вас, Он пошлет мне на выручку человека, при виде которого, мессир, вас бросит в дрожь, каким бы могущественным вы себя ни мнили.
– И кто же, – с усмешкой вопросил Антид де Монтегю, – кто этот человек?
– Капитан Лакюзон. Вам хорошо знакомо это имя, мессир, – едва заслышав его, вы уже бледнеете.
– Капитан Лакюзон считает меня самым верным своим союзником.
– Вы окружили свои измены непроглядным мраком, мессир, но довольно одной лишь искры – и тьма рассеется.
– Откуда же возьмется эта ваша искра?
– Кто знает… – повторила Эглантина.
– К тому же, – продолжал сеньор, – капитан никогда не догадается, где вы.
– Кто знает… – в третий раз промолвила Эглантина.
VIII. Посланница
Невзирая на величественное и бесстрастное выражение, лицо Антида де Монтегю свело судорогой, на широком, выпуклом лбу обозначились глубокие морщины.
Он упал в широкое, украшенное гербом кресло и какое-то время невнятно бормотал себе под нос, словно чересчур озабоченный человек, который говорит сам с собой.
В его душе шла жестокая борьба самых противоречивых чувств, и следы этой внутренней борьбы отражались на его лице.
– Девушка, – через некоторое время сказал он, – вы только что сделали то, что до вас еще никто не делал и больше никогда не сделает: вы бросили вызов мне в лицо, вы говорили со мной с дерзкой надменностью, вы оскорбили меня. Но я не монстр, как вы, конечно же, полагаете, и я не стану мстить в ответ. Люди, которые привели вас сюда, желая оказать мне услугу за хорошую награду, поставили меня в неловкое до странности положение. Вы, сами того не желая, узнали тайну, а это вопрос жизни и смерти. И вам было бы должно умереть, ибо того, разумеется, требуют мои интересы и безопасность. Однако я не смею обрекать вас на смерть. Мне хотелось бы дать вам свободу. И я поверил бы одному вашему слову, хотя никому и ничему вокруг себя не верю. Я попросил у вас клятву – вы мне отказали и этим сами заперли дверь, которую я открыл перед вами. Что ж, ваша воля будет исполнена: можете сколько угодно мечтать о самопожертвовании – вы остаетесь моей пленницей…
– Я уже говорила вам, мессир, – прервала его Эглантина, – я принимаю это так же, как приняла бы смерть.
– Стало быть, придется мне вернуться к моему первоначальному замыслу, – продолжал Антид де Монтегю. – Вы останетесь заложницей – моей и моих союзников. Но здесь вам нельзя оставаться.
Услышав последние его слова, Эглантина вздрогнула.
– Вы уедете отсюда, – продолжал меж тем хозяин замка.
Девушка стала бледной, как полотно.
– Уеду? – переспросила она.
– Так надо.
– Боже мой, что вы намерены со мной сделать?
– Граф де Гебриан, мой могущественный союзник, к которому вас отвезут, подыщет вам надежную темницу, чтобы обеспечить ваше молчание.
– Что ж, пусть так! – как будто оживившись, проговорила Эглантина. – Какая разница, чьей пленницей мне быть – владетеля Замка Орла или графа де Гебриана. Я готова ехать хоть завтра…
– Нет, не завтра, милая моя.
Эглантину с ног до головы пронизала судорога.
– А когда?
– Нынче же ночью… прямо сейчас.
– Нынче ночью… прямо сейчас… о, нет, это невозможно!
– Невозможно? Почему же?
– Подождите хотя бы до завтра, мессир, умоляю!
Антид де Монтегю бросил на девушку подозрительный взгляд.
– Странное дело, – проговорил он.
И потом, уже громко, прибавил:
– Что за серьезная причина кроется за вашим желанием провести эту ночь в замке Орла? Чего вы ждете? На что надеетесь?
– Ничего не жду, мессир, и ни на что не надеюсь, – живо ответила Эглантина. – Да и чего мне ждать? На что надеяться? Мне всего лишь хотелось немного отдохнуть, я совсем обессилела, от усталости меня ноги совсем не держат.
– Отдохнете в шведском лагере. Потом, если вы не в силах идти, вас понесут…
– Кто же?
– Человек, которого я жду, он вами и займется.
– Но кто этот человек, мессир?
– Да вот он.
С этими словами Антид де Монтегю подошел к одной из двух картин, о которых мы уже упоминали, – тех, что висели справа и слева от входной двери в гостиную. Это был портрет в полный рост барона Гийома де Водри. Граф нажал на кнопку, спрятанную меж лепнины позолоченной рамы.
Послышался сухой треск разжавшейся пружины. Панель в стене целиком повернулась на невидимых петельных крючьях – за нею показался широкий проем, а за ним – непроглядная тьма.
– Капитан Брюне, – кликнул господин замка, – входите!
Из мрака потайного хода медленно возникла чья-то фигура – она сделала несколько шагов вперед и – вместо одного из головорезов Лепинассу перед Антидом де Монтегю будто выросла из тьмы высокая женщина, облаченная в жалкие лохмотья. При виде странной незнакомки Эглантина вскрикнула от испуга. Да и сам сеньор, невероятно удивившись столь нежданному явлению и подпав под власть местных суеверий, попятился назад.
– Что это значит? – прошептал он.
– Вы ведь не меня ждали, монсеньор? – бросила незнакомка.
– Кто вы, женщина?
– Я жалкая нищенка, все кличут меня Маги-ведьмой.
– Откуда вы набрались столь невероятной дерзости, что посмели проникнуть сюда и вынюхивать мои тайны?
– А что мне делать с вашими тайнами, монсеньор? Да и вынюхивать тут нечего: я уже давно все знаю.
– Вы?..
– С той самой ночи, когда в замке Шан-д’Иверов случился пожар, тому уж лет двадцать, я знаю имя Черной Маски.
Антида де Монтегю бросило в дрожь.
– Я могла бы продать это имя, монсеньор, – продолжала Маги, – однако, как вам известно, я этого не сделала.
– Но как… – продолжал граф, силясь подавить волнение, – как вы попали в замок? Откуда узнали про потайной ход? Кто открыл вам ворота?
– Могу вам сказать: я же ведьма. А еще – напомнить: ведьмы знают все-все, и запертые ворота да двери – им не помеха. Но я готова открыть вам правду.
– Говорите, говорите скорей!
– Вам знаком этот ключ, монсеньор?
И Маги показала владетелю замка Орла какой-то ключ.
– Да, – отвечал тот, – знаком. Он от потайного хода.
– И вы сами передали его тому, кого ждали сегодня к десяти часам вечера, – Брюне, ставшего единственным предводителем серых из Бюге, после того как Лепинассу прикончили в Сен-Клоде.
– Но как этот ключ, который я вчера собственноручно передал Брюне, сегодня попал в руки к вам?
– Очень просто, монсеньор… впрочем, это целая история. У вас есть время послушать?
– Рассказывайте, только не лгите.
– Я буду говорить одну только правду, монсеньор. Да и зачем мне лгать? Вы знаете Шарезьерский лес?
– Как свои пять пальцев.
– Так вот, нынче вечером, незадолго до того, как стало смеркаться, выхожу я на лесную опушку и чуть поодаль слышу страшный шум – лязг оружия, выстрелы, и все ближе да ближе. Я мигом в чащу, затаилась и давай смотреть. Гляжу, а там четверо бьются с двумя десятками серых. И вот через какое-то время трое из той четверки упали, а четвертый – вот лицо его не смогла разглядеть – знай не сдается, хоть и один остался. А после и он упал. Тут серые как накинутся на него… Ну а когда тот поднялся… вернее, когда его подняли, несчастный был уже связан по рукам и ногам. Серые соорудили носилки из своих мушкетов, уложили на них раненого и унесли с собой, и осталось их уже человек не то десять, не то двенадцать.
– Ну, – живо полюбопытствовал Антид де Монтегю, – вы так и не узнали, кого они захватили в плен?
– Нет, монсеньор, но, может, вы и сами скоро поймете…
– Продолжайте.
И Маги принялась рассказывать дальше:
– Потом несколько серых, вместе с носилками и пленным, свернули вправо. А остальные подались в другую сторону – и тут вдруг их окружили крестьяне, с полсотни человек, с мушкетами да вилами. Те бедолаги даже не сопротивлялись – и многие из них сразу прямо там и полегли. Остальные струхнули и давай бежать. Прошло несколько минут, и в Шарезьерском лесу снова была тишь да гладь. Единственно, в двух местах, где случились те стычки, на окровавленном мхе осталась лежать дюжина трупов… Я выбралась из чащи, где пряталась, и отправилась в знакомую пещерку – думала скоротать там ночь. Прошла, наверно, две-три сотни шагов и тут слышу – кто-то жалостливо так стонет. Я туда – на этот самый стон и чуть поодаль вижу: под деревом человек лежит, полумертвый.
– Ну и… – вскричал в нетерпении хозяин Замка Орла, – кто же этот человек?
– Я наклонилась к нему проверить, жив ли, потому как он уж и стонать перестал. А он услыхал это и открыл глаза.
– Вы добить меня пришли? – спрашивает.
– Нет, – говорю, – пришла вот помочь вам, ежели чем смогу.
– Бесполезно.
– Отчего же?
– Конец мне пришел…
– И не такие выкарабкивались…
– У меня три пули в животе, так что навряд ли.
Тут он весь как скорчится да как захрипит!.. И так с минуту. Я уж думала, вот-вот отдаст Богу душу. А он малость поутих, с трудом эдак приподнялся, вперился в меня и говорит:
– Сдается мне, я где-то вас уже видел. Вы кто?
– Маги-ведьма.
– Водишь дружбу с кониками?
– Ни с кониками, ни с серыми. Меня все шпыняют да обижают. Где уж тут друзей найдешь?
– Значит, вы вся такая несчастная?
– Да уж, самая что ни на есть.
– А хотите избавиться от всех своих бед?
– И как же это?
– Я могу сделать так, чтобы вас взял под свое крыло самый богатый и сильный сеньор из тутошних. Хотите?
– Почла бы за счастье. А что для этого нужно?
– Оказать услугу этому сеньору.
– А я смогу?
– Да.
– Что ж, я на все готова.
– Тогда, немедленно идите в Замок Орла. И скажите монсеньору Антиду де Монтегю, что вы пришли от имени капитана Брюне.
– Так вы и есть капитан Брюне?
– Да. И еще скажите, что я умираю, но по мере сил выполнил все, как он и наказывал. Передайте слово в слово: Отец с сыном от нас ускользнули, зато святой дух в наших руках – его препроводили в замок Клерво… Монсеньор все поймет. Хорошо запомнили?
– Да.
– Ах! – нежданно обрадовавшись, воскликнул Антид де Монтегю. – Он прямо так и сказал, женщина? Вы уверены, что он сказал именно так?
– Совершенно уверена, монсеньор, – ответствовала Маги.
– И что потом?
– Потом, – продолжала старуха, – я спросила его: – А как добраться до монсеньора, владетеля Замка Орла?
– Это просто, – сказал капитан. – Монсеньор ждет меня там к десяти вечера. Вот вам ключ, он от железной дверцы, спрятанной за кустами в одном из рвов замка, шагах в трехстах влево от Игольной башни. За дверью – подземный ход, длинный и узкий, за ним – лестница. Отсчитаете двести ступенек и дальше попадете в темный коридор, не очень длинный. Там, в конце коридора и будете ждать, когда монсеньор сам откроет потайную дверь к себе в гостиную, а панель той двери скрыта за портретом последнего барона де Водри.
– И все?
– Все. Только ничего не забудьте.
– Не беспокойтесь… ради своего счастья я уж как-нибудь постараюсь.
– Мои слова, знамо дело, успокоили вашего капитана Брюне… он закрыл глаза и, кажись, уснул. Тогда я приложила руку ему к сердцу – оно больше не билось. Стало быть, человек, которого вы так дожидались, монсеньор, почил тихо и мирно… Я тут же тронулась в путь-дорогу. Все время следовала указаниям вашего капитана Брюне… и вот я готова исполнить все, что бы вы мне ни велели, монсеньор, чем и надеюсь заслужить ваше высочайшее и могущественное покровительство.
– Можете на меня рассчитывать, женщина, мое покровительство, считайте, вам обеспечено, – отвечал владетель Замка Орла.
Все время, пока Маги вела свой долгий рассказ, Антид де Монтегю не сводил с мнимой ведьмы взгляда, исполненного сомнений и недоверия. Но под конец все его подозрения развеялись, и, когда она замолчала, он уже безоговорочно верил и ее словам и готовности оказать ему любые услуги. В конце концов, старуха ни разу не отвела глаз под пристальным взглядом сира де Монтегю.
Монсеньор сел и, как будто забыв, что он не один, глубоко задумался, принявшись размышлять над важной вестью, которая скрывалась за только ему одному понятной фразой Маги: Отец с сыном от нас ускользнули, зато святой дух в наших руках…
Что же до Эглантины, на эти слова она не обратила никакого внимания.
Покуда хозяин замка пребывал в глубокой задумчивости, девушка с любопытством разглядывала старуху, которая сперва сильно ее напугала, а теперь – по крайней мере она на это надеялась – должна была помешать графу осуществить задуманное. Чем внимательнее Эглантина приглядывалась к ней, тем более уверенной себя ощущала. В изменившихся чертах некогда красивого и светлого лица ведьмы она как будто угадывала выражение добросердечия и нежности, когда та украдкой поглядывала на нее. Девушке казалось, что у злой и жестокосердной старухи не может быть такого взгляда.
К тому же Монтегю рассчитывал, что Эглантину проводит в лагерь графа де Гебриана доверенный человек, а поскольку такого человека больше не было, ее отъезд из замка поневоле откладывался.
Между тем – как и догадывался Антид де Монтегю – у девушки были самые серьезные причины остаться на всю ночь в замке Орла, о которых мы с вами скоро узнаем. Таким образом, нежданное появление Маги-ведьмы, что ни говори, было ей на руку.
Но для надежды этого было мало – Эглантина хотела увериться в чем-то, и, улучив мгновение, когда господин граф, немного отвлекшись от раздумий, повернулся к ней, сделала шаг вперед и решительно сказала:
– Ну что ж, мессир, раз мне приходится подчиниться воле того, кто сильнее меня, я сдаюсь и согласна покинуть замок.
Потом, указав жестом и глазами на Маги, она прибавила:
– Значит, попутчицей мне будет эта женщина?
Антид де Монтегю пожал плечами и промолчал. Он пока не знал, на что решиться.
Маги подошла к Эглантине.
– Девочка моя, – обратилась к ней женщина мягким, почти ласковым голосом, – не бойтесь меня. Я хоть и стара, безобразна, сира и убога, что верно, то верно, но совсем не зла. На мне лохмотья и лицо мое некрасиво, но то, что внутри, дороже того, что снаружи. Когда человек судит быстро и строго, он зачастую ошибается. Ежели мне суждено быть вашей попутчицей и куда-то там вас проводить, я сделаю все исправно и обещаю: вам не придется на меня жаловаться.
– Вы никуда не пойдете этой ночью, – заметил в свою очередь Антид де Монтегю. – Я не могу доверить вас этой женщине. Сколь бы верной и усердной она ни была, вы запросто можете от нее сбежать. А значит, придется вам остаться в замке Орла до следующей ночи. Вы только что просили об отдыхе, что ж, волею случая придется мне исполнить ваше желание. Воспользуйтесь этими часами, ибо такая отсрочка будет последней.
– Мессир, – отвечала Эглантина, – завтра, как и сегодня, будет исполнена Божья воля, а не ваша.
– Поживем – увидим, – с неопределенной ухмылкой возразил сир де Монтегю. И позвонил в колокольчик.
В гостиную вошел тот же слуга, что привел пленницу сюда с час назад.
– Проводите девушку, – велел ему Антид, – да проследите, чтобы двери в ее покои были накрепко закрыты. Вы отвечаете за нее головой. Ступайте!
Потом, обращаясь к Маги, он прибавил:
– Останьтесь. Может статься, что очень скоро вы мне понадобитесь.
IX. Женская половина
Наши читатели не забыли – по крайней мере, мы на это надеемся, что, оставив на Водосборном дворе телегу с сеном, которую он доставил в замок, Гарба, вместе с волами, отбыл восвояси, звонко напевая свою песенку:
Над зелеными полями жаворóнок Крылышками машет и поет: люблю! В роще славка гомонит спросонок, Все порхает да свстит: фью-фью! Вот и мы, как ласточки, с тобой, Аки горлицы, томимые тоской: Любви не ведом благостный покой.Вслед за тем, покуда он спускался по откосу в долину, голос его и песенка мало-помалу стихали и в конце концов смолкли совсем.
Давайте же, с вашего позволения, вернемся на Водосборный двор. Его уже покинули и стража, и слуги, которые один за другим отправились сначала ужинать, а потом спать, так что на том дворе теперь царили мертвая тишина и непроглядная темень.
Прошло два часа, и за это время не было слышно ни единого шороха, ни звука.
Потом на телеге с сеном произошло то, что обычно происходит в чистом поле, когда из своей подземной норки на поверхность вылезает крот. Высушенная трава сперва чуть зашевелилась, затем будто вспучилась, из нее показалась голова, потом плечи, одно за другим, и вот из копны сена, в которой он таился до сих пор, выбрался человек, однако прежде он удостоверился, что его никто не видит и не слышит.
Какое-то время он сидел неподвижно на верхушке копны, а следом за тем соскользнул вниз и принялся разминать руки и ноги, утратившие гибкость за долгое время, что он провел без движения.
Наши читатели наверняка уже давно догадались, что именно таким дерзким способом Лакюзон и проник в Замок Орла. Во мраке на темном платье капитана мерцали три отблеска: во-первых – от бриллиантовой розы на медальоне, который он носил на шее на железной цепочке и с которым не расставался с той кинуты, когда этот медальон передал ему Пьер Прост в подвале Сен-Клодского аббатства; и – рукоятки заткнутых за пояс пистолетов.
Два окна гостиной, где в это время находился хозяин замка, выходили на Водосборный двор.
Сначала капитан удивился, увидев, что эти окна освещены, и подумал: может, осторожности ради прежде чем что-то предпринимать, ему стоит подождать, пока Антид де Монтегю не уляжется в постель и не уснет.
Но сеньор мог бодрствовать еще долго: ведь было только десять часов вечера, – и Лакюзон решил действовать немедленно.
Отношения, связывавшие предводителя горских партизан с графом де Монтегю, заставляли капитана не раз бывать в замке Орла, и расположение комнат он в основном знал неплохо. Он был убежден – и не без основания, – что Эглантину держат в женской половине замка, поэтому, определившись получше на месте и дав глазам привыкнуть к темноте, он направился к полуразвалившейся дверце, о которой мы уже упоминали, когда с некоторыми подробностями рассказывали о внутреннем устройстве замка.
Эту дверцу он отыскал без труда и, удостоверившись, что ее доски и впрямь трухлявые и шатаются, достал кинжал и попытался бесшумно их раздвинуть, чтобы получился узкий проем. Поначалу дело спорилось. Поверхность двери, изъеденная плесенью и полчищами прожорливых насекомых, легко поддавалась острию кинжала, но когда клинок добрался до сердцевины дерева, работать стало труднее – и в конце концов капитану, к глубокому его сожалению, пришлось признать, что эдак он и за всю ночь не управится. О том же, чтобы сбить замок, нечего было и думать. Тем более что он был врезан в дверь, а его крепкие задвижки наверняка глубоко уходили в камень.
Обескураженный неожиданно возникшим препятствием, капитан отступил на несколько шагов назад и стал пристально осматривать мрачный фасад здания в надежде найти хоть какую-нибудь лазейку, чтобы проникнуть внутрь.
Но, как мы знаем, на Водосборный двор выходила задняя стена дома – так называемой женской половины. И Лакюзон разглядел на ней лишь узкие отверстия: они располагались слишком высоко и к тому же были забраны тяжелыми крестообразными решетками.
– Боже мой, – прошептал он, хлопнув себя по лбу, словно для того, чтобы вышибить из головы хоть какую-то мысль, – неужели я напрасно забрался в логово зверя? Неужто мне никак не добраться до бедной девочки, ради которой я готов отдать свою жизнь?
И он принялся мерить неспешными шагами пространство вдоль стен, обступавших двор, словно ища в них выход, который не мог придумать сам.
Вдруг он наткнулся на нижнюю ступеньку лесенки, что вела на земляную насыпь.
– Ах, – чуть ли не в полный голос вскричал Лакюзон, – совсем забыл!.. Какой же я дурак!
И он мгновенно взлетел по ступенькам вверх.
Здесь, прямо на уровне насыпи, дорогу ему перегородила решетка. Она была заперта, но в замке торчал ключ, и, чтобы отпереть замок, Лакюзону нужно было всего лишь просунуть руку сквозь решетку. Ржавые петли жалобно скрипнули, издав звук, похожий на заунывный крик орлана. Этот неожиданный шум, вдруг вспоровший тишину, вполне мог поднять на ноги вооруженную стражу – и капитану пришел бы конец.
Лакюзон положил руки на рукоятки пистолетов и стал ждать.
Но никто не появился.
Через несколько мгновений капитан медленно, глядя в оба, выбрался на насыпь, рискуя наткнуться на стволы деревьев, которые едва различал в темноте, и вскоре беспрепятственно добрался до второй решетки.
Она оказалась открыта.
Капитан прошел через проем, благодаря Бога за нерадивость слуг, и оказался на пятачке, ограниченном с одной стороны господским особняком, а с другой – женским домом.
Одно из окон первого этажа этого дома было распахнуто настежь, несмотря на сильную стужу, – за окном, внутри, мерцал слабый свет.
«Она, должно быть, там, – подумал Лакюзон, – и ждет не дождется помощи».
Исполнившись при этой мысли смелости и надежды, он направился к главной двери, говоря себе – хоть бы снаружи в дверях, если они окажутся заперты, был ключ. Если же ключа в замке не будет, он подкрадется к окну и привлечет внимание Эглантины песенкой горцев, которую она хорошо знала и любила напевать.
Подойдя к двери, он с волнением и даже глубокой растерянностью обнаружил, что передняя дверь открыта. На верхней площадке лестницы, расположенной прямо напротив, мерцал свет, который был виден снаружи. Дверь в комнату первого этажа также оказалась открытой.
«Что это значит? – удивился Лакюзон. – Разве так владетелю Замка Орла пристало охранять своих пленников?.. А может, Эглантины здесь уже нет… или я опоздал?»
Ему и в голову не могло прийти, что старуха Маги его провела или сама дала маху. Во всяком случае, девушка, возможно, находилась в какой-нибудь дальней комнате женской половины. Возможно даже, что в открытой и освещенной комнате, на верхней площадке лестницы, затаилась стража…
Эти догадки, такие разные, казались ему если не верными, то по крайней мере допустимыми. Лакюзон хотел как можно скорее выяснить что к чему. Затаив дыхание, стараясь заглушать шум своих шагов и придерживая левой рукой эфес шпаги, чтобы случаем не задеть ею о стену, он двинулся вверх по лестнице, опираясь правой рукой на железные перила и останавливаясь на каждой ступеньке. Капитан напряг слух, чтобы быть готовым к защите при малейшей опасности и избежать любой неожиданности.
Кругом стояла все та же мертвая тишина – такое впечатление, что в доме не было ни души.
Лакюзон поднимался все выше – свет становился ярче и выглядел уже как блестящий круг на верхней площадке лестницы.
Молодой человек ступил в этот круг света. И снова остановился. Вокруг – по-прежнему тихо и никакого движения…
Он прошел дальше, приблизился к двери, прислонился к дверному косяку и медленно вытянул шею так, чтобы одним взглядом охватить комнату.
Там было пусто.
Лакюзон переступил через порог.
Обстановка комнаты, в которой он оказался, когда-то была роскошной, но со временем из-за плохого ухода от прежнего великолепия не осталось и следа.
Фрески с фигурами, покрывавшие стены, облупились и свисали тут и там лохмотьями, которыми голытьба обычно завешивает окна своих убогих лачуг в бедняцких кварталах больших городов. Моль изъела до самого основания некогда восхитительные, красочные, тончайшего плетения шерстяные ковры. Та же печальная участь постигла и обшивку кресел: она превратилась в тряпье.
Большая кровать с витыми колонками, под балдахином, увенчанным резным гербом Монтегю и Водри, тоже была источена червами и грозила вот-вот развалиться. Занавес из восточной шелковой камчатой ткани, некогда скрывавший ее, давно поблек и выцвел.
В очаге догорали последние уголья.
Рядом с камином помещались кресло и стол. На столе стояла маленькая, мерцавшая на сквозняке лампа – ее свет падал на раскрытую Библию.
Библия стала откровением для капитана.
Только Эглантина из всех гостей Замка Орла могла искать на страницах этой самой святой из всех книг силу и утешение, в которых девушка так нуждалась. Впрочем, этой мысли почти тотчас же нашлось подтверждение. Капитан заметил на ковре нечто похожее на драповую накидку – и тут же узнал ее. Он поднял ее. Это был его собственный плащ, в который, как ему помнилось, он сам закутал Эглантину, когда выносил ее из охваченной огнем лачуги в Пуайа.
Сомнений быть не могло – девушку держали в этой комнате. Вероятно, она покинула ее совсем недавно, поскольку ни огонь в камине, ни лампа не успели догореть…
Но где же сама девушка?
Капитану оставалось только думать да гадать.
Как мы знаем, в это самое время Эглантина находилась рядом с Антидом де Монтегю, и состоявшийся меж ними разговор мы привели в предыдущих главах.
Однако Лакюзон определенно напал на верный след и шел правильным путем. И Господь, который привел его сюда, конечно, не оставил бы его! То же самое сказал себе и капитан – он принялся искать дальше.
Напротив входной двери располагалась еще одна дверь, когда-то прикрытая гобеленом и теперь, когда он весь разъехался, проглядывавшая сквозь его лохмотья.
Лакюзон направился к этой двери и без труда открыл ее. Она вела в длинную анфиладу, опоясавшую всю женскую половину. Молодой человек, не посмев прикоснуться к лампе, огонек которой, возможно, не остался бы незамеченным снаружи, решил взять из очага горящую ветку – вместо факела, чтобы сподручнее было осматриваться в незнакомом месте.
Он уже было двинулся к камину, как вдруг ему почудились шаги на насыпи, за нижним окном.
Он замер, прислушался и скоро убедился, что ничуть не ошибся.
Шаги приближались. Кто-то подходил к лестнице.
Капитана взяло любопытство: ему очень хотелось посмотреть, что будет дальше, но так, чтобы при этом его никто не заметил. Он живо прошмыгнул за кровать с витыми колонками и затаился за полами занавеса. Он едва успел спрятаться в укрытии и тут же услышал, как внизу, напротив лестницы, затворилась дверь и как в здоровенном замке дважды скрежетнул тяжелый ключ.
«Ну-ну, – прошептал он, – жребий брошен… я тут прямо как ласка в голубятне… интересно, чем все это закончится?..»
Тем временем легкие шаги, должно быть, женские, послышались уже на лестнице – с каждым мгновением они становились все ближе.
У Лакюзона бешено заколотилось сердце.
В комнату вошла Эглантина.
Капитан уже хотел было выскочить из своего укрытия и, протянув девушке руки, воскликнуть: «Я здесь, сестра! Вот он я!»
Но чутье заставило его остановиться.
Конечно, в первую секунду Эглантина не сможет сдержать возгласа удивления, радости и волнения при виде своего друга и защитника. А охранник или слуга, что привел ее в темницу, мог быть совсем рядом, и он наверняка услышал бы ее крик. И, вероятно, решил бы узнать, в чем тут дело. В таком случае он поднимется обратно в комнату, и, застав Эглантину в явном смущении, сразу все поймет.
Лакюзону, чтобы все это обдумать, понадобилось куда меньше времени, чем нам, чтобы описать ход его мыслей, так что, не проронив ни звука, он остался там, где стоял.
У девушки был свежий цвет лица, глаза ее сверкали – ничто: ни взгляд, ни походка – не выдавали в ней ни грусти, ни уныния. Эглантина подошла к столику и стала перед ним на колени, потом, взяв в свои маленькие ручки огромную Библию, поднесла священную книгу к устам и страстно поцеловала раскрытые страницы: в ее поцелуе угадывалась и мольба, и изъявление благодарности.
Вслед за тем она поднялась и, спешно пройдя через всю комнату, подошла к окну, у которого уже провела не один час. Ее взгляд, казалось, был устремлен сквозь тьму, а уши словно внимали малейшему дуновению ветра, ничтожному шуму.
Дело в том, что некоторое время тому назад до ее слуха долетели слова простенькой брессанской песенки, которую напевал Гарба, и слова эти, пронзив стены ее темницы, как торжественный гимн, послужили ей сигналом, вселяющим в сердце надежду на избавление.
Верно, аляповатые рифмы, непритязательная мелодия сказали ей совсем не то, о чем на самом деле была эта песня: вместо безвкусных буколик[56], которые пастух напевает пастушке, она совершенно ясно услышала такие слова: «Друзья знают, где вы, они защитят вас, они здесь, совсем рядом с вами… А значит, надейтесь и ничего не бойтесь!»
Девушка сразу ожила и утешилась и с той самой минуты стала ждать, зная наверное, что ожидания ее оправдаются.
Помнится, когда Антид де Монтегю сообщил Эглантине, что ей придется покинуть замок нынче же ночью, ее охватил невыразимый страх. Девушке казалось, что для нее начнутся новые, куда более тяжкие, испытания, нежели сейчас, и что, если она покинет замок, друзья-освободители, возможно, потеряют ее след. Кто знает, смогут ли они вообще когда-нибудь ее разыскать…
Ее смелость, непреклонность перед волей Антида де Монтегю и радость при встрече с Маги, появление которой она истолковала как добрый знак, – все это было результатом стараний Гарба.
Его голос впервые донесся до нее с Водосборного двора.
«Они здесь! – заверяла себя она. – Они придут за мной, раз я сама не в силах прийти к ним…»
С тех пор она не отлучалась от окна, откуда открывался вид на Илайскую долину, хотя левая сторона Игольной башни отчасти и закрывала его.
«Оттуда, да-да, – тешила себя мыслью Эглантина, – оттуда должен прийти новый сигнал. Только бы не пропустить его… Только бы услышать!»
X. Снова вместе
И этот сигнал к освобождению, этот долгожданный призыв прозвучал, но пришел он совсем не с той стороны, с какой его надеялась услышать девушка.
Как только слуга запер наружную дверь и отошел подальше – капитан выглянул из-за полога, за которым прятался, и приглушенным голосом шепнул одно лишь слово:
– Эглантина!
Девушка тотчас обернулась и широко раскрытыми от изумления глазами посмотрела туда, откуда послышалось ее имя.
Она увидела Лакюзона, и от радости у нее затрепетало сердце – ее душа, вся без остатка, в порыве глубочайшей, высшей благодарности обратилась к Богу.
Опасность живо учит осторожности. Эглантина нашла в себе силы не произнести ни звука. Девушка поднесла палец к губам, прося и капитана хранить молчание и, вместо того чтобы броситься ему на шею, вернулась к окну и выглянула наружу, дабы увериться, что слуга убрался восвояси. Убедившись же в этом, девушка закрыла окно и, уступив наконец порыву, переполнявшему ее сердце, кинулась в объятия капитана – положив голову на грудь молодому человеку, она прошептала:
– А вот и ты!.. Вот и ты наконец, мой брат, друг и спаситель!
От прикосновения очаровательной головки и длинных шелковых волос юной красавицы, которую еще совсем недавно он любил скорее как пылкий любовник, чем нежный брат, Лакюзон почувствовал, что у него замирает сердце, его самого охватывает дрожь и кровь в его жилах то стынет, то вскипает.
Но мы уже знаем, что у Лакюзона была железная воля. Он велел сердцу успокоиться, огню в крови погаснуть, а льду – растопиться. В ту же минуту мысли и чувства его улеглись – и теперь наш капитан видел в Эглантине лишь невесту Рауля де Шан-д’Ивера.
– Да, дорогая моя девочка, – ответил он с легкой дрожью в голосе, которая, впрочем, была едва ощутима, – да, это я, твой друг и брат, но пока не спаситель. Прежде чем заслужить это звание, я должен вызволить тебя из Замка Орла.
– А мы сумеем?
– Ну конечно! Я надеюсь и рассчитываю на это! Я же пришел сюда… а кто сумел прийти, тот сможет и выйти – так подсказывает здравый смысл. Хотя дело это, признаться, не из легких.
– Ах, – восторженно воскликнула Эглантина, – капитану Лакюзону по силам все, даже невозможное!
Лакюзон рассмеялся.
– Ты говоришь, как все, дорогая девочка, – заметил он вслед за тем.
– И все вправе так говорить, потому что это правда! – возразила девушка.
– Надеюсь, события нынешней ночи не изменят этой всеобщей веры, сделавшей из меня не иначе как героя рыцарских романов. Надеюсь, удача не изменит мне впервые жизни. С тех самых пор как горец Жан-Клод Прост стал капитаном Лакюзоном, ни одно предприятие так горячо не желал я довести до успешного конца!
– Полно! Уж будь покоен, за твой успех я ручаюсь! Господь на нашей стороне. И нынче вечером я получила тому доказательство… и еще получу, и еще…
Капитан снова рассмеялся, глядя на Эглантину, такую доверчивую и такую восторженную.
– А теперь, дорогая девочка, расскажи-ка мне скорей, что произошло с тех пор, как тебя похитили и как я тебя здесь разыскал.
– Нет, – прошептала Эглантина, опуская глаза, – сперва ты расскажи, что с моим отцом… что с Раулем.
– Отец твой спасен, – ответил Лакюзон, прибегая к благой лжи, дабы избавить девушку от еще больших горестей, – Рауль в Гангоновой пещере вместе с Варрозом и Маркизом… Господь чудом уберег его от почти неминуемой гибели.
– Да будет благословен Господь! Вот видишь, значит, я права, если говорю, что он нам помогает.
– Но ты, ты-то сама?..
– Да что, мне и рассказывать-то почти нечего. Случился пожар, я потеряла сознание. А ты меня спас, так?
– Так. Рауль тоже хотел броситься в огонь, чтобы ему помешать, Гарба и Железной Ноге пришлось удерживать его изо всех сил.
– Я с нежностью признательна вам обоим, – проговорила Эглантина, пожимая Лакюзону руку. – Когда я очнулась, – продолжала она, – прошел, конечно, не один час, потому что было уже темно… какой-то чужак привязал меня к крупу своей лошади и мы куда-то помчались с невероятной скоростью. Мне хотелось кричать – позвать на помощь. А тот тип поворачивается ко мне и говорит: «Только посмей рот открыть, мигом порешу!» Судя по тону, каким он это сказал, я поняла, что он не шутит. Мне совсем не хотелось умирать, я надеялась на Бога и на тебя. И всю дорогу молчала… Потом мы прибыли в Замок Орла, и тут-то я поняла, что попала в руки к Антиду де Монтегю – тот тип доставил меня прямиком к нему.
– В руки к Антиду де Монтегю… – повторил капитан. – Значит, все так и есть: хозяин Замка Орла – изменник!
– Притом самый подлый и презренный, который к тому же кичится тем, что ты об этом и не подозреваешь.
– Что же нужно этому негодяю? Какую выгоду он ищет в предательстве? Верно, думает, что Людовик XIII с Ришелье отдадут ему Франш-Конте! Но виданное ли дело – чтобы сын продал родную мать! Что ж, придется нам поквитаться с вами, сеньор владетель Замка Орла, и расплата вас ждет страшная! Вы кровью за все заплатите!
Вслед за тем, после короткой, исполненной негодования паузы Лакюзон продолжал:
– Но всему свое время. А пока надо бежать отсюда…
– Да-да, бежать… – вторила Эглантина, – но как? Мы здесь под замком, а если и выберемся на эспланаду, то наткнемся на запертые ворота, да и мосты никто не станет ради нас опускать…
– Ну да, я же говорил, дело это не из легких и к тому же опасное. И все же я кое-что придумал.
– Что?
– Там, где кончается дозорный путь, со стороны дороги из Лон-ле-Сонье в Морез, стена не такая высокая. Она стоит на скале, и в ее основании есть узкая площадка. Сможем спуститься на эту площадку, считай, полдела сделано, потому как скала там неотвесная и от основания стены ее склон спускается прямо в долину. К тому же там полно трещин, что-то вроде ступеней.
– Да, но как мы спустимся на твою площадку?
– Все предусмотрено, вот, взгляни!
Капитан распахнул камзол и показал девушке длинную, тонкую веревку, которой он обмотался.
– Видишь, – продолжал он, – это ж детская забава, а ты боялась. Привяжем веревку одним концом к зубцу стены и спустимся вот по этим узелкам – лучшей лестницы и не сыщешь. Словом, плевое дело… но меня куда больше беспокоит другое.
– Что же?
– Меня тревожит свет, что горит в покоях монсеньора. Что может делать в такой час Антид де Монтегю?
– Я была как раз у него, когда ты проник сюда. Он послал за мной, потому как хотел объявить, что я должна буду незамедлительно покинуть замок и после меня передадут в руки графа де Гебриана. Тогда-то, как я уже тебе говорила, я и почувствовала, что Господь-заступник где-то рядом.
– Почему же Антид де Монтегю изменил свое решение?
– Человека, моего провожатого, которого он ждал, убили несколько часов назад.
– Как его звали, знаешь?
– Да. Его звали Брюне.
– Брюне!.. Предводитель серых из Бюге?
– Он самый.
– Значит, говоришь, его убили?
– Да, несколько часов назад, в Шарезьерском лесу.
– Кто же принес весть о его гибели в Замок Орла?
– Какая-то старуха, назвалась ведьмой и сказала, что перед смертью Брюне послал ее вместо себя в Замок Орла.
– Старуха, назвавшаяся ведьмой! – удивленно воскликнул Лакюзон. – А как ее звать?
– Маги, кажется.
– Ах, слава богу! То-то и странно, даже невероятно.
– Что же тут такого?
– Я же наказал Маги-ведьме дожидаться моего возвращения в Гангоновой пещере.
– Да нет, точно говорю, она сейчас у Антида де Монтегю.
– Что она делает в замке Орла? Хочет нам помочь или сыграть против нас?
– Я сперва подумала, что она служит монсеньору, но скоро поняла, что она с ним даже не знакома. И все время, пока мы стояли друг напротив друга, она как-то странно смотрела на меня, просто не сводила глаз. Она что, меня знает?
– Да, конечно, Маги знает тебя. Она-то и подсказала мне, как сюда пробраться.
– Она?! – в полном недоумении проговорила Эглантина.
– Не верю, что Маги хочет нас предать, – продолжал капитан, – тем более что она предана нам безгранично. Она и так оказала нам немало услуг: спасла Рауля и привела его в Гангонову пещеру. Его ранили, когда он тебя защищал, и, если б не Маги, наверняка бы погиб и не смог до нас добраться.
– Как! – в порыве радости воскликнула Эглантина. – Это она спасла Рауля? Какая добрая, достойная и прекрасная женщина! Неудивительно, что, как только я первый раз увидела ее, чутье подсказало мне, что ей можно довериться. В душе я даже поблагодарила ее за услугу, которую она мне оказала. А ты еще сомневаешься! Как же так? Она спасла Рауля, а ты в ней не уверен? Ох, нехорошо это.
– Ты права, – ответил капитан, – и теперь я, как и ты, полностью доверяю Маги. Она помогла мне попасть сюда, она даже хотела сама идти со мной для верности. А то, что мне пока кажется странным и необъяснимым, думаю, позже разъяснится. Как-нибудь она непременно раскроет мне тайну, которую так тщательно хранит.
– Ах, – проговорила девушка приглушенным голосом, приближаясь к капитану, – этот замок – не самое подходящее место для разговоров о вашей тайне.
– Почему же?
– Потому что тайн здесь и без того хватает, как во всех старых замках с привидениями, о которых в деревнях долгими зимними вечерами рассказывают всякие небылицы.
– Что ты хочешь сказать?
– Я провела здесь только один день и одну ночь, но такого понаслышалась!..
– Чего же, девочка моя?
– Днем – непонятные стоны, душераздирающий плач… и все доносится как будто из-под земли. Вечером в Игольной башне кто-то затягивает горестную балладу жалостливым, слезным таким голосом. А ночью призрак, бледный как смерть, во всем белом появляется на площадке той башни.
– Призрак?
– Да.
– Ты его видела?
– Да. Почти сразу послед того, как я услыхала, как поет Гарба, этот призрак стал медленно расхаживать туда-сюда по насыпи, под деревьями, и так битый час. Иногда он останавливался перед решеткой, словно для того, чтобы потрясти ее, а потом сызнова принимался бродить, медленно и одиноко.
– Значит, – прошептал Лакюзон, – значит, все это не сказки… выходит, народная молва тут оказалась права. Призрак Игольной башни существует на самом деле. И это, должно быть, женщина – она живет здесь и страдает… А глухие стоны из-под земли – это наверняка отголоски других мук и злодеяний.
После недолгого молчания капитан с яростью прибавил:
– Ах, граф де Монтегю, благородный сеньор, владетель Замка Орла и разбойник! Придет день – и, быть может, скоро, и я вернусь в твой замок! Вернусь со шпагой в одной руке и факелом в другой, и уж тогда-то твои подземелья откроют мне все свои тайны… Нужно пролить свет на кровавое прошлое во что бы то ни стало!.. Да, – продолжал он после очередной паузы, – час мести пробьет непременно… но час этот пока не настал… Сейчас же надо решить, как выбраться отсюда. Я мог бы спустить тебя из окна по веревке, но, думаю, здесь должен быть выход попроще. Ты была в других комнатах на этой половине?
– Нет, не посмела. Я даже не выходила из своей комнаты.
– Ладно, тогда вместе поглядим – может, и найдем что-нибудь подходящее.
Капитан взял со столика лампу, открыл дверь и повел за собой Эглантину через анфиладу, где царило полное запустение. В последней комнате внутренняя дверь выходила на лестницу, вырубленную прямо в стене. «Вот, наверно… – подумал капитан, ступая на первую ступеньку, – вот эта лестница и выведет нас на Водосборный двор…»
И он не ошибся.
Спустившись по длинной череде ступеней – двор располагался ниже уровня насыпи, – капитан и девушка вышли к полусгнившей двери, которую он тщетно пытался открыть с другой стороны. Здесь не было ни ключа, ни замка, зато была пружина, а кроме нее две задвижки, глубоко врезавшиеся в стену.
Лакюзон потянул щеколды.
– Надо погасить лампу, а то как бы она нас не выдала, – сказал он Эглантине, – а потом я отожму пружину.
Девушка задула фитиль, и он задымился. Капитан отжал ржавую железку. Послышался скрежет. Дверь отворилась.
Лакюзон просунул голову в приоткрытую щель. Осмотрелся и прислушался, прежде чем ступить во двор.
Там было тихо и как будто пусто.
Только в окнах покоев монсеньора по-прежнему горел свет.
– Пошли, девочка, – сказал Эглантине капитан и прошмыгнул во двор. – Иди за мной, и главное – без шума, чтобы земля заглушала шаги. Идти будем, как тени. Малейшая оплошность – пиши пропало…
Девушка вышла следом.
Едва она переступила через порог, как от порыва ветра, а ночами в здешних горах он всегда крепкий, дверь с шумом захлопнулась.
– Какой же я дурак! – пробормотал Лакюзон. – Силен задним умом, а ведь надо было сперва отодрать эту чертову пружину. Случись тревога – и на нас нападут, деваться некуда. Да и путь назад отрезан… Дурак!.. Дурак набитый!
Однако досада – плохая помощница в делах. Лакюзону пришлось смириться с тем, что случилось, и он прибавил:
– В конце концов, так, наверно, было угодно Богу. Корабли наши сожжены. А нужда – мать дерзости и удачи. Идем!
Он взял Эглантину за руку и с предельной оглядкой повел ее к сводчатому проходу, что выходил на дозорный путь.
Там капитан остановился.
– Надо все предусмотреть, – сказал он и начал снимать веревку, которой обмотался, соорудив себе некое подобие панциря, который прикрывал его от пояса до подмышек. – На дозорном пути караульных мы не встретим, а вот на стене, в том месте, где я думаю спускаться, можем на одного из них и наткнуться. Тогда придется пустить в ход кинжал. Если караульный позовет на помощь, нас загонят в тупик. Тогда я привяжу веревку к ограде, чтоб спустить тебя при первом же сигнале тревоги. А сам постараюсь отбиться и потом как можно скорее тебя догнать…
Тут Лакюзона прервал внезапный, неожиданный шум – капитан содрогнулся.
Это трубили в рог – звук донесся со стороны главных ворот замка.
XI. Водосборник
– Что бы это значило? – прошептал капитан. – И что за гость мог пожаловать в Замок Орла в такой час?
– Прошлой ночью, – отвечала Эглантина, – тоже трубили в охотничий рог, как сейчас, но только позже, за полночь. Потом открылись ворота, и через несколько минут во дворе, где мы сейчас, собралась целая толпа латников и слуг с лошадьми. Думаю, вскорости здесь будет то же самое… Здесь нельзя оставаться. Надо скорее прятаться.
– Но где? Дверь в женскую половину закрыта. А больше бежать некуда.
– Скорей же, скорей! – в страхе бормотала девушка. – Слышишь, скрипят цепи подъемных мостов – их уже опускают.
– Может, еще успеем добраться до крепостной стены?
– Не успеем. Всадники прибудут сюда через дозорный путь и сводчатый проход.
– Что же делать? – спросил капитан, словно обращаясь к самому себе и чувствуя, что их положение становится безнадежным.
Его бросило в дрожь от страха, но не за себя, а за Эглантину.
– Что же делать?.. – повторял он, мечась по Водосборному двору в поисках хоть какого-нибудь выхода, который все никак не мог найти. – Что же?.. Что?..
Вдруг его взгляд упал на отверстие в водосборнике, давшем название этому двору; по кругу оно было огорожено каменной кладкой с железными перилами сверху.
– Мы спасены! – крикнул он.
– Спасены! Но как? – удивилась девушка.
– Монсеньор, помнится, не раз говорил, что даже во время сильнейших ливней вода не поднимается в водосборнике выше двух-трех футов.
– Ну и что?
– А то, – отвечал капитан, хватая лестницу, приставленную к навесу, под которым в непогоду разгружали телеги с провиантом, – что я спущусь внутрь, а никому и в голову не придет, что там кто-то может прятаться. В конце концов, приму прохладную ванну, только и всего. Когда буду внизу, ты отнесешь лестницу на место, а после, когда все уляжется, принесешь ее обратно и спустишь мне.
– А я, – спросила Эглантина, – как же я?
– А ты поднимешься по той лестнице, что ведет на насыпь… решетка там, наверху, открыта. Я недавно сам пролезал через нее. Среди деревьев растут самшитовые кусты. Ты там спрячешься и вернешься, лишь когда все успокоится.
– Но почему бы тебе не пойти со мной, вместо того чтобы лезть в эту каменную дыру?
– У меня есть на то самая серьезная из всех причин. Если, не ровен час, кто заметит – а это вполне возможно, – что ты куда-то подевалась, тебя кинутся искать… И пусть найдут. Пусть снова водворят в твою темницу. Иначе и быть не может, а я тогда уж как-нибудь постараюсь вернуться за тобой во второй раз. Если же, напротив, нас с тобой схватят вдвоем, Антид де Монтегю ни за что не пощадит меня – ведь я его раскусил, – он велит своим слугам убить меня как бешеного пса, и тогда мы с тобой оба пропали.
– Твоя правда, – молвила девушка, – давай быстрее полезай вниз!
Лакюзон, пока объяснял Эглантине что к чему, успел опустить лестницу в водосборник. И после того как услышал ответ девушки, быстро заскользил по перекладинам вниз.
Когда он уже спустился до воды, ему пришла в голову мысль согнуться и ощупать руками стены вокруг: вдруг там окажется какой-нибудь выступ, на котором можно сидеть или стоять, чтобы не опускаться по колено в воду или ил, тем более в такой-то холод.
И случай, как ни странно, снова улыбнулся ему.
Правой рукой он нащупал нечто наподобие карниза, узкого и скользкого, который шел по всему внутреннему кругу водосборника.
– Тяни лестницу! – сказал он, примостившись поудобнее на этом карнизе.
Эглантина повиновалась, и Лакюзон оказался один в странном положении, в какое, думается нам, ни один искатель приключений не попадал за всю свою жизнь, полную всевозможных опасностей. Капитан был крайне обеспокоен тем, как обернется его нежданное вторжение в Замок Орла. Не считая очевидной опасности для Эглантины, как и для него самого, не считая исключительной ответственности, какую он взял на себя, бросив своих верных горцев, в чьих рядах, в случае гибели их предводителя, неизбежно наступит разлад, – мысль об очевидной измене Антида де Монтегю буквально разрывала капитану сердце.
Измена!..
Уже одно это слово порождало череду губительных сомнений. Оно вынуждало остерегаться каждой тени и, хуже того, беспорядочно и необдуманно подозревать самых близких друзей, самых верных товарищей – наконец, всех тех, кому раньше беззаветно и заслуженно доверял!
И то верно, до сих пор всякий, кто считал себя свободным гражданином свободной Франш-Конте, всегда доказывал свое право на это; и ни одна ветка до сих пор не была отломана от этого великого древа. Везде и всюду верность и патриотизм росли и крепли под гордым девизом, начертанным на отороченном горностаевым мехом бретонском гербе: «Potius mori quam fœdari!»[57].
И вот она рядом – измена!
И первым, кого поразила эта зараза, оказался выше всех: то была правая рука живого символа франш-контийской свободы.
Неужто знать вдруг отошла от героического дела, которое до сих пор поддерживала ценой как своего золота, так и собственной крови?.. Неужели отступничество будет всеобщим?.. И кто знает, не последуют ли другие тлетворному примеру Антида де Монтегю, первого и пока единственного, кто дерзнул поднять уродливое знамя измены?.. Как же теперь крестьянам с равнины и гор, обездоленным и разоренным войной почти до крайности, избежать тайного влияния, во власти которого оказался их богатый и могущественный сеньор?.. Отдав делу служения родины столько сил и веры, казалось бы незыблемых, Антид де Монтегю продался!.. А что, если эта порча, забравшаяся так высоко, сползет ниже и проникнет в самые мелкие кровеносные сосуды, питающие главную народную артерию?
На кого же теперь было положиться капитану?
А что, если и в ряды партизан затесались изменники?..
Вот о чем размышлял Лакюзон, оказавшись в полном одиночестве и кромешной тьме: последние события придали его мыслям совсем иной ход.
Водосборник, где наш герой нашел временное убежище, был сооружением, совершенно необходимым в замке Орла, расположенном на вершине горы и, подобно всем крепостям, рассчитанном на долгую осаду. Здесь нужен был не просто колодец, а огромное хранилище воды, чтобы обеспечивать нужды многочисленного гарнизона в течение многих дней, а то и недель.
Жан де Шалон во время строительства замка позаботился о том, чтобы пробить в скальной породе огромный колодец – сводчатое подземелье, занявшее все пространство между стенами двора. Основание площадки было специально сделано под уклоном со стоками для дождевой воды, бежавшей по ним в отверстие хранилища, а оттуда она потом растекались по четырем водопроводам в разных направлениях.
Попав в просторный, но не очень глубокий сводчатый водосборник, кропотливо и постепенно вырубленный в граните с помощью зубила, вода отстаивалась, оставляя на дне ил и прочие примеси, и обретала свежесть и хрустальную прозрачность родниковой.
Вдоль гранитных стен, по кругу, каменщики вытесали карниз высотой фута два, который если и затапливало, то лишь во время осенних и весенних ливней.
Стоя на этом карнизе и полностью укрывшись под сводом, нависавшим над его головой, Лакюзон оставался незамеченным – его не нашли бы ни слуги, ни латники, если бы вдруг всем скопом бросились его разыскивать… Так он мог спокойно предаться одолевавшим его безрадостным раздумьям, причину которых мы открыли нашим читателям чуть раньше.
Но так уж вышло, что события этой ночи, казалось бы, самые что ни на есть невероятные, развивались с поистине головокружительной быстротой, и раздумья капитана были прерваны самым неожиданным образом.
Прошло всего лишь несколько минут после того, как Эглантина убрала лестницу.
Поверхность воды, поначалу бурно всколыхнувшаяся, мало-помалу разгладилась – эхо слабых всплесков, разносившихся под сводами подземелья, и потом угасших, тоже стихло.
Внезапно внимание капитана привлек довольно странный шум – когда он заслышал его, на лбу у него, скажем прямо, выступил холодный пот.
За скалой, о которую он опирался, послышались глухие, прерывистые стоны и плач.
В первое мгновение он постарался уверить себя, что это ему всего лишь почудилось, и, чтобы окончательно убедиться в этом, он весь обратился в слух.
Стенания прекратились.
А вслед за тем опять раздался протяжный, душераздирающий плач.
Все сомнения разом развеялись. Где-то здесь, совсем рядом, находилось бедное существо, и оно страдало: наверное, то была одна из жертв постыдной жестокости господина Замка Орла – в ином случае ничего не оставалось, как принять на веру невероятные россказни франш-контийских крестьян об этом проклятом замке.
Жалобы, плач, стоны и причитания сопровождались другим звуком, тоже совершенно четким. Можно было подумать, будто по узкому подземному проходу медленно движется человек, задевая одеждой и хватаясь руками за гранитные стены.
Все это происходило чуть поодаль от того места, где в полной неподвижности затаился охваченный невыразимым волнением Лакюзон, на голову которому со свода монотонно капала вода.
Тут капитан вспомнил слова Эглантины, которая говорила, что тоже слышала, как из-под земли доносятся какие-то странные звуки.
«Или я стою на пороге страшной тайны, – сказал себе он, – или монсеньор де Монтегю намеренно подогревает здешние суеверия и предрассудки, затевая все эти ночные представления с призраками…»
Впрочем, последнее предположение казалось самым невероятным, поэтому Лакюзон сразу же его отбросил. К тому же сомневаться ему оставалось недолго: чуть слышные, будто приглушенные, шаги приближались.
Наш капитан был не робкого десятка – но он был франш-контийцем и горцем и жил в XVII веке. А значит, он был суеверным.
Когда таинственные шаги и шорох прикосновений чьих-то рук к камню зазвучали четче и ближе, его охватила неописуемая тревога, по телу пробежала дрожь, волосы встали дыбом, и, точно по Священному Писанию, лица его коснулось дуновение…
Ему захотелось бежать, но куда? – К тому же ноги его, скованные страхом, будто приросли к карнизу, на котором он стоял.
Вдруг шаги стихли…
Руки капитана коснулась пола одежды…
Лицо обдало теплым дыханием, и ему показалось, что на него уставилась пара ярких, сверкающих глаз.
В то же время тусклый голос, лишенный всяких интонаций, похожий на голос лунатика в забытьи, медленно спросил его:
– Кто вы?
Капитан, смекнув наконец, что перед ним живой человек, а не призрак, почувствовал, как мигом избавился если не от галлюцинаций, то по крайней мере от страха.
Но человек, обратившийся к нему, мог быть врагом – взявшись на всякий случай за кинжал, Лакюзон проговорил в ответ:
– А вы-то сами кто, вы, говорящий со мной?
– Вы разве не знаете? – прошептал голос.
– Нет, не знаю.
– В таком случае что вы здесь делаете? Зачем было будить узника?
– Что? – воскликнул капитан. – Вы узник?
– Не заговаривайте мне зубы, – продолжал незнакомец. – Если вас подослал Антид де Монтегю, владетель Замка Орла, мой тюремщик и палач… если вам приказали оборвать мое горькое существование, что ж, я готов – нанесите свой последний удар, я жду! Перед смертью я не стану вас проклинать, напротив, я вас благословлю, ибо рука убивающая дарует и свободу…
Потрясенный до глубины души, Лакюзон уж было собрался отвечать, но тут услыхал у себя над головой – на Водосборном дворе – лязг оружия и цокот лошадиных копыт.
– Тише! – живо прошептал он. – Тише!
– Да кто вы такой? – снова вопросил голос.
– Ваш спаситель, возможно. Только, во имя Неба, тише! Я здесь прячусь. Если меня обнаружат, мне конец.
– Идемте! – позвал незнакомец.
– Куда?
– Ко мне в темницу.
– Но… – пробормотал капитан.
Лакюзон почувствовал, как его схватили за руку и потянули. Он не сопротивлялся и, сделав несколько шагов по карнизу, вошел в узкий и низкий проем, который вел к незнакомцу в темницу.
– Вот и пришли, – сказал тот. – Здесь, почти у ваших ног, есть вязанка соломы. Садитесь, если угодно. Здесь не так холодно, как в водосборнике, впрочем, вы еще молоды и полны сил, так что вам нечего бояться холода.
– А вы почем знаете, что я молод и полон сил? – удивленно вопросил капитан.
– Я вас вижу.
– Тут же темно, хоть глаз выколи!
– С тех пор как я живу в вечном мраке, глаза мои привыкли к темноте, как у совы или орлана.
– И давно вас здесь держат?
– О, очень давно. Двадцать лет.
– Двадцать лет!.. – ужаснулся Лакюзон.
– Одна только мысль, что мне пришлось страдать здесь целых двадцать лет, уже ввергает вас в ужас, не так ли, юноша? И вы наверняка спрашиваете себя, как человек, которого Бог создал для света и свободы, мог вынести нескончаемые муки столь долгого плена и не умереть? Да, я мучился… О, как же я страдал! Сильнее узника, а может, и сильнее мученика! Часто, а вернее, почти всегда, у таких узников плоть живет дольше разума: долгое одиночество оборачивается безумием или полным отупением. Тело же зависит лишь от материальных потребностей и физических страданий – но все это пустяки! Если утрачены душа и разум, человек сам себя не помнит, ни о чем не сожалеет и ничего не ждет – он счастлив!
Голос незнакомца, лишенный, как мы уж говорили, интонации, постепенно менялся, наполняясь то горечью, то умилением, и наконец с последним словом несчастный зарыдал. После недолгого молчания незнакомец со все возрастающей силой продолжал:
– Да-да, таков общий закон!.. Оставляя в живых плоть, темница губит душу. Слабоумие или потеря рассудка – вот, повторяю, удел узника. И тем не менее я стал жалким исключением из этого нерушимого правила. Душа, разум, дар мыслить – все не только уцелело во мне, но и обострилось. Я сохранил все-все: память, способность сожалеть, ждать и ненавидеть… особенно ненавидеть! А знаете, почему за время долгих часов отчаяния, когда смерть кажется узнику величайшим благом и самым желанным прибежищем… знаете ли вы, почему я не поддался сильнейшему искушению разбить себе голову о стены моей темницы? Потому что ненависть давала мне силы жить дальше, она заставляла меня поверить, что, быть может, когда-нибудь в далеком будущем я смогу отомстить… Так тянулись часы, дни… и годы. А случай отомстить все не представлялся – долгожданный час бесконечно откладывался. И все же я продолжал цепляться за жизнь, ведь сердце мое переполняла ненависть, а ненависть оживляет надежду!..
Незнакомец смолк, задыхаясь от сильнейшего волнения, которое переполняло его.
– Молодой человек, – снова заговорил он через несколько мгновений, хватая капитана за руки и тряся их, точно в лихорадке, – моя необузданность, должно быть, удивляет вас, поскольку вы вряд ли меня когда-нибудь поймете. Да и как вам понять? Как же мне объяснить вам все на вашем языке – мне, который если и подавал голос, то лишь для того, чтобы взывать к Богу, который меня совсем не слушал, или проклинать моего палача, который меня не слышал! Я уже не знаю, на каком языке нужно разговаривать с людьми. Двадцать лет я не видел ни одного человеческого лица, даже своего тюремщика, ибо окошечко, через которое мне швыряют кормежку, открывается лишь наполовину… Вот уже двадцать лет никто не протягивал мне руки, и я потерял всякую надежду на это счастье. И Господь вдруг послал его мне сегодня, дозволив пожать дружеские руки, ведь вы же мне друг, раз называетесь врагом владетеля Замка Орла!
– Да, он мой враг, – отвечал капитан, – и самый заклятый из всех врагов!
– Только после меня… – прошептал узник.
– И ненависть моя непримирима, – продолжал Лакюзон.
– Как и моя… – подхватил незнакомец.
– И скоро, с Божьей помощью, кровавый счет будет сведен.
– Да исполнятся ваши слова! – продолжал незнакомец. – И да будет и мне дарована возможность вместе с вами предъявить владетелю Замка Орла мой кровавый счет! Ах, да свершится моя месть, а дальше пусть меня ждет смерть! Слово дворянина, если я умру отмщенный, то в смерти своей буду счастлив безмерно!
– Мессир, – сказал капитан, пожимая в свою очередь руки узнику, – вы только что спрашивали, кто я такой. И я не ответил. Если я не назвал вам свое имя и если не называю его сейчас, не думайте, что это из-за недоверия к вам или чувства себялюбия. Безбожники и безумцы верят в слепую силу, которую они называют случаем. Я же верю в проявление божественной воли, которую называю Провидением. Ведь это Провидение свело меня с вами. И я вызволю вас, мессир. Верну вам свет и свободу. Но прежде мне надобно позаботиться о той, кому я пришел защитить и спасти.
– О той? – переспросил узник. – Значит, вы проникли в Замок Орла из-за женщины?
– Да, мессир.
– И это, должно быть, девица?
– Да, мессир.
– Та, которую давеча вечером сюда доставил один отъявленный разбойник и продал как заложницу сиру де Монтегю?
– Да, мессир! – воскликнул изумленный Лакюзон. – Но вы-то почем знаете?..
– Почем я знаю! – прервал его узник, заговорив едва слышным голосом и силясь унять дрожь в руках, которые по-прежнему удерживал капитан. – Странно, не правда ли? И как я мог это узнать?.. Ну что ж, на самом деле я знаю и много чего еще… я даже могу сказать, кто вы, хотя никогда вас раньше не видел!..
– Кто я?.. – пробормотал капитан. – Я?
– В горах есть только один человек, – горячо продолжал незнакомец, – только один герой, который в дерзости своей мог зайти так далеко, что бросил вызов орлу и пробрался в его гнездовье, чтобы вырвать у него добычу. Лишь один-единственный человек способен освободить Эглантину, пленницу сира де Монтегю…
– Эглантину?! – переспросил капитан, думая, что ослышался.
– И этот человек, – закончил узник, – этот герой – Жан-Клод Прост! Он же капитан Лакюзон!
XII. Изменник
Лакюзон ничего не ответил: все возрастающее изумление, охватившее капитана, лишило его дара речи.
– Выходит, я не ошибся, – продолжал узник. – О, скажите же, я и правда не ошибся? Скажите, вы и есть тот благородный юноша, героический горец, борец за наши свободы, вселяющий ужас в наших врагов, спаситель нашей Родины?.. Скажите, вы и есть тот самый воспитанник, товарищ и соратник старого моего друга Варроза и Маркиза, священника-воина?.. Скажите наконец, вы и есть Жан-Клод Прост, друг всех, кто мне дорог?..
И, поскольку капитан по-прежнему хранил молчание, незнакомец с глубокой печалью продолжал:
– Господи, неужели я ошибся? Неужто вы совсем не тот, чье имя я только что назвал?.. Если я ошибся, то по одной причине: я узнал, что племянница преподобного Маркиза стала пленницей замка и что ждала она только одного человека и надеялась на него, потому как только он мог вызволить ее из плена. Узнав от вас, что вы пришли спасти девушку, я подумал, что вы и есть тот самый человек… Еще раз спрашиваю вас, неужели я ошибся?.. И если вы не тот, кого я назвал, то кто?
У капитана было время принять решение.
– Да, мессир, – ответил он, – я Жан-Клод Прост, товарищ Варроза и Маркиза. Я пришел спасти Эглантину и, повторяю, я спасу ее вместе с вами. Но, во имя Неба, развейте пелену, затуманившую мой разум! Скажите, как вы, узник, лишенный общения с кем бы то ни было, можете знать обо всем, что творится в этом замке?
– Я скажу сразу, как только вы сами ответите на вопрос, важный и для вас.
– Какой?
– Что заставило вас спрятаться в водосборнике?
– Мы шли с Эглантиной через Водосборный двор к дозорному пути, чтобы потом попробовать спуститься со стены и бежать. Но тут у внешних ворот замка затрубили в рог. Эглантина побежала к насыпи, а я спустился в водосборник. Только и всего.
– Затрубили в рог… – повторил незнакомец. – Давеча ночью сир де Монтегю долго совещался с одним сеньором, которого вы, конечно, знаете. И распрощались они со словами «до завтра». Стало быть, тот вчерашний сеньор прибыл опять.
– Вполне возможно.
– Больше того, это точно!..
– Я ответил на ваш вопрос, мессир, теперь ваш черед говорить.
– Вам угодно знать, как я узнаю о том, что происходит в замке и во всей округе?
– Да.
– Что ж, идемте со мной – и вам больше не придется меня расспрашивать.
Незнакомец взял капитана за руку и подвел к одному из углов каземата.
– Приложите ухо к стене, – сказал он, – и замрите…
Лакюзон повиновался.
В тот же миг он расслышал два голоса – ясно и отчетливо, и один из них, несомненно, принадлежал Антиду де Монтегю.
Если бы он прямо сейчас перенесся в комнату, где находился владетель Замка Орла, он и тогда не смог бы слышать все так четко.
– Что это значит? – спросил он незнакомца.
– Объясню позже, – ответил тот. – А теперь слушайте внимательно… Слушайте же! Слушайте! Тем более что разговор там, наверху, если не ошибаюсь, должен вас заинтересовать.
Лакюзон замолчал и стал слушать.
* * *
Давайте ненадолго оставим капитана и узника в надежде скоро встретиться с ними снова в подземелье водосборника, а сами перенесемся в уже знакомую нам гостиную, где мы стали свидетелями беседы Эглантины с хозяином Замка Орла и внезапного появления Маги-ведьмы.
В то самое время, когда рог возвестил о прибытии ночного гостя, Антид де Монтегю, сидя за дубовым столом у камина, выводил тяжелой, нетвердой рукой причудливые знаки на большом листе бумаги.
В нескольких шагах от него стояла Маги – она поглядывала на него как будто рассеянно, без всякого внимания, хотя на самом деле пристально и сосредоточенно следила за каждым его движением.
Услыхав сигнал, граф вздрогнул. Прервав свое занятие и живо поднявшись, он подошел к портрету Гийома де Водри и нажал на кнопку, замаскированную в лепнине рамы, панель тут же повернулась, и за нею показалась потайная дверь.
– Женщина, – обратился наконец к Маги владетель Замка Орла, – могу ли я и в самом деле положиться на вашу преданность и старание?
– Монсеньор, – ответила мнимая ведьма, – могу сказать вам лишь то, что уже говорила: моя корысть послужит вам залогом и моего старания, и моей преданности.
– Послужите мне исправно – и поймете, что имеете дело со щедрым хозяином.
– Я готова на все, монсеньор… и какое бы поручение вы мне ни дали, я все исполню.
– Сейчас я намерен дать поручение, которое должно выполнить с умом и быстро.
– Я постараюсь, монсеньор.
– Тогда, – продолжал граф де Монтегю, указывая на потайной ход, – пройдите туда, присядьте там, если угодно, на лестничную ступеньку и подождите, пока я вас не позову.
– А долго ли мне там сидеть, монсеньор?
– Не думаю.
– Только не забудьте про меня по крайней мере, монсеньор.
– Не беспокойтесь.
Однако Маги была совершенно спокойна, тем более что она предусмотрительно оставила открытой дверцу, выходившую в ров, что позволяло ей беспрепятственно выбраться из замка в случае, впрочем, маловероятном, если сеньор де Монтегю позабыл бы о ней.
Она прошла в коридор, и дверь за нею затворилась.
Поначалу Маги хотела было сбежать не мешкая, но, вспомнив о поручении, быть может, важном, которое ей собирался дать Антид де Монтегю, она передумала. Так что ей ничего не оставалось, как присесть на лестницу и ждать.
Как только монсеньор остался один, он позвонил в колокольчик, вызвав того же слугу, который незадолго перед тем препроводил Эглантину на женскую половину.
Слуга появился тотчас же.
– Возьмите фонарь, – сказал ему Антид, – и пошли, будете освещать мне дорогу.
Они вдвоем прошли через караульное помещение и переднюю, спустились по ступенькам с крыльца и вышли на эспланаду, где было пусто и тихо. Заранее были отданы распоряжения, чтобы при звуке рога среди ночи латники, берейторы и шталмейстеры оставались на своих местах и отдыхали. На стенах замка только двое караульных молча скучали в дозоре. Антид де Монтегю окликнул их, велев в его присутствии открыть ворота и опустить мост.
Следом за тем на эспланаду выехал всадник, закутанный по самые глаза в широкий коричневый плащ, в сопровождении десятка или дюжины вооруженной до зубов охраны. Люди и лошади двинулись прямиком к дозорному пути, откуда можно было попасть на Водосборный двор.
Ночной гость и господин Замка Орла обменялись чопорным приветствием, не говоря при том ни слова, и вслед за слугой, который нес фонарь, направились к господскому дому.
Когда они вошли в знакомую нам гостиную и остались одни, прибывший сбросил плащ и сир де Монтегю, пододвинув к нему кресло и еще раз поприветствовав с нарочитой учтивостью, сказал:
– Милости прошу, граф де Гебриан!
– Представителя его величества короля Франции пристало встречать не иначе, как с милостью в доме губернатора графства Бургундского!.. – ответствовал граф, особо выделив последние слова.
Заслышав, как его впервые назвали столь вожделенным титулом, Антид де Монтегю вздрогнул, и от радости и ликования его бледное лицо залила густая краска.
– Губернатор графства Бургундского!.. – повторил он. – Вы именно так сказали, граф, не правда ли?
– Да, мессир, – ответил господинн де Гебриан, – и под этими словами я разумею губернатора нижнего округа, или, другими словами, всей округи до Сен-Клода и Лон-ле-Сонье, Доля, Салена и Нозеруа.
– Значит… – воскликнул граф, – значит, его преосвященство монсеньор кардинал де Ришелье наконец дал свое согласие?..
Де Гебриан прервал собеседника.
– Граф де Монтегю, – сказал он, – прежде чем продолжать нашу беседу, чтобы лучше понимать друг друга и суметь договориться меж собой, надобно наскоро перебрать в памяти все, что произошло с тех пор, как мы вступили с вами в переговоры.
– Зачем? – проговорил Антид де Монтегю. – Нам обоим и так известно все, что вы хотите сказать.
– Разумеется, известно. Однако, как я полагаю, в некоторых вопросах мы не достигли полного согласия, и это, как мне кажется, главное, что нам необходимо решить.
Сир де Монтегю склонил голову, словно смиряясь с неизбежным.
Между тем граф де Гебриан продолжал:
– Франции нужна Франш-Конте, – сказал он, – и вы так же, как и я, хорошо понимаете, что рано или поздно она ее получит. Исход войны можно приблизить или отсрочить, но, в общем, он не вызывает никаких сомнений… Вы ведь полагаете точно так же, не правда ли, сир де Монтегю?
Антид без колебаний кивнул.
– Однако, – продолжал граф, – признаюсь, мы не рассчитывали, что в провинции нам окажут сопротивление. Отпор, скажем прямо, героический, из-за которого вот уже два года по всей Франш-Конте льется кровь наших солдат… Мы надеялись остановить это бессмысленное кровопролитие и вовсе не желали, чтобы население завоеванной провинции вместе с тем поредело. Его величеству королю Франции не очень бы хотелось присоединить к своему славному королевству опустошенные и обезлюдевшие земли в горах. И для скорого и мирного разрешения вопроса нам оставалось принять одно-единственное решение: использовать в наших интересах некоторых высокопоставленных франш-контийских сеньоров, объединив их вокруг себя с двойной целью: чтобы они снискали себе высочайшую милость великого короля и предоставили своим вассалам гарантии мира и спокойствия. В горах Верхней Юры наш выбор пал на вас, сир де Монтегю. Вы приняли наши предложения и присягнули служить нам верой и правдой, за что вам положена блестящая награда, и вы ее непременно получите. Но ее надобно заслужить в полной мере, и, прежде чем мы исполним наши обещания, вы должны выполнить свои…
– Господин граф, – отвечал Антид после недолгого молчания, как следует взвесив каждое слово, – представьте мне доказательство, что его преосвященство кардинал де Ришелье действительно пожаловал мне титул губернатора графства Бургундского… покажите указ, подписанный его именем и скрепленный государственной печатью, и, клянусь честью дворянина, трех месяцев не пройдет, как Франш-Конте станет французской провинцией.
– То есть… – воскликнул Гебриан, – то есть вы хотите, чтобы вам заплатили аванс!..
– Не называйте вещи своими именами, господин граф, ибо в данном случае имя звучит отвратительно!.. И речь вовсе не о плате, а о гарантии. Я всего лишь хочу быть уверен, что обещания Франции будут выполнены.
– А вы, однако, осторожны, сир де Монтегю!..
– Да, разумеется… Господин граф, народная мудрость гласит: осторожность – мать безопасности, – а я в народную мудрость верю.
– Не стану отрицать, это даже чересчур осторожно, но справедливости ради должен заметить, что подобная осторожность производит в высших сферах крайне отрицательное впечатление…
– Сожалею, мессир граф, и удивляюсь. Почему же я должен быть менее осторожен – вы сами произнесли это слово, – чем кардинал де Ришелье?.. Да и потом, что такого я прошу? Всего лишь указ, который может скомпрометировать только меня, поскольку он будет исполнен лишь в том случае, если я выполню все мои обещания! Так почему мне отказано в получении этого указа?
– Буду с вами искренен, сир де Монтегю. Позволите говорить начистоту?
– Именно об этом я и собирался вас просить.
– Кардиналу кажется, что вы поступаете нечестно.
– В чем же?
– Вот послушайте: только в этой части провинции – здесь, в Верхней Юре, нам приходится сталкиваться с упорным и грозным сопротивлением. В других местах все не так уж плохо: не хватает рук, а главное – головы, то есть предводителей. И только в округе между Сен-Клодом и Понтарлье, где заправляет эта троица – Лакюзон, Варроз и Маркиз, сосредоточен и крепчает старый дух сопротивления. Покуда ваши горы не будут завоеваны или захвачены, любые блага, какие мы готовы сюда принести, будут бесполезны, ибо здесь царит полная неразбериха. И напротив, как только Юра будет наше, к нам отойдут Доль с Безансоном – нам даже не придется брать их в осаду, потому что в обоих этих городах есть верные нам люди. Как только они поверят, что мы удержимся там без труда, они откроют нам ворота. А Безансон с Долем – это целая провинция….
Граф де Гебриан замолчал.
– Как я погляжу, мессир, – проговорил через мгновение Антид де Монтегю, – вы с лихвой осведомлены о том, что происходит в провинции. Но я по-прежнему жду, какие обвинения и в чем именно вы можете предъявить мне от имени его преосвященства кардинала…
– Я как раз к этому подхожу, монсеньор де Монтегю. От вас, и только от вас зависит конец войны. Эта геройская троица, Лакюзон, Варроз и Маркиз, нам уже поперек горла. Особенно Лакюзон, наш отважный злой гений! Как подумаешь, что этот тип посмел на днях проникнуть в Сен-Клод – город, взятый приступом и занятый целым армейским корпусом… что он умудрился привести с собой свою шайку и у нас под носом, на площади Людовика XI, почти что освободил приговоренного нашим судом, если б не ваш выстрел, восстановивший справедливость в последнюю минуту… – как только подумаешь об этом!.. Просто не верится!.. С такими командирами народ непобедим. Если же, напротив, таких предводителей не станет, их бравые вояки от сохи, еще вчера такие неустрашимые, на другой же день в ужасе разбегутся кто куда… Если Лакюзон, Варроз и Маркиз будут уничтожены или угодят в темницу, сопротивлению конец! Это бесспорно, не так ли?
– Да, бесспорно, мессир граф.
– Ну что ж, за десять месяцев, что вы состоите у нас на службе, вы могли бы уже раз двадцать захватить этих друзей-приятелей и передать нам, благо они доверяют вам безоговорочно и посему могли бы запросто угодить в расставленную вами ловушку. Но вы палец о палец не ударили. Разве так поступают верные союзники, спрашиваю я вас, и можем ли мы всецело доверять вам, если вы даете нам так мало доказательств своей преданности?
– И это все, что вы можете предъявить мне в упрек?
– Все.
– Ладно. Тогда я вам отвечу…
XIII. Сделка
– Да, отвечу, – повторил хозяин Замка Орла, – и буду с вами так же откровенен, как и вы со мной… Да, предводитель партизан мог не раз оказаться в моих руках, а вместе с ним и двое других из этой троицы, кто олицетворяет собой силу и надежду провинции, как вы сами изволили выразиться… Да, я, как и вы, знаю – в тот день, когда этих троих не станет или они окажутся в темнице, Фарнш-Конте будет захвачена. Партизаны-горцы, оставшись без военачальников, разбегутся кто куда, в их душах будет посеян страх, всякое сопротивление покажется невозможным, да так оно и будет… Да, я давно мог бы отдать вам Жан-Клода Проста, полковника Варроза и преподобного Маркиза… Но тогда, граф де Гебриан, я был бы целиком зависим от вас, вернее, от французского короля и кардинала де Ришелье, а мне этого очень не хотелось. Благодарность королей – штука очень уж сомнительная. Стоит оказать им услугу, как они тут же забывают своего благодетеля.
– Сеньор де Монтегю, – вскричал Гебриан, – ваши сомнения оскорбительны!
– Они не относится к вам, господин граф, и его величество Людовик XIII не станет принимать их в расчет!.. Так вот, мне пришлось пустить события на самотек, чтобы война прошла через разные этапы – победы и поражения, и особенно через поражения, ибо только так я смог бы доказать, что вам без меня не обойтись. Теперь же – и вы сами видите, что, говоря с вами честно, я раскрываю все карты – вам провинцию не удержать: ваши войска рассредоточены и измотаны, грядет зима. Еще третьего дня Сен-Клод был в ваших руках, а вчера вас изгнала оттуда горстка крестьян, этих доморощенных вояк. И вам ничего не остается, кроме как покончить с ними – с моей помощью или расписаться в собственном поражении.
Граф де Гебрниан, вынужденный признаться самому себе, что Антид де Монтегю прав, опустил голову и покрутил усы.
– Вы чувствуете себя сильнее, – проговорил он наконец после недолгого молчания. – Вы знаете, что необходимы, что успех зависит от вас, и желаете с выгодой использовать свое положение. Что ж, лихо, и не мне вас осуждатиь за это. Но, повторяю, намерения французского двора по отношению к вам открыты и искренни.
– Французского двора! – повторил сир де Монтегю. – Ну хорошо, граф, вы вынуждаете меня пойти еще дальше, хотя мне бы того очень не хотелось и я не должен был бы этого делать. Все мои сомнения связаны отнюдь не с Францией.
– А с чем? – надменно вопросил Гебриан.
– Я разговариваю с вами спокойно, мессир граф, и вы уж соблаговолите выслушать меня точно так же… Франция сделала мне предложения, и я договаривался с Францией, поэтому все мои интересы связаны с Францией.
– И что же?
– Да, я согласен, чтобы Конте стала французской провинцией, но есть одна вещь, с которой я не могу смириться.
– Какая же?
– Есть еще один претендент, желающий сделать из провинции отдельное королевство и возложить на себя корону короля горцев за наш счет.
– Не понимаю вас…
– Неужели? – с усмешкой проговорил Антид де Монтегю.
И тут же прибавил:
– А вы скажите об этом грецогу Саксен-Веймарскому и увидите: уж он-то сразу все поймет.
Граф де Гебриан резко дернул себя за ус и ничего не ответил.
– Молчите? – продолжал вслед за тем хозяин Замка Орла. – Тем лучше, ведь это доказывает, что мы отлично понимаем друг друга. Итак, я продолжаю. Да, Франция желает заполучить Конте, но существуют и силы, не менее честолюбивые, которые готовы развязать новую войну, едва закончится первая. Вы хоть и француз, граф де Гебриан, но служите не Франции… У вас есть хозяин, и вы преданы ему всей душой, что, впрочем, совершенно естественно. А герцог Саксен-Веймарский, нынешний союзник Людовика XIII, после победы мог бы запросто выступить против него. Его честолюбивые планы, помыслы и чаяния давно известны, и маловероятно, что со временем они изменились. Вы первый адъютант герцога Саксен-Веймарского, и прежде я имел отношения только с вами. Возможно, и даже вполне вероятно, что вам были даны некие секретные приказы…
– Граф де Монтегю!.. – вскричал Гебриан, бледнея от ярости.
– Мессир? – с самым хладнокровным видом спросил Антид.
– Вы что же, сомневаетесь в моей преданности и верности моего начальника?
Владетель Замка Орла расхохотался – быть может, натужно, зато громко и звонко.
– Не будем говорить о верности, граф де Гебриан, – сказал он следом за тем. – Ведь мы с вами прекрасно знаем, что такое слово действительно есть, хотя на самом деле для нас, людей по меньшей мере честолюбивых, его не существует. В конечном счете, я рассказал вам все это вот для чего: мечты и планы вашего хозяина меня мало интересуют, зато куда больше меня заботит другое: как бы мне не оказаться на следующий день после победы перед лицом властителя, маленького или большого, с которым у меня нет никаких договоренностей. Ведь с вашей помощью я договаривался с кардиналом де Ришелье, а не с герцогом Саксен-Веймарским. Я хотел бы заручиться правом и возможностью от имени Франции защищать мою провинцию от всякого на нее претендента, кем бы он ни был, даже герцогом Саксен-Веймарским или кем-то другим…
Гебриан сделал порывистое движение.
– Не стоит возмущаться, прошу вас, мессир граф, – продолжал де Монтегю. – Вам куда более пристало сохранять хладнокровие, ведь вы отлично понимаете, что я совершенно прав. Впрочем, я все сказал и под конец постараюсь быть кратким. Прошлой ночью, прощаясь со мной, вы имели честь обещать мне, что нынче сообщите свое решение. Титул, коим вы удостоили меня сразу же по прибытии сюда, мог и должен был убедить меня в том, что это решение при вас. А коли так, давайте же его сюда – я устал ждать. Я согласен поверить, что никто, слышите – никто, не пытался отсрочить время исполнения моих просьб к французскому двору. Но мне придется усомниться в этом, если вы не представите мне доказательства.
Граф де Гебриан расстегнул застежки на своем камзоле, извлек из-за пазухи бумагу, сложенную в виде письма, и, передавая ее хозяину замка, сказал:
– Вот доказательство, которое вы так требуете.
Антид де Монтегю жадно схватил бумагу, быстро развернул ее и пробежал глазами.
Это было послание, направленное герцогом Саксен-Веймарским графу де Гебриану.
– Здесь, – сказал он, закончив читать, – говорится о другом письме, которое кардинал де Ришелье направил лично мне, и вам было поручено его мне передать.
– Да, мессир граф…
– И… – вопросил Антид, дрожа от нескрываемого нетерпения, – письмо его преосвященства с вами?
– Вот оно. Мне было наказано передать его вам лишь после того, как вы выполните все ваши обещания… но своей откровенностью вы заслужили мое доверие раньше.
Монтегю сломал большую красную восковую печать, скреплявшую пухлый квадратный конверт, который наконец передал ему граф де Гебриан, развернул сложенный вчетверо пергамент и принялся читать.
Пока он читал, лицо его как будто озарялось все ярче, морщины на лбу разглаживались, а глаза искрились радостью.
– Граф де Гебриан, – спросил он вслед за тем, – известно ли вам содержание этого письма?
– По крайней мере, я знаю, чтó в нем должно быть. Его преосвященство принимает все ваши условия и, как вы того сами желали, назначает вас губернатором графства Бургундского с того самого дня, когда Франш-Конте станет французской провинцией.
– Да, мессир граф, я счастлив признать, что, не в пример супруге Цезаря, верность своему слову кардинала, герцога Саксен-Веймарского и ваша вне подозрений… Впрочем, я располагаю верным средством загладить мои давешние оскорбительные слова и доказать вам, что и вы сами ох как заблуждались, усмотрев в моих действиях изворотливость.
– И что же это за средство, мессир граф?
– Вас ждет добрая весть. Один из той великой троицы горских предводителей в наших руках.
– Лакюзон? – вскричал граф де Гебриан.
– Не Лакюзон и не Варроз, – ответил Антид. – Отец с сыном от нас ускользнули, зато святой дух в наших руках… Преподобный Маркиз схвачен!
– В самом деле, господин граф, весть ваша стоящая. Не могли бы вы рассказать мне подробнее?
– Несколько часов назад Маркиза захватили серые: следуя моему приказу, они незамедлительно доставили его в замок Клерво, и уж там-то граф де Боффремон, наш союзник, глаз с него не спустит… Кстати, пользуясь случаем, я позволю себе рекомендовать вам и кардиналу графа де Боффремона… – положение при дворе и командование каким-нибудь полком вполне удовлетворят его честолбюбивые устремления. К тому же, как вам известно, он из весьма знатного рода.
– Можете на меня рассчитывать!.. Маркиз за решеткой!.. Это как нельзя более кстати… эдак мы заметно преуспеем в нашем деле!
– Я же в свою очередь обязуюсь передать вам Лакюзона с Варрозом.
– А где они сейчас?
– В Гангоновой пещере.
– Это же совсем рядом, не так ли?
– В полутора часах пути, не больше.
– Послушайте, сеньор де Монтегю. Я не дипломат, я простой солдат, и мне противна любая измена… Варроз с Лакюзоном, конечно, враги, но они храбрецы и настоящие герои… Они должны умереть, но мне бы хотелось, чтобы их постигла славная смерть, как они того заслуживают, – на поле боя и с оружием в руках. Что если, вместо того чтобы заманивать их в ловушку, как каких-нибудь лисиц или волков, напасть на них в их же крепости, неожиданно нагрянув в Гангонову пещеру?
Антид де Монтегю ухмыльнулся.
– Это по-рыцарски, мессир граф, – сказал он вслед за тем, – но, к сожалению, невозможно.
– Почему?
– Гангонова пещера недоступна и неприступна. Только орлу под силу проникнуть в то место, тем более что все подходы к убежищу охраняются. Десять бравых молодцов запросто одолеют там, в теснине водопада, целую армию!.. Повторяю, это невозможно.
– Неужели нельзя по крайней мере окружить и взять в осаду пещеру и всю долину? Главари и солдаты, если взять их измором, живо сдадутся.
– Так или иначе это ловушка, какая же разница? – спросил Антид.
– Разница в том, что в этом случае им придется подчиниться законам войны – и никакого предательства…
– Невелика разница.
– Только не для меня, сеньор де Монтегю, – сухо возразил Гебриан. – Ответьте же наконец, смогу ли я с моими силами запереть Гангонову пещеру, опоясав ее частоколом из рапир и мушкетов?
– Нет, мессир граф, не сможете, и вот почему. Вспомните, сколько раз говорил я вам об организации партизанских частей Лакюзона. Так вот, в частях горских партизан насчитывается до трех с половиной тысяч бойцов, они рассеяны по всей Верхней Юре и объединяются вместе только в исключительных случаях – для каких-то особо важных и решительных действий. У капитана есть заместители, они командуют отдельными отрядами, рассеянными в горах. Эти командиры связываются с главнокомандующим через нарочных, которые получают сообщения с указанием места и времени общего сбора и разносят их по всем отрядам. За полдня Лакюзон способен поднять и объединить в одном месте всех своих людей, и это скопище разом обрушится на вас, вздумай вы обложить Гангонову пещеру. Кстати, в этой пещере у них своего рода штаб – там собирается до двух-трех сотен человек одновременно. Там же располагаются их главные склады с припасами и оружием. Эти склады так и ломятся от продовольствия, и, чтобы взять тех вояк измором, понадобится немало времени. И это еще не все. Поговаривают, и я в это верю, будто в Гангоновой пещере есть потайные ходы, о которых знают только Лакюзон, Варроз и Маркиз, и ходы эти ведут далеко-далеко – очень удобно, особенно для тех, кто по тем или иным причинам не желает казать глаз в Илайской долине… И как же вы собираетесь перекрыть эти ходы, если мы только предполагаем, что они существуют? Вы надеетесь обложить Лакюзона, взять его в сплошное кольцо, а Лакюзон, потешаясь над нашей самонадеянностью, с удвоенной силой нападет на нас с тыла, притом нежданно-негаданно, а уж свой неукротимый пыл и необузданную дерзость он как-нибудь сумеет передать своим молодчикам, которые доверяют и подчиняются ему безоговорочно. И кровавая бойня в Сен-Клоде продолжится!
– Вы убедили меня, – отвечал граф де Гебриан. – Понимаю, против такого врага сила бесполезна – здесь надобно действовать хитростью.
– И мы прибегнем к ней, мессир граф.
– Что вы думаете делать?
– Пока не знаю. Все будет зависеть от обстоятельств. Подожду удобного случая. А заманить беспечных людишек в ловко подстроенную ловушку – плевое дело.
– Иуда!.. – прошептал Гебриан с глубоким отвращением, но совсем тихо, так что сир де Монтегю не расслышал.
– Завтра же, – продолжал меж тем Антид де Монтегю, – а вернее, сегодня, поскольку время уже за полночь, возьмусь за дело… Для начала, мессир граф, я попросил бы у вас позволения закончить письмо, которое я как раз писал, когда вы прибыли, и отослать его по адресу. В этом письме я приказываю сеньору де Боффремону денно и нощно не спускать глаз с узника, который был головой и здравым смыслом горской троицы и которого мы называем меж собой святым духом, – я имею в виду преподобного Маркиза.
С этими словами Антид де Монтегю черканул последние строки письма и передал листок графу де Гебриану.
– А кто передаст его? – осведомился граф де Гебриан, беря письмо.
– Одна старуха, которой я доверяю, к тому же никому и в голову не придет, что она из моих агентов. Но даже если письмо потеряется или его украдут, тем, в чьи руки оно попадет, это мало что даст…
– Как это?
– Сами взгляните, мессир граф.
Гебриан просморел письмо, в котором, как мы уже говорили, были изображены лишь какие-то причудливые, неразборчивые знаки, перемежавшиеся тут и там цифрами.
– В самом деле, – заметил он следом за тем, – больше похоже на неразборчивые каракули ребенка – по-моему, тут и монахи-бенедиктинцы потратили бы попусту время и силы, пытаясь расшифровать эдакую бестолковщину… И во всем этом действительно есть смысл?
– Да, мессир, притом самый что ни на есть четкий и ясный. Только сир де Боффремон и я используем в нашей переписке кое-какие приемы, о которых договорились заранее, так что шпионства можно не опасаться.
– Чудесно! Все это у вас лихо придумано, и я восхищаюсь той безграничной осторожностью, с какой вы подходите к любому делу. Полагаю, монсеньор, вы станете для его величества Людовика XIII образцовым и незаменимым губернатором графства Бургундского.
– Я тоже так думаю, – с простодушной гордостью ответствовал Антид де Монтегю.
Он сложил письмо, засунул его в конверт, запечатал печатью с оттиском не только своего герба, но и девиза, затем нажал на знакомую нам потайную пружину и кликнул Маги. Старуха тут же появилась.
– Вот, – сказал он ей, – вот и пришло время проявить вам свое усердие, о котором вы столько говорили.
– Все будет сделано честь по чести, мессир, вот увидите. Дела куда красноречивее слов.
– Вы ведь можете отправиться в путь-дорогу прямо сейчас, не так ли?
– Так, мессир.
– Хоть и устали?
– Старые мои ноженьки сдюжат, да и потом, я привыкла к дальним дорогам.
– Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до Клерво?
– Часа четыре.
– Значит, управитесь до утра, если отправитесь сей же час?
– Да, мессир.
– Превосходно. Возьмите это письмо и спрячьте хорошенько.
– Я спрячу его в своей суме. И коники, ежели я, не ровен час, с кем-то из них повстречаюсь, нипочем не станут в ней шарить.
– В Клерво сразу же передайте это письмо графу де Боффремону лично в руки. Поняли? Ему лично.
– Поняла, мессир, вот только уж больно сомневаюсь, что смогу это исполнить.
Антид де Монтегю нахмурился.
– Это еще почему? – удивился он.
– Потому что я навряд ли смогу к нему попасть… Или вы думаете, специально для меня опустят мосты и караульные проводят к нему Маги-ведьму?
– Я подскажу вам, как попасть к графу де Боффремону в обход передней.
С этими словами Антид де Монтегю снял с пальца золотое кольцо, наподобие тех, что носили римские всадники.
– Вот, возьмите, – сказал он затем. – Покажете это кольцо первому же караульному, которого повстречаете, скажете, что пришли от меня, и все препятствия перед вами разом исчезнут.
– Теперь, мессир, я за все в ответе и обещаю исполнить ваш наказ как должно.
– Я на это рассчитываю. Скажете сиру де Боффремону, когда он ознакомиться с моим посланием, что я жду ответа.
– И мне же надлежит доставить его ответ вам?
– Да. Надеюсь, граф не заставит вас долго ждать. Передохните пару-тройку часов – и возвращайтесь сюда.
– Пару-тройку часов, мессир, – да зачем? Как только ответ попадет ко мне в руки, я выберусь из Клерво и отправлюсь обратно, в Замок Орла.
– Это не к спеху. Довольно будет, если вы вернетесь сюда к завтрашней ночи.
– Будет исполнено, мессир. А как мне войти?
– Через небольшую дверь в крепостной стене – вот ключ. А теперь ступайте, женщина, да поскорее!..
Маги тотчас исчезла в потайном проходе, и дверь за нею закрылась.
– Граф де Монтегю, – сказал тогда сир де Гебриан, – как я полагаю, наша встреча подошла к концу, притом самому что ни на есть удачному, ибо мы с вами сошлись во всем.
– Я этому рад, мессир, и не премину доказать королю Франции и кардиналу, что достоин доверия, коим они меня наградили.
– Так что теперь в ваших интересах, равно как и в наших, чтобы Франш-Конте стала французской провинцией. Ведь в тот же день, когда свершится это великое событие, вы сами станете губернатором графства Бургундского.
– И трех месяцев не пройдет, как я стану губернатором графства Бургундского… ибо не пройдет и трех месяцев, как Франш-Конте станет французской провинцией!
– А теперь не соблаговолите ли распорядиться, чтобы мои люди вместе с лошадьми вернулись в мое распоряжение?
– Сию минуту, мессир.
Владетель Замка Орла позвонил, и слуга, которому он сказал два-три слова, тут же кинулся на Водосборный двор.
Через несколько минут граф де Гебриан вместе с Антидом де Монтегю, который проводил его до последнего подъемного моста, спустился с небольшим эскортом по сходням и направился в сторону долины.
Антид, велев запереть у него на глазах все ворота, вернулся к себе в гостиную, нашептывая себе под нос:
– Губернатор графства Бургундского… Какой высокий и великолепный титул, и я возвеличу его еще больше!..
XIV. Тревога
Теперь пришло время вернуться к нашему капитану и узнику – в подземелье под Водосборным двором.
Они вдвоем, прильнув к скальной стене, слышали от начала до конца длинный и циничный разговор, который мы представили вниманию наших читателей.
Капитана раз двадцать передергивало от отвращения, и столько же раз он в возмущении бледнел, слушая, как благородный сеньор-изменник торговал свободой своей Родины и жизнью предводителей горских повстанцев.
Неожиданная весть о пленении преподобного Маркиза сначала потрясла его, но он тут же успокоился и, взяв себя в руки, сказал:
– Как только выберусь из этого проклятого замка, опрометью кинусь на выручку нашему священнику-воину и живенько вырву его из когтей этих презренных негодяев.
Но самой непостижимой из всех загадок для капитана стало появление Маги-ведьмы и та роль, которую она как будто сама вызвалась сыграть для Антида де Монтегю. Между тем, однако, ему казалось, что старуха, определенно, не изменница. Иначе, зная, что он втайне проник в Замок Орла, она выдала бы его грозному хоязину.
– Мессир, – горячо обратился к узнику Лакюзон, – раз уж графа де Гебриана и сира де Монтегю нет в гостиной, растолкуйте мне, как…
– Как отсюда, из подземелья, можно слушать все, о чем говорят в гостиной владетеля замка, так? – прервал его незнакомец.
– Да.
– Все очень просто, по крайней мере если не понять, то объяснить… Дело тут в явлении, вполне естественном, однако его с легкостью можно воспринять и как сверхъестественное. Каземат, где мы находимся, выбит в коренной скальной породе прямо под комнатой, где сир де Монтегю обычно проводит большую часть времени. Одна из стен в той комнате опирается на самый свод каземата в том месте, где толща скалы образует пористую жилу, как будто идеально подходящую для передачи звука. Любой ученый сказал бы вам точно, что это за жила и как по ней проходит звук. А я не ученый и всего лишь примечаю факты. Стена опускается до скальной жилы, и звук сверху проходит по ней до самого низа. Хоть и странно, но это правда. К тому же, если не прислониться ухом прямо к скале, причем в определенном месте, вы ничего не услышите – ни единого звука… Позже я расскажу вам, как однажды страшной ночью узнал этот секрет, и, выслушав меня, вы наконец поймете, кто я такой… А теперь давайте думать только о том, как выбраться из замка… давайте думать только о свободе, ибо свобода есть месть! На Водосборном дворе ни души… Идемте же!
Незнакомец взял капитана за руку и снова повел его узким коридором, соединявшим его каземат с водосборником.
Не успели они добраться до скользкого карниза, опоясывающего колодец, как вдруг в воду, у них под ногами, что-то плюхнулось, подняв брызги.
В тот же миг они услыхали сверху мягкий, негромкий голос:
– Это лестница…
Лакюзон почувствовал, как задрожала рука незнакомца, держащая его. Узник пребывал в сильнейшем волнении: наконец-то спустя двадцать лет мытарств он снова сможет дышать чистым воздухом и увидит свет – как давно был он лишен и того и другого.
– Мужайтесь! – чуть слышно сказал ему капитан. – Крепитесь! И запомните: только стойкость помогает совладать с радостью, как и с бедой.
– Капитан, – еле внятно ответил незнакомец, – душа крепка, а плоть слаба, вы уж простите меня. Мысль, что я скоро буду на свободе, прямо сейчас едва не убила меня… Но все уже прошло. Вот видите, я снова спокоен. Идемте!
– Мессир, – отвечал Лакюзон, – я полезу первый. Эглантина ждет, что я выберусь один, ведь я же один сюда забрался. Не то, боюсь, как бы при виде вас она не закричала от изумления и страха, а это было бы совсем некстати.
– Да-да, – живо проговорил незнакомец, – конечно, поднимайтесь, а я за вами.
Лакюзон вцепился в перекладины лестницы и через несколько мгновений, выбравшись из колодца, перемахнул через железные перила, обрамлявшие его край.
Эглантина, крайне заинтригованная и удивленная шумом голосов, доносившихся из глубины водосборника, тут же спросила:
– Ты что, не один?
– Нет, – ответил капитан.
– Кто же там еще с тобой?
– Друг.
– Но как… откуда?..
– Потом все узнаешь, – прервал ее капитан. – А пока, дорогая девочка, прошу тебя, ни слова больше.
Эглантина замолчала.
Тут из отверстия колодца в свою очередь показался незнакомец – в порыве радости и благодарности он крепко схватил Лакюзона за руки, которые тот протянул ему, чтобы помочь перебраться через перила колодезного проема.
Как мы уже упоминали, небо было затянуто тяжелыми тучами, теснившими друг друга, словно громадные щиты, между луной и землей. Время от времени луч света, а вернее, бледный, зыбкий отблеск, прорывался сквозь хмурые облака, окрашивая их края серебром, и как будто рассеивал мглу.
В этих мимолетных отсветах капитан не мог как следует разглядеть лицо освобожденного узника – единственное, что он успел заметить, так это то, что спасенному было лет пятьдесят пять – шестьдесят, что роста он был высокого и держался как человек благородный, несмотря на рубище, седые патлы, спадавшие ему на плечи, и блиннющую бороду, тоже седую, доходившую до середины груди. Борода и космы придавали ему странный, почти сказочный вид: он походил на рыцаря Круглого стола из средневековых романов, ставшего жертвой злых чар некроманта и пробудившегося в одно прекрасное утро после столетнего сна.
Эглантину при виде его невольно охваил суеверный страх – она подошла к Лакюзону и прижалась к нему.
А незнакомец, едва ступив на твердую землю и едва вдохнув полной грудью чистый, холодный ночной воздух, так не похожий на сырой, тошнотворно-затхлый воздух его каземата, упал на колени и, благодаря Бога, обратил к небу глаза, руки и душу!
Этот вдохновенный благодарственный порыв, впрочем, продолжался недолго. Незнакомец быстро вскочил на ноги и прошептал:
– Когда вам будет угодно, капитан. Я готов и, повторяю, полон сил… Но разве нам теперь что-нибудь угрожает?.. Ведь Господь, пославший вас ко мне, теперь не отсавит ни вас, ни меня.
– На Бога надейся, мессир, – отвечал Лакюзон, – а сам не плошай. Только по ту сторону этих стен мы обретем свободу, а вместе с нею возможность отомстить. И пусть эта мысль поддерживает вас, пока мы не покончим с нашим трудным делом…
– Я все выдержу!
– Тогда вперед!
– Я следом за вами. Но прежде давайте вытащим лестницу из этой ямы, прошу вас!
– Зачем?
– Хозяину Замка Орла не нужно знать, что я бежал, по крайней мере сейчас…
– Так ведь завтра он все равно все узнает?
– Нет. Слуга, приносивший мне еду, открывал окошко только наполовину и никогда со мной не разговаривал. Могли пройти годы, и Антид де Монтегю так бы и не узнал, что его узник исчез… Конечно, он все равно узнает, и скоро. Но я хочу, чтобы он это узнал от меня.
– Будь по-вашему, – согласился Лакюзон, вытащил лестницу и бегом отнес ее к складу, где перед тем взял. – Теперь, когда дело сделано, поспешим!
Капитан, а следом за ним Эглантина и незнакомец быстро направились к сводчатому проходу, соединявшему Водосборный двор с дозорным путем.
Там Лакюзон остановился и развернул веревку, которой был обмотан.
– Мессир, – обратился он к незнакомцу, – прошу вас, подойдите сюда.
– Что вы задумали?
– Закрепить веревку у вас на груди вместо пояса. Вы спуститесь первым.
– Я… первым? – переспросил незнакомец. – А почему не девушка? Спасать в первую голову нужно ее.
– Э, о Эглантине я в первую очередь и думаю. Как только вы будете внизу, я спущу ее к вам, и вы примите ее на руки.
– Коли так, воля ваша.
Капитан обвязал незнакомца веревкой и закрепил ее у него под мышками.
– А сейчас, – продолжал он, покончив с этим делом, – мы проникнем в сводчатый проход, он не длинный, но гулкий, так что там небезопасно. Придется задержать дыхание и идти на цыпочках. А когда подойдем к дозорному пути, благо луна скрыта облаками и нас не выдаст, двинемся дальше, стараясь держаться в тени стены. И помните, на карту поставлена жизнь нас троих! Молись, но только тихо и горячо, – прибавил он, обращаясь к Эглантине, – молись, девочка моя! Господь внемлет голосу невинных!
Лакюзон первым ступил в сводчатый проход – дальше он шел на четыре-пять шагов впереди, взявшись одной рукой за пистолет, а другой за эфес шпаги, держа при этом ухо востро и устремив пристальный взгляд в темноту.
За ним следом шел незнакомец – он поддерживал Эглантину, дрожавшую, как лист: от стаха быть застигнутыми врасплох ее бросало в холод. Однако мало-помалу она взяла себя в руки, и с каждым новым шагом ей казалось, что опасность отступает все дальше.
В самом деле, становилось ясно, что их опасное предприятие ждет благополучный конец.
Вот уже сводчатый проход остался позади… вот уже пройдены и две трети дозорного пути.
Они приближались к тому месту в стене, которое капитан счел самым удобным для спуска.
Еще немного осмотрительности и терпения – и они у цели… а там спасение и свобода!..
Перед беглецами во тьме смутно вырисовывался силуэт главного здания с парой освещенных окон, за которыми владетель замка лелеял свои коварные планы и грезил о будущем величии. Слева виднелась эспланада – она заканчивалась крепостной стеной, за которой была пропасть.
Губы Лакюзона зашевелились, будто произнося: Мужайтесь!.. Мы почти у цели!.. – но с них не слетело ни единого звука.
Вдруг как будто из тени главного здания возникла человеческая фигура и голос, показавшийся беглецам более громким и зловещим, чем глас трубы Страшного суда, раскатившийся эхом по Иосафатской долине[58], крикнул:
– Стой! Кто идет?
Лакюзон вздрогнул – застыл как вкопанный и, смерив взглядом расстояние, разделявшее его и злополучного караульного, прикинул, успеет ли он до него добраться одним прыжком и пронзить ударом шпаги, заставив замолчать раз и навсегда.
Но между ночным стражем и капитаном было около двадцати пяти – тридцати шагов.
– Стой! Кто идет?.. – посторил свой вопрос латник.
Лакюзон, ничего не ответив, ринулся вперед.
Солдат вскинул мушкет и спустил курок. Ночную мглу вспорола яркая вспышка, грянул выстрел, и пуля со свистом пролетела в нескольких линиях от левого виска капитана.
В это же время солдат отступил назад и, скрывшись в темноте, заорал во все горло:
– Тревога! Тревога!..
Этот зловещий крик, прозвучавший в ночи, как набат, казалось, поднял на ноги весь замок. Вспыхнули факелы, в осветившихся окнах заметались перепуганные фигуры, слышались беспорядочные возгласы латников и слуг:
– Тревога! Тревога!..
– Мы пропали! – пробормотала Эглантина, теряя силы.
– Еще не все потеряно! – возразил капитан. – Скорей назад!
И он мигом увлек их обратно.
– Полезем обратно в водосборник, – сказал им он, – и затаимся до следующей ночи.
В тот самый миг, когда беглецы прошмыгнули во двор, пятеро или шестеро слуг, перебежав его из конца в конец, скрылись в сводчатом проходе, который только что миновали наши герои. В это же время показались пляшущие огни факелов – они приближались…
– Не успеем!.. – в отчаянии прошептал Лакюзон. – Поздно!.. Господи, неужто мы здесь и погибнем?
Затем, подумав секунду, он прибавил:
– Насыпь… Скорей туда!
И они втроем кинулись к лестнице, что вела с Водосборного двора к земляной насыпи.
– По крайней мере, – продолжал капитан, закрыв за собой решетку на верху лестницы, – здесь есть где затаиться, а на худой конец можно даже обороняться – вон там, за деревьями и живой изгородью.
И они спрятались за густыми ветвями громадных самшитов, обращенных к башне.
– Капитан, – тихо-тихо проговорил незнакомец, – во имя Неба, дайте мне какое-нибудь оружие. Если нас застанут врасплох, у меня хотя бы будет последняя счастливая минута дорого продать им свою жизнь.
Лакюзон молча отдал ему свой кинжал.
Между тем суета все нарастала – и в замке, и во дворах, и на эспланаде.
Сир де Монтегю, как только услыхал выстрел и крик тревоги, самолично допросил караульного, дабы убедиться, что тот не обознался и не поднял тревогу понапрасну.
Потом, узнав со слов латника, что в замок действительно проникли посторонние, он распорядился, чтобы на стенах выставили дополнительные дозоры с факелами, и сам во главе вооруженного отряда отправился на поимку незваных гостей.
Поиски начались с Водосборного двора. Перевернули вверх дном все хранилища фуража, перетрясли все копны сена, включая и ту, которую не успели выгрузить с телеги папаши Гарба. Затем перерыли все провиантские склады, конюшни, кухни… но так ничего и не нашли.
Тогда дюжина молодцов взобралась на насыпь и принялась шарить тут и там, понося на чем свет стоит растреклятых визитеров, посмевших нарушить их отдых.
Одни предлагали поставить виселицу на эспланаде, другие – сложить костер на площадке Игольной башни, дабы напугать назидательным примером все окрестное населене.
Быть повешенными или сгореть заживо – такой вот выбор ожидал наших беглецов. Эглантина лишилась последних сил от ужаса.
Лакюзон судорожно сжимал рукоятку шпаги, а незнакомец поглаживал гарду кинжала, который отдал ему капитан.
XV. Бледная женщина
Раз десять подручные хозяина Замка Орла миновали купу самшитов, служившую прибежищем нашим героям. Но ни одному из них и в голову не пришло раздвинуть густые ветви хотя бы концом шпаги.
Эглантина не ошиблась, доверившись Божьему покровительству. В ту минуту, когда они, казалось, пропали, Господь их все же хранил.
Выбившись из сил и так никого и не найдя, латники перенесли свои поиски в другое место. Они заперли решетки. Шаги и голоса стали отдаляться – вдалеке растяли и мерцающие отсветы факелов.
Еще целый час дозорные обходили стены замка, дворы и эспланаду. Но пыла у служак заметно поубавилось. Огни один за другим погасли – и вскоре можно было услышать только неспешную и размеренную поступь караульных, число которых на крепостных стенах удвоили.
– Неужели мы спасены? – тихонько спросила Эглантина.
Капитан ответил ей так же, как и незадолго перед тем, когда она прошептала «мы пропали».
– Еще не все потеряно, девочка моя, – сказал он.
– Что дальше? – подал голос незнакомец.
– Я битый час размышляю над этим, – ответил капитан, – и, кажется, кое-что придумал, значит, худо-бедно шансы на спасение у нас есть. Я решил… и хотя в успехе моего плана вы заинтересованы не меньше меня, вы можете, конечно, отклонить мой план. Так вот, похоже, нынче ночью нам троим отсюда не уйти; караульных стало вдвое больше, и после поднятой тревоги проверять их на бдительность – значит обречь себя на верную смерть. Я предлагаю вернуться вместе с Эглантиной в подземелье водосборника – там вы будете в безопасности… А я змеей подползу к караульному, прикончу его… и мигом с крепостной стены вниз, пусть и под градом пуль. Жизнь моя в руках Господа. Если ему угодно, чтобы я остался в живых, он отведет от меня беду. На рассвете же я вернусь с моими молодцами, мы всем скопом захватим замок и освободим вас…
– Капитан, – заметил незнакомец, – уж поверьте, я говорю без всякого корыстного помысла… но, если вас убьют, что будет с бедной девочкой?
– Она пропадет, и вы заодно с нею, мне это известно, и очень даже хорошо, – горячо отвечал Лакюзон. – Но, если я останусь, она пропадет уж наверняка… Словом, с одной стороны, у нас есть шанс на спасение, а с другой – нет.
– Да-да, – тут же подхватила Эглантина, – ступай, брат, иди и ничего не бойся. Уж я-то точно знаю, ты обязательно вернешься и освободишь нас. Ну, а ежели капитан Лакюзон погибнет, зачем другим жить?
«Эх, – подумал про себя молодой человек, прижимая Эглантину к сердцу, – эх, вот если бы она любила меня!»
И уже вслух он продолжал:
– Так, значит, это ваше последнее слово – надо идти?
– Да, – отвечал незнакомец. – Смею сказать, у меня нет оснований не верить этой девушке, и я в свою очередь говорю то же самое: ничего не бойтесь… и скорей возвращайтесь!
Капитан выбрался из самшитовых зарослей и двинулся к венчавшей лестницу решетке, чтобы осмотреть Водосборный двор и убедиться, что там нет ни души.
Но, как только он подобрался к решетке, несколько человек дозорных, затаившихся во тьме вдоль лестницы, разом выскочили из укрытия и закричали:
– Они здесь… у нас в руках! Смерть им! Смерть!
В то же время сквозь прутья решетки просунулось пять или шесть мушкетных стволов.
По вине своей безрассудной смелости капитан угодил в ловушку.
Повинуясь первому невольному порыву, потому как времени на раздумья не было, он выхватил из-за пояса пистолеты и открыл огонь. После двух выстрелов двое солдат вскрикнули и покатились с лестницы.
Остальные же, вопя от ярости и страха, кинулись прочь.
– Они скоро будут здесь, – сказал капитан, вернувшись к Эглантине и незнакомцу, – и тогда их будет много больше… Эх, на сей раз мы, похоже, пропали… как пить дать!
– И уже вряд ли сможем дорого продать им свою жизнь! – в полном отчаянии вскричал незнакомец. – Ведь они не рискнут сойтись с нами в рукопашной, подлые трусы, а издали расстреляют нас из аркебуз. И перебьют, как затравленных волков!
Вдали показались огни факелов – они быстро приближались; уже слышались грозные, грубые крики…
Капитан, незнакомец и девушка отступили к закрытой решетке, той самой, что отделяла Игольную башню от остальной части насыпи.
– Вы хотели дорого продать свою жизнь? – сказал своему спутнику капитан. – Ну что ж, давайте взломаем эту решетку, заберемся на башню и там будем стоять до конца…
– На башню с привидением… – пробормотала Эглантина. – О, брат, уж лучше умереть здесь!..
Лакюзон не расслышал ее слов, исполненных суеверного ужаса. Он уже схватился за прутья решетки и с помощью незнакомца, которого годы, проведенные в темнице, как будто совсем не лишили сил, принялся трясти ее. Старания двух мужчин, удесятеренные опасностью, наконец принесли свои плоды: не выдержав напора четырех рук, железо поддалось, как свинец.
Решетка, погнутая и расшатанная, вырвалась из глубоких каменных пазов, освободив узкий, но достаточный для человека проем. Эглантина с незнакомцем пробрались через него первыми, капитан – следом за ними.
Между тем крики и огни факелов неумолимо приближались.
От двери в башню беглецов отделяли от силы десять шагов – капитан кинулся к ней с железным прутом в руках, готовый взломать ее, если она не поддастся.
И вдруг замер на месте.
Из-под земли до него как будто донесся странный голос:
– Лакюзон!.. Лакюзон!..
Капитан резко нагнулся и, тут же распрямившись, сказал:
– Мы спасены!
Он нащупал рукой решетку, о которой ему говорила Маги, – ее проделали в своде для стока дождевой воды.
– Помогите! – обратился он к незнакомцу.
Они на пару схватились за тяжелую, ржавую решетку, вросшую в камень, приподняли ее и увидели под нею зияющий черный проем водосточного желоба.
Подземный голос послышался снова:
– Лакюзон!.. Лакюзон!.. Смелей!..
Веревка, предназначенная для спуска с крепостной стены, все еще была обмотана у незнакомца вокруг пояса. Капитан схватил один ее конец.
– Я буду держать вас, – сказал он, – полезайте вниз. Когда спуститесь, отвяжите веревку, чтобы я мог вытащить ее, и приготовьтесь принять Эглантину.
Незнакомец, не говоря ни слова, ибо каждая секунда промедления могла стоить им жизни, пожал Лакюзону руку, живо полез в распахнутый темный провал и вскоре исчез там.
Не прошло и минуты, как капитан почувствовал, что веревка ослабла. Он дернул за нее, и она свободно пошла вверх. Незнакомец благополучно коснулся ногами земли.
– Теперь ты, Эглантина, – прошептал Лакюзон, обращаясь к девушке.
Она ничего не ответила – только вскрикнула от ужаса и тут же упала навзничь без чувств, успев выговорить всего лишь одно слово:
– Призрак…
У капитана волосы на голове стали дыбом. Дверь в башню бесшумно отворилась, и в четырех шагах от него появилась смутная бледная тень, казавшаяся в ночной мгле немыслимо огромной, – она застыла перед ним в неподвижности.
– Свят, свят!.. – проговорил Лакюзон, творя крестное знамение и касаясь пальцами лба, влажного от холодного пота. – Изыди!..
Но призрак, вместо того чтобы исчезнуть, шагнул вперед.
Налетевший с севера ветер начал разогнять мрачные тучи, расчищая небосвод.
В одном из просветов показалась луна, на мгновение озарившая своим сиянием насыпь и всех участников описываемой нами странной сцены.
Капитан успел различить женское лицо, до того бледное и осунувшееся, что казалось, будто оно принадлежит мертвой.
А бледная женщина, вернее, призрак, смогла разглядеть у капитана на груди сврекающую бриллиантовую розочку.
При виде ее она пошатнулась, потом бросилась к молодому человеку, упала перед ним на колени и, обхватив их руками, и приглушенным от волнения и изнеможения голосом едва внятно проговорила:
– Моя дочь!.. Где моя дочь?.. Во имя вашей матери, скажите, где моя дочь?
Капитан больше не верил в то, что перед ним призрак, зато ему казалось, притом почти наверняка, что перед ним опасная сумасшедшая, от которой нужно избавиться любой ценой. Если она и дальше будет хватать его за руки, как сейчас, то он пропал, а вместе с ним и Эглантина.
Уже было слышно, как латники и слуги, перекликаясь меж собой и подбадривая друг друга, занимали насыпь. Конечно, страх встретить такой же прием, какой был оказан их товарищам, немного охладил их пыл. Но это было ненадолго.
На эспланаде послышался голос Антида де Монтегю.
– Вперед! – кричал владетель Замка Орла. – Окружайте насыпь и, как только подойдете к ним на расстояние выстрела, разом открывайте огонь!
– Сударыня, – проговорил Лакюзон, пытаясь высвободиться из судорожно хватавших его рук бледной женщины, – во имя Неба, прекратите… вы же меня погубите.
– Моя дочь!.. – со все возрастающим возбуждением твердила свое женщина-призрак. – Где моя дочь?..
– Да откуда мне знать? И почему вы уверены, что я дожен это знать?! Мы с вами не знакомы. И вашу дочь я тоже не знаю. Они идут… о Господи… идут! Оставьте же меня, сударыня, во имя Неба, оставьте!..
Женщина вдруг вскочила с колен и, схватившись за бриллиантовую розочку, продолжала:
– Тот, у кого этот медальон, должен знать, где моя дочь…
От ее слов капитана точно громом ударило.
– Вы… – воскликнул он, – так это вы?..
И тут же прибавил:
– Ночь на 17 января, верно?..
– Да… да… да… – прервала его бледная женщина. – Тогда, в ночь на 17 января 1620 года, родилась моя дочь… И человек, которому сеньор де Монтегю отдал бедную мою малютку, вырвав ее у меня из рук… человек, которому я, рискуя жизнью, передала медальон, что сейчас на вас… тот человек оставил на первой арке свода след своей окровавленной руки. Видите, я говорю правду… И вы должны знать, где моя дочь… И если у вас есть сердце, вы сжалитесь надо мной!..
Слуги с зажженными смолистыми ветками и латники с мушкетами навскидку уже продвигались сквозь мрак вдоль основания Игольной башни.
Громадный силуэт Антида де Монтегю с аркебузой в руке резко выделялся на фоне освещенных построек.
– Вот уже восемнадцать лет я проливаю слезы и взываю к моей доченьке! – продолжала бледная женщина. – Будьте же и вы милостивы, как наш Господь, сострадающий отчаяшимся матерям… Скажите, где моя дочь?
Время шло – круг вооруженных людей сужался.
Ярко мерцающие блики факелов уже проникли за первую решетку…
Еще минута – и шанс на спасение был бы потерян!
Лакюзон поднял недвижное тело Эглантины и, передав девушку на руки женщине-призраку, крикнул:
– Вот дитя, родившееся в ночь на 17 января 1620 года. Вот ваша дочь! Ее зовут Эглантина. Она думает, что ее мать умерла, а человек, тот самый врач бедняков, оставивший след окровавленной руки на своде, ее отец. Примите же ее! Спрячьте и сберегите!.. Я Жан-Клод Прост… я капитан Лакюзон. Скоро я вернусь за вами обеими…
Крик, а вернее, радостный вопль замер в горле бледной женщины. Она жадно обхватила руками возвращенное ей бесценное сокровище, затем, подняв Эглантину, точно дитя из колыбели, с нечеловеческой силой, которая таится вся целиком в нервах и воле, рванулась с места и скрылась в Игольной башне – тяжелая дверь за нею закрылась.
А Лакюзон меж тем прошмыгнул к проему, проделанному в своде.
И, вверив свою душу Господу, провалился в темноту.
Отблески факелов, полыхавших уже совсем близко, осветили голову и плечи молодого человека.
– Огонь! – яростно вскричал владетель Замка Орла.
Разом грянули двадцать мушкетных выстрелов. Град пуль обрушился на гранитные глыбы, покоившиеся в основании башни.
Но было поздно. Лакюзон буквально скозь землю провалился.
XVI. Бегство
Упираясь руками и коленями в стенки узкого желоба, капитан беспрепятственно спустился на вершину каменисто-песчаного откоса, над которым громоздилась остроконечная скала, увенчанная Игольной башней.
Несколько дыр на платье и царапин на руках – вот и все досадные последствия этого смертельно опасного спуска.
Тут же вскочив на ноги, Лакюзон, к своему удивлению, увидел, что незнакомец не один.
Рядом с ним стояла какая-то женщина, но в темноте он ее не признал.
– А, капитан? – проговорила женщина. – Что-то вы припозднились. Мы уж от тревоги и страха места себе не находим.
– Маги! – воскликнул Жан-Клод, услышав знакомый голос.
– Да, Маги… бедная Маги, которую преподобный Маркиз, когда вы ушли, приказал держать как пленницу в Гангоновой пещере до вашего возвращения. Но, как видите, капитан, я правильно сделала, что сбежала, иначе мне навряд ли удалось бы спасти вам жизнь, или, может, я ошибаюсь?
– Так это вы, – удивился Лакюзон, – сперва дважды окликнули меня по имени, а после крикнули: «Смелей!»?
– Да, я.
– Дайте же вашу руку!
– Что вы хотите с нею делать, капитан?
– Я хочу ее пожать… как руку верного друга… как настоящего храбреца!
Маги взяла руку героя и поднесла ее к губам.
– Ах, – вслед за тем проговорила она, – это слишком большая награда за ту малость, которую я смогла сделать.
И руку капитана оросили слезы умиления, упавшие из глаз старухи.
– А что с Эглантиной? – спросил незнакомец. – Надеюсь, с ней не приключилось никакой беды.
– Не волнуйтесь, – ответил Жан-Клод, – если б Эглантине угрожала опасность, я бы скорее погиб рядом с нею, чем бросил ее… Она в безопасности, и в куда большей, чем сейчас мы с вами. И если Господь оставит меня в живых, она завтра же будет на свободе.
– Но что с нею сталось?.. – воскликнул незнакомец.
Лакюзон его прервал.
Чтобы сообщить незнакомцу о том, что произошло с девушкой, пришлось бы поведать ему во всех подробностях и о трагических событиях, произошедших в ночь на 17 января 1620 года, а капитану вовсе не хотелось пускаться в столь долгий рассказ.
– Мессир, – сказал он, – не требуйте от меня никаких объяснений, прошу вас, и ни о чем не расспрашивайте. Я ничего не могу вам рассказать, поскольку это тайна, и не моя… Еще раз уверяю вас, Эглантина, моя возлюбленная сестра, в безопасности, и это должно вас успокоить вполне. Да и время поджимает: люди Монтегю, конечно же, обойдут замок кругом и нас найдут… Надо скорей спускаться в Илайскую долину – только там мы будем в полной безопасности.
И, подкрепляя слова действиями, капитан двинулся вперед первым, но прежде прибавил:
– Я молод и силен, мессир, да и ноги мои к горам привычные, так что обопритесь на мое плечо, потому как впереди вас ждут трудности, которые вы, верно, и представить себе не можете.
– Я тоже к горам привычен, – отозвался незнакомец. – В былые времена я мог с легкостью одолеть любой скальный отвес. Но за двадцать лет ноги мои уж наверняка отвыкли карабкаться по родным горам!.. Я принимаю ваше предложение, капитан.
Лакюзон сказал правду. Было чрезвычайно трудно удерживать равновесие на неровной земле почти отвесного склона. Ноги то поскальзывались на окатанной гальке, то проваливались в песок. Рука тщетно искала хоть что-нибудь, за что можно было бы уцепиться: кругом ни кустика, ни каменного выступа… даже пучка травы – ничего. Только голый склон! А один неверный шаг грозил неизбежным падением с высоты несколько сотен футов на дно долины – иными словами, это означало верную смерть.
Кромешная мгла делала путь еще тяжелее, хотя, с другой стороны, она скрывала беглецов, защищая от града мушкетных пуль, которым их непременно накрыли бы со стен замка, если бы, не ровен час, заметили сверху.
Маги спускалась первой, с оглядкой и на каждом шагу ощупывая спуск концом палки.
Через четверть часа с лишним Лакюзон, незнакомец и Маги наконец добрались до хоть и узкой, но утоптанной дороги, что вела в Замок Орла из Менетрю-ан-Жу.
Здесь Лакюзон остановился.
– Мессир, – обратился он к незнакомцу, – вот теперь, и только теперь мы спасены. Можете вздохнуть спокойно и поблагодарить Бога, ибо с этой минуты вы действительно свободны.
– Я уже поблагодарил Бога, капитан, – ответил незнакомец. – Но не успел сказать спасибо вам, как было бы должно. После Господа я всем обязан именно вам, но мне не хватает слов, чтобы выразить вам мою признательность честь по чести – чувства перемолняют мое сердце. К счастью, капитан, я надеюсь, что чуть погодя мне выпадет случай сполна вернуть вам долг благодарности, который у меня есть перед вами.
Лакюзон пожал старику руку и, обращаясь к Маги, сказал:
– Мне крайне неловко…
– Отчего же так, капитан?
– Вот вы показали нам пример преданности, достойной самого высокого восхищения, оказали неоценимую помощь, а я вынужден поступить по отношению к вам не вполне справедливо…
– Не стесняйтесь, капитан, выкладывайте все начистоту.
– Здесь мне придется оставить вас, а вы, прошу, идите к Со-Жирару и ждите – за вами придет Гарба.
– Это еще почему?
– Потому что я возвращаюсь в Гангонову пещеру одним из потайных ходов, о которых знаем только мы: Варроз, Маркиз и я – и мы поклялись друг другу не показывать их ни одной живой душе на свете. Вам, Маги, я доверяю совершенно безгранично, вы это вполне заслужили, но мне все же придется сдержать клятву.
– Ну что ж, – вздохнула старуха и, кивнув на незнакомца, спосила: – А этот благородный сеньор?
– Я попрошу, чтоб он позволил мне завязать ему глаза, когда мы подойдем к месту, откуда начинается подземный ход.
– Капитан, – улыбнулась Маги, – не терзайтесь совестью. Я могу пойти с вами, и вы не нарушите свою клятву.
– Что вы хотите этим сказать?
– А то, что я и сама могла бы провести вас куда надо, потому как давным-давно знаю все ходы в Гангонову пещеру.
– Не может быть! – удивился Лакюзон.
– Еще как может! – возразила Маги. – Это истинная правда, и сейчас я вам докажу.
Она подошла к капитану и что-то тихонько шепнула ему на ухо.
– Странная женщина… – выслушав ее, проговорил он. – Как же вы узнали?..
– То, что известно только вам троим? – прервала его Маги. – Могу сказать: я же ведьма – да вы, может, не поверите.
– Да, конечно же, не поверю. Потому что вы добрый ангел, а вовсе не злой гений.
– Смею вам напомнить, – продолжала старуха, – я вот уже два десятка лет не имею крыши над головой и постоянно скитаюсь по всей округе, так что в наших горах мне занкомы каждый камешек, каждая пещера, любой источник и любое, даже самое старое дерево.
– Тогда идемте с нами, – согласился капитан.
Вместо того чтобы свернуть влево – к Эриссону и двинуться дальше к Со-Жирару, Лакюзон со своими спутниками повернул направо и взобрался на круглый холм, откуда славная, крепкая вдовушка Готон заметила, как Рауль де Шан-д’Ивер разглядывал Игольную башню.
Вслед за тем капитан направился к лесу Менетрю-ан-Жу, покрывавшему горные склоны.
После нескольких минут быстрой, безмолвной ходьбы Лакюзон замедлил шаг.
– А теперь, – обратился он к Маги, – объясните мне, на милость, насколько правдива та новость, которую вы давеча сообщили сиру де Монтегю?
– Вы о том, как схватили преподобного Маркиза?
– Да.
– К несчастью, все это правда… Единственно, я сказала графу, что не признала пленника, потому как с нами была Эглантина и мне не хотелось, чтобы бедняжка страдала еще горше. Однако, признаться, я здорово приврала насчет подробностей моей встречи с Брюне.
– А что было на самом деле?
– Сейчас расскажу. Ну вот, сразу после вашего ухода, как вам уже известно, преподобный Маркиз наказал Железной Ноге передать меня под охрану двоих горцев, велев им не спускать с меня глаз. Это меня мало беспокоило, потому что я хорошо помнила тайну подземелья и знала, что могу выбраться на свободу, когда мне заблагорассудится. Я улеглась на кучу соломы и претворилась, будто сплю. Через час мои охранники малость утратили бдительность, когда вдруг прибежал какой-то горец и рассказал, что шайка серых, уцелевших, видно, после резни в Сен-Клоде, скитаясь по округе, спалила два крестьянских двора, а хозяев порубила. Тут в пещере поднялся шум и преподобный, в красной своей мантии, прихватив с собой человек двадцать горцев, пустился в погоню за серыми. Я же воспользовалась шумом и суетой и проскользнула в подземелья Гангоновой пещеры, а там потайным ходом вскорости выбралась на свет божий…
Меня тревожила ваша затея, капитан, потому как уж больно опасное дело вы задумали. Я готова была отдать половину из тех дней, что мне еще осталось жить на этом свете, чтобы пойти следом за вами и в случае надобности вам помочь. Сперва я думала попасть в Замок Орла вместе с другими ленниками, что привезли свои подати. Но это была глупая мысль. Ведь каждая собака в округе знает, что за душой у Маги-ведьмы нет ни гроша и расплачиваться ей не за что, да и не с кем. К тому же в своей ненависти ко мне, слепой и беспричинной, крестьяне первые же выдали бы меня, и это еще слава богу, если бы меня просто прогнали с позором…
Тогда я решила походить-побродить вокруг замка и поглядеть на тот опасный проход, о котором я вам говорила. Но днем совать туда нос я не могла, и тогда, решив дождаться ночи, я побрела в Шарезьерский лес и села там под деревом. И вот ближе к вечеру, когда только-только начало смеркаться, я увидела там стычку, о которой и рассказала сеньору де Монтегю. Серых было много – они разбили коников в пух и прах, а преподобного Маркиза захватили в плен… Мне было нипочем его не спасти. И я притаилась под деревом, как мышь. Капитан Брюне – я его сразу признала – со своими подручными прошел в двух шагах мимо меня, и мне было хорошо слышно, как он сказал кому-то из своих: «Вы, лейтенант, примите на себя командование отрядом сопровождения и отведете пленного в ущелье, что пересекает реку близ Клерво. Переправитесь на правый берег, и там вас будет дожидаться человек, который скажет вам пароль… А я покидаю вас: меня к десяти часам будет ждать хозяин. Надеюсь, ночью вас нагнать. А вы глядите в оба! За “красную мантию” отвечаете головой!..»
Засим серые ушли прочь, а капитан Брюне двинулся один в сторону Замка Орла. Понятно, что хозяином, которого он помянул, был Антид де Монтегю – во всяком случае, у меня не было на сей счет ни малейшего сомнения.
Надо сказать, капитан, что я знала про потайной ход в нижней части крепостной стены: он спрятан за кустами, и я частенько видала, как им пользовались Лепинассу и Брюне.
Брюне, само собой, собирался пройти им и в этот раз. У него был ключ от потайной двери, и, если б мне удалось его каким-то образом заполучить, половина дела была бы сделана. Но для этого надо было помешать плуту попасть в замок.
План у меня созрел довольно быстро…
В получасе ходьбы от того места, где тогда находился Брюне, тропинку, как вам, должно быть, известно, капитан, пересекает глубокий овраг, через который переброшен ствол ели – вместо моста.
Я обогнала пройдоху, кинувшись со всех ног напрямки через чащу. Перебралась через овраг, подтянула к себе ствол ели так, чтобы другим концом он едва касался каменной опоры на противоположной стороне провала, и затаилась в траве.
Через пять или шесть минут я услышала, как подошел Брюне. Он весело напевал брессанскую песенку, которую частенько исполняет Гарба. Я обождала, пока он не взобрался на шаткий «мосток», и потом, когда он уже был над серединой оврага, резко рванула ствол на себя.
Брюне дико завопил и вместе со стволом рухнул в овраг.
Я осторожно полезла вниз и там, на дне, увидала, что капитан лежит замертво с проломанным черепом. Я обыскала его и нашла тот самый ключ от потайного хода, через который собиралась попасть в замок.
По дороге туда я все думала, как бы половчее извлечь выгоду из моего положения. Граф Монтегю ждал Брюне… – что если заявиться вместо капитана, сочинив правдоподобную историю, почему пришла я, а не он, и постараться заслужить доверие графа. И я придумала, благо стараться особо не пришлось, – все вышло самым наилучшим образом: сеньор де Монтегю охотно заглотил наживку… Так что теперь, капитан, вы все знаете не хуже моего.
– Значит, – спросил Лакюзон, – вы уверены, что преподобного Маркиза повели в замок Клерво?
– Уверена – по крайней мере, в том, что его должны были передать сиру де Боффремону, чтобы тот присматривал за ним.
– Еще до завтрашней ночи преподобный Маркиз будет на свободе, а Боффремон займет его место – пленника! – воскликнул Лакюзон.
– Позволите, капитан, мне высказать… нет, не совет, а мнение?
– Конечно.
– Ну что ж, поверьте мне и не торопитесь с задуманным: спешка до добра не доведет. Прикиньте, ведь, кроме вас, больше никто не знает, что граф де Боффремон – изменник. Прикиньте, ведь преподобного Маркиза наверняка будут держать не в самом замке Клерво, а в какой-нибудь потайной темнице. Прикиньте, наконец, что у нас есть способ быстро узнать обо всем, что происходит, положась на доверие наших врагов, ведь сеньор де Монтегю самолично вручил мне письмо с кольцом, которые позволят мне приблизиться к сиру де Боффремону.
– Но это письмо нам нипочем не расшифровать!
– Вы что же, думаете, я не догадаюсь о его содержимом по впечатлению, которое оно произведет на того, кому адресовано? Думаете, оказавшись в замке Клерво, я не сумею раздобыть важные сведения?
– Ну да, конечно, а что, если из-за моей осторожности Маркиз угодит на костер, который давеча уготовили Пьеру Просту?
– Не тревожьтесь, капитан, у вас впереди еще целый день. Ежели преподобному Маркизу суждено умереть, то не сейчас и не здесь. Он фигура важная и стоит слишком высоко, чтобы Монтегю дал расправиться с ним каким-то серым и шведам, вместо того чтобы отправить его в качестве живого трофея во Францию.
– Может, вы и правы, – ответил Лакюзон. – Во всяком случае, я ничего не стану предпрнимать, не посоветовавшись с полковником Варрозом, а заодно и с вами, ибо слишком большие услуги вы всем нам оказали.
Разговор шел, пока путники поднимались по крутому склону, что вел в лес Менетрю-ан-Жу.
Вскоре они ступили под мрачный зеленый свод, образованный кронами вековых елей.
Пока наши путники шли по открытым местам, бледный свет, струившийся с небес, худо-бедно помогал им искать верную дорогу; теперь же, в густых сумерках, Лакюзон и Маги, в отличие от их спутника, слишком дорогой ценой обретшего способность видеть в кромешной тьме, боялись сбиться с пути и угодить в глубокие трещины, тут и там встречающиеся на Юрских плоскогорьях.
– Капитан, – сказала старуха, отломив несколько сухих веток, – пусть они будут нам заместо факела. Я пойду первой, чтобы лучше приглядываться к местности.
Лакюзон нарвал сухого мха и чиркнул огнивом. Маги подула на мох, и он тут же занялся зыбким пламенем, от которого подожгли только что сорванные еловые ветки. Вооружившись самодельным факелом, женщина двинулась вперед, водя над головой этим смоляным светочем, от которого тянулись вверх длинные, извивающиеся нити белого дыма.
Только теперь Лакюзон мог впервые приглядеться к своему спутнику.
Черты лицо у незнакомца были безупречно правильной формы, хотя само лицо было бледным, как у мраморной статуи, и седые волосы и борода лишь едва оттеняли эту мертвенную белизну.
Вдруг капитан вздрогнул и в изумлении всплеснул руками.
– Что с вами? – спросил незнакомец, заметив его странный жест.
– Мессир, – проговорил Лакюзон, – два часа назад в том каземате, где вам пришлось целых двадцать лет прождать своего освободителя, вы назвали меня по имени… Не угодно ли вам, чтобы теперь я назвал ваше?
– Мое? – удивился незнакомец. – Да откуда же вам его знать? Я и сам-то почти забыл его.
– Какая разница, откуда, главное – знаю!
– Быть того не может, – ответил незнакомец. – Только Господь Бог да владетель Замка Орла помнят теперь это имя. Ибо оно принадлежит человеку, которого больше не существует.
– И главе рода, который может снова зацвести! – тут же возразил капитан. – Человеку, живому и крепкому, память о котором не изгладилась в благородных сердцах местных жителей. И человек этот – франш-контийский барон Тристан де Шан-д’Ивер.
Незнакомец застыл как вкопанный и устремил на Лакюзона взгляд, исполненный глубочайшего удивления.
– Неужто сам Господь, – пробормотал он, – начертал это имя на моем испещренном морщинами лбу?
– Может, и так, – согласился капитан.
– Не понимаю вас…
– Я вам все объясню, мессир, но только позже. А пока я жду от вас обещанных признаний. Я заслужил право услышать рассказ о ваших мытарствах.
– Это будет долгий рассказ, – ответил старик, которому отныне мы вернем его настоящие имя и титул, – и если б не один странный и жуткий случай, похожий скорее на сон, чем на явь, не привнес горькое разнообразие в тяжкие муки двадцатилетнего заточения, его можно было бы передать несколькими словами: я страдал столько, сколько не дано ни одному человеку на свете… Ну что ж, слушайте, и, когда услышите, вы поймете, откуда в сердце моем взялась эта неугасимая ненависть и как она крепла… поймете, почему я готов с радостью отдать не только оставшуюся часть моей жизни в этом мире, – ведь это сущий пустяк! – но и долю своего счастья в мире ином, лишь бы достойно отомстить Антиду де Монтегю!..
XVII. Тристан
После его последних слов ненадолго наступила тишина, а потом барон Тристан спросил капитана:
– Что вы обо мне знаете?
– Я знаю только слухи, распространившиеся по округе после пожара в замке Шан-д’Ивер, и больше ничего. Как и многие, я всегда считал, что в ваш замок ударила молния и вы погибли в пожарище вместе с единственным вашим сыном. Однако теперь у меня есть серьезные основания судить иначе. Там, где прежде я усматривал злую волю случая, отныне я вижу двойное злодеяние: убийство и поджог, – и в том, и другом душа моя и совесть обвиняют Антида де Монтегю.
– Можно узнать, что же так сильно повлияло на ваши суждения?
– Скоро узнаете, мессир, а пока, умоляю, ни о чем меня не спрашивайте!
– Однако ж вы верили в мою смерть?
– Так же твердо, как если бы своими глазами видел ваше тело.
– Почему же?
– Одному старому слуге показалось, что он видел ваше окровавленное тело в горящей кровати.
– Но в таком случае, капитан, как вы могли догадаться, кто я такой? Старик, возможно, меня и признал, но вы-то сами тогда были ребенком… Нет, здесь есть какая-то загадка, и постичь ее я пока не в силах.
Слушая эти бесконечные вопросы, Лакюзон чувствовал себя крайне неловко.
Еще за двести с лишним лет до появления блистательного шедевра госпожи де Жирарден «Пугающая радость»[59] он знал, что внезапная радостная весть, способна поразить, а то и убить, так же, как самая острая боль. Ему не хотелось вот так сразу рассказывать барону де Шан-д’Иверу, что Рауль жив и что благодаря сходству с сыном он узнал отца.
Поэтому он довольствовался таким ответом:
– Я снова заклинаю вас, мессир, наберитесь терпения! Очень скоро вы узнаете все, что должны знать, и тогда поймете, почему я не мог сказать вам это раньше.
Тристан смирился.
– Что бы вы ни делали, все к лучшему, – молвил он. – Я подожду подходящей минуты.
Затем он продолжал:
– Старый слуга, Марсель Клеман, конечно, который видел меня в крови и без сознания в охваченном пожаром замке, ничуть не ошибся. Огонь и злодеи застали меня врасплох – я даже не мог защищаться. Десять вооруженных человек, и среди них один в черной маске – владетель Замка Орла, накинулись на меня и пронзили шпагами. Я потерял сознание, уверенный, что умру…
Очнулся я уже в темнице – том самом каземате, откуда вы вытащили меня пару часов тому. Я потреля много крови. И так ослаб, и был до того разбит, что поначалу не понял, куда попал.
Первое время, проведенное в заточении, я помню плохо, отрывками и нечетко. Я вижу все, словно сквозь пелену, туманящую мои воспоминания; это похоже на сны, ты забываешь их, как только просыпаешься, и они оставляют в сознании лишь расплывчатые, смутые следы, которые мало-помалу стираются.
Лежа на соломе в глубине темницы, я чувствовал, как кровь уходит из моих жил, а душу покидает надежда – я даже не чувствовал страданий. Тело мое умирало – разум уже был мертв!
Прошли долгие часы, дни и месяцы, а физических и душевных сил у меня ничуть не прибавлялось. Я чувствовал, что стал жертвой какой-то чудовищной напасти. Думал, что жизнь моя кончена и что ни одна беда не может сравниться с постигшим меня неописуемым несчастьем. У меня не было сил сопротивляться. Сознание мое постепенно притуплялось, как у путника, который засыпает в снегу и замерзает, но даже не пытается бороться со сном и смертью… Лишь изредка и совершенно бессознательно я рвался в помыслах своих на свободу. И невольно искал всякие безрассудные способы бежать… Я метался по темнице, точно волк, загнанный в клетку. Бросался на стену, силясь дотянуться до отдушины, через которую мне бросали еду. Потом, выбившись из сил, которые расходовал без толку, я падал в изнеможении и приходил в полное оцепенение…
Вслед за странной спячкой, после долгого полузабытья, меня охватывали приступы исступленного отчаяния. Я кричал от ярости, проклинал все и вся, богохульствовал. Я разбил себе руки, сломал ногти о гранитные стены! Но время ярости прошло так же, как и время оцепенения.
На смену им пришло мрачное, холодное уныние. Мне хотелось умереть… В течение многих дней я не притрагивался ни к хлебу, ни к воде.
Я впал в агонию. Но муки голода притупили мою решимость, и я начал есть. А вместе с силами ко мне вернулось безмерное отчаяние. Я снова решил свести счеты с жизнью – одним разом, чтобы больше не мучиться в долгой, невыносимой агонии. Я собрался с духом – и раз десять нащедно кидался головой на гранитную стену в надежде, что удары будут смертельны. Раз десять поднимался я, весь в крови, и принимался биться о стену снова и снова, и так до тех пор, пока совсем не ослаб. И больше не мог подняться. Мне казалось, смерть уже близко. В глубине души я благодарил Бога, соблаговолившего наконец сжалиться надо мной, и лишился чувств…
Тристан де Шан-д’Ивер, будто под тяжестью воскресших в нем скорбных воспоминаний, склонил голову на грудь и ненадолго смолк.
Слушая леденящий кровь рассказ обо всех этих неописуемых страданиях, – рассказ человека, который сам их пережил, Лакюзон побледнел, и время от времени ему приходилось вытирать холодный пот, выступавший у него на лбу.
Между тем старик продолжал:
– Но, как видно, свыше мне было предначертано выжить, и благодаря вам, капитан, сегодня мне представилась возможность возблагодраить Господа за то, что он не внял давним моим горячим мольбам…
И вот однажды, пребывая в беспамятстве, я припал головой к стене. А когда очнулся, мне вдруг почудилось, что в моей темнице, рядом со мной, говорят люди. Для узника любое необычное событие несет с собой надежду…
Я живо вскочил, желая получше разглядеть, что за нежданные гости ко мне вдруг пожаловали. Но в темнице не было ни души, и я больше ничего не слышал.
Я решил, что мне и впрямь почудилось, и снова уронил голову. Но едва коснулся стены, как голоса послышались вновь.
Я отпрянул от стены – тишина… Приблизил ухо к стене – голоса звучат снова…
Так я и открыл странное свойство стен моей сводчатой темницы, способных пропускать звуки.
Это открытие пробудило во мне громадное любопытство и некоторым образом вернуло к жизни. Теперь я уже не был один-одинешенек; по крайней мере, отныне я не был обречен слышать только скрежет открывающегося наполовину оконца, через которое мне бросали грубую, скудную снедь. До моего слуха долетало отдаленное эхо из мира людей – оно давало пищу для моего изголодавшегося сознания.
С той поры я не отходил от того места, где было слышно все, о чем говорится наверху, – и только Богу ведомо, сколько зловещих тайн открылось мне таким вот образом…
И вот я подхожу к той ужасной ночи, при одном лишь воспоминании о которой у меня даже сейчас, когда я говорю с вами, замирает сердце…
Как-то раз я так и заснул, припав головой к скале.
Меня разбудили душераздирающие крики и оглушительный звон ударяющихся бокалов, словно наверху царила безумная оргия. Потом пьяный голос хозяина замка зашептал какие-то слова, вернее, хулу постыдной любви, а другой голос, ввергнувший меня в дрожь и всколыхнувший мне душу до самых глубин, отвечал ему жалобами, мольбами и проклятиями.
И этот голос показался мне как будто знакомым: он принадлежал женщине, которую я любил всем сердцем. Это был голос Бланш, моей милой, невинной суженой, пропавшей без вести при странных обстоятельствах, о которых мне нет надобности вам напоминать.
Мне казалось, что я во власти жуткого кошмара. Хотелось вскочить и броситься на помощь этой несчастной, над которой измывался Антид де Монтегю… хотелось откликнуться на ее отчаянный зов и присоединить мои проклятия к ее вскрикам… но полное бессилие, сравнимое разве что со смертью, приковало меня к земле, на которой я распростерся. Голос застыл у меня в горле, а губы, хотя и шевелились, не могли проронить ни звука.
Однако шум не унимался, и я мысленно следил за всеми перипетиями жуткой борьбы, исход которой был заранее предопределен…
Грубая заносчивость негодяя, опьяненного вином и сладострастием, достигла предела – стенания и мольбы жертвы стихли. Силы изменили ей!..
Наконец Антид де Монтегю издал торжествующий вопль – ему вторил лишь слабый хрип отчаяния, похожий на предсмертный стон.
Только что свершилось самое гнусное, самое чудовищное злодеяние…
После долгой тишины я услыхал звон колокольчика, а следом за тем Сир де Монтегю воскликнул: «Унесите ее!..»
Потом снова наступила тишина, и я подумал, уж не пригрезилось ли мне все это?.. Тот же самый вопрос я задаю себе и сейчас, ибо с тех пор сверху не доносилось ни единого слова о той немыслимой сцене, о которой я невольно узнал…
Однако горячее, неотвратимое желание распознать скрытую от меня истину вернуло мне силы, а вместе с ними и неутолимую жажду свободы. По двадцать раз на дню слышал я за стеной моего каземата непонятный шум: дожно быть, это слуги или конюхи приходили к водосборнику. Мне казалось, что если б я сумел пробить стену в этом месте, то смог бы убежать…
Из ржавого железного ошейника, валявшегося на полу, я смастерил некое подобие резца – и взялся за дело… Работа была титанической. У меня ушли, нет, не дни и даже не месяцы, а годы на то, чтобы проделать узенькую щелочку в глыбе гранита, о который крошилось даже железо.
Наконец я совершил то, к чему стремился, не жалея сил! Я одолел гранитную твердь.
И можете себе представить отчаяние, овладевшее мной, когда я увидел, что единственным результатом всех моих усилий, всех моих трудов стала не одна темница, а две!
Как я пережил столь ужасное разочарование?.. Сказать по правде, даже не знаю. Могу предполагать лишь одно: Господь, зная, что вы даруете мне свободу, не захотел моей смерти…
Вот и вся история моего заточения, капитан. Так что теперь вы, надеюсь, понимаете, какое место в моей душе занимают два этих чувства: безграничная признательность вам и неугасимая ненависть к Антиду де Монтегю!..
На этом Тристан де Шан-д’Ивер смолк.
А Лакюзон погрузился в глубокие мрачные раздумья – и в течение нескольких минут тоже хранил молчание.
– Мессир, – наконец заговорил он, – вы могли, сидя в подземной темнице, сосчитать точное время вашего заточения?
– Да, – ответил старый барон. – Для меня это было своего рода развлечение – подсчитывать годы, месяцы и дни, я даже нашел способ избежать малейшей ошибки в счете…
– И как же это у вас вышло?
– Каждую неделю я делал по зарубке на скале.
– Тогда вам нетрудно уточнить и время, когда произошла странная сцена – не то сон, не то явь, – когда владетель Замка Орла надругался над той несчастной девушкой.
– Это проще простого.
– Тогда скажите, прошу вас.
Тристан де Шан-д’Ивер ненадолго задумался, потом сказал:
– Та сцена, должно быть, произошла в мае 1619 года.
– Ах!.. – вздохнул Лакюзон и тихо прошептал: – А ведь Эглантина родилась в замке Орла в феврале 1620-го!.. Теперь нет ни малейших сомнений, что она – дочь Бланш де Миребэль и этого мерзаца, Антида де Монтегю!
Старый барон собрался было полюбопытствовать, почему капитан его об этом спросил.
Но не успел.
XVIII. Лазутчики
В это время Маги, которая по-прежнему шла впереди двух наших героев, спустилась на дно узкого овражка – там она остановилась напротив высокой, гладкой скалы, подножие которой буквально утопало в зарослях дрока и еще какого-то вечнозеленого колючего кустарника.
– Мессир, – обратился к Тристану Лакюзон. – Мы уже у цели, и, чтобы сохранить верность клятве, которая связывает меня, я вынужден завязать вам глаза… Нет нужды прибавлять, что, как только полковник Варроз и преподобный Маркиз узнают вас, они предоставят мне право больше ничего не скрывать от вас.
– Что бы вы ни делали, капитан, все к лучшему, – ответил Тристан, склоняя свою седую голову перед Лакюзоном, который уже был готов завязать ему глаза.
Маги раздвинула кусты, прикрывавшие сплошной сетью подножие скалы, и за ними, внизу, показался узкий проем, куда можно было пролезть только на карачках.
Старуха полезла в ту расселину первой. Капитан пропустил Тристана де Шан-д’Ивера вперед, потом сдвинул обратно и оправил кусты и последовал за бароном.
Через двадцать шагов можно было уже встать на ноги и идти дальше, не пригибая головы. Подземный сводчатый проход мало-помалу расширялся, превращаясь в галерею.
– Мессир, – спросил Тристана капитан, – вы смогли бы один и без наводок отыскать проход, через который мы вошли?
– Нет, конечно, – ответил старый барон.
– Вы клянетесь?
– Даю слово чести.
– В таком случае ничто не мешает вам снять повязку. Я не нарушил правил, поскольку вы не знаете тайну пещеры.
Тристан сорвал с глаз платок и, отдав его молодому командиру, сказал:
– Если честно, капитан, так-то оно лучше… Разве можно объяснить словами, насколько опостыла мне тьма за столько лет, проведенных в подземелье?..
Сводчатый проход, напомним, становился все шире перед нашими ночными странниками; влажный, холодный воздух, овевавший их лица, затруднял дыхание. Их тихая поступь отдавалась странным гулким эхом вдали, пробуждавшим сонмы других звуков, будто затаившихся в расщелинах скальной породы.
Галерея, по которой наши герои продвигались вперед, довольно резко шла под уклон, а ее свод меж тем становился все шире и выше, и в один прекрасны миг галерея прератилась в громадную залу. Свод ее скрывался где-то в незримой вышине, куда не доставали отсветы факела.
Тишина, царившая в зале, совсем не походила на убаюкивающее безмолвие ночи – приятное и успокаивающее затишье спящей природы, которое лишь изредка нарушит смутный шепот жизни, готовой вот-вот возродиться вновь… Нет, то была зловещая тишина – мертвая, могильная… Лишь время от времени где-то слышался зауныный писк летучей мыши, оторвавшейся от скального выступа и на лету выписывающей в тяжелом воздухе причудливые зигзаги.
Тени бесконечных сталактитов складывались на стенах пещеры в странную вереницу грозных призраков и чудищ, похожих на жутких гаргулий средневековых соборов и монастырей.
В дальнем конце залы подземная река медленно и бесшумно несла по песчаному руслу свои воды, казавшиеся в полумраке черными, как чернила, и густыми, как масло.
Трое наших путников перебрались через речку, перескакивая с камня на камень, и вслед за тем попали в другую галерею – она понижалась и сужалась перед ними и в конце концов вдруг закончилась тупиком. Дальше дорогу преграждала гранитная глыба, как будто отколовшаяся от свода.
– Вот и пришли, мессир, – сказал Тристану капитан.
– Пришли! – повторил тот. – А мне уж показалось, что мы заплутали в этом бесконечном подземном лабиринте…
– Сейчас увидите…
Лакюзон взял факел из рук Маги и осветил барону несколько выемок, достаточно глубоких, чтобы в них можно было вставить ноги и руки: впадины были выдолблены в гранитной глыбе наподобие лесенки. Погасив факел, теперь уже ненужный, молодой человек полез вверх первым.
С верхушки глыбы, чуть ли не упиравшейся в свод, можно было разглядеть чрево Гангоновой пещеры – там, вдалеке, мерцали слабые отсветы бивачных костров, разожженных горцами.
Капитан спустился вниз, за ним – Тристан и старуха.
Лакюзон поднес два пальца к губам и громко свистнул особым посвистом, служившим партизанам сигналом, который серые со шведами, к их ужасу, не раз слышали на поле битвы. В тот же миг в пещере все зашумело и пришло в движение: горцы с криками радости кинулись туда, откуда, как они знали, должен был появиться их любимый молодой командир. Гарба, подоспевший первым, в порыве чувств бросился Лакюзону на шею и воскликнул:
– Ах, капитан, а вот и вы! Наконец-то вернулись, целый и невредимый! А то, знаете, мы уж начали беспокоиться. Думали, на нашу голову свалилась напасть: преподобного Маркиза тут захватили в плен, а вас нет как нет – ну мы и в панику… А раз вы снова с нами, стало быть, все в порядке и преподобный скоро будет на свободе!..
– Да здравствует капитан! Да здравствует Лакюзон! – громко, в один голос вскричали горцы в несказанном восторге, стремясь пожать ему руку или хотя бы подержаться за полы его камзола.
– Спасибо, друзья мои… спасибо, мои храбрые, славные товарищи… спасибо, верные мои солдаты! – отвечал капитан, глубоко взволнованный такой бурной встречей, ясно говорившей о горячей привязанности, которую он внушал своим подчиненным.
Потом, обняв в ответ Гарба, он сказал ему:
– Беги предупреди полковника Варроза, что я сейчас буду и что у меня есть для него кое-что очень важное. Пусть подождет меня в верхнем гроте, я скоро поднимусь.
И тубач припустился исполнять приказ вприпрыжку, точно резвый олень.
Переговорив наскоро с партизанами, Лакюзон обещал, что не пройдет и трех дней, как преподобный Маркиз снова будет с ними. Вслед за тем он направился вместе с Тристаном де Шан-д’Ивером к вырубленной в скале лестнице, которая вела на второй ярус пещеры, где мы с нашими читателями уже побывали.
Едва успев сделать несколько шагов, он заметил, что рядом нет Маги. Он обернулся и увидел, что старуха стоит на прежнем месте, покачиваясь из стороны в сторону, как будто того и гляди упадет.
Он подбежал к ней, обнял, чтобы поддержать, и спросил:
– Господи, что с вами?
– Ничего, капитан, – довольно твердо ответила Маги, – ничего…
И, указав взглядом на барона, чье бледное лицо, обрамленное седыми патлами, она впервые успела хорошо разглядеть только во время недавней короткой остановки, старуха шепнула Лакюзону на ухо:
– Ведь это он, да?.. О, капитан, скажите, что это он!..
– Кто – он? – спросил капитан, не скрывая своего удивления, которое легко понять.
– Он… мой старый господин… он, барон Тристан…
Лакюзон вздрогнул.
– Это он… – живо и едва слышно проговорил капитан, – но только тише!..
Маги упала на колени и, неслышно шевеля губами, что-то прерывисто запричитала, перемежая неразборчивые слова горячей благодарственной молитвой, идущей от самого сердца.
Потом, обращаясь к Лакюзону, она сказала:
– Теперь, капитан, я могу идти за вами, я снова полна сил. И буду держать язык за зубами столько, сколько нужно… хоть всю жизнь, ежели будет такая надобность, а в моем бедном старом сердце сейчас столько радости, что хватит на добрую сотню лет…
Лакюзон молча пожал ей руку и двинулся дальше.
Через несколько мгновений он поднялся по лестнице и вошел в небольшой грот, где его, сгорая от нетерпения, ждали Варроз и Рауль.
В лампе, в которой почти не осталось масла, догорал, мерцая, дымивший фитилек, готовый вот-вот погаснуть. Полковник и молодой человек, конечно, не преминули заметить, что Лакюзон пришел не один, но они едва обратили внимание на его спутников.
– Друзья мои, – сказал им капитан, обнявшись по очереди с каждым из них, – прежде всего должен успокоить вас… Хотя я вернулся без Розы, наша дорогая и любимая девочка в безопасности: теперь ей ничто не угрожает и, думаю, ничто не будет угрожать впредь…
– Ах! – с жаром воскликнул Рауль. – Ах, вашими бы молитвами!..
– Скоро, – продолжал Лакюзон, – через мгновение-другое, я расскажу вам о ней подробнее, а заодно открою кое-какие тайны, настолько странные, что вам, слушая меня, покажется, будто вы видите дурной сон… Но, прежде всего, знайте, Маги-ведьма сказала правду: сеньор Атид де Монтегю, хозяин Замка Орла, душегуб!..
– Капитан, – прошептал Рауль, – я же говорил!
– А я догадывался, – прибавил Варроз. – Вот видишь, Жан-Клод, чутье меня не обманывало!
– Я не верил в ваше чутье, друзья, это правда, – ответил Лакюзон. – Да и как можно было поверить в эдакую низость! Чтобы удостовериться, мне были нужны доказательства… нужно было чудо! И доказательство я получил – чудо свершилось… Господь, в безграничной мудрости своей, распорядился так, что следы похищенной Эглантины привели меня в Замок Орла. Господь направлял меня. Господь избрал меня как орудие великого возмездия и великой кары… Я затеял святое дело, и вы присоединитесь ко мне, дабы довести его до конца!
Лакюзон прервался.
Он подошел к барону Тристану, присевшему в темном углу грота, преклонил перед ним колено, поцеловал его руку и, обращаясь к нему, продолжал:
– Монсеньор…
– Монсеньор?! – разом воскликнули в изумлении Варроз с Раулем.
– Вы много страдали, – продолжал Лакюзон, – и испытали столько, сколько не в состоянии выдержать ни один человек… Господь должен с лихвой вознаградить вас за все ваши мытарства, и я обещаю вам это, с его благословения… Вам достало сил и стойкости противостоять беде. Живя призрачной надеждой, вы с двойным упорством – тела и души – боролись целых двадцать лет с муками мученическими. И вы победили в этой грозной борьбе, ибо я увидел вас в подземной темнице полным сил и с ясным разумом, хотя должен был бы найти там мертвеца или безумца… И вот пришел час, монсеньор, когда вам придется снова воззвать к вашим силам, физическим и душевным, равно как и к мужеству, которые вы проявляли уже не раз!.. Вас лишили всего: титула, состояния, семьи и даже имени. Но выдержите ли вы сокрушительную лавину счастья, если вам все это вернут?
– Капитан! – воскликнул Тристан, вставая, и опираясь дрожащими от волнения руками на плечи героя горца. – Капитан, что вы сказали? Какое слово только что произнесли – я не ослышался? Семьи… Разве у меня есть семья? У меня был сын… и он что, жив?
– Монсеньор, радость убивает… Монсеньор, поберегите себя!
– Чего же мне бояться? – продолжал Тристан. – Боль уже давно покинула меня, не оставив и следа, а радость только оживит старую, застоявшуюся кровь, что течет в моих жилах. Капитан, во имя Неба, скажите… Не бойтесь, капитан… Если мой сын жив, я тоже буду жить – лишь ради того, чтобы любить моего сына.
Услыхав голос Тристана, Варроз вздрогнул. Старый солдат чувствовал, как его обуревает вихрь беспорядочных мыслей и смутных надежд. Вены у него на висках вздулись, широкие ноздри затрепетали. Растерянным взглядом он силился пронизать полумрак, скрывавший черты этого человека: ведь пока что он различал только, что тот был высокого роста и сед. В полковнике пробуждались стародавние воспоминания, и он то принимал их – как чаяние, то гнал прочь – как наваждение.
Рауль, в свою очередь, переживал такое сильное и глубокое волнение, какого прежде никогда не испытывал, даже тогда, в доме на главной улице Сен-Клода, когда узнал, что Эглантина где-то совсем рядом.
И он недоумевал, откуда у него это стихийное беспокойство и почему так бешено колотится его сердце…
Ответ не заставил долго ждать.
– Говорите же, капитан! – продолжал Тристан. – Говорите скорей, ибо вы заронили в мое сердце надежду, живую и настолько безрассудную, что, если вы и дальше будете медлить, меня уже убьет не радость, а сомнение.
– Ну что ж, мужайтесь, монсеньор! – ответил Лакюзон. – Ибо все, что я обещал, исполню. Я говорил, что верну вам и ваше имя, и вашу семью… Итак, барон Тристан де Шан-д’Ивер, обнимите же скорей своего сына, ибо вот он – перед вами.
Он подтолкнул Рауля к старику, и тот, обливаясь слезами, в порыве невыразимой радости выговорил лишь одно короткое, но очень дорогое слово: «Отец!..»
Варроз больше не мог сдерживаться. Волнение и умиление переполняли его. Он прижал к своей вздымающейся груди отца с сыном, заключивших друг друга в объятия, и долго не отпускал, плача, как ребенок, и прерывисто, еле разборчиво шептал:
– Тристан… это я… твой друг… твой брат… твой старый Варроз… Ах, твой образ не изгладился в памяти моей!.. Я так любил тебя, Тристан… и не забывал… и так оплакивал твою смерть!.. И вот я снова вижу тебя… ты здесь, рядом со мной, в моих объятиях… И я обнимаю вас обоих… потому что я люблю твоего сына, Тристан… люблю, как тебя, и он этого достоин так же, как ты… Ты был прекрасен, предан и отважен… и он тоже прекрасен, отважен и предан… Ах, пусть же Господь теперь примет мою душу, когда захочет… я дожил до самого счастливого дня в своей жизни!..
Как же долго еще продолжались эти тройные объятия – отца, сына и друга, объятия, в которых три благородных сердца бились вместе!
Тристан едва не лишился чувств от непомерной радости; двадцать лет пережитых мучений исчезли из памяти его разом – вмиг, как дурной сон, и он, не сдержавшись, воскликнул:
– Боль одиночества… муки заточения… терзания телесные и душевные, нет, вас как не бывало!..
Лакюзон наблюдал эту трогательную сцену, пьянея от гордости. Это счастье было делом его рук – оно же служило ему и наградой!..
Когда первые порывы радости улеглись, когда объятия разомкнулись и теперь трое только сжимали руки друг друга, вперед медленно и смиренно вышла Маги. Она преклонила колени перед Тристаном, расцеловала его ноги и, воззрившись на него снизу вверх, сквозь слезы, катившиеся по ее лицу, проговорила:
– А как же я, монсеньор, дорогой мой господин… неужто вы не удостоите меня ни одним воспоминанием, ни единым словом?
Барон де Шан-д’Ивер перевел взгляд на лицо старухи и воскликнул:
– Маргарита!..
– Признал!.. – выговорила она, вскакивая в безудрежном восторге. – Он признал меня!.. Монсеньор меня признал! Кто бы мог мне сказать такое, когда я бежала с дымящихся руин охваченного пожаром замка Шан-д’Ивер, думая, что под этими пылающими развалинами остались погребенными отец и сын!.. Кто бы мог сказать тогда, что однажды я снова увижу их обоих!.. Кто бы мог подумать, когда я оплакивала моего питомца… моего бедного мальчика, моего Рауля… кто бы мог мне открыть тогда, что однажды я спасу жизнь тому, кого считала погибшим! Ведь старую, безобразную Маги когда-то звали Маргаритой и она была вашей кормилицей, мессир Рауль… мой Рауль… мой славный Рауль… О, дитя мое, дорогое мое дитя, позвольте же взглянуть на вас еще разок… позвольте обнять так же, как когда-то!..
Нам нет надобности добавлять, что Рауль всей душой откликнулся на порыв бедной, благородной женщины: он крепко обнял ее в ответ и расцеловал.
Эти трогательные сцены, которые мы описали так быстро, могли бы продожаться еще долго-долго, если бы Лакюзон не воззвал к разуму Варроза и Рауля, напомнив им о заботах, на мгновение заслоненных событиями, столь неожиданными и радостными для всех.
– Счастье, иссушающее сердце и душу, было бы счастьем эгоистичным, – проговорил он. – Преподобный Маркиз захвачен в плен, так давайте теперь подумаем о нашем товарище. Барон де Шан-д’Ивер потом сам поведает вам о своей страшной жизни, полной нескончаемых страданий, а я постараюсь сдержать свое обещание и рассказать об Эглантине. Но повторю еще раз: сейчас надобно заняться только судьбой Маркиза…
– Что будем делать? – воскликнул Варроз, закручивая свои седые усищи. – Как мы узнаем, куда серые переправили пленника?
– Нам это известно, – ответил капитан.
– И куда же?
– В Клерво.
– В Клерво… – повторил Варроз.
– Да.
– Но в таком случае граф де Боффремон…
– Он такой же изменник и продажный негодяй, как владелец Замка Орла… ему-то сир де Монтегю и поручил стеречь Маркиза.
– Мерзавцы! – прошептал полковник.
И уже громко прибавил:
– Ну что ж, если Маркиза заключили в Клерво, нам, думаю, остается только одно.
– И что же?
– Выдвигаться в Клерво, конечно! И освободить Маркиза…
– Я тоже думал, как и вы, полковник, – ответил Лакюзон, – и собирался сделать то же самое…
– Ну и, – тут же продолжал Варроз, – надеюсь, следующее наше решение будет таким же, как первое.
– Само собой. Вот только я обещал нашей доброй, верной Маги обсудить с вами и в ее присутствии планы, которые она представит сама, а они, сдается мне, очень даже основательны…
– Пусть говорит, – согласился полковник, – и, коли сможет дать нам добрый совет, разрази меня гром, если мы ему не последуем!
И Маги повторила слово в слово все, что она уже говорила капитану, когда они поднимались по склону Менетрю-ан-Жу.
– А она права… совершенно права! – выслушав ее до конца, воскликнул Варроз.
И тут же спросил:
– Что вы намерены делать?
– Идти прямо сейчас, передать сиру де Боффремону письмо и кольцо хозяина Замка Орла, выведать тайные намерения тюремщиа-Боффремона насчет преподобного Маркиза, разузнать, в какой темнице держат планника, если он не в замке Клерво и, наконец, сделать так, чтобы вы получили все эти сведения без промедления и могли уже действовать по обстоятельствам…
– Но, бедная женщина, – прервал ее Варроз, – ваша бодрость духа не безгранична, хотя отваги вам не занимать… Ведь силы могут вам изменить…
– Я тоже этого боюсь, полковник, но мы это предвидели.
– Каким же образом?
– Поскольку мне и впрямь могут изменить силы и я, не ровен час, буду принуждена остаться в Клерво, вы дадите мне в помощь верных людей, несколько человек, они должны сопровождать меня и слушаться во всем… Пусть они будут моими охранниками и посланцами.
– Это проще простого.
– Ладно, полковник, тогда пусть они собираются…
– Сколько вам нужно человек?
– Пять или шесть.
Лакюзон кликнул Железную Ногу.
– Лейтенант, – велел ему он, – подберите шесть человек, самых крепких и решительных, и передайте, что они переходят в полное распоряжение Маги, которой я даю все права командира. И еще скажите – дело касается освобождения преподобного Маркиза.
– Есть, капитан! – ответствовал Железная Нога перед тем, как покинуть грот.
– Спасибо, полковник… спасибо, капитан, за оказанное доверие! – воскликнула Маги. – Я жизни своей не пожалею, чтобы оправдать его… Позвольте мне напоследок поцеловать руки моим господам – и я ухожу. Ежели пойду прямиком через лес по-над Верхней долиной, то успею в Клерво еще затемно. И скоро дам о себе знать.
Поцеловав с почтением руку Тристану и Раулю, старуха вышла из грота и в сопровождении охраны скоро покинула Гангонову пещеру.
XIX. Весточка от Маги
Теперь в гроте остались только Жан-Клод с Варрозом и Шан-д’Ивер – отец с сыном. Пришло время всем объясниться.
Объяснения были долгими и касались они тех фактов и событий, о которых мы с читателями уже знаем.
Рауль рассказал отцу о том, как его спас – не из воды, в пример Моисею-законодателю[60], а из огня старый верный Марсель Клеман, образцовый слуга на все времена. Рассказал, как учился во Франции… как полюбил Эглантину… как впервые повстречал капитана Лакюзона.
А Тристан де Шан-д’Ивер поведал сыну печальную историю своего двадцатилетнего заточения, и его скорбные воспоминания вызвлаи горькие слезы не только у Рауля, но и у старика Варроза.
Потом наконец предводитель горских повстанцев сообщил во всех подробностях о событиях давешней ужасной ночи, когда он проник в Замок Орла. Лакюзон открыл, почему Антид де Монтегю постыдно предал их, что совершил, а также какая награда ждала коварного изменника в уплату за его предательство. Затем Лакюзон заговорил об Эглантине и призраке Игольной башни. Он поведал Тристану тайну рождения девушки и таинственные события ночи на 17 января 1620 года. Говорил он и о Пьере Просте… о Черной Маске… о медальоне… и о кровавом следе руки – и лишний раз убедился, вместе со своими слушателями, что врача обездоленных и в самом деле возили в Замок Орла и что Эглантина действительно была дочерью Бланш де Миребэль, над которой надругался Антид де Монтегю.
– Не все ли равно, – вскричал старый барон, когда Жан-Клод закончил свой рассказ, – не все ли равно, что дорогая, несчастная малютка появилась на свет из-за гнусного, постыдного злодеяния? Рауль любит Эглантину как невесту. А я люблю – как родную дочь. Так пусть же она остается для нас дочерью врача обездоленных и двоюродной сестрой капитана Лакюзона! Рауль с радостью и гордостью даст Эглантине имя де Шан-д’Иверов, а я с радостью и гордостью назовусь ее отцом!
– Но сейчас она узница! – вскричал Рауль. – И я не смогу жить спокойно до тех пор, пока она снова не будет с нами.
– Она будет на свободе нынче же вечером, – ответил капитан, – потому что через несколько часов мы выдвигаемся на приступ Замка Орла. К тому же, повторяю, Эглантине теперь ничто не угрожает. Она сейчас вместе с матерью в Игольной башне, а Антид де Монтегю, думая, что ей удалось бежать из замка, вряд ли попытается захватить ее еще раз.
– Я верю вам, капитан, – сказал молодой человек, – вы меня успокоили. Однако я заклинаю вас не затягивать со штурмом и прошу вас как об особом одолжении позволить мне сражаться в первых рядах.
Варроз с улыбкой взглянул на Тристана.
– Вот видишь, барон, – вслед за тем заметил он, – от доброго древа добрый и плод!.. Ах, ну конечно, Рауль твой сын, кто бы сомневался!.. Орленок в полете уже сравнялся с орлом.
Тут на лестнице, ведущией в грот, где расположились трое наших героев, послышались торопливые шаги, потом в дверь постучали.
– Входите, – сказал капитан.
Дверь открылась – на пороге стоял Гарба.
– Ну что? – спросил Лакюзон.
– Только что вернулся человек из охраны старой Маги, – отвечал Гарба. – Он всю дорогу бежал и едва держится на ногах. Он просит переговорить с вами с глазу на глаз.
– Пусть войдет! Ну же!.. – в один голос сказали Лакюзон и Варроз.
– Давай сюда, Пехотинец! – крикнул Гарба. – Капитан ждет.
Через несколько мгновений в дверном проеме возник горец – с него градом лил пот.
– Ты принес какие-нибудь вести? – подходя к нему, спросил Лакюзон.
– Да, капитан.
– Сперва скажи, откуда ты такой объявился? – тут же продолжал Жан-Клод.
– Из Клерво.
– Что случилось?
– Маги наказала нам затаиться в лесу, что по левую руку от реки, а сама отправилась в замок.
– Что дальше?
– Через полчаса она вернулась и велела мне бежать в Гангонову пещеру и передать на словах весть от нее.
– И что же она тебе сказала?
– Две вещи.
– Какая первая?
– Граф де Монтегю сам нежданно нагрянул в Клерво, и штурмовать Замок Орла сегодня нет никакой надобности.
– А что еще?
– Вы должны сегодня и как можно скорее – лучше до полудня, прийти в Сен-Морский лес.
– Один?
– О, нет, капитан, напротив, со всеми – чтоб было не меньше полсотни человек.
– Ну и зачем же?
– Маги придет к вам и скажет сама, а нет, так пошлет кого из моих товарищей. Она оставила их при себе на случай, ежели надо будет что передать.
И, немного помолчав, Пехотинец прибавил:
– Я выполнил поручение, капитан.
– Хорошо. Спускайся вниз и отдыхай.
Горец удалился.
– Гарба! – кликнул Лакюзон.
– Да, капитан!
– Зови лейтенанта.
– Есть, капитан!
Железная Нога появился тут же.
– Сколько у нас здесь людей? – спросил Лакюзон.
– Три сотни человек, капитан.
– А во Фране?
– Двести пятьдесят.
– А на Сарацинском поле?
– Сто пятьдесят.
– На Опорном мосту?
– Столько же.
– Возьмешь здесь двести наших и двинешь прямиком к Сен-Морскому лесу.
– Есть, капитан!
– Разделишь их на отряды, и пусть идут разными дорогами.
– Есть, капитан!
– Коробейник возьмет сотню человек во Фране и отдельными группами поведет их туда же.
– Есть, капитан!
– Крепыш с Красавчиком пусть бегут один – на Сарациново поле, другой – к Опорному мосту. Пусть каждый возьмет там по сотне человек и направляется к Сен-Морскому лесу… Все понял?
– Так точно, капитан.
– И чтоб все как один глядели в оба, ни единого лишнего шага! Пускай спрячутся там, в лесу, и чтоб тише воды, ниже травы! Да и часовых пусть не забудут выставить за деревьями, и чтоб все скрытно было!
– Будет исполнено, капитан.
– Я же выдвинусь туда с отрядом в полсотню человек. Пусть они там поспешают, чтоб не вышло так, что я приду первым.
– Постараемся, капитан.
– Ступай и не забудь ничего!
Железная Нога бегом спустился вниз – и было слышно, как он громовым голосом, разнесшимся гулким эхом по всей пещере, крикнул:
– Двести человек – к оружию! Пятьдесят – в сопровождение к капитану!
– Так-так, – спросил Варроз, – ну а мне что прикажете делать?
– Я собирался просить вас, – ответил Лакюзон, – чтобы вы остались здесь с бароном де Шан-д’Ивером и возглавили бы подкрепление, которое, возможно, мне скоро понадобится, – как только я узнаю истинную цель вылазки. Поскольку сейчас, как видите, мне приходится действовать вслепую – полагаясь лишь на указания Маги.
– Мы подождем, – согласился полковник, – только долго сидеть сложа руки не будем, и не думай.
– Не беспокойтесь, я не настолько себялюбив, чтобы остаться с угрозой один на один.
– Тогда иди, Жан-Клод. Пусть хранит тебя Господь! И да пребудет Он всегда с тобой!
Капитан обратился к барону де Шан-д’Иверу:
– Мессир, – сказал он, – простите, что так скоро отнимаю у вас сына, которого вы едва успели обрести вновь. Но я очень хочу, чтобы меня сопровождал мой брат Рауль.
– Благодарю! – воскликнул молодой человек. – Благодарю за ваше желание. Но, даже если бы вы не захотели взять меня с собой, даже если бы отказались, я бы все равно пошел с вами.
– Берите! – проговорил старый барон. – Я вверяю его вам с радостью и во всем полагаюсь на вас. Он ни от кого не получит таких уроков благородства и столь прекрасных ратных навыков, кроме как от вас. И уж если Господь уготовит мне нестерпимую боль утраты сына, которого я только-только увидел снова, пусть утешением мне послужит уже одно то, что он пал, сражаясь плечом к плечу с капитаном Лакюзоном!
– Отец, – проговорил Рауль, преклоняя колено перед стариком, – благословите меня, чтобы счастье сопутствовало мне и чтобы я был неуязвим!
Тристан возложил правую руку на светловолосую голову молодого человека.
– Ступай, – сказал он вслед за тем, – ступай, возлюбленный мой сын! И да укрепит тебя Господь в твоем прекрасном и благородном порыве, дабы я мог быть счастлив и гордиться тобой в мои преклонные лета! Но, что бы Он ни решил насчет тебя, да будет исполнена Его воля и да будет благословенно святое имя Его!
И капитан с Раулем покинули грот.
Железная Нога с двумя сотнями партизан уже был далеко.
Пятьдесят горцев, которым надлежало сопровождать Лакюзона, ждали своего командира с рапирами в ножнах, пистолетами за поясом и мушкетами за плечами.
Среди них находился и Гарба.
Небо было хмурым и темным. Спускавшийся с гор густой туман цеплялся за макушки елей, окутывая дымчатым саваном отдаленный силуэт Замка Орла, ощерившийся зубчатыми стенами, и превращал Илайскую долину в громадную серую, сумрачную реку.
Маленький отряд вошел в самую гущу этих тяжелых испарений, создававших, впрочем, удобное прикрытие для быстрого перехода: горцы, от первого человека до последнего, буквально растворились в плотной сизой дымке – исчезли как не бывало.
* * *
Догадки Маги оправдались. Действительно, серые, захватившие преподобного Маркиза в Шарезьерском лесу, доставили его в замок Клерво.
Однако держать под стражей одного из членов великой франш-контийской троицы было делом слишком хлопотным для сира де Боффремона, а главное – небезопасным для его репутации, ибо он еще не осмелился поднять высоко знамя измены. А посему на рассвете преподобного Маркиза вывели из каземата, где продержали всю ночь, связали ему руки за спиной и набросили черный плащ поверх его красной мантии. Вслед за тем серые, числом двадцать-тридцать человек, обступив его со всех сторон, двинулись дальше.
В пути пленник догадался, что его ведут в долину, очевидно, затем, чтобы передать французам и шведам. Маркиз прекрасно сознавал свою значимость и ту огромную роль, которую он играл в освободительной войне, так что уповать на милость и сострадание своих врагов ему не приходилось. Он понимал – ему никогда не простят того, что он, будучи одним из лидеров сопротивления, превратил Верхнюю Юру в несокрушимый оплот мятежа и служил верой и правдой великому и святому делу – борьбе за свободу!.. Он понимал: ему отомстят за кровь, пролитую со дня начала вторжения, и обращаться с ним будут не как с противником, а как с бунтарем, достойным лишь одного – смертной казни, которую обставят как праведную кару за содеянное.
Маркиз все это знал – и с непоколебимым спокойствием героя-мученика шел навстречу смерти, казавшейся ему неизбежной.
Но что для него значила смерть?.. Разве он не сделал свое дело? Разве не отдал бы с радостью последнюю каплю крови за Родину, которой посвятил всю жизнь?.. Служитель Божий и воин, разве не смотрел он смерти в лицо?.. Разве распятый Иисус, его учитель и Бог, не внушил ему, что эшафот порой бывает всего лишь оставнокой на пути с земли к Небу?
И однако же время от времени горькая печаль овладевала его душой, по телу пробегала дрожь и бледные губы шептали слова, сказанные Иисусом на горе Елеонской в страстную ночь: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия…»[61]
В такие мгновения он думал о несказанной радости и злобном торжестве французов и шведов, когда они увидят, как к ним в лагерь доставили в кандалах поверженного пленника, бывшего победителя, не раз повергавшего их всех в трепет.
Но мгновения эти были коротки. Маркиз скоро подавлял свои душевные смятения, и при этом солдат в его душе всякий раз уступал место служителю Божьему. Приходилось смириться, ибо все надежды были тщетны, все попытки бежать – бессмысленны. Серые знали цену своей добыче – и приглядывали за пленником пуще скряги, чахнущего над своим золотом… пуще ревнивца, не спускающего глаз со своей возлюбленной или жены.
Один лишь раз за весь путь пленнику, казалось бы, представился случай вернуть себе свободу, и случай тот едва не обернулся для него новой смертельной угрозой.
Конвой, числом, как мы уже говорили, двадцать-тридцать человек, продвигался в виду Вержского замка, принадлежавшего графу Анри де Вержу, истинному франш-контийцу, по крови и духу.
Было это в восемь часов утра. Граф отрядил своих латников проверить, что за вооруженный эскорт объявился в его владениях. Маркиз было подумал если не бежать, что было невозможно, то по крайней мере выкрикнуть свое имя и позвать на помощь. Конечно, если бы ему это удалось, завязалась бы стычка – из замка выдвинулся бы весь гарнизон и преподобного непремено освободили бы.
Но серые раскусили пленника, едва такая мысль пришла ему в голову.
Один из них подошел к нему, выхватил кинжал и, приставив клинок к его левой руке, тихо и властно прошептал:
– Хоть одно слово, хоть один крик – и вы труп!
Маркиз невольно вздрогнул. Серый – то ли он не понял этого движения, то ли хотел подтвердить свою угрозу, – серый тоже дернулся.
Лезвие кинжала вонзилось преподобному в руку на два дюйма – из раны хлынула кровь.
– Вы делаете мне больно… – с мягкой, смиренной улыбкой заметил Маркиз.
Обидчик, понятно, устыдился своей подлой грубости и выдернул кинжал.
Священник снова принял невозмутимый вид, и латники сеньора де Вержа, смекнув, что ведут какого-то заключенного и не желая бесцельно ввязываться в драку, повернули обратно к замку.
Путь снова был открыт.
И серые двинулись дальше, ускоряя шаг. Часов в одиннадцать сделали короткий привал – и за несколько минут до того, как пробило два пополудни, прибыли в Блетранский замок, где квартировался главный штаб французского войска. Само же войско расположилось чуть поодаль – в полулье от замка, со стороны Лон-ле-Сонье, а точнее, между Вильвье и Монморо, где замок был разрушен еще при Генрихе IV, то есть за сорок три года до описываемых нами событий.
Конвой миновал крайние палатки французского лагеря и двинулся дальше по широкому полю, встретив на своем пути лишь нескольких офицеров да многочисленных ординарцев, сновавших туда-сюда между замком и лагерем.
Но на подходе к штабу конвой обступало все больше военных – вид у них был довольный и торжествующий. Очевидно, весть о пленении священника-воина обогнала самого пленного.
Блетранский замок – со стратегической точки зрения – считался главным опорным пунктом обороны Авальского округа. Расположенный на берегу Сей, речушки, берущей начало среди Бомских скал, что в четырех лье оттуда, он защищал подступы к Франш-Конте со стороны Бресса. А поскольку Бресс принадлежал Франции, французские генералы захватили Блетранский замок еще в самом начале войны, превратив его в важнейший плацдарм и центр военных действий, а также неуязвимый оплот для организации как наступления, так и отхода.
Блетран был скорее укрепленной деревней, нежели простым замком: на северной оконечности оборонительных сооружений стояла крепость.
Эта цитадель, расположенная посреди совершенно гладкой равнины и к тому же почти целиком окруженная извивами быстрой и глубокой реки, представляла собой самое надежное естественное и рукотворное укрепление, долго считавшееся неприступным.
Французы взяли ее лишь после долгих и ожесточенных боев – и знамя поверженной наконец крепости склонилось только под напором потоков франш-контийской крови.
XX. Исторический портрет
Подъемный мост опустился, пропуская в крепость преподобного Маркиза и конвой.
Покуда серые с напускной медлительностью шли через дворы и эспланады, откровенно дерзкое любопытство солдат и всего этого сброда – прислуги и маркитантов – неизменно сопровождающего войско в походе, было обращено на пленника.
На него со всех сторон сыпались грубые шутки, циничные прибаутки, насмешки и оскорбления.
– Поглядите-ка на этого Фанфарона в сутане… на этого рубаку, спустившегося с гор!.. – кричали одни.
– Эй, пастырь, – орали другие, – пора бы и тебе затянуть «De Profundis…» во спасение своей души! Где же твои хоры?
– Пастырь, а требник-то свой ты куда подевал?
– Пастырь, а где вертел, что был тебе заместо шпаги?
– Пастырь, отчего тебе дома-то не сиделось – бубнил бы себе под нос что-нибудь из требника или капусту сажал, или прислужницу обхаживал?
– Только поглядите на этого служителя Божьего от сохи: рожа белая, а сутана красная – ну чисто кровь с молоком!..
– А ведь он, да будет вам изместно, нарек себя кровавым кардиналом, потому-то и кровавая мантия на нем!
– Э-э, да нет, не поэтому.
– Тогда почему?
– Чтоб детишек малых стращать.
– В таком случае он преподобное Пугало!
– Во-во!
– А я вам говорю – он собирался потягаться с самим его преосвященством монсеньором де Ришелье.
– И у него это здорово вышло! Скоро он окажется превыше его высокопреосвященства!
– Что ты имеешь в виду?
– А то, что имею: висящий пастырь будет повыше сидящего кардинала.
И вся эта глупая, отвратительная чернь заливалась хохотом и хлопала в ладоши, заслышав очередную гнусную насмешку.
А преподобный Маркиз, невозмутимый и безропотный, подобно Иисусу, несущему свой крест, был погружен в свои мысли и, казалось, ничего не слышал.
Между тем, однако, в глубине его двуши клокотал едва сдерживаемый ураган гнева. Он вспоминал, сколько же раз ему случалось наблюдать, как при одном лишь виде его красной мантии тряслись от страха и бежали с поля битвы все эти горе-вояки. Теперь же, как только он оказался в плену со связанными руками и уже не мог поднять ни рапиру, ни распятие, они мигом обратились в его обидчиков.
Но вот издевательствам пришел конец. Конвой приблизился к высоким воротам, открывавшим проход в самую крепость.
Начальник серых отправился за дальнейшими указаниями, а пока суд да дело, конвоиры отвели пленника в полуподвал, куда им вскоре принесли вино и мясо. Веревки на запястьях Маркиза были затянуты так крепко, что едва не разрезали кожу. Из раненой руки по-прежнему сочилась кровь, и рана доставляла невыносимую боль. Инзнемогая от усталости, священник присел на скамью, но с его губ не слетело ни одной жалобы – единственно, он попросил, чтобы ему ослабили путы.
Ему было совсем невмоготу просить сострадания у своих мучителей, да и потом, кто знает, вдруг его просьбу встретили бы очередными насмешками и оскорблениями? Тогда этот великий, благородный человек, незапятнанный служитель Божий и доблестный воин, решив избавить свою душу от мук страдающей, возмущенной плоти, обратился к Господу с просьбой оказать ему последнюю мислость и дать силы умереть героем, каким он был при жизни…
* * *
Давайте покинем этот полуподвал, где серые, учнив кутеж в присутствии пленника, распевали непристойные, богохульные песенки, эхом отдававшиеся от сводчатого потолка.
Нашим читателям наверняка было бы интересно переступить порог одной поистине невероятных размеров залы – в прошлом залы приемов, где в дни торжеств комендант Блетранской крепости собирал всю знать Авальского округа.
В этой громадной зале, почти лишенной мебели, сохранились отчетливые следы последней осады замка. Большая часть стекол в широких и высоких окнах была побита пулями и снарядами. Позже разбитые окна худо-бедно заделали промасленным пергаментом, едва пропускающим свет. Пулями и осколками снарядов во многих местах пробило и посекло немало ростовых портретов достославных местных воителей, так что после смерти все эти знаменитости оказались израненными, истерзанными куда страшнее, чем при жизни.
Железную печку, с трубой, выведенной специально через отверстие в окне, забивали растопкой так, что она всякий раз раскалялась докрасна, но в сильную стужу все равно почти не грела. В зале постоянно гуляли сквозняки, проникавшие через расщелины и неплотно закрывавшиеся двери. Так было и сейчас, когда здесь собралось только шесть человек.
Один из них сидел, или, точнее, полулежал в широком кресле резного дуба, обтянутом малиновым бархатом с золотой бахромой, – этот, вне всякого сомнения, роскошный предмет мебели был точно не из опустошенного замка.
Другие пятеро стояли вокруг кресла в почтительных позах и с непокрытыми головами.
Сидящему человеку мы и уделим наше внимание в первую очередь. Его костистое, вытянутое лицо отливало землисто-матовой, болезненной бледностью. Широко распахнутые глаза излучали нестерпимый блеск: их взгляд, до странности неподвижный, властный и проницательный, буквально сверкал из-под надбровий, нависающих над невероятно глубокими глазницами. Густые брови делали это лицо совсем уж мрачным.
Тонкие, почти бескровные и на удивление подвижные губы, то и дело кривились в язвительном оскале под длинными, тронутыми сединой усами с лихо закрученными вверх кончиками, как у мушкетера. Этот характерный рот, вместе с жестким, сверкающим, проницательным взглядом, придавал лицу выражение лукавства, дерзости, жестокости, самоуверенности и, наконец, незаурядного ума.
Усы и эспаньолка как будто выдавали в их обладателе склонность к удальству и изысканности, так не вязавшимися теперь с его глубоко удрученным состоянием, о котором говорили бледность лица и беспомощное положение тела. Только взгляд и ухмылка противоречили явной слабости и необоримой усталости этого человека. Плоть его действительно страдала – ее уже влекло в могилу! Хотя душа, разум, сознание были крепче, яснее и деятельнее, чем когда-либо.
Но прежде всего, несмотря на свою исключительную скромность, обращал на себя внимание костюм этого человека. Это была длинноая мантия красного сукна, полностью скрывавшая за полами и оборками ноги нашего героя и отчасти – руки, а на голове его была облегающая круглая шапочка из той же ткани и того же цвета.
Из пунцовых манжет выглядывали кисти рук, длинные и изящные, восхитительной формы и матовой белизны, словно у благородной дамы.
Мы уже знакомы с двумя героями из группы людей, окруживших сидящего, – графом де Гебрианом и графом Антидом де Монтегю, владетелем Замка Орла. Трое других были генералами французской армии: герцог де Лонгвиль, маркиз де Виллеруа и маркиз де Фекьер.
В ту минуту, когда мы с вами проникли в большую залу, человек в красном внимательно выслушивал графа де Монтегю.
Граф, только что прибывший в Блетран под защитой мессира де Гебриана, как раз объявлял своему досточтимому слушателю, что преподобного Маркиза, захваченного в плен накануне, вот-вот доставят под усиленным конвоем в крепость и передадут в распоряжение главнокомандующего французским войском в качестве первого залога его, графа де Монтегю, безоговорочной верности Франции.
Человек в красной мантии удостоил его лишь едва заметным кивком.
Между тем хозяин Замка Орла продолжал отчет. Он изложил свой план целиком, а потом углубился в подробности, перечисляя средства, которые намеревался использовать для поимки двух других главарей горского повстанчества – Лакюзона и Варроза. Это позволит быстро и наверняка захватить провинцию, сокрушив раз и навсегда дух независимости, воплощенный в этих двух героях борьбы за независимость Франш-Конте.
Вслед за тем он с поклоном произнес:
– Я все сказал, монсеньор.
Тогда человек в красной мантии, который слушал его, не прервав ни разу, поднял глаза и устремил на графа пристальный взгляд, чистый и глубокий.
Потом медленно, низким голосом он проговорил в ответ:
– Хорошо, мессир… Вы действовали как нельзя лучше, и ваши планы, как нам кажется, составлены весьма искусно. Мы полагаемся на их успешное свершение. Когда же закончится эта длительная кампания, когда придет время подводить итоги и раздавать награды, вы можете рассчитывать на то, что вас не забудут, – даем вам наше верное слово.
Сир де Монтегю снова поклонился.
Когда он распрямился, его лоб так и пылал от самодовольства, гордыни и торжествующего честолюбия.
– Монсеньор… – вымолвил он.
– Хорошо, – повторил человек в красной мантии, прерывая благодарственные слова, которые собирался произнести Антид де Монтегю.
Тут открылась одна из дверей в большую залу и вошел офицер.
Он подошел к сидящему в кресле и остановился, ожидая, когда к нему обратятся.
– Что у вас? – осведомился человек в красном.
– Монсеньор, – отвечал прибывший, – только что под конвоем доставили важного пленника.
– Что еще за пленника?
– Преподобного Маркиза.
– Меня предупреждали. И где же сейчас тот, о ком вы говорите?
– В полуподвальном помещении, монсеньор.
– Пусть его приведут сюда и через пять минут представят мне.
Офицер удалился.
– Я желаю поговорить с с ним, – продолжал человек, которого все называли «монсеньором». – Желаю видеть его собственными глазами и убедиться, достоин ли он той высокой славы, что о нем ходит, или это всего лишь досужая ложь. Наконец, я желаю видеть, как он поведет себя, когда окажется со мной лицом к лицу и узнает, кто я такой… Только так возможно составить впечатление о человеке за одно мгновение.
Выдержав короткую паузу, человек в красной мантии, обращаясь к маркизу де Фекьеру, продолжал:
– Прошу вас, генерал, соблаговолите проследить за тем, чтобы в присутствии пленника никем не произносилось мое имя. Важно, чтобы он узнал его от меня самого. Распорядитесь также, чтобы явились пятьдесят моих гвардейцев и выстроились за моим креслом.
И, улыбнувшись странной своей улыбкой, он прибавил:
– Поскольку преподобный Маркиз – один из главарей горских повстанцев, мы окажем ему достойный прием.
– Монсеньор! – сказал тут Антид де Монтегю.
– Что вам угодно, мессир?
– В интересах дела, которому я предан душой и телом, преподобный Маркиз не должен меня видеть.
– И что же?
– Быть может, ваше преосвященство позволит мне скрыть мое лицо хотя бы в его присутствии?
– Под черной маской, верно?
– Да, монсеньор.
– Будьте любезны, мессир.
Хозяин Замка Орла вышел.
Он появился снова через одну-две минуты – закутанный в плащ и в железной маске, обшитой черным бархатом.
В это же время явились пятьдесят гвардейцев в сверкающих мундирах, со шпагами наголо и выстроились в ряд в глубине залы.
Граф де Гебриан и французские офицеры встали справа от кресла, вольно или невольно отстранившись от владетеля Замка Орла и оставив его в одиночестве слева от кресла.
«О, благородные господа, – подумал тот, заметив это и нахмурив густые брови под бархатной маской, – если бы вы только знали, как губернатору графства Бургундского смешно при виде вашего пренебрежения!!!»
И все же, невзирая на чванливое, хоть и молчаливое, самодовольство, он чувствовал, как в его душе разливается горечь.
– Генерал, – сказал вслед за тем человек в красном, обращаясь к маркизу де Фекьеру, – приведите пленника!..
Двери распахнулись настежь, и на пороге появился преподобный Маркиз – в окружении дюжины солдат со шпагами наголо, державших его словно в железных тисках. Руки ему перед тем развязали, и это немного облегчило его жгучую боль. Однако он был все так же бледен, и под глазами у него проступили большие круги, как будто выведенные углем.
Ступив в эту огромную комнату, которая была для него залом ожидания смерти, своего рода преддверием к эшафоту, он поразился необычно большому числу военных, вдруг представших перед ним, что было сделано наверняка для его устрашения. Этот спектакль послужил Маркизу лишним доказательством того, что он был знаменит не только среди крестьян и горцев, но и таких грозных врагов, как французы, и это непроизвольно наполнило его душу радостью и гордостью.
Спокойным, уверенным взглядом он обвел лица окружающих, всех до единого, желая таким образом угадать, почувствовать, чего ему следует опасаться и на что, быть может, надеяться.
Глаза его сразу же остановились на главном действующем лице этой сцены, очевидно, исполнителе главной роли – человеке в красной мантии.
Пленник вздрогнул. Однако при этом на его лице не отразилось ни следа смущения или волнения. На нем читалось одно лишь удивление и даже в некотором смысле удовлетворение. Его верхняя губа дернулась в легкой улыбке, и глаза на мгновение озарились ярким-ярким светом.
Но это была всего лишь короткая вспышка.
Человек в красной мантии мигом ее заметил, и лоб его нахмурился.
Но Маркиз уже отвел от него взгляд.
Его глаза, быстро обведя всех присутствующих, остановились на Черной Маске.
Священник-воин содрогнулся всем телом, словно наступил на змею и почувствовал, как эта мерзкая гадина укусила его в ногу. Его лицо сделалось пунцовым, а глаза, исполненные глубочайшего презрения, полыхнули кроваво-красным огнем.
Это чувство ненависти, а вернее, ужаса, владело им всего лишь мгновение – Маркиз быстро справился собой и как ни в чем не бывало отвернулся.
Офицеров французской армии он оглядел с подчеркнутым безразичием.
Следом за тем его взгляд, будто повинуясь неодолимой притягательной силе, вновь обратился к человеку в красном.
XXI. Двое в красных мантиях
Человек в красной мантии, которого величали «монсеньор» и «ваше преосвящество» и который продолжал сидеть, пока все вокруг него стояли, жестом велел караульным оставаться на месте и, обращаясь к преподобному Маркизу, сказал:
– Подойдите!
Маркиз решительно вышел вперед и, подойдя к человеку в красном, встал напротив него, скрестив руки на груди, причем без малейшего высокомерия и вместе с тем без всякого смирения.
На первый взгляд даже нельзя было сказать, кто из них двоих – пленник, а кто – хозяин положения, кто побежденный, а кто победитель. Они воззрились друг на друга, как двое равных, не боящихся друг друга, но и не ждущих друг от друга ничего хорошего.
Его преосвященство на несколько мгновений буквально впился взглядом в преподобного Маркиза.
Под полуопущенными веками сверкал его пытливый, даже, можно сказать, гипнотический взгляд, способный проникнуть в самые потайные глубины души и сознания собеседника и разглядеть скрывавшуюся там истину.
Узнав после столь пристального и безмолвного осмотра все, что хотел, человек в красной мантии нарушил молчание и медленно, словно нанизая одно слово на другое, проговорил:
– Стало быть, вы и есть преподобный Маркиз?
– Да, он самый.
– Стало быть, – продолжал человек в красном, – это вы одновременно и служитель Божий, и воитель? Стало быть, это вы держите мушкет и шпагу в той же руке, которой освящаете облатку?
– Да, я, – снова отвечал преподобный Маркиз.
– Служитель Евангелия, или ты забыл слова из того же Священного Писания: «Все, взявшие меч, мечем погибнут»[62]?
– Я ничего не забыл. И всегда это помнил. Чтобы изгнать торгующих из храма, Иисус взял «бич из веревок», а против разорения, пожара и убийства другое оружие надобно.
– Но вы же видите, Господь отвернулся от вас, ибо оружие ваше повержено.
– Повержено?! – с гордой усмешкой воскликнул Маркиз. – Да кто вам такое сказал?
– Разве вы не пленник?
– Я – да… но во мне ли суть дела? Я не единственное чадо старинной и благородной провинции!..
– Но вы по крайней мере были одним из самых непреклонных ее защитников.
– Есть и другие, не менее достойные, а то и более… Есть и другие – те, кто, как и я, не пожалеют жизни своей за свободу! Мне не сносить головы. Что ж, не все ли равно? Это будет смерть всего лишь человека. А свобода – это плодоносящее древо, растущее на пролитой крови. И со смертью моей свобода лишь станет крепче.
– Свобода!.. – повторил человек в красном. – И вы еще говорите о свободе!.. Вы, что же, считаете себя свободным?
– Разумеется.
– Странное и безрассудное утверждение!
– Отчего же?
– Вы отвергаете власть французского короля и вместе с тем охотно признаете себя вассалами короля испанского.
– Вассалами испанского короля… Иными словами, мы признаем своим государем Филиппа IV, которому платим малые подати и жертвуем не так уж много людей… – что ж, такая вассальная зависимость нам вполне по силам. Как бы там ни было, испанский король сможет востребовать у нас лишь то, что мы соблаговолим ему дать.
– А почему не больше?
– Потому что у нас есть права, бесспорные и неотъемлемые, и, ради того чтобы отстоять их, нам не жалко пожертвовать и последней каплей крови.
– И что же это за так называемые права?
– Известно ли вам, откуда произошло название нашей провинции – Франш-Конте?
Человек в красном ничего не отвечал.
И, немного помолчав, Маркиз продолжал:
– Если известно, я все равно напомню, а нет, так знайте. По смерти Людовика Заики, когда родился его сын Карл Простоватый, граф Бозон, родственник многочисленных отпрысков рода Карла Великого, поднял мятеж. Во главе группы сподвижников, предоставленных ему сородичами и друзьями его жены Ирменгарды, он вынудил вельмож и епископов созвать собрание, и на этом собрании, 15 октября 879 года, его провозгласили королем Бургундии.
В 887 году Бозон умер.
Людовик, сын его и преемник, был еще совсем ребенком, когда Рудольф I, сын немецкого маркграфа Конрада, захватил горную область, расположенную к северу от государств, оставленных Бозоном своему отпрыску.
Тогда-то земли Бургундии и поделили на два независимых королевства.
Первое стало называться Трансюранской Бургундией, а второе – Цисюранской Бургундией.
Впрочем, такое разделение продолжалось недолго.
Рудольф II объединил их вновь, и так королевство просуществовало до 1126 года.
В то время Бургундией правил Рено II. Как раз тогда она была провозглашена графством. Рено II отказался признавать императора своим сюзереном – и подчиненности, сиречь вассальной зависимости, предпочел военную удачу.
Началась война, и Рено, отразив все атаки императорских войск, сохранил за собой право свободного управления государствами. И, поскольку он ни от кого не зависел и своею волей и силой провозгласил себя независимым государем, его стали называть «Вольным Графом», а провинцию, которую он так доблестно защищал, – «Вольным Графством»[63].
Так что мы считаемся прямыми потомками пламенных и счастливых защитников Нашего Вольного Графства! И ценим мы себя не меньше наших отцов! И до последнего вздоха, до последнего человека будем охранять независимость, которая досталась нам в наследство от них!..
Говоря это, преподобный Маркиз воспрял духом. Голос его отныне звучал громко и взволнованно, как боевой горн, и, пока он громогласно взывал к свободе, глаза его сияли все ярче от гордости и воодушевления.
Человек в красной мантии смотрел на него и внимал ему с восхищением и удивлением.
Таким вот каким был этот священник-воин, которого ему описывали как неотесанного мужлана – жестокого, слепого фанатика… А на поверку этот человек оказался глубоким мыслителем, искусным проповедником. Он шел прямо к цели под знаменем великой и святой идеи. Он был чистосердечен в словах и жестах, и взгляд у него тоже был искренний!
Преподобный Маркиз без труда угадал по лицам всех присутствующих, сколь глубокое впечатление произвел на них.
И, не желая его умалять, он продолжал:
– Да, Конте свободна! Свободна! И хочет оставаться свободной и впредь!.. Свобода на протяжении пятисот лет – разве не стоит она единых усилий, пусть порой и кровавых? Может, вы забыли достопамятные битвы, что графы Бургундские вели против посягательств императора Фридриха Барбароссы[64]? А помните, как при Филиппе Красивом[65] сеньорам пришлось принять воззвание к Дольскому парламенту против приговоров и арестов, налагаемых подвластными им бальи[66]? Разве парламент не служит самым что ни на есть неопровержимым доказательством нашей независимости? Парламент – наша духовная опора, наш щит. Он служит защитой нам, а мы, в свою очередь, будем защищать его до последнего вздоха – так же, как в былые времена… В 1336 году знать пожелала диктовать ему свои правила, вместо того, чтобы подчиняться его законам, – и знать потерпела поражение. Судебная власть, власть незыблемая, победила с помощью обнаженных клинков… Жана де Шалона лишили владений и изгнали прочь из Франш-Конте, а Жана де Грансона задушили как изменника – вот вам громкие и страшные примеры парламентского правосудия!
Кто знает, быть может, эти примеры скоро повторятся!.. И кто знает, быть может, скоро полетят с плеч головы, с которых прежде сорвут маски!..
Последние его слова, подкрепленные взглядом, полным презрения и ненависти, точно острый клинок, поразили Антида де Монтегю прямо в сердце, и лицо его под бархатной маской побледнело.
Выдержав короткую паузу, преподобный Маркиз продолжал, обращаясь уже к человеку в красном:
– Нужно ли вам напоминать, чтó сделал этот парламент для провинции? Нужно ли повторять, как он во все времена добивался преданности и признательности всей области? Когда после открытия наследства Австрийского дома парламент заручился абсолютной политической властью, не употребил ли он ее во благо горожан и селян? Не он ли боролся на равных со всеми этими гнусными наследниками реформаторов и невыносимым фанатизмом Филиппа II? Не являет ли собой Дольский парламент наше правительство, закон и правосудие? Не защищает ли народ от произвола сеньоров, а сеньоров – от произвола вельмож? Народ служит ему, как и дворянство – все сословия сплетены в настолько крепкий узел, что разрубить его не по силам ни одному человеку…
Вы только что назвали нас вассалами Испании. Но принадлежим ли мы Испании? Разве мы испанцы? Разве мы приняли испанские нравы, обычаи, язык и законы?
Нет, нет и сто раз нет!..
Мы народ самостоятельный. Мы народ свободный. И подчиняемся только нашим законам. Мы полагаем себя членами парламента, который нами управляет.
А пресловутое испанское иго, последний признак уходящих феодальных устоев – это только слова, жалкая видимость, ибо в действительности этого ига не существует. И мы разбили бы любые цепи, если бы почувствовали, что нас пытаются ими опутать.
Испания от нас далеко. Ее влияние нас никак не затрагивает.
А Франция – рядом. Она готова в мгновение ока стиснуть нас своими обширными границами.
Мы можем принять покровительство любого короля… можем купить его даже за счет дани или присяги. Но нам не нужны хозяева, и мы никогда их не потерпим.
Испания защищает нас. Да здравствует Испания!
Франция желает нас поработить. Война Франции, и, если угодно, на веки веков!
Преподобный Маркиз смолк.
– А если Испания отринет вас, – после короткой паузы заметил человек в карсном, – что тогда?
– Будем защищаться своими силами. Будем уповать лишь на Бога и на наши клинки.
– А если Бог отвернется от вас… если клинки ваши обломаются?
– Тогда мы найдем себе славную могилу под последней скалой в наших горах, которые мы беззаветно защищали! А Франция получит не провинцию, а кладбище, и тогда против нее со всех сторон восстанут наши истлевшие останки!
Принимая со смирением христианина и служителя Божьего уготовленную ему участь, Маркиз, когда попал в руки к серым, сразу понял: никакой надежды на спасение у него нет. С самого начала вторжения французы и шведы расстреливали военнопленных без всякой жалости. И ужасная правда истории требует, чтобы мы свидетельствовали о подобной бессмысленной жестокости. Так, прошлое предопределяло будущее, и священник-воин понимал, что смертный приговор ему вынесен заранее.
Между тем, переступив порог большой залы Блетранского замка, он и помыслить не мог о том, какую чудесную роль уготовил ему случай, а вернее – воля человека в красном.
Разумеется, позицию, которую он занял перед лицом своего собеседника, можно объяснить его глубокой убежденностью. Каждое произнесенное им слово исходило из пламенной, искренней души. Он говорил то, что думал, и не раз проливал кровь за свои убеждения.
Впрочем, его непреклонности можно найти и другое объяснение. Быть может, перед смертью Маркиз хотел отдать последний долг своей Родине, объяснив врагам главную причину столь решительного, нескорушимого сопротивления, с которым те будут сталкиваться вновь и вновь. Возможно, ему хотелось, чтобы человек в красном в конце концов сказал себе: «Да уж, эти гордые головы никогда не склонить – остается только их отсечь!» – и в ужасе отрешился от столь жестокой необходимости.
Однако все эти мысли, открытые Маркизом в порыве пламенной дерзости, как ни странно, нашли отклик в сердцах его слушателей, хотя эти люди и были его непримиримыми противниками. Французы – солдаты, дворяне – не утратили рыцарского духа, порой дремлющего, но никогда не угасающего совсем. Благородные порывы широкой и такой храброй души не могли их не тронуть. На смену удивлению пришло уважение, едва ли не сочувствие. И если б не человек в красном, они, все до единого, бросились бы, наверное, пожимать руки священнику-воину.
Но среди этих благородных французов был один франш-контиец – трус и изменник.
Антид де Монтегю отрекся от Родины и продал ее подобно тому, как Иуда Искариот отрекся и продал Господа своего!..
Поэтому каждое слово преподобного Маркиза падало на сердце владетеля Замка Орла каплей расплавленного свинца. Презренный негодяй чувствовал, словно с головы его срывают маску и стыд и бесчестье жесткими ремнями прилюдно хлещут его по лицу.
Глухая, неистовая злоба, растущая от того, что ее приходилось обуздывать, переполняла графа, по лбу градом катил пот. Антиду хотелось накинуться на священника и своими руками задушить его или одним ударом кинжала оборвать его речь и жизнь.
Но присутствие человека в красном крепко сдерживало ненависть Монтегю, как и сочувствие в сердцах французских офицеров. Почтение пригвоздило его к месту – и горячечная, бессильная злоба была первым шипом в кровавом венце, который судьба уготовила ему в будущем.
Заслышав последний ответ преподобного Маркиза, человек в красном, словно подавленный величием несравненного и притом столь прямодушного героизма, опустл голову на грудь. Его землисто-матовое лицо сделалось еще бледнее – какое-то время казалось, что он ушел глубоко в себя.
Маркиз, все такой же невозмутимый, со скрещенными на груди руками, разгоряченный своей речью, взирал на него как будто с усмешкой…
Но вот человек в красной мантии медленно поднял голову, с изяществом поставил локоть на подлокотник своего высокого резного кресла и, подперев рукой щеку, перехватил взгляд Маркиза, и не думавшего отвести глаза в сторону.
Все, кто наблюдал произошедшую сцену, с нетерпением и тревогой ждали первые слова, которые готовы были вот-вот слететь с узких, пока неподвижных губ человека в красном.
Преподобный Маркиз как будто был взволнован менее других, казалось бы, бесстрастных, слушателей, и тем не менее на карту была поставлена его жизнь – и приговор, вне всяких сомнений, должны были вот-вот огласить.
Однако человек в красной мантии обманул все ожидания нашего героя. Вместо того чтобы высказаться как хозяин положения и судья, он пожелал продлжить беседу. Не сводя глаз с лица священника, будто желая уловить в нем малейшие перемены чувств, он совсем медленно проговорил:
– Вы предрекаете Франции и ее королю войну до скончания века потому, что Франция якобы намерена стиснуть вас своими неумолимо расширяющимися границами, и потому что французский король якобы возжелал стать вашим повелителем. А между тем политика Людовика XIII на самом деле призвана, как мне кажется, служить гарантией того, что ваши права будут уважены!..
– Гарантией? – переспросил священник. – Гарантией чего?..
– Разве Людовик XIII в собственном своем королевстве не придпринимает точно такие же шаги, как ваш парламент у вас в провинции?
Человек в красном остановился.
– Что-то я вас не пойму, – сказал Маркиз.
Тогда человек в красном продолжал:
– Дольский парламент, как вы сами изволили выразиться, защищает народ от произвола сеньоров, а сеньоров – от произвола вельмож. А разве Людовик XIII не делает то же самое изо дня в день, усмиряя гордыню тех, кто все еще мнит себя великими вассалами короны?
Преподобный Маркиз лишь улыбнулся в ответ.
– Вы что же, так ничего и не поняли? – удивился человек в красном.
– Не будем о Людовике XIII, прошу вас! – воскликнул Маркиз.
– Почему же?
– Потому что Людовика XIII не существует, и вам это известно лучше, чем мне.
Человек в красном вздрогнул.
– Нет, – продолжал священник-воин, – не будем поминать короля Франции, давайте лучше поговорим о кардинале-министре, если угодно… давайте поговорим о Ришелье… Да, признаюсь, Красное преосвященство[67], довершая дело, начатое Людовиком XI, с неустанным усердием сносит слишком высоко вознесенные головы французской знати, устанавливая таким образом мерку, превыше которой может быть только корона. Король Плесси-ле-Тура[68], друг Тристана Лермита и Оливье ле Дэна[69], шел окольными путями к своей личной цели – он сокрушал все, что мало-мальски возвышалось рядом с его престолом и затеняло его. Великие пали и, как оно всегда бывает, где добро, там и зло, – свободные места не преминули занять ничтожества. Но времна с тех пор изменились… И сегодня Ришелье, великому министру монарха, чья корона всего лишь тень, нет больше надобности бороться с каким-то герцогом Бургундским, дерзко провозгласившим себя королем в своем собственном королевстве. Зато ему приходится противостоять слишком могущественным силам при дворе… Он тоже установил свою мерку – в пример Людовику XI – и тоже рубит макушки у самых высоких деревьев в человеческом лесу и выкорчевывает вековые дубы; таким образом он дает молодой поросли больше простора, воздуха и солнца, позволяя ей тянуться вверх и разрастаться… И здесь тоже топор лесоруба разит больших в угоду малым. Но входит ли эта самая услуга в планы, помыслы и чаяния нашего министра? Позволю себе в этом усомниться. Людовик XI устанавливал мерку в интересах своего престола. А Ришелье следует его примеру в угоду своему безграничному честолюбию и непомерной гордыни!..
Человек в красном, ухмыльнувшись в свою очередь, ничего не отвечал.
Когда преподобный Маркиз произнес слова «безграничное честолюбие» и «непомерная гордыня», герцог де Лонгвиль, маркиз де Виллеруа и маркиз де Фекьер приняли грозный вид и положили руки на гарды своих шпаг.
Тогда священник-воин обратился к ним.
– Эй, мессиры, – сказал он. – Оставьте в покое ваши шпаги, ведь вы слишком благородны и не поразите беззащитного врага, к тому же вам вряд ли захочется присвоить привилегию палача, который вот-вот примется за меня…
И, указав взглядом и жестом на Антида де Монтегю, он прибавил:
– А уж коль вам не терпится покончить со мной, дайте, нет, не шпагу, а нож этому сеньору в маске… Ремесло палача ему вполне годится.
– Наглец! – вскричал владетель Замка Орла.
– Тише! – едва слышно проговорил человек в красном, делая знак маркизу де Фекьеру.
Тот кивнул офицеру, стоявшему у двери в глубине залы.
Офицер вышел.
Почти тотчас же грянули трубы – и в зале появился разодетый паж лет пятнадцати-шестнадцати, прелестный, как девушка, в сопровождении двух горнистов, шествовавших впереди, и восьмерых охранников, следовавших за ним. На ладони вытянутой левой руки паж нес обшитую золотым галуном алую подушечку. На ней лежал конверт, отороченный красной шелковой нитью и скрепленный большой печатью.
Горнисты с охранниками остановились – только паж приблизился к сидящему и, преклонив перед ним колено, заговорил:
– Для…
Закончить, однако, он не успел.
Преподобный Маркиз прервал его и четким, громким голосом продолжал вместо него:
– Для его преосвященства монсеньора кардинала де Ришелье.
– Как! – воскликнул кардинал (ибо это действительно был он). – Вы знали?..
Маркиз нижайше поклонился.
– Да, монсеньор, – проговорил он вслед за тем.
– Кто же вам сказал?
– Никто. Но разве мне самому было трудно догадаться? Хотя слух о вашем прибытии еще не успел разлететься по нашим горам, монсеньор, тем не менее, войдя в эту залу, я ни на миг не усомнился… Да и перед кем еще, кроме вас, французские генералы стали бы склонять головы так низко?.. Впрочем, – с усмешкой прибавил священник, – разве ваше платье не свидетельствует убедительнее всего остального, что вы стоите на первой ступени церковной иерархии и что выше вас только папа и Бог?..
– Священник, – прошептал он, – поостерегись!
– Чего же, монсеньор? – спросил Маркиз.
Особое внимание, какое кардинал уделил священнику-воину, имело два объяснения. Во-первых, кардинал был премного удивлен, увидев перед собой человека выдающегося, одаренного, хотя и не думал, что такие могут быть в этих диких, суровых горах. Во-вторых, его побудило начать беседу самое честолюбие великого политического деятеля, подогретое прозорливостью Маркиза, проникшего в его мысли и догадавшегося об истинной цели его честолюбивых устремлений.
Невероятная точность суждений священника смягчила его суровый нрав… И вдруг Маркиз задел его кровоточащую рану, насмеявшись над званием министра и высочайшим церковным саном, в который Ришелье был облачен.
И если сначала искренность Маркиза внушала кардиналу уважение, то теперь она больно ранила его.
– Так чего же мне следует остерегаться, монсеньор? – переспросил священник. – Чего мне бояться? Или я не знаю, что меня ожидает смерть и ее мне никак не избежать? Да и какая разница, когда мое тело отдадут на растерзание, – чуть раньше или чуть позже? Однако сильные мира сего имеют обыкновение оказывать последнюю милость идущему на смерть. Вот и я прошу вас о последнем одолжении: позвольте мне договорить до конца! Я буду краток, монсеньор, и клянусь не кривить душой, а говорить одну только правду.
Кардинал успел прийти в себя и подавить свое первое побуждение оборвать Маркиза.
– Говорите же! – отвечал он, выражая согласие скорее жестом, нежели голосом.
– Благодарю, монсеньор, – сказал священник.
И продолжал:
– Франции нужна Франш-Конте! Но благим ли путем тщится Франция обрести и сохранить свои земли? Разве может она снискать сторонников и вызвать сочувствие у нашего народа, перекладывая на его плечи непосильное бремя нужды, страдания и прочих бедствий?.. И наша ли вина в том, что при одном лишь упоминании о французах и шведах мы, горцы, все как один испытываем ужас и отвращение? Вам угодно прибрать к рукам Франш-Конте – и вы истреляете ее народ мечом и голодом, разоряете грабежами и огнем! Даже варвары, гуны и вандалы, пытавшиеся захватить нашу землю еще во времена оные, не заходили так далеко, как вы. Спросите ваших генералов, монсеньор, что для них есть война… И они вам не скажут. Ну что же, раз они здесь – стоят перед вами и передо мной, тогда я скажу, что они понатворили, и, если они посмеют, пусть меня опровергнут.
Герцог де Лонгвиль и господа де Виллеруа и де Гебриан вышли вперед, собираясь повелительным жестом прервать речь священника.
– Монсеньор, – спросил кардинала Маркиз, – так я могу продолжить или, быть может, мне стоит молчать?
– Говорите! – снова распорядился Ришелье.
И Маркиз заговорил вновь:
– Так кто же они – бесы, извергнутые из преисподней, или люди, чада Божьи, эти генералы, ни во что не ставящие жизнь человеческую? Есть ли сердце у герцога де Лонгвиля, который сломил в 1637 году героическое сопротивление Полиньи, разграбил и сжег захваченный город и предал мечу всех жителей, тщетно простиравших руки к захватчикам, моля их о пощаде?..
Есть ли душа у этого маркиза де Виллеруа, который, поневоле сняв осаду с Салена, в ярости от постигших его неудач, нагрянул в окрестности Доля и повелел в две недели выкосить подчистую недозревшие хлеба на полях по берегам Дубса… у этого самого Виллеруа, который стер с лица земли замок Вир-Шатель в отместку за героизм полковника Сезара дю Сэкс д’Арнанса… и спалил дотла пять деревень во владениях барона, а также замки Вийет и Фретинье заодно с запасами хлеба на двадцать тысяч экю?.. Огонь и голод – вот оружие этих достославных военачальников!.. Да будут они прокляты, и пусть история пригвоздит их к позорному столбу!
– Во имя Неба, монсеньор, – вскричал Лонгвиль, – пусть ваше преосвященство велит ему замолчать!
– Так он что, лжет? – с достоинством спросил кардинал.
Герцог ничего не ответил.
– Тогда пусть говорит! – заметил Ришелье.
– Благодарю, монсеньор, – повторил священник.
И продолжал:
– Вы злитесь, мессиры? А ведь я говорю только правду, и это еще не все. Я забыл упомянуть о подвигах ваших сподвижников… У вас, мессиры, есть соперник, конкурент!.. Что вы скажете, к примеру, о графе де Гебриане? И неужели думаете, что я собираюсь обойти мочанием вашего хозяина, герцога Саксен-Веймарского? Я напомню, что он уже провозгласил себя королем Юры и ждет лишь окончания войны, чтобы сделать из Конте обособленное королевство, право на которое он намерен оспаривать у Франции?
– Что скажете? – живо спросил кардинал, приподнимаясь в кресле и сверкая глазами.
– Он лжет, монсеньор! – гневно вскричал де Гебриан. – Не верьте ему, монсеньор!
Преподобный Маркиз медленно приблизился к графу и, посмотрев ему прямо в глаза, со странным – властным и повелительным – выраженем сказал:
– Повторите же, что я лгу!
Гебриан опустил голову и промолчал.
– Здесь есть какая-то тайна, – проговорил Ришелье, – и чуть погодя мы ее раскроем. А пока, мессир священник, выскажите ваши обвинения к графу де Гебриану и его хозяину.
– Итак, слушайте, монсеньор, и будьте уверены, на сей раз он не посмеет кричать, что я лгу! Так вот, однажды вечером герцог и граф – господин и прислужник, будущий король Юрский и его полковник, отчаявшись захватить Сален с Безансоном, выдвинулись к Понтарлье…
Надвигалась ночь, а вместе с сумерками, понятно, пришел страх…
Знаете, как они освещали себе дорогу?.. В свое время Нерон, недостойнейший из императоров, повелевал зажигать на торжествах живые факелы – из христиан и рабов, облитых смолой и варом!.. Герцог же Веймарский с Гебрианом, выведенные из себя героическим сопротивлением горстки саленских храбрецов, поклявшихся раньше умереть, чем сдаться в плен, отрядили вперед разведчиков, приказав им поджигать по пути все деревни! И этот чудовищный приказ был выполнен. Пожар принял такой размах, что за ту жуткую ночь неугосимое пламя, поглотившее больше двух сотен деревень, больших и малых, было видно и с форта Сент-Анн и с высот Низеруа. А швед с французом знай себе шли вперед в этом пламенном ореоле и потом, продолжив свое страшное дело, предали огню и Понтарлье. Хотя жители его за несколько дней до того выплатили им огромную контрибуцию… Вот что они сделали, монсеньор!
Преподобный Маркиз рассказывал взолнованно и возмущенно. Воспоминания о тех чудовищных злодеяниях наполняли его душу неодолимым, мучительным страданием. И дрожащим от негодования голосом, со слезами на глазах, он продолжал:
– Бедная земля, когда-то такая прекрасная, вот во что ты превратилась – в сплошные дымящиеся руины! Везде и всюду опустошение… везде и всюду голод… Защитники твоих городов вынуждены питаться лишь худым хлебом, взрощенным близ крепостных стен, на расстоянии не дальше пушечного выстрела. Страх охватил даже скотину! Едва заслышав набат, она разбегается и прячется… Бедная земля! Неужто пришел твой последний день? О монсеньор, монсеньор, пощадите нашу обездоленную землю, выжженную почти дотла! Захватив ее, вы навлечете на себя только позор!
Лицо Ришелье, застывшего в неподвижности и не сводившего глаз со священника-воина все время, пока он говорил, оставалось непроницаемым.
– Если вы полагаете, что с нашей стороны недостойно захватывать разоренную землю, так почему же вы сами проливаете за нее кровь до последней капли и стоите до последнего человека? – спросил он наконец.
– Эх, монсеньор, да разве пристало сыновьям бросать свою мать лишь потому, что она умирает?
– Им пристало стараться спасти ее.
– Спасти? Как?
– Обратясь хотя бы к нам, ибо мы смогли бы залечить раны, которые вскрыли, и вернуть к жизни умирающую землю… Иного выбора у вас нет, и вам ничто не мешает посупить именно так.
– Говорите, ничто, монсеньор? – воскликнул Маркиз.
– Ничто.
– А как же наши клятвы верности?..
Верхняя губа у Ришелье вздернулась.
– Ваши клятвы верности Испании! – заметил он с плохо сдерживаемой ухмылкой.
Эта ухмылка напомнила Маркизу о положении, в котором он оказался, и снова ввергла его в гнев, который еще несколько мгновений назад сменило чувство воодушевления.
– Простите, монсеньор, – сказал он с горькой усмешкой, – я совсем забыл – не стоило вам говорить о чувстве долга, ведь оно вам незнакомо. Вы совсем не помните прошлого и забываете настоящее, как только обретаете его. Вы видите лишь будущее, а в нем – цель, к которой стремитесь, и стремитесь любыми путями… Вы католик, монсеньор, вы духовное лицо – кардинал и, однако же, заключаете договоры с Густавом, главой Германской конфедерации и немецких протестантов, и посылаете ему в помощь войска Всехристианнейшего короля… Подобный союз, конечно, оправдан интересами высокой политики, но как эта ваша политика сообразуется с законами Римского трибунала, которым вы клялись повиноваться и которые ообязались исполнять?
Ришелье, безмолвный, недвижный, сосредоточенный, продолжал слушать. Его лицо оставалось все таким же бесстрастным – ничто не выдавало в нем борьбы, какую он вел сейчас с самим собой.
Генералы не знали, чему удивляться больше – дерзости преподобного Маркиза или спокойствию его преосвященства.
Между тем священник продолжал:
– Повторяю, монсеньор, вы видите только цель и никогда не отступаете перед средствами… Марильяк – обезглавлен, Монморанси – обезглавлен, Шале – обезглавлен, равно как и многие другие, поплатившиеся головой за то, что совершили непростительную ошибку, встав у вас на пути. Вот вам мои кровавые доказательства. Спасение государства, как вам кажется, связано с сохранением вашей власти, и, возможно, вы правы! Мало-помалу, все больше проникаясь ролью властителя, вы лишаете своего повелителя – короля – его священных прерогатив. Отныне у потомка Людовика Святого и Генриха IV больше нет права миловать!.. А сам Людовик XIII, попав, в конце концов, под ваше влияние, превратился в обыкновенного соглядатая, который с легкостью выдает вам ваших врагов…
Вот средства, которыми вы пользуетесь, монсеньор. Но не могу не согласиться, цели у вас возвышенные и порой вы их добиваетесь. Вы поняли – надобно принизить вельмож перед короной и огранчить власть Австрийского дома. Задача крайне трудная! Вы признали это и довели дело до благополучного конца, не прибегая ни к чьей помощи, кроме вашего гения. Уж больно не с руки вам было опираться на вашего Людовика XIII, чья слабость в конечном счете могла обернуться для вас немилостью… Вы продвигаетесь вперед решительно, невзирая на препятствия. Против вас вооружаются принцы крови – вы сокрушаете их вместе с пособниками. Вы попираете ногами недовольных во главе с королевой-матерью и возрождающимися кликами герцога Орлеанского. Вы сметаете все на своем пути, что вам мешает. Если дорога кажется вам слишком узкой, вы раздвигаете ее, а рытвины заполняете снесенными походя головами… Но не все ли равно? Ведь все это – добро и зло – суть деяния великого человека! Благодаря вам Людовик XIII стал вторым лицом монархии, и благодаря вам же он отныне первый монарх в Европе. Вы принижаете короля – и возвеличиваете его корону!
Только слабое подергивание век выдавало несказанную радость Ришелье, которую доставляли его гордыне прямолинейные суждения преподобного Маркиза.
Он продолжал:
– Мне остается прибавить совсем немного, монсеньор. И в завершение я постараюсь коротко сказать о том, что касается нас особо. Война, которую вы объявили нашей многострадальной провинции в угоду своему тщеславию, – несправедливая и жестокая… Стая голодных волков, ворвавшаяся в овчарню, принесла бы куда меньше бед, чем ваши солдаты со своими начальниками учинили на нашей земле!.. Как франш-контиец и один из предводителей горцев, я ненавижу вас, монсеньор! Но как человек я вынужден вами восхищаться и признать вас великим!..
Маркиз замолчал.
Какое-то время Ришелье сидел, в задумчивости опустив голову.
Все, слышавшие речь пленника, поражались такому молчанию. Наконец кардинал нарушил тишину:
– Священник, – молвил он, – ваша жизнь в моих руках.
– Знаю, монсеньор, как и то, что вы собираетесь с нею сделать, а посему, оказавшись в плену, я уже приготовился предстать перед Богом.
– А если бы я оставил вам жизнь и свободу?
– Жизнь и свободу! – повторил Маркиз.
– Да. Что бы вы сказали тогда?
– Я бы сказал, что, поступая так, вы преследуете некую цель, и мне хотелось бы знать – какую. Если оказанная мне милость обернется во вред моей Родине, я откажусь.
– Стало быть, вы отвергаете мое предложение?
Маркиз воззрился на кардинала.
– Монсеньор, – сказал он вслед за тем, – я признаю за вами право послать меня на казнь, но не оскорблять.
Ришелье поднялся.
– Священник, – сказал он, – я оставляю за вами право распоряжаться своей судьбой. Как вам угодно, чтобы с вами обращались?
– Как с ровней вам, монсеньор.
– Ровней мне? – удивился Ришелье.
– Вы один из повелителей Франции, а я – гор. Мы с вами оба служим Богу. Вы кардинал, это так, но послушайте, разве мы не равны перед той же Церковью? На мне такая же красная мантия, как и на вас.
– Но зачем… – воскликнул кардинал, – зачем вы облачились в красную мантию? К чему эта постыдная насмешка над высочайшим из церковных санов?
– Неужели монсеньор, когда вам рассказывли обо мне, ничего не сказали о моей мантии?
– Мне рассказывали всякие суеверные байки и небылицы – разве я мог поверить в такое!..
– И среди прочего вам рассказали, что красная мантия – мой талисман, не так ли?
– Да.
– Вам говорили, что от нее отскакивают и мушкетные пули и даже самые закаленные клинки, так?
– Да, говорили.
– Вам сказали, наконец, что горцы с радостью идут за преподобным Маркизом в бой, памятуя о том, что их командиру не страшны никакие раны… Так вот, монсеньор, не я распространил эти глупые слухи, зато я заставил в них поверить…
– С какой целью?
Резким движением Маркиз выхватил кинжал из-за пояса господина де Фекьера, стоявшего рядом, и распорол левый рукав своей мантии по всей длине.
Французы, осознавшие лишь первое движение священника-воина, подумали, что он вознамерился лишить кардинала жизни, и накинулись на него.
Но он уже далеко отшвырнул оружие, которым только что воспользовался, и показал Ришелье свою обнаженную руку.
Рана, нанесенная ему этим утром у Вержского замка жестоким подонком из серых, все так же кровоточила.
– Вот, взгляните, монсеньор, – проговорил он, – кровь течет, а об этом даже никто не знает… Кровь такая же алая, как платье, и не замарает его! Потому-то преподобный Маркиз и неуязвим! Вот и весь секрет его красной мантии!
Кардинал опустил глаза, ноздри у него, доселе неподвижные, вдруг задрожали, указывая, что в душе он испытал глубочайшее потрясение. У всех присутствующих вырвался крик восхищения перед такми мужеством и такой стоической доблестью, которые ничто не могло поколебать. Для стоявшего перед ними человек, подобного достославным героям великого Древнего Рима, боль была сущим пустяком!
Такое воодушевление, проявленное даже слишком открыто, разумеется, не понравилось его преосвященству – густые брови кардинала нахмурились. Благородные офицеры содрогнулись, словно их обдало ледяным ветром грядущей немилости, – они, все как один, смутились и помрачнели. В течение нескольких минут на лицах всех присутствующих читалась растерянность. Кардинал был по-прежнему задумчив, а преподобный Маркиз – все так же бесстрастен.
Наконец Ришелье нарушил тягостную тишину.
– Мессиры, – сказал он, обводя взглядом офицеров и всматриваясь в каждого, – справедливость должна восторжествовать. Перед нами мятежник, захваченный в плен с оружием в руках. Мы обязаны назначить ему наказание, которое он заслуживает, но прежде нам хотелось бы выслушать вас всех и узнать, каким должно быть это наказание. Итак, начнем с вас, герцог де Лонгвиль.
– Ваше преосвященство желает оказать мне неслыханную честь, испрашивая мое мнение?
– Да.
– Мое мнение такое же, как у его преосвященства. Я мог бы ошибиться, а его преосвященство непогрешим.
– А что скажете вы, маркиз де Виллеруа?
– Мое мнение полностью совпадает с мнением герцога де Лонгвиля.
– Ну а вы что скажете, маркиз де Фекьер?
– Выразив только что свое мнение, герцог с маркизом тем самым высказали и мою самую сокровенную мысль.
Кардинал был вынужден опустить глаза под взглядом преподобного Маркиза – священника-воина, ибо взгляд его был исполнен нескрываемого, глубокого презрения перед угодливостью трех благородных французских офицеров. «А он прав, – подумал министр, – эти трое даже не смеют высказать свои мысли при мне…»
Обращаясь вслед за тем к Гебриану, он сказал:
– А у вас, граф, есть мнение?
– Да, монсеньор.
– О! – удивился Ришелье.
– Ваше преосвященство, – продолжал Гебриан, – позвольте мне сказать со всей откровенностью!
– Не только позволяю, но и требую.
– Хорошо, монсеньор, я бы помиловал.
– О! – снова удивился Ришелье.
При слове «помиловал», прозвучавшем неожиданно, трое благородных офицеров обатили свои недоуменные взгляды на того, кто проявил столь неслыханную дерзость. В самом деле, они не верили, что граф говорил вполне серьезно.
Из прорезей на маске Антида де Монтегю, казалось, вырвались языки пламени.
Небольшой отряд телохранителей кардинала охватил безотчетный трепет – послышался едва сдерживаемый восхищенный шепот. Сила духа, храбрость и мужество священника-воина покорила их.
– Граф де Гебриан, – воскликнул Маркиз, – хотя вы служите плохому хозяину, враг вы великодушный!..
Оставалось только узнать мнение сира де Монтегю.
Ришелье повернулся к нему и спросил:
– А по-вашему, мессир, какое наказание заслуживает пленник?
– Смерти, – гортанным голосом отвечал Антид.
– И как же?
– Как мужлан – через повешение.
– Готовы ли вы собственноручно казнить его после вынесения смертного приговора?
– Если нужно, да, монсеньор.
Кардинал отвел взгляд в сторону.
Низость хозяина Замка Орла устыдила и устрашила даже тех, кому она была на руку.
– Пусть священника отведут в часовню, – через мгновение продолжал Ришелье. – Пусть он помолится там в одиночествуе и подготовится к смерти.
– Господи Боже, – проговорил Маркиз, выходя из залы в окружении охраны, – я принимаю волю Твою и повинуюсь ей!..
XXII. Два монаха
Пока в большой зале Блетранского замка преподобный Маркиз торжествует над великим кардиналом, покоряя его своим героизмом, давайте перенесемся вместе с вами на ту самую дорогу, по которой еще несколько часов назад серые вели под конвоем пленного.
Теперь по этой дороге, на довольно значительном расстоянии от деревушки Бофор, быстрым шагом шли двое – монахи. И тот, и другой были облачены в простые, строгие одежды добрых святых братьев из Кюзойского аббатства – грубошерстяные серые рясы, длиннополые и широкие, с капюшоном, который мог скрыть лицо почти целиком. Ряса у каждого вместо ремня была подпоясана веревкой с узлами на обоих концах, болтавшихся почти у стоп, защищенных всего лишь сандалиями на толстой подошве. В руках оба монаха держали длинные, узловатые палки, как видно, недавно выдернутые из изгороди или походя срезанные в придорожном лесу.
Один из них был стариком.
Насколько позволял судить опущенный капюшон, его голова, правильной, благородной формы, напоминала те, что так часто изображали на своих полотнах Микеланджело и Доминикино. Его лицо, испещренное глубокими морщинами, свидетельствовало о том, что всю свою жизнь он прожил в постах, бдениях, самоистязании и умерщвлении плоти. Длинная, седая борода – такие нынче в диковину, – будто стекающая серебристым потоком к середине груди, очевидно, никогда не знала ни ножниц, ни бритвы. Из-под капюшона едва выглядывали редкие пряди, такие же седые, как борода.
Другому монаху было от силы двадцать три – двадцать четыре года. Под рясой можно было угадать его прямую, стройную, гибкую фигуру. Шел он бодро и решительно, с обнаженной головой, позволяя ветру трепать его светлую шевелюру, и время от времени потрясал палкой, словно шпагой, вместо того чтобы опираться на нее, как его спутник.
Вне всякого сомнения (по крайней мере, судя по его пламенному взгляду и живости движений), молодой человек был послушником, несколько стесненным своим призванием и радовавшимся возможности хотя бы на несколько часов избавиться от монотонного существования, неизменной скуки, сдержанности и строгих ограничений монастырской жизни.
Дорога была совершенно пуста. С тех пор как добрые монахи, столь разные по возрасту и сложению, вышли из Бофора, они не встретили ни одной живой души. Добавим также, что и меж собой они не обменялись ни словом.
Но что, на первый взгляд, особенного в том, что два монаха идут себе вдвоем среди бела дня по большой дороге?
Быть может, они возвращались к себе в монастырь?..
Быть может, отправились собирать пожертвования для своего ордена?..
Быть может, настоятель аббатства поручил им передать некое послание, письменное или устное, какому-нибудь знакомому приору?..
Что ни говори, а повстречать монахов на большой дороге в военное время было делом самым что ни на есть обычным. Впрочем, опасность угодить в засаду или в плен к врагу, сказать по чести, для них мало что значила. Мародеры всех мастей уже загодя знали, что в их карманах не найти ничего, кроме тощей мошны, а то и ее не найти, поэтому их скромные хламиды ничуть не прельщали даже самых отчаянных разбойников с большой дороги.
И все же, если бы какой-нибудь незримый наблюдатель последовал за двумя нашими монахами, он не преминул бы обратить внимание на одну вроде бы непримечательную, но на самом деле очень важную вещь, которая тотчас навела бы его на самые разные догадки.
Наши монахи, спешащие и безмолвные, подошли к тому месту, где дорога, с некоторых пор суженная, делала резкий поворот. В двух-трех сотнях шагов от этого поворота показались повозки, груженные зерном и фуражом и запряженные полдюжиной крупных волов. Телеги двигались в сторону Бофора под охраной маленького отряда вооруженных до зубов крестьян, неуклюже несших ржавые мушкеты и рапиры времен Карла Великого.
Внезапно осанка и поступь старого монаха странным образом резко изменились.
До сих пор он держал голову высоко и шел уверенным шагом, и спина его была такая же прямая, как у его спутника. Но, едва заприметив крестьян, монах пошел медленнее, сгорбился, колени его подогнулись, руки и ноги задрожали; он тяжело оперся на палку, слегка потряхивая головой, как всякий древний старик. Еще недавно ему можно было дать лет шестьдесят-семьдесят, он был крепок и, несмотря на глубокие морщины, казался хорошо сохранившимся. Теперь же он выглядел, как немощный старец, который едва держится на ногах. Монах в мгновение ока как будто прибавил три десятка лет.
Сказать по правде, это было просто невероятно, однако его молодого спутника подобное превращение, случившееся буквально у него на глазах, похоже, ничуть не удивило.
Крестьяне и монахи шли навстречу друг другу.
И в конце концов пересеклись.
Крестьяне прижались к обочине и, обнажив головы, стали просить блогословения у святого старца.
– Благословляю вас всем сердцем, дети мои, – сказал им он дрожащим, надтреснутым голосом. – Благословляю именем Отца и Сына, и Святого Духа…
– Отец мой, – обратился к нему один крестьянин, – попросите, пожалуйста, милостивого Господа нашего, чтоб он оградил нас по дороге до Бофора от серых, шведов и французов…
– Непременно помолюсь, дети мои… и, надеюсь, милостивый Господь услышит мою молитву.
– Спасибо, отец мой.
– Идите же с миром, дети мои, идите с миром!..
Вслед за тем – после этого короткого разговора монахи и крестьяне распрощались и пошли дальше каждые своей дорогой.
Когда они разошлись на почтительное расстояние и уже не видели друг друга, старик снова преобразился – так же быстро и не менее удивительным образом. Его опущенная голова поднялась, согбенная спина распрямилась, подкашивающиеся ноги налились прежней силой, поступь сделалась быстрой, притом настолько, что его молодому спутнику пришлось изрядно ускорить шаг, чтобы за ним угнаться.
Спустя четверть часа странный монах остановился.
– Видите что-нибудь там вдалеке, в тумане? – спросил он.
– Да.
– Какие-то хижины, верно?
– Похоже на то.
– Должно быть, это крайние дома деревни Сент-Аньес.
– Пойдем через деревню?
– Нет, благо ее можно обойти.
– Так что будем делать?
– Сойдем с дороги и пересечем поле справа.
– И куда придем?
– Если мне не изменяет память, а я думаю, что она еще крепка, минут через десять хода мы должны выйти на тропу, и она выведет нас к Кондамину…
– Тогда идемте.
Они сошли с дороги – и через какое-то время действительно напали на тропу, о которой говорил старик.
Дальше они шли молча – и меньше чем через четверть часа выбрались к Кондамину.
На входе в деревню старый монах снова забыл свою свободную, резвую походку и плелся, уже едва передвигая ноги, тяжело опираясь одной рукой на палку, а другой на руку своего молодого спутника.
Тот же едва сдерживал смех при виде того, с каким трепетным благоговением и глубоким почтением набожные селяне воспрнинимают эту забавную комедию.
Деревню Кондамин прошли без каких бы то ни было происшествий, не считая раздачи благословений направо и налево.
Довольно скоро монахи подошли к границе Франш-Конте и французской области Бресс и какое-то время шли вдоль границы, полагаясь исключительно на чутье старого монаха, знавшего эти края как свои пять пальцев. Нигде не было ни единой тропинки – кругом сплошная болотистая равнина, ограниченная со всех сторон разве только линией горизонта, так что идти приходилось, чуть ли не по колено утопая в грязи и очень медленно – на это уходила уйма сил.
– Какое ужасное место! – вдруг воскликнул молодой человек.
– А вам горы подавай, не так ли? – спосил старый монах.
– Само собой!..
– И вы сто раз правы! В горах нет болот, и там холодно, камни сплошь устилают землю и делают ее бесплодной, но по крайней мере там чувствуешь величественный дух дикой природы – это ласкает глаз и душу. Воздух в горах чистый, и хотя живут там бедно, зато на ногах стоят крепко. Бресс, напротив, богата, но тоска здесь царит смертная! На плодородных долинах полно ядовитых болот, и бледный призрак лихорадки постоянно витает над изгловьями постелей здешних обитателей.
Вдруг молодой человек злобно вскрикнул и тут же смачно выругался, что никак не вязалось с его благочестивым обличьем.
Он увяз в болоте выше колен, и, чтобы выбраться из топи, ему понадобилась помощь старика.
– Ну и ну! – проговорил он. – Неужели в этих чертовых краях нет ни одной дороги?
– Дороги-то есть, правда, их совсем мало, да только нам и от них надобно держаться подальше. Тут, недалече стоят французские войска… но скоро мы будем у цели. Так что давай поторапливаться: время не ждет!..
Молодой человек невольно вздохнул и снова принялся сражаться с грязью, ведомый, как и прежде, своим спутником.
Вскоре они подошли к небольшой возвышенности и выбрались на нее. И в туманном далеке, у самого горизонта, за мелким леском посреди бескрайней равнины они разглядели остроконечный силуэт башни, возвышавшейся над другими величественными строениями.
– Что это? – спросил молодой монах.
– Блетран.
– И когда же мы там будем?
– Через час… Пока у нас все шло как по маслу, словно благословения, которые я рассыпал по дороге, снизошли и на нас самих. Теперь надо постараться, чтобы путь наш закончился так же благополучно, как и начался. Ежели сведения, что мне дали, верны, в том леске, через который лежит наш путь, французов нет. Их лагерь левее – между Вильвье и Монморо, неподалеку от Лон-ле-Сонье… Надеюсь, у нас все получится так, как мне бы хотелось.
Наши монахи ступили в лес и прошли его насквозь, не встретив ни одной живой души.
Выйдя из леса, они увидели перед собой обширную, открытую местность, простиравшуюся до самых крепостных стен Блетранского замка, – лишь в одном месте посреди этой пустоши виднелся еще один перелесок.
Солнце только-только исчезло за горизонтом, скрытым густой дымкой испарений, и окрасило его в кроваво-алый цвет.
Надвигались сумерки.
В это время колокол на крепостной башне пробил пять часов. Вслед за последним ударом колокола на крепостной стене все пришло в движение – поднялась невообразимая суета: послышался барабанный бой, затрубили трубы… подъемный мост, только что опущенный, пополз вверх.
– Ох, ох, – заметил старик монах, – плохо дело! Похоже, мы опоздали…
– Что же делать?
– Все равно идем!
И он двинулся к замку через открытую пустошь, где по правую руку виднелся перелесок, о котором мы уже упоминали.
Равнина была пустынна.
Вдали виднелись крайние палатки французского лагеря.
На крепостных стенах взад-вперед ходили часовые, другие же солдаты, ничем не занятые, облокотясь на бойницы, глазели на бескрайние дали.
Старик монах, и вовсе согнувшись в три погибели и чуть ли не валясь с ног, заковылял впереди своего спутника к главным воротам, перед которыми только что подняли мост. Чтобы подойти к этим воротам, нужно было миновать выступ перелеска на расстоянии мушкетного выстрела от него.
Однако это было небезопасно: за редкими купами деревьев, разбросанных на площади в сто пятьдесят – двести туаз[70] могла таиться смертельная опасность… Монахи двинулись дальше с беспечным видом, как будто им совершенно нечего было опасаться.
Часовые остановились, прекратив свою однообразную ходьбу, и воззрились с безотчетным любопытством на приближавшуюся парочку в рясах, лишь бы хоть чем-нибудь скрасить нескончаемую скуку.
И вдруг их праздное любопытство превратилось в пристальное внимание: такого они никак не ожидали… Из перелеска высыпало десятка два солдат во французской форме, и всем скопом, точно свора бесов, они накинулись на бедных монахов.
Наша парочка было попыталась дать тягу. Но старику изменили силы, а молодому, как видно, не хотелось бросать своего спутнка.
Солдаты окружили монахов – завязалась стычка. Но длилась она всего несколько мгновений. Старика повалили наземь и принялись пинать ногами и лупить головками эфесов шпаг, а потом так и бросили на земле, забитого чуть ли не до смерти. Молодому же монаху, не сдюжевшему со всеми напавшими, несмотря на его отчаянное сопротивление, все же связали руки за спиной и стали грубо толкать вперед, в сторону перелеска.
Тот упирался.
Тогда несколько солдат подняли упрямца и, сложив из шпаг и собственных рук некое подобие носилок, опустили монаха на них – и вскоре скрылись за купой деревьев.
XXIII. Кабатчица
Сцена эта произошла за какие-нибудь четыре-пять минут, однако она успела собрать на крепостной стене едва ли не две трети гарнизона, состоявшего при замке: стражи крепости были потрясены невероятной дерзостью и жесокостью произошедшего, а это было чистой воды разбойное нападение среди бела дня, случившееся в какой-нибудь паре сотен шагов от вверенной их охране цитадели, у них на глазах.
Гарнизонные обменивались меж собой догадками по поводу странного происшествия, свидетелями которого они только что были.
– Бедолаги-капуцины, надо ж как им не подфартило! – воскликнул один.
– А старику-то вон как досталось! – подхватил другой.
– Что они удумали сделать с парнем, душегубы?.. Зачем связали по рукам и ногам и уволокли в лес?
– Может, им взбрело в голову получить полное отпущение грехов, приставив ему пистолет к виску?
– Не обобрать же его они вознамерились, ведь всяк знает: у странствующих монахов за душой ни гроша…
– Из какого же полка будут эти громилы?
– Судя по форме, кажись, из полка де Лонгвиля.
– А мне сдается – из полка де Конти.
– Ох уж мне эти бродяги! Под началом де Конти сплошь одни головорезы в военной форме… сущие изверги, не наче!
– И что скажет полковник, когда дознается?
– Право слово, не хотел бы я оказаться в шкуре этих подонков!
– Особенно сегодня…
– А почему – особо сегодня?
– Потому что здесь кардинал, а кардинал – такой же служитель Божий, как всякий монах. – Стало быть, он за них горой и никому не позволит грабить своего брата и уж тем паче побивать смертным боем.
– Во-во, это ты верно подметил.
– А по мне, удивительно то, как они ухитрились устроить засаду в том редком леске, куда и мышь не проскочет незамеченной… их же там набилось человек двадцать.
– Ну и что ж! Долго ли подкрасться со сторого вон того большого леса, что позади, а проскользнуть сюда перебежками, от дерева к дереву, раз плюнуть!..
В это самое время на крепостной стене объявился новый персонаж, не преминувший присоединиться к ротозеям-дозорным. Персонажем этим оказалась старуха – личность весьма примечательная и потому вполне заслуживающая нескольких строк.
На вид ей было лет шестьдесят пять – шестьдесят шесть; ростом невелика, полная; лицо – прыщеватое, нос – картошкой и красный, что говорило о ее явном пристрастии к «божественной бутылочке». Она была вдовой, и у нее был сын – впрочем, о нем мы поговорим чуть погодя. Все знали ее под прозвищем матушка Фент; с незапамятных времен она состояла привратницей при Блетранском замке, а заодно держала здесь же кабачок. С годами она стала среди солдат, как сказал бы сведущий человек, вполне свойской.
События, потрясавшие провинцию: война, стычки, засады, смена хозяев – ничто не могло заставить ее отказаться от призвания, которому она отдала всю свою жизнь и с которым хотела бы умереть. Верная своим привычкам и своему дому, как улитка – своей раковине, она не испытывала ни малейшего чувства патриотизма и чуралась любых политических перемен. Она поила и французов, и шведов с не меньшей готовностью, чем франш-контийцев, и неизменно приговаривала как присказку, что «пшеничная» с «можжевеловой» ходко льются в любую глотку… И придутся по вкусу всякому, прибавляла она, кто может расплатиться за эдакое удовольствие звонкой монетой.
Подобное равнодушие, о котором быстро прознали солдаты разных армий, должно было уберечь матушку Фент от всяческих напастей, и на самом деле так оно и было. Жилище ее, располагавшееся в толще той же крепостной стены – рядом с подъемным мостом, состояло из пары комнатушек: в одной помещалась спаленка, другая была выделена под кабачок. Двери кабачка выходили на эспланаду замка. А зарешеченное окошко спаленки, помещавшееся над потерной[71], проделанной в нижней части крепостной стены и сообщавшейся со рвом, глядело в чистое поле.
Кабачок был нейтральной территорией: там, на скамьях из неотесанного дерева сиживали солдаты, сражавшиеся под разными знаменами, но знавшие наверное, что здесь рады любому гостю.
Когда вчерашние побежденные становились сегодня победителями и с триумфом возвращались в замок, откуда были изгнаны накануне, матушка Фент привечала их с примерным радушием и не обращала внимания на цвет флага, реящего сегодня на самой высокой башне. Французский ли то штандарт, расшитый золотыми лилиями, или черное знамя поверженной Конте – если и думать об этом, то лишь затем, чтобы подладиться под последнего оккупанта. Благодаря такому непостоянству, совершенно прелестному и открытому, она умудрялась – что редкость! – заручиться уважением противоборствующих сторон.
Как мы уже говорили, у матушки Фент был сын – так что давайте теперь уделим внимание и ему.
Звали его Николя Большой.
И прозвищем своим он был обязан, очевидно, не уму, а росту: то был тридцатилетний увалень с умом малого ребенка. Пить, есть, спать – таковы были три главных его занятия в жизни, и счастье для него сводилось к удовлетворению только трех потребностей: пьянства, обжорства и лености. Если событие или вещь не имели мало-мальского касательства к бутылке, котелку или возможности растянуться на койке всем своим огромным, нескладным телом, Николя не имел о них ни малейшего представления, да особо и не горел желанием его получить.
При всем том, однако, назвать его слабоумным было бы совсем уж неверно. Он худо-бедно подсоблял матушке на кухне, а кроме того, к всеобщему удовлетворению, исполнял обязанности ключника. На этой должности его вряд ли кто мог заменить, поскольку при постоянной смене гарнизонов и комендантов – то франш-контийских, то французских – Николя единственный, кто мог с первого взгляда безошибочно сказать, от какой двери или ворот тот или иной ключ.
К портрету кабатчицы и ее отпрыска нам остается прибавить только, что матушка Фент была женщиной набожной и питала глубочайшее и безоговорочное почтение ко всякому человеку, облаченному в сутану священника или монашескую рясу с каюшоном.
А теперь давайте, с вашего позволения, вернемся на крепостную стену, где она внезапно появилась, привлеченная беспорядочными возгласами и невнятными разговорами часовых.
– Ну что?.. И что там такого?.. – спрашивала она, прокладывая себе локтями путь сквозь сбившихся в кучу солдат. – На что это вы там глазеете?
– Сами поглядите, – отвечал кто-то из солдат, указывая рукой в сторону пустоши.
– Где-где?.. Что-что?.. Ничегошеньки не видать.
– Да вон там, в четырех-пяти сотнях шагов, возле того здоровенного дерева.
– Ах-ах, ну да, вижу-вижу, – бросила матушка Фент. – Там что-то лежит на земле. И что же оно такое?
– Бедолага какой-то – его побили эти вояки-головорезы.
– Ох, разбойники! – воскликнула старуха.
И, приглядевшись, добавила:
– О Пресвятая Дева Мария!.. Прости меня, Господи!.. Так это ж, по всему видать, монах!..
– И то правда, матушка, как есть монах.
– Монах!.. Возможно ли такое?.. Боже мой, и впрямь монах… служитель Господа милосердного! Ах-ах, нехристи проклятые!..
И, сложив ладони в виде подзорной трубы, старуха, вся дрожа от негодования, вперилась взглядом в недвижное тело монаха, продолжая причитать на все лады, возмущаться и браниться на чем свет стоит.
Через несколько минут пристальных наблюдений она проговорила:
– Ах, да неужто… ах, да мне, никак, чудится?
– Что вы там узрели, матушка? – спрашивали солдаты.
– Да он живехонек!
– Как так – живехонек!
– А вот так – как мы с вами, спасибо тебе, Боже милосердный! Да вы сами поглядите – он только что пошевельнулся.
Любопытство солдат, едва угаснув, пробудилось снова.
– И то верно, честное слово! – крикнул один из них. – Вон, шевелится…
Действительно, монах, доселе лежавший на земел совершенно неподвижно, внезапно ожил.
– Ну вот, я же говорила! – радостно воскликнула матушка Фент.
– Ежели на то пошло, ему здорово подфартило, что душа его в конце концов соединилась с телом, – отвечал один из ее собеседников. – А то его так отдубасили шпагами, что и здоровенный бык свалился бы замертво.
– Эх, – тут же вторила ему досточтимая кабатчица, – чудо, да и только!.. Воистину, чудо Господне!.. Да и кого еще, спрашиваю я, оделить им, как не святого служителя Божьего?
Между тем монах, о котором шла речь, приподнялся, поднес руки ко лбу и с тоской огляделся кругом.
– Боже милостивый, – пролепетала старуха, – Господи Иисусе, он обратил свой взор в нашу сторону!..
И, что есть мочи, она закричала:
– Давайте сюда… к нам, святой отец!.. Мы мирные люди и желаем вам только добра!
Монах находился далековато от крепостной стены и вряд ли мог расслышать матушку Фент.
Однако неясный голос, должно быть, все же долетел до слуха несчастного: собравшись с последними силами, он встал на колени и умоляюще простер руки в сторону крепости… – а вслед за тем лишился сил и снова повалился наземь, словно бездыханный.
– Он сделал нам знак! – продолжала старуха с таким жаром, что ее лицо, и без того красное, вдруг сделалось пунцовым, словно ее вот-вот готов был хватить удар. – Он зовет на помощь! И мы будем хуже язычников и оборотней, ежели оставим его там умирать… Его надобно спасать!
– Спасать! – повторил кто-то из солдат. – Но как?
– Как? – вскричала матушка Фент. – Разве нельзя перенести его сюда?
– Но как мы отсюда выберемся? Сейчас ведь пять часов с лишним – все ворота закрыты, мост поднят…
– Так что же? Ежели мы его бросим, то на этом свете нас пристало вздернуть, а на том – изжарить…
Между тем монах снова очнулся – и на карачках пополз в сторону рва.
– Все это и выеденного яйца не стоит, – продолжала старуха. – Заперты ворота – откроют!.. Поднят мост – опустят! Это ж плевое дело…
– Ну да, а разрешение коменданта крепости у вас имеется?
– Он даст.
– Во всяком случае, я не собираюсь идти и просить у него разрешение.
– А что так? По мне, так, ежели дело касается праведника, не грех и похлопотать.
– Но почему бы вам самой не пойти, матушка?
– А что, я бы пошла…
– Что ж, вот и идите.
– Ну и пойду.
И старуха действительно собралась было спускаться по откосу крепостной стены во внутренний двор, как вдруг солдат удержал ее и сказал:
– Не утруждайтесь… вот он и сам.
Часовые почтительно расступились – стало тихо, и комендант подошел к солдатам.
Вид у него был суровый, брови – насуплены; он опирался на длинную трость с золотым набалдашником: все еще давала о себе знать рана в левое бедро, которую он получил при осаде Доля.
– Что это значит? – строго спросил он. – Все эти сборища и шум?
Кабатчица (а судя по краткому описанию ее натуры, это легко можно себе представить) была на равной ноге как с рядовыми, так и с начальством, против чего, собственно, никто не возражал.
– Мессир, – решительно ответила она, – там, в поле, добрый монах… его здорово побили какие-то головорезы и бросили, думая, что он помер… а он силится добраться ползком ко рву…
Комендант подошел к бойницам и посмотрел.
Монах уже довольно близко подполз к крепостной стене – и можно было расслышать, как он прерывающимся голосом крикнул:
– Именем Всевышнего, сжальтесь надо мной!
– Мессир, – умоляюще продолжала старуха, – нельзя же бросить его умирать, совсем беспомощного, не правда ли?
– Как это ни печально, – отвечал комендант, – но поделать я ничего не могу.
– Напротив, еще как можете!.. Вам же под силу все-все! Прикажите опустить мост и подобрать того правденика!..
– Невозможно!
– Как это – невозможно?.. Почему невозможно?.. Он же христианин, мессир… монах!
– Да хоть сам папа римский, все равно не могу. его преосвященство монсеньор кардинал де Ришелье единственный распорядитель везде, куда бы ни ступала его нога. А он приказал, притом строго и безоговорочно, после пяти часов не поднимать мост и в замок никого не пропускать.
– Ну что ж, мессир, в таком случае надобно уведомить Его преосвященство, сказать, что тут, совсем рядом, стонет предсмертным стоном служитель Божий… И тогда он непременно отменит свой приказ.
– Его преосвященство закрылся в своих покоях и никого не примет.
– Даже вас, мессир?
– Даже меня.
Между тем монах, похоже, испытывал нечеловеческие муки. Было слышно, как он хрипел, будто в предсмертной агонии, ломал себе руки в отчаянии и бормотал:
– Спасите!..
Старуха в отчаянии била себя по голове.
Комендант, в глубине души взволнованный происходящим, но не смевший нарушить приказа министра, решил уйти прочь и на прощание только повторил:
– Да, конечно, все это печально… очень печально! Но еще раз говорю, я ничего не могу поделать.
Он уже отошел на несколько шагов.
– У меня идея! – вдруг радостно и торжествующе воскликнула матушка Фент. – У меня есть идея!..
Комендант остановился послушать идею кабатчицы.
XXIV. Неожиданный поворот
Кумушка Фент, видя, что комендант снизошел до нее, живо продолжала:
– Видите ли, мессир, когда кому-то, как мне, выпадает честь целых полвека поить гарнизон Блетранской крепости, уж поверьте, он имеет представление, что такое приказы, и знает, что их надобно уважать… Однако ж при том что приказы запрещают вам отпирать ворота и опускать мосты, они, сдается мне, не обязывают вас быть жестокосердным и безжалостным.
– Разумеется, – согласился комендант, хотя и понятия не имел, к чему она клонит.
– Короче, – продолжала она, – у вас ведь на душе было бы куда спокойнее, мессир, ежели бы вы спасли того бедного монаха, не нарушив приказа, правда же?
– Вы что же, знаете – как?
– Да, знаю. Это и есть моя идея.
– Ну что ж, выкладывайте.
Любопытство, возобладавшее над пиететом, заставило солдат, поначалу расступившихся, снова собраться вокруг коменданта, чтобы послушать, что там еще удумала кабатчица.
– Вы, верно, знаете, мессир, – меж тем продолжала она, – у меня есть мул, и когда я отправляюсь за провизией в Лон-ле-Сонье, то загружаю ему на спину две здоровенные корзины.
– Знаю-знаю, только не могу взять в толк, к чему вы это…
– Сейчас увидите. Кто же мешает привязать одну веревку к корзине, спустить ее в ров, а после, когда добрый монах в нее заберется, поднять?.. Вы меня понимаете, мессир?
– Да.
– Таким вот образом и приказ не будет нарушен, и милосердие свершится…
– Не стану отрицать, – ответил комендант.
– Стало быть, вы разрешаете?
– Не стану утверждать… А что если этот ваш монах из какого-нибудь горного монастыря, к примеру Сен-Клодского аббатства, и водит дружбу с капитаном Лакюзоном?
– С этим коником?! – изумилась матушка Фент. – Да что вы, мессир, Боже упаси! Ежели он с кем и водит дружбу, то разве что с французами, и только. Он же из Кюзойского аббатства…
– А вы почем знаете?
– Да вы на рясу его поглядите, мессир. Или не видите? Серая, веревкой подпоясана… а сам он босой. Так только добрые кюзойские монахи одеваются.
– Да уж, – с усмешкой ответил комендант, – да уж, в военной форме я разбираюсь куда лучше, чем в монашеских рясах.
– Ну так что, мессир, вы согласны?
– Да, но с одним условием.
– Каким?
– Чтобы этот монах носа не казал из вашей конуры, чтобы нигде не мелькал в крепости и чтобы завтра чуть свет убирался восвояси.
– Будет исполнено, мессир. Не беспокойтесь и во всем положитесь на меня.
Дав наконец долгожданное разрешение, комендант медленно удалился, опираясь на трость.
А кабатчица во все горло закричала:
– Эй, Никола! Где ты там?..
Через несколько мгновений из-под материнского крова выбрался Никола Большой.
Он расправил свои длиннющие руки и кулаками потер глаза. Определенно, доброго малого разбудили слишком резко – он спал даже на ходу.
– Сходи-ка за моей большой корзиной из тех, что я гружу на мула, – велела ему матушка Фент. – Да канат не забудь, да еще коротких веревок, штук несколько, захвати… И чтоб одна нога здесь, другая там! Управишься быстро, так и быть, плесну тебе водочки.
Обрадованный таким обещанием, Никола Большой проявил необыкновенную живость, достойную самых высоких похвал, не прошло и пяти минут, как он вернулся со всем, что требовалось.
Солдаты не мешкая взялись за дело под руководством старухи. Они начали с того, что с каждого угла корзины привязали по короткой веревке. Потом, соединив веревки вместе, закрепили их на конце каната. И стали опускать все это сооружение к подножию крепостной стены.
Тем временем монах как-то изловчился спуститься по откосу в ров, но там силы, как видно, опять оставили его. Он лежал неподвижно на мерзлой земле, не подавая признаков жизни.
– Преподобный! – окликнула его матушка Фент. – Отец мой добрый!.. Сейчас мы вам поможем. Вот вам корзина, в ней вам будет удобно, хоть мы и соорудили все наспех. Соберитесь же с духом и силами, добрый мой отец, и полезайте внутрь…
Монах как будто не расслышал ее и даже не шелохнулся.
– Господи всемилостивый, – пролепетала кабатчица, – да он уж, никак, отдал Богу душу!.. Ах, боже правый, беда-то какая!..
Но, не желая смиряться с отчаянием и терять надежду, она снова принялась окликать монаха, взывая к его мужеству.
Наконец ее зов был услышан. Монах вновь очнулся. Подполз к корзине и с громким стоном перевалился в нее.
– Слава тебе, Господи! – воскликнула кабатчица. – Праведник теперь в безопасности. Эй, вы, там, а ну навались… да потише тяните, без рывков! Всем по стакану «можжевеловки» обещаю!
По-видимому, когда сердобольная наша матушка впадала в религиозный раж, о благоразумной хозяйственной бережливости она забывала напрочь.
И вот корзина с монахом вполне благополучно достигли верхотуры крепостной стены. Все было кинулись к чудом спасеному старику. Но тот вдруг застонал и запричитал еще громче, умоляя спасителей не прикасаться к нему, потому что, по его словам, на нем живого места нет, и все его тело, от головы до пят, – одна сплошная рана, и очень болит.
– Будьте покойны, святой отец, – заверила его матушка Фент, отстраняя всех, – вас обиходят получше, чем короля, и этим займусь я сама. Двое из этих молодцов поднимут вас и очень бережно, с почтением перенесут в мою спальню, так же, как священник несет под покровами святые дары в праздник Тела Господня.
Сказано – сделано, и уже через несколько мгновений монах лежал на старухиной кровати в спаленке, единственное окошко которой выходило на ров прямо над потерной.
* * *
Великий кардинал не случайно заперся в своих покоях, о чем, как мы помним, комендант крепости объявил матушке Фент, и не случайно же приказал он никого к нему не допускать ни под каким предлогом. Ему хотелось побыть одному и хорошенько, трезво обдумать странную величественную сцену, во время которой он дал возможность блеснуть священнику-воину. Ему хотелось восстановить в памяти и основательно поразмыслить над каждым дерзким и откровенным ответом этого человека, странного и несравненного, которого не пьянят военные победы и не пугает неотвратимая казнь. Человека, чьи рвение, упорство и воля давно стоят железной стеной перед войсками первого королевского министра Франции …
Быть может, для тех из наших читателей, кто в точности знает, какую роль в истории сыграли натура и привычки Красного преосвященства, покажется странным и невероятным его отношение к преподобному Маркизу во время их встречи.
Однако же нам подобное отношение, безусловно, исключительное, совсем не кажется странным: только таким оно и могло быть в похожих обстоятельствах. Человеку заурядному свойственно гневаться, когда ему в глаза говорят суровую правду. А если такой человек облечен властью, в душе его нет места ни благородству, ни величию, и месть не заставит себя долго ждать – она последует за первой же вспышкой гнева.
Но разве мог Ришелье с высоты своего положения обидеться на некоторые слова Маркиза, произнесенные с нескрываемой издевкой?.. Да и потом, Ришелье устал от этой бесконечной ничтожной лести и заискиваний своих людей, покорных и дрожащих, как слуги, которые даже не смеют высказать собственное мнение, если оно не совпадает с мнением их повелителя. В глубине души он почувствовал своего рода удовлетворение оттого, что ему на пути повстречался человек независимого ума и твердых убеждений, не боящийся оспариввать его волю. К тому же, повторим, поразительная правота суждений священника оправдывала их невольную дерзость.
Было десять часов вечера, когда кардинал, приняв окончательное решение, поднялся с кресла, в котором долго сидел, погруженный в глубокие раздумья.
Хмурое, затянутое с утра тучами небо к ночи пролилось дождем; дул сильный северо-западный ветер – в его безудержных порывах водяные капли вовсю хлестали по высоким окнам, сотрясая стеклышки в оловянных ячейках.
Между тем, как мы помним, преподобного Маркиза, по распоряжению кардинала, препроводили в часовню.
Солдаты подвели его прямо к алтарю и, удалившись охранять выход снаружи, оставили одного.
Часовню освещал лишь тусклый огонек серебряной лампады, подвешенной к сводчатому потолку. Этот огонек, днем совершенно неприметный, с наступлением сумерек делался более ярким и в ночи отбрасывал слабый – совсем бледный, мерцающий отсвет на мраморные плиты пола, играя смутными бликами на убранстве алтаря и резных рамах полотен.
Сперва Маркиз преклонил колени перед дарохранительницей и принялся молиться с истовостью христианина и усердием священника. Потом, поднявшись с колен, он сложил руки на груди и, обратив взор на образ распятого Христа, погрузился в свои мысли, одновременно печальные и утешительные, какие пред смертью волнуют душу праведника. В полной отрешенности он потерял счет времени.
Из покоев кардинала к часовне вел узкий переход.
Ришелье никому не сказал ни слова. Взял горевшую на камине лампу и один ступил в темный коридор.
Дверь в часовню охранял французский солдат.
– Можете идти, – сказал солдату кардинал, – в вашем присутствии больше нет надобности.
Часовой тотчас повиновался – и кардинал отворил дверь.
Ришелье подошел к Маркизу совсем близко и коснулся его плеча – священник оглянулся: его лицо не выражало ни растерянности, ни удивления. Однако ж он поклонился – скорее в знак почтения к кардинальской мантии, в которую был облачен министр, а не к нему самому.
– Священник, – спросил его кардинал, – о чем вы так задумались?
– Видите ли, монсеньор, – спокойно отвечал Маркиз, – я задумался о том, что до сего дня считал вас безжалостным врагом и проклинал за то зло, которое вы причинили всему, что мне дорого… и тем не менее в этот последний час ненависть, вся без остатка, исчезла из души моей, и я прощаю вас от всего сердца.
– Откуда такое смирение и такая снисходительность?
– Взгляните, монсеньор!..
Рука Маркиза указала на Христа.
И он продолжал:
– Взгляните, Сын Божий, умирая на позорном кресте, простил своих мучителей… Я молил Его дать мне силы, чтобы последовать явленному им высокому примеру. И просьба моя, похоже, была услышана, ибо, повторяю, я иду на смерть, не держа в себе ни капли горечи…
– Стало быть, вы не боитесь смерти?
– Чего же мне ее бояться? Как солдат я часто ходил с нею бок о бок; как человек я знаю, что конец жизни неопределен и смерть всегда витает рядом и кружит в поисках добычи, словно стервятник; как священник я боролся с чужими страхами и слабостями, которые она влечет за собой. Словом, как видите, мне нечего бояться того, что я хорошо знаю. Так что пусть приходят ваши палачи, я готов.
– Палачи не придут, – медленно возразил Ришелье.
– Что вы хотите этим сказать?
– Такие люди, как вы, преподобный Маркиз, возвеличили бы любой эшафот и облагородили бы любую виселицу, осияв их ярким ореолом мученичества. И я считаю вас достаточно великим и не желаю возвеличивать еще больше. Так что – живите!
– Я, монсеньор? – воскликнул священник.
– Надеюсь, – с ухмылкой прибавил Ришелье, – вы не откажетесь принять жизнь… от меня?
Преподобный покачал головой.
– Монсеньор, – молвил он в ответ, – боюсь, как бы мне не пришлось выкупать мою голову за слишком дорогую цену. На это я не согласен.
– А кто вам сказал о выкупе?.. Кто сказал, что вам навязывают какие-то условия? Я не продаю вам жизнь, преподобный Маркиз, а просто дарю.
– Я слышу вас, монсеньор, но едва ли понимаю и не верю своим ушам.
Губы у кардинала искривились в горькой усмешке.
– Ах! – воскликнул он. – Зато я все понимаю – вы не верите в великодушие Ришелье.
– Монсеньор, – отвечал Маркиз, – история скажет, что Ришелье был великим министром, но она ни словом не обмолвится о том, что был он министром великодушным.
– Ну что ж, по крайней мере, на ваш счет история совершит ошибку. Я милую вас без всяких условий. Мне нужен такой враг, как вы. Без усилий победа над Франш-Конте была бы не такой славной, и, что бы вы там ни говорили, повторяю, земля, которую вы защищаете, скоро отойдет к Франции.
– Никогда! – горячо возразил Маркиз.
– Никогда… – повторил Ришелье. – И вы действительно в это верите?
Священник хотел было ответить.
Но вдруг запнулся и, схватив кардинала за руку, прошептал:
– Тише!
Послышался долгий, пронзительный свист.
– Что там такое? – спросил Ришелье, удивляясь поведению преподобного Маркиза и особенно внезапной перемене в выражении его лица, прежде совершенно бесстрастном.
Но священник не отвечал.
Священник наклонился вперед, взгляд его был неподвижен, губы дернулись, как будто задрожав; он обратился в слух и застыл как вкопанный.
И опять послышался свист.
– Два! – воскликнул он.
Тут его лицо вдруг озарилось, глаза полыхнули огнем, на губах появилась торжествующая улыбка.
Явное и глубокое беспокойство добавилось к недоумению кардинала, и он взволнованно проговорил:
– Я снова спрашиваю, что там такое и что все это значит?
– Тише! – повтоил Маркиз. – Слышите?..
Свистнули в третий раз – звонче и протяжнее, чем перед этим.
Маркиз отпустил Ришелье и, сложив руки, воздел их к образу распятого Христа.
– Господи Боже мой! – воскликнул он. – Ты воздаешь мне больше, чем я просил… Слава Тебе! Слава!..
Страх и беспокойство все больше одолевали душу Ришелье. Хотя он был храбр, как настоящий солдат (и не раз являл пример своей храбрости), он явно побледнел – его наскозь пронизала дрожь.
Близость таинственной, непостижимой угрозы волнует даже самые отважныме сердца и самые закаленные души.
За третьим свистом последовал мушкетный выстрел.
Потом везде поднялся невообразимый шум – он как будто охватил весь замок.
XXV. Добрый монах
Спаленка, куда матушка Фент поместила старого монаха, была узкой и низкой, с голым сводом вместо потолка. Всю ее меблировку составляли широкая койка, задрапированная красной саржей, сундук орехового дерева да две-три скамьи.
На двух досках, прилаженных вдоль стены в соседней комнатенке, висела всевозможная начищенная до блеска кухонная утварь, до того громоздкая, что в кабачке было не повернуться.
После того как несколько часов назад двое солдат уложили обессиленного старика на койку, он как будто заснул глубоким сном, и матушка Фент, прислушавшись к его ровному, спокойному дыханию, и сама вздохнула с облегчением.
Заслышав барабанную дробь и трубы, возвестившие отбой, военные разошлись по казармам. И только часовые остались обходить дозором крепостные стены; они плотно кутались в широкие плащи, стараясь укрыться от нещадно хлеставшего ледяного дождя и безжалостных порывов ветра.
Матушка Фент и Николя Большой сидели бочком друг к дружке в первой комнатенке, возле дотлевающего очага. Николя Большой сомкнул глаза, раскрыл рот и клевал носом и, берем на себя смелость сказать, ну совершенно ни о чем не думал. Кабатчица не сводила глаз с зарытого в кучу горячего пепла глиняного горшочка с каким-то варевом, которым она собиралась напоить монаха, когда он проснется.
В состав этого снадобья, чудодейственные свойства которого не подлежат никакому сомнению, входило юрское вино, сильно подслащенное и сдобренное разными пряностями – корицей, гвоздикой – и мускатным орехом. Сие превосходное снадобье, которое мы назвали бы просто «бишоп», матушка Фент почитала как самое действенное и универсальное лекарство. Николя Большой охотно разделял эту точку зрения и был готов в любое время сказаться больным, лишь бы заполучить такое снадобье в изрядных количествах.
Старуха уже в двадцатый раз помешала деревянной ложкой в горшочке, как вдруг заслышала едва различимый шорох в спаленке.
Она опрометью кинулась туда.
Монах только-только пробудился. Он успел подняться – и уже сидел на койке.
– Добрая женщина, – проговорил он почти неслышно, – это вы, конечно же, сжалились надо мной, спасли меня и приютили…
– Я сделала все, что могла, добрый отец мой.
– И на том свете вам это зачтется стократ.
– Как вы себя сейчас чувствуете, святой отец?
– Лучше… много лучше. Ушибы хоть и болят, но силы, похоже, возвращаются.
– Погодите, добрый отец мой, я вас живо поставлю на ноги.
– Каким же образом?
– Сейчас увидите.
Матушка Фент вернулась в кабачок, выплеснула содержимое горшочка в оловянную кружку и, поднося ее монаху, сказала:
– Выпейте, преподобный!
– Что это?
– Это жизнь и здоровье… Пейте!
Сдобренное пряностями вино источало резкий пряный аромат.
Монах не колеблясь разом осушил кружку.
– Ну как? – полюбопытствовала старуха.
– О, ваша правда!.. Это – жизнь… и я как будто заново родился… как будто свежая кровь разлилась по моим жилам…
– Я же говорила! – воскликнула обрадованная кабатчица.
– Думаю, скоро я встану на ноги и смогу ходить, – продолжал монах.
– Правда?
– Всю боль как рукой сняло.
– Слава тебе, Господи!
– Надо бы попробовать прямо сейчас…
– Попробуйте, святой отец, чего проще… а после снова приляжете.
Монах слез с койки – не без труда и шатаясь, сделал несколько шагов.
– Может, обопретесь на мою руку? – предложила матушка Фент. – Я подвела бы вас к огню – посидели бы немного.
– Который сейчас час?
– Девять с половиной.
– Ну что ж, идемте.
Монах с кабатчицей не спеша перебрались в соседнюю комнату.
Оставшись в одиночестве, Николя Большой тотчас уснул. Мать резко растолкала сына, согнала со скамейки и предложила ее монаху. Бедный малый молча забился в угол и снова заснул. Монах со стонами и вздохами сел на его место.
– Вам все еще больно, отец мой? – спросила старуха.
– Да уж, больнее, чем казалось только что… Я весь разбитый.
– Ох!.. – воскликнула матушка Фент, с возмущением вспомнив давешние события. – Ох уж мне эти нехристи – так обойтись со святым человеком, досточтимым служителем Божьим!.. Будь они прокляты, окаянные!..
– Не будем никого клясть, добрая женщина, – прервал ее монах. – К тому же если кого и надобно пожалеть, то не меня.
– А кого же?
– Бедного молодого брата, попутчика моего, послушника, ведь ему только двадцать стукнуло, а эти заблудшие чада уволокли его с собой на заклание.
Матушка Фент обхватила лицо обеими руками.
– На заклание… – повторила она, – послушника!.. Господи, неужто такое возможно?
– Увы, точнее не бывает.
– Но скажите мне, преподобный отец, за что вас так эти безбожники? Почто они напали на вас и едва не лишили жизни? Эх, ладно были бы вы управляющими при знатных сеньорах или сборщиками податей, тогда понятно… Но вы-то…
– Как видно, добрая женщина, злодеи (да примет Господь их покаяние!) прознали, что у нас с собой золота нынче было столько, сколько не снилось ни сборщикам податей, ни управляющим при знатных сеньорах.
От удивления матушка Фент широко распахнула свои маленькие глазки.
– Золота… – повторила она, – и откуда же столько?
– Сами мы из Кюзо, да вы, верно, по рясе моей уже догадались.
– Да, добрый отец.
– Я хранитель монастырской сокровищницы, и мы, на пару с послушником, несли в аббатство в Во-сюр-Полиньи деньги – должны были передать их тамошнему настоятелю.
– И много денег?
– Десять тысяч ливров.
Матушка Фент всплеснула толстыми ручонками.
– Десять тысяч ливров!.. – повтоила она. – Господи Боже мой! Пресвятая Дева Мария! Боже правый!.. Десять тысяч франков!..
– Увы, да, добрая женщина, все так и есть. Половину спутник мой нес в кожаном мешке под рясой, а остальное – я у себя в мошне…
– И они все забрали?
– По крайней мере, им так показалось.
– Выходит, они просчитались, добрый отец?
– Да, и вот как. Когда они набросились на меня, чтобы отбрать мошну, я собрался защищаться – та в потасовке развязалась, и добрая часть ее содержимого высыпалась.
– И они ничего не заметили?
– Нет.
– Вы точно знаете, преподобный?
– О, точнее некуда. Да вот, сами взгляните.
Старый монах порылся в кармане рясы, достал дюжину золотых и положил на ладонь матушке Фент.
– Вот, – продолжал он, – подобрал на земле, когда только-только очнулся первый раз. Возьмите это золото, оно ваше… от меня.
Кабатчица радостно взвизгнула, отчего Николя Большой, проснувшись, аж подскочил.
– И все это мне… – твердила она, словно в бреду, – и все это вы отдаете мне… мне?
– Да, уважаемая, в знак того, что добрые дела редко остаются без награды и что награда зачастую не заставляет себя ждать долго.
Матушка Фент кинулась к сундуку прятать монеты, которые передал ей монах.
Потом она вернулась к очагу и на время смолкла, погрузившись в раздумье.
Наконец она очнулась и с улыбкой и алчным блеском в глазах продолжала:
– Значит, говорите, святой отец, из вашей мошны просыпалось немало золота?
– Да, много.
– Больше, чем вы потом собрали?
– Раз в десять больше.
– Раз в десять!.. – повторила она. – Да это ж целое состояние!
– Там осталась целая уйма золота, – продолжал монах. – Монеты влипли в сырую землю, да и под травой их не заметно.
– Но его же отыщут, это золото?
– Разумеется.
– И унесут…
– О, кто первый завтра там пройдет, тот соберет воистину богатый урожай.
– Да, святой отец, но ведь это может быть и не добрый христианин – что, если он возьмет да пустит эдакую кучу денег на недоброе дело?
– Что верно, то верно, эка незадача! Может, лучше, чтобы это богатство пошло на пользу праведнику?
– Да, безусловно, так было бы куда лучше.
– А если б этим праведником, вернее, праведницей, была я?
– Ах, добрая женщина, мне хотелось бы этого от всей души, и тогда в счастье, которое выпало вам, я узрел бы перст Божий.
– Ну что ж, преподобный, все возможно…
– Тем лучше… о, ну конечно. Но каким образом?..
– Вы согласны мне подсобить, святой отец?
– Всем, что в моих силах.
– Тогда золото надобно собрать не завтра поутру.
– А когда же?
– Нынче ночью, сей же час.
– Но как вы собираетесь выбраться из замка? Нет, ничего не выйдет.
– Наоборот, если очень хочется, то непременно получится.
Монах с удивлением воззрился на матушку Фент.
– Вот-вот, – повторила старуха, – если очень хочется… В двух десятках шагов отсюда есть потерна.
– Так ведь она, должно быть, заперта?
– Да, но сынок мой состоит ключником.
– Я не сомневаюсь… Да только уж больно опасная эта затея.
– С чего вы взяли?
– А если комендант дознается?
– С какого перепугу? На дворе темно, хоть глаз выколи, льет как из ведра, все дрыхнут без задних ног… часовые даже не заметят.
– Не забывайте, в замке находится кардинал Ришелье.
– Да, но он заперся у себя в покоях, куда никто не смеет и носа казать. Будьте пойкойны, о сне он помышляет больше, чем обо все другом, а знатный отдых ему очень даже нужен, особливо нынче.
– А почему – особенно нынче?
– Потому что он весь вечер напролет допрашивал человека в красной мантии.
– Какого еще человека?
– Одного из главарей горских повстанцев… священника, которого все зовут преподобным Маркизом. Может, слыхали?
– И не раз.
– Он, как вы, верно, знаете, сподвижник Лакюзона и Варроза.
– Думаю, казнь последовала сразу же за судилищем – и ваш преподобный Маркиз сейчас, наверно, уже в ином мире.
– Нет, казнить его, кажись, должны завтра поутру.
– Ах, значит, поутру…
– Да, монсеньор кардинал велел отвести его в часовню, чтоб он покаялся в своих грехах да попросил у Бога прощение… Он такой добрый христианин, что монсеньор кардинал… В конце концов, святой отец, как сами видите, никакой опасности на самом деле нет, так что сейчас самое время пойти да собрать ваше золотишко.
– Может, оно и так, но…
– Мы прогневим Бога, – прервала его матушка Фент, – ежели позволим прибрать его к рукам какому-нибудь прощелыге, ведь он, как пить дать, все пустит на неблаговидные дела.
– Уж конечно… конечно.
– А мы – на спасение душ всех грешников. Как думаете, святой отец?
– Да-да, правда ваша, и раз вы согласны…
– Я на все согласна, лишь бы денежки не достались никому другому.
– В глубине души я одобряю ваш порыв… вы могли бы сделать столько добрых дел!..
– Много-много!.. А вы будете моему Николя проводником, правда?
– То есть вы хотите, чтобы я указал ему точное место, где упал, потому как мне самому туда нипочем не добраться.
– И этого будет довольно… Его хоть держат за дурочка, бедного моего Николя, но я верно говорю: он и сам все отыщет.
Старуха встала, дрожащей от волнения и жадности рукой зажгла фонарь и накрепко закрыла его.
– Никола! – кликнула она вслед за тем. – Эй, Николя!
Здоровяк вроде как очнулся, зевнул и, потерев глаза, спросил:
– Ну что там такое, матушка? Чего вам еще понадобилось?
Старуха открыла сундук, показала ему золотые и сказала:
– Знаешь, что это?
– Это… это деньги.
– Золотые, а золото в десять раз дороже серебра.
– Выходит, на одну такую монетку можно купить много водки?
– Да хоть лопни.
– А сколько стаканов?
– Сотни две, не меньше.
У Николя загорелись глаза.
– Дайте же мне хоть одну монетку, если на эти деньжищи можно купить столько водки!.. – попросил он, протягивая вперед руку.
– Хорошо, получишь, только прежде ее надобно заработать.
– Как?
– Где ключ от потерны?
Никола сдернул со стены связку ключей, выбрал один и сказал:
– Вот.
– Хорошо. А теперь идем с нами.
– И потом я получу монетку?
– Да.
– Но, – заметил монах, – может, стоит обождать, когда станет совсем темно?
– Это ни к чему, преподобный… вот-вот пробьет десять, а на дворе и так темно, хоть глаз выколи, да и дождь вон хлещет, слышите?
– Ну, коли так, идемте. Только не знаю, смогу ли я идти.
– Обопритесь на меня, добрый отец…
Старуха, монах и Николя Большой вышли из конуры кабатчицы и двинулись дальше вдоль крепостной стены.
Матушка Фент поддерживала обессилевшего монаха. Николя нес фонарь и связку ключей.
Ветер ревел вовсю, дождь лил, как из ведра, часовые укрылись в своих будках, плюнув на охрану крепости.
Через двадцать шагов наша троица добралась до ступенек, что вели к потерне.
– Нужна будет лестница, – заметила матушка Фент. – Тут есть одна, у пристройки, которая сейчас на ремонте, рядом с часовней. Николя, сбегай принеси!
Здоровенный малый скрылся в темноте – и скоро вернулся с приставной лестницей.
– Ступай первым, – велела старуха. – Откроешь потерну и спустишь лестницу.
Николя повиновался.
Послышался скрежет ключа в замочной скважине и скрип петельных крючьев. Потерна отворилась. Лестница скользнула вдоль стены и уперлась в землю.
– А теперь, добрый отец, – обратилась к монаху матушка Фент, – прошу вас, скажите, что ему делать дальше.
И, обращаясь уже к сыну, прибавила:
– Слушай святого отца, Николя, да заруби все себе на носу.
– Сын мой, – сказал монах, – переберитесь с фонарем через ров. Когда окажетесь на другой стороне, пройдите вперед на триста пятьдесят шагов… а потом обшарьте все кругом, стараясь держать фонарь ближе к земле… Так, в конце концов, вы непременно заметите, как в траве что-то блестит. Остановитесь и соберите все золотые, их там много, а когда набьете карманы до отказа и увидите, что ничего блестящего на земле больше не осталось, возвращайтесь обратно.
– Все уразумел? – спросила матушка Фент.
– Да, – ответил Николя.
– Тогда ступай, да поживей!
Детина сдвинулся было с места, но остановился.
– А это сколько – много?.. – задумавшись, полюбопытствовал он.
– Целая куча!
– Тогда мне надобно дать не одну монетку… а две!
– Ладно, ладно, получишь свое, только ступай скорее!
Николя споро полез вниз по лестнице, и, пока спускался, было слышно, как он бормочет, разговаривая сам с собой:
– Да этого хватит аж на четыре сотни стаканов.
Вскоре он уже перебрался на другую сторону откоса и в слабом отсвете фонаря двинулся в направлении, которое указал ему святой отец.
Монах остался наедине с матушкой Фент. Примостившись на последней ступеньке у потерны, он оперся левой рукой на верхнюю перекладину приставной лестницы. Старуха, перегнувшись через проем потерны, выглядывала наружу, чтобы сподручнее было следить за тем, как поспешает ее сынок.
Между тем Николя был уже довольно далеко.
Вдруг сквозь вой ветра и монотонный, беспрерывный шум дождя, прямо за спиной матушки Фент, грянул громкий свист – едва ли похожий на человеческий.
Старуха, вздрогнув, обернулась.
– Святой отец! – воскликнула она. – Боже мой, что вы такое делаете?..
– То же, добрая женщина, что и вы. Сижу и жду.
– А этот жуткий свист?
– Я ничего не слышал.
Кабатчица в ужасе отпрянула.
– Не может быть!.. – пролепетала она. – По-моему…
Она не договорила.
Свистнули еще раз, так же, как и в первый, – старуха запнулась на полуслове… однако теперь свистели у основания лестницы.
– Отец мой, отец мой, – пробормотала она, – а сейчас слыхали?
– Ни звука, дочь моя, – снова ответил монах.
– Мне страшно.
– Отчего же, дочь моя?
– Чудно как-то…
– Что-то не пойму я вас.
Тут свистнули третий раз.
И уже как будто у подножия лестницы.
– Ах, – вскричала кабатчица, – мы пропали!.. Бежим скорей!..
И она было кинулась вверх по неотесанным каменным ступеням лестницы, но монах, резко поднявшись, преградил ей дорогу.
– Уймись, женщина! – велел ей он низким, звонким голосом. – Уймись же! Божье правосудие грядет!..
Он схватил старуху за руку и удерживал ее мертвой хваткой.
У несчастной подкосились ноги – и она осела на ступеньку.
Вслед за тем над приставной лестницей показался человек – он будто вырос в проеме потерны, за ним – другой, потом еще десять… и еще…
Во тьме было видно, как сверкали эфесы их шпаг и рукоятки пистолетов.
– Давайте сюда! – говорил монах каждому из них. – Сюда!..
Вдруг с крепостной стены послышался крик:
– К оружию!
Ему вторил выстрел из мушкета.
Везде и всюду поднялся невообразимый гвалт – было ясно, что замок захвачен неприятелем.
Монах отпустил руку старухи, распрямился во весь рост, сорвал фальшивую бороду, скрывавшую часть его лица, развязал веревку, скинул с себя рясу и швырнул все это подальше.
– Товарищи, – громогласно крикнул он, – вперед!
Ошеломленная кабатчица простонала:
– Сжальтесь… именем Неба, пощадите!
Лжемонах повернулся к ней.
– Женщина, – молвил он, – возвращайтесь к себе и ничего не бойтесь. Вам не причинят зла – ни вам, ни вашему сыну, даю слово!
– Слово… но кто вы такой?
– Я капитан Лакюзон.
И Жан-Клод Прост кинулся вверх по ступеням, а кабатчица, изумляясь дерзкой и успешной вылазке горцев и храня верность стародавней своей привычке молниеносно откликаться на перемену событий, крикнула ему вдогонку:
– Да здравствует Лакюзон! Да здравствуют коники!..
XXVI. Заложник
Мы оставили кардинала со священником в замковой часовне в ту самую минуту, когда раздался третий свист и когда Маркиз, простерев сложенные руки к распятию, воскликнул: «Господи Боже мой! Ты воздаешь мне больше, чем я просил… Слава тебе! Слава!..»
– Что происходит? – прерывисто дыша, проговорил Ришелье. – Что там за странные крики?
– Монсеньор, – отвечал Маркиз, – воспяньте же и вы духом и возблагодарите всемогущего Господа, ибо в Его руках жизнь королей и министров, равно как пастырей и обездоленных, и вот Он пришел спасти вас!
– Что вы хотите этим сказать? – удивился кардинал.
– Я хочу сказать, монсеньор, что если бы Господь не внушил вам помиловать меня и нынче же вечером вы приказали бы меня казнить, вам теперь осталось бы жить от силы несколько минут.
– Да вы рехнулись! – воскликнул кардинал.
– Нет, монсеньор, ибо, пока я с вами говорю, в Блетранском замке распоряжается уже не всесильный министр французского короля.
– А кто же?
– Капитан Лакюзон.
Густые брови Ришелье сошлись вместе, лоб нахмурился, лицо приняло грозное выражение.
– Лакюзон – здесь?! – вскричал он. – О горе! Горе ему!..
И кардинал было направился к одной из дверей часовни.
Но Маркиз его остановил.
– Скорее горе вам, монсеньор, если вы выйдите отсюда, – возразил он. – Не оставляйте меня, ибо я ваш щит… не уходите, потому что я говорю правду – в противном случае вам конец.
– Конец… – повторил Ришелье. – Да полно! Гарнизон в замке немаленький.
– Не важно.
– И храбрости там никому не занимать. Они дадут отпор…
– Отпор Лакюзону? Пустое дело, монсеньор…
Ришелье хотел было ответить.
Но последние слова Маркиза тотчас получили самое яркое подтверждение.
Крики приближались – теперь они смешались с лязгом оружия.
Возбужденные голоса снова и снова выкрикивали боевой клич горцев: «За Лакюзона! За Лакюзона!..» – в ответ же слышались только протяжные стоны.
Тут двери в часовню распахнулись настежь, витражи разлетелись вдребезги – и через все проемы внутрь ринулись повстанцы во главе с Лакюзоном.
– Ах, – воскликнул предводитель горцев, бросаясь к Маркизу и восторженно обнимая его. – Вот и вы, отец мой! Ну наконец-то!.. Наконец нашлись, и теперь я за вас отомщу!
Потом он вдруг отпрянул и проговорил:
– Кардинал!..
Он только заметил Ришелье рядом с преподобным Маркизом.
Наступила решающая минута – жизнь министра буквально висела на волоске.
Горцы, разгоряченные схваткой, многочасовым ожиданием и беспокойством, а также оглушительным и полным успехом, пожалуй, самой дерзкой своей вылазки, – горцы, оказавшись лицом к лицу с самым ненавистным своим врагом, чья смерть разом положила бы конец войне, в горячечном порыве могли бы натворить бог знает чего.
Маркиз это хорошо понимал, как, впрочем, и сам Ришелье.
Однако перед лицом неотвратимой смертельной опасности кардинал, собравшись с духом, принял величественный вид – ничто не выдавало в нем ни тревоги, ни страха. Среди горцев, обступивших его со шпагами наголо, он сохранял невозмутимость, как если бы стоял в окружении своих гвардейцев в сверкающих мундирах.
Видя насквозь всех этих людей, с которыми судьба связала его ох как давно, преподобный Маркиз счел, что нужно непременно воспользоваться неожиданной заминкой и общей нерешительностью, чтобы спасти Ришелье. Еще мгновение – и было бы поздно!
– Жан-Клод, – громко волзгласил он, – и вы, друзья мои, дети мои… вы явили мне вашу преданность и спасли меня, и теперь мы все вместе вернемся в наши горы, откуда я ушел пленником!.. Я надеялся на вас, ждал и верил – вы исполните свой долг… ибо я очень хорошо знаю вас и ни на миг не мог в вас усомниться… А сейчас послушайте хорошенько, что я скажу, и помните: к вам обращается не только один из ваших военачальников, но и священнослужитель.
Маркиз простер руку над головой Ришелье и выразительно, с достоинством продолжал:
– Монсеньор кардинал де Ришелье, первый министр Людовика XIII, короля Франции, я, Пьер Маркиз, от имени франш-контийского воинства, одним из предводителей коего считаюсь, милую вас и даю слово священника и воина, что ни один волос не упадет с вашей головы!
По рядам горцев прокатился ропот изумления.
– Отец мой, – воскликнул Лакюзон, – хорошо ли вы обдумали то, что говорите? Пощадить Ришелье – значит затянуть войну до бесконечности! А он-то сам пощадил бы нас? Не он ли наш самый лютый и непримиримый враг? Не он ли олицетворение страшных бедствий, обрушившихся на нашу обездоленную землю?
– Я был во власти кардинала де Ришелье, – ответствовал священник. – Довольно было одного его слова – и мне не сносить головы… ибо любое его решение одобряется заранее всеми и каждым, да и сеньор в черной маске во всеуслышание потребовал для меня виселицы!.. Тогда-то Ришелье и пришел сам ко мне, и сказал: «Вы будете жить, и я не продаю вам жизнь, а просто дарю». Так неужели вы готовы обречь на смерть того, кто великодушно помиловал меня, и неужто кровью выплатите мой долг признательности?.. Мне было бы стыдно за такое! Да и вам самим тоже… Это легло бы позором и на нашу благородную землю!
– Все так, – ответил Лакюзон с глубоким сожалением.
И, обращаясь к Ришелье, он прибавил:
– Монсеньор кардинал, вы милостиво сохранили жизнь преподобному Маркизу. И преподобный Маркиз милостиво сохраняет жизнь вам. Отныне он ничем вам не обязан…
– Ибо предписано, монсеньор, – в свою очередь заметил священник-воин, – предписано свыше, что вам суждено умереть всемогущим.
– Что! – воскликнул Ришелье. – Вы отпускаете меня без всяких условий?
– Да, монсеньор. И пусть никто не посмеет сказать, будто вы одолели нас в поединке за благородство.
Кардинал почти по-королевски подал руку священнику.
– Вы непобедимые враги, – проговорил он, – и я это понял только сейчас!
– Монсеньор, – продолжал Маркиз, – мне нужно задать вам один вопрос.
– Каким бы он ни был, я отвечу.
– Тот человек в черной маске все еще в замке?
– Нет, уже нет. Он уехал, когда стемнело, вместе с графом де Гебрианом.
Лакюзон гневно всплеснул руками.
– Ах, сир де Монтегю, – прошептал он, – терпение… погодите же! Не видать вам Замка Орла как своих ушей.
– Стало быть, – живо спросил Маркиз, – Антид де Монтегю?..
– И есть человек в черной маске, – ответил капитан. – Маги это хорошо знала, так что Рауль не ошибся!
– И ты можешь это доказать?
– Да, к тому же я своими ушами слышал, как этот подлец обещал сиру де Гебриану заманить нас, Варроза и меня, в ловушку, а после – передать французам, чтобы одним ударом положить конец войне за независимость Франш-Конте.
– Презренный негодяй… – прошептал Маркиз.
– Да, и то верно – презренный негодяй! – медленно проговорил Ришелье своим низким голосом. – И презираемый даже теми, кому он служит. Да уж, раскрыв тайну Черной Маски, вы, бесспорно, одержали самую замечательную победу с тех пор, как началась эта война. Владетель Замка Орла отныне неопасен вам, поскольку маска с него сорвана, и нам, должен признаться, больше не приходится на него рассчитывать в войну за землю, которую вы защищаете с таким героизмом!.. Впрочем, зима не за горами, кампания закончена, и, если его величество король Людовик XIII по-прежнему будет прислушиваться к моим советам, вновь она уже не начнется. Наши войска возвращаются во Францию: вы победили Ришелье! И сделать это оказалось под силу только таким, как вы.
– Быть может, монсеньор, – живо подхватил Маркиз с выражением праведной гордости, – быть может, однажды история и восславит нас, но не за то, что мы победили Ришелье, а за то, что оказали ему сопротивление!.. Теперь же нам предстоит исполнить тяжкий долг, но это ничуть не ослабит наш дух. В ряды защитников Франш-Конте затесался изменник. И чем выше он вознесся, тем суровее должна быть кара для него – в назидание тем, кто невзначай задумает встать на путь измены!.. Через несколько дней Антид де Монтегю будет держать ответ за свои злодеяния перед Дольским парламентом… Через несколько дней Замок Орла будет стерт с лица земли, а руины его посыпаны солью. Феодальные законы, когда они карают вероломного рыцаря лично и лишают его прав на принадлежащее ему имущество, позволяют оставить в его разрушенном замке одну из башен, дабы имя древнего рода, к которому он принадлежит, не кануло в Лету. Но мы превзойдем карающий закон! Имя де Монтегю будет предано забвению! А Игольная башня падет!
– И это будет справедливо, – заметил Ришелье, невольно признавая правду.
Затем, обращаясь к воинам-повстанцам, преподобный Маркиз продолжал:
– Мы покидаем замок. Предупреждаю, если мы встретим сопротивление на своем пути, то посчитаем это преступлением.
Тут в часовню влетел Гарба.
– Капитан, – сказал он, – разве вы не знаете, что там творится?
– А что там творится? – спросил Лакюзон.
– Французы со шведами идут с трех сторон на замок, они уже близко… Через четверть часа крепость будет в кольце.
– И большим числом идут?
– Наши лазутчики – они только вернулись – говорят, что в каждом корпусе у них будет по пять тысяч человек.
– Отлично. Где мессир Рауль?
– Охраняет главный вход в замок. Он уже везде расставил сторожевые посты – наши все глядят в оба.
– Отлично, – повторил Лакюзон.
Потом, задумавшись на мгновение, он спросил:
– В плен кого-нибудь взяли?
– Да, капитан.
– Среди пленных есть важные офицеры?
– Есть один, капитан.
– Кто же он?
– Маркиз де Фекьер.
– Монсеньор, – обратился к кардиналу преподобный Маркиз, – а что сталось с господами де Лонгвилем и де Виллеруа?
– Они покинули замок одновременно с графом де Гебрианом и сиром де Монтегю.
– Гарба, – сказал Лакюзон, – приведи-ка сюда маркиза де Фекьера!
Оридинарец мигом скрылся.
– Монсеньор кардинал, – продолжал капитан, – войска, что идут вам на выручку, слишком поторопились и не подумали о ваших интересах. Сожалею.
– Что вы хотите этим сказать, капитан?
– Я хочу сказать, монсеньор, что вы наш единственный заложник и, чтобы нам здесь ничто не угрожало, раз путь к отступлению отрезан, придется вам остаться у нас в плену.
Маркиз вскинул руку, собираясь прервать Лакюзона, но тот не дал ему времени.
– Отец мой, – воскликнул он, – не забывайте, я в ответе за пять сотен человек, что пришли со мной!.. Помните, минута слабости, малейшая оплошность может погубить не только нас, но и их заодно. Вы все еще пребываете во власти рыцарского благородства, и я снимаю перед вами шляпу, но разделить ваше благородство не могу. Потом, вы останетесь с его преосвященством – и ему рядом с вами будет не страшна никакая угроза… Мы солдаты, а не душегубы.
– Капитан Лакюзон, – молвил Ришелье, – я ничего не боюсь и загодя знаю – вы не поступите недостойно или бесчестно, а посему мне нечего опасаться.
– И вы правы, монсеньор…
В часовню вернулся Гарба – с собой он привел маркиза де Фекьера.
– Монсеньор, – продолжал капитан, – соблаговолите распорядиться, чтобы господин де Фекьер передал приказ войскам, подоспевшим к вам на выручку: стать лагерем вокруг замка в том месте, где они сейчас находятся. Это нужно сделать до того, как нас возьмут в осаду.
– Вы слышали, генерал? – спросил министр.
– Да, монсеньор.
– Тогда ступайте. Как видите, теперь не я здесь распоряжаюсь.
– Генерал, – прибавил Лакюзон, – не угодно ли вам будет вернуться в замок после того, как вы выполните данное вам поручение? По всей вероятности, Его преосвященству ваши услуги еще могут понадобиться.
– Я вернусь, – обещал француз.
– Зачем, – спросил преподобный Маркиз после ухода господина де Фекьера, – зачем тебе нужно, чтобы их войска стали лагерем вокруг замка? Надобно было отослать их обратно на квартиры. Разве мы не отходим нынче же ночью?
– Нет.
– Почему же?
– Я не хочу, чтобы наш отход походил на бегство. Мы уйдем из Блетрана среди бела дня, и наши пятьсот бойцов победоносно пройдут через пятнадцатитысячные ряды французов, которые при этом возьмут на караул.
– Но это же огромный риск!
– Никакого риска.
– И какой у тебя план?
– Узнаете, когда придет срок.
Маркиз не настаивал.
– Монсеньор, – продолжал Лакюзон, обращаясь к кардиналу, – ничто не мешает вам вернуться к себе в покои и отдохнуть, поскольку отдых вам сейчас просто необходим. А я, с вашего позволения, имел бы честь прислуживать вам ночью в качестве камердинера.
– Отдохнуть я согласен, мессир, – ответил Ришелье с несколько натянутой улыбкой, – а от ваших услуг откажусь. Столь доблестной руке, как ваша, не пристало опускаться до обыденных забот.
Министр вернулся к себе в спальню и бросился на кровать – скорее для того, чтобы обрести хотя бы с виду глубокий покой, которого не было у него в душе, чем попробовать забыться сном, который, в чем Ришелье был совершенно уверен, к нему не придет. Лакюзон, Железная Нога и Гарба встали у трех выходов из спальни, не желая доверить охрану именитого пленника никому другому.
Французские войска в точности исполнили приказ, переданный через де Фекьера, и маркиз, верный своему слову, возвратился в замок.
Остаток ночи прошел в полном спокойствии – можно было подумать, что хозяева в Блетранском замке не поменялись.
Наконец наступило утро.
Капитан взбежал на крепостную стену, перепоручив Пехотинцу охранять дверь в покои кардинала вместо себя.
Три неприятельских армейских корпуса расположились лагерем посреди равнины на обширном пространстве с севера, юга и запада.
Лакюзон перевел взгляд на свой небольшой отряд, сгрудившийся на эспланаде. В сравнении с неприятельскими силами пятьсот горцев были каплей в море!..
Капитан загадочно улыбнулся – в глазах его полыхнул торжествующий огонь. «Ах, – проговорил он, – диво-то, диво! Еще никому на свете не случалось видеть такое!..» Потом он вернулся в замок и постучал к Ришелье.
Кардинал был уже на ногах и преспокойно беседовал с преподобным Маркизом и господином де Фекьером.
– Итак, капитан, – полюбопытствовал он, – чем порадуете?
– Монсеньор, – отвечал Лакюзон, – пришло время уходить, и я с глубоким сожалением принужден сообщить, что вашему преосвященству придется послужить нам живым щитом при отходе, в точности как если бы мы шли в наступление.
– Хорошо, капитан, я повинуюсь праву сильного… Dura lex, sed lex[72]!
– Монсеньор, – продолжал молодой командир, – нужно, чтобы маркиз де Фекьер передал от вашего имени новые приказы французскому войску… нужно, чтобы оно выстроилось в две шеренги от Блетрана до Монморо и чтобы между шеренгами был промежуток пятьсот шагов… Мы пройдем через строй ваших солдат с высоко поднятой головой и спокойным сердцем, поскольку вы пойдете с нами и я буду иметь честь поддерживать вас за руку, чтобы ни одному французу невзначай не взбрело в голову выхватить шпагу из ножен при виде того, как мы с вами шествуем вместе, – министр французского короля и предводитель горцев.
Слушая Лакюзона, кардинал побледнел – по его невольно задрожавшим ресницам и ноздрям нетрудно было догадаться, что он не на шутку испугался. Оно и понятно: его непомерной гордыне нанесли глубокую, болезненную рану.
– Вы требуете слишком многого, капитан! – наконец промолвил он. – Но приходится смириться. Ведь не случайно еще в эпоху Древнего Рима один вещий голос выкрикнул два истинно верных слова: Vae victis – горе побежденным!
– Господин кардинал, – продолжал меж тем молодой человек. – Как только мы минуем строй французского войска, вы будете свободны.
– А какие тому будут гарантии?
– Мое слово! – гордо воскликнул Лакюзон.
– Идите, господин де Фекьер, – распорядился кардинал. – И передайте офицерам слово в слово все, что вы только что слышали, а офицеры в свою очередь пусть передадут это солдатам.
Меньше чем через час приказы Ришелье, а если быть ближе к истине – приказы Лакюзона, были выполнены точь-в-точь: французские войска, выстроившись в две шеренги, образовали длинный-длинный коридор, уходивший за горизонт. И это – невзирая на ропот и возгласы возмущения, раскатившиеся по рядам французов, едва они заслышали новое требование предводителя горцев.
Но в конце концов пришлось смириться и умолкнуть! Пришлось, как выразился сам министр, подчиниться закону сильнейшего – и Ришелье-пленник вверил свою жизнь горстке людей, которые и сами выглядели пленниками в окружении целой армии.
Маркиз де Фекьер, вернувшись, объявил, что все готово.
– Монсеньор, – сказал Лакюзон, – я жду ваших распоряжений.
Губы у Ришелье искривились в горькой ухмылке.
– Моих распоряжений? – переспросил он.
Потом прибавил:
– Тогда в путь!
Через несколько мгновений открылись крепостные ворота и опустился мост, выпуская горцев из замка.
Первым выдвинулся передовой отряд в сотню человек во главе с Раулем де Шан-д’Ивером и шедшим вперед Гарба, трубившим в горн торжественный отход. Три сотни человек следовали за авангардом, образуя своего рода эскорт Ришелье, который шел между Лакюзоном и Маркизом, – головы у обоих были обнажены. Оставшаяся сотня горцев, под командованием Железной Ноги, замыкала шествие.
Французы, неподвижные и безмолвные, с оружием в руках, стояли с мрачным видом, понурив головы и время от времени бросая на партизан взгляды, полные ненависти. Они тоже ощущали болезненное унижение. Иногда непроизвольная дрожь возмущения прокатывалась по их рядам, подобно ураганному ветру, но офицеры тотчас призывали всех к тишине, и тогда можно было слышать только размеренный шаг ликующих горцев да горн Гарба, без устали трубившего победный марш.
Лакюзон был прав, когда сказал себе, как мы помним: «Еще никому на свете не случалось видеть такое!..»
Наконец горцы достигли конца двойной шеренги французских солдат.
Ришелье остановился.
– Так что, я свободен? – спросил он.
– Не сейчас, монсеньор, – ответил Лакюзон, – потерпите немного… Вы слишком искушенный военачальник и понимаете – мы сможем почувствовать себя в безопасности лишь после того, как погоня будет невозможна.
В то же время капитан отрядил Пехотинца предупредить кого-нибудь из французских офицеров, чтобы он выдвигался следом за горцами с отрядом из полсотни человек для сопровождения кардинала на обратном пути.
Затем горцы двинулись дальше.
Через полчаса они уже были у ворот Лон-ле-Сонье.
Но Лакюзону не хотелось идти через город. Он велел свернуть вправо – и вскоре отряды подошли ко входу в Бевеньийское ущелье.
– Монсеньор, – обратился тогда к кардиналу капитан, – теперь нам не страшна никакая погоня. Вы свободны, и вас ждет эскорт…
– Монсеньор, – заметил в свою очередь преподобный Маркиз, – позвольте выразить надежду, что мы с вами больше не свидимся.
– Как знать… – проговорил Ришелье.
И, ответив исполненным королевского достоинства кивком на учтивые прощания священника и капитана Лакюзона, он развернулся и быстро направился к поджидавшему его французскому отряду из полусотни человек. Его преосвященство монсеньор кардинал де Ришелье спешил почувствовать себя по-настоящему и совершенно свободным…
– Да здравствует Конте! – единогласно вскричали горцы, когда министр скрылся из вида.
И вслед за тем они быстрым шагом выдвинулись дальше – к видневшимся впереди первым плоскогорьям Юры.
XXVII. Выстрел
Когда герои этого победоносного шествия перед десятитысячным неприятельским войском достигли первых плоскогорий Юры, их походный порядок несколько изменился – три отдельных отряда горцев мало-помалу воссоединились.
Передовой отряд и арьергард сошлись и смешались с главным, и Лакюзон, вместо того чтобы идти в центре рядом с преподобным Маркизом, пошел вместе с ним во главе колонны, которую перед тем вели Железная Нога и Гарба.
Только тогда капитан смог рассказать во всех подробностях о беспримерной вылазке, которую он предпринял и провел ради спасения друга. Невзирая на всю серьезность положения, улыбка не раз озаряла уста Маркиза, когда Лакюзон живописал ему, как крепостной гарнизон, весь до единого человека, купился на сцену с двумя монахами, угодившими в ложную засаду.
Неподражаемую легковерность и редкую алчность доброй кабатчицы он расценил как истинные блага, ниспосланные Провидением, и возблагодарил Бога за то, что Он обратил в его пользу слова из Святого Писания: «у них есть глаза, но не видят…»[73].
Выслушав этот рассказ, священник принялся расспрашивать Лакюзона о том, что случилось в замке Орла. Ему едва удалось сдержать обуявшее его волнение, когда он узнал, что отец Рауля и мать Эглантины оба живы и столько лет пробыли в плену у Антида де Монтегю, охваченного жестокой жаждой мести.
– Ах, – проговорил он, будто обращаясь к самому себе, – хоть я и служу Господу милосердному и всепрощающему, мне так хочется попросить о воздаянии! И отплатить за все вам, сеньор де Монтегю!.. Во имя несчастных, притесненных вами… во имя Родины, проданной вами… во имя братьев наших, преданных вами!
– Да, только месть, – вторил ему Лакюзон, – безоговорочная и суровая, и чтобы кара была достойна его бесчестья!
– Ты что-то уже решил, Жан-Клод? – спросил преподобный Маркиз.
– Да.
– И что же?
– Замок Орла уже завтра должен быть стерт с лица земли! Эглантину с матерью надо забрать к нам, а Антида де Монтегю заковать в кандалы и отправить в Дольский парламент – пусть расскажет о своих злодеяниях, и пусть ему уготовят костер как изменнику или виселицу как убийце.
– Когда идем на штурм замка?
– Этой же ночью.
– И там же захватим изменника?
– Сомневаюсь, ведь, если Ришелье сказал правду, он на пару с графом де Гебрианом как раз сейчас направляется в Безансон. Но не велика разница. Пусть сперва исчезнет замок, а после, где бы ни затаился наш мессир-подлец, мы его отыщем, а если надо, то назначим награду за его выдачу.
Горцы с предводителями продвигались уже по глубокой, извилистой долине, склоны которой сплошь поросли густым, мрачным ельником.
Чуть дальше, через два лье, долина эта, сужаясь, переходила в лощину, где располагалось Бонльейское аббатство.
– Гарба! – клинкул Лакюзон.
– Капитан?..
– У нас есть поблизости кто-нибудь из друзей-крестьян?
– Да, капитан, Франсуа Друфен живет неподалеку, один из его сыновей состоит у нас в отряде, а ферма его находится там наверху, в четверти лье отсюда.
– А лошади у нашего Франсуа Друфена найдутся?
– Да, капитан, помнится, у него их три штуки.
– Отлично, тогда поднимайся наверх и бегом к нему на ферму!
– Есть, капитан!
– Попросишь у него одну лошадь, оседлаешь ее – и кратчайшей дорогой скачи стремглав к большому водопаду. Дальше пойдешь пешком и, как только доберешься до Гангоновой пещеры, расскажешь полковнику обо всем, что произошло, а потом передашь, чтобы он взял всех людей, что у него есть, и ждал меня у Со-Жирара.
– Есть, капитан! Это все?
– Все.
Гарба, точно горный олень, кинулся вверх по лесистому склону и, перепрыгивая со скалы на скалу, всорости взобрался на самую вершину. Там он остановился и, застыв, как статуя на фоне прояснившегося неба, бросил взгляд вниз – в долину, по которой быстрым шагом продвигался его маленький отряд, растянувшийся пятнистой, черно-серой змеей.
Но тут вдруг его поза и жесты изменились – от страха; он сложил руки рупором и крикнул громким голосом, который, несмотря на большое расстояние, донесся до самой глубины долины.
– Капитан, поберегитесь!
Лакюзон тотчас вскинул голову, пытаясь разглядеть, что за опасность ему угрожает.
В это самое время, словно по сигналу горниста, среди елей взвилось облачко белого дыма – грянул выстрел – и с головы капитана слетела пробитая пулей шляпа.
– Неплохой выстрел! – проговорил Лакюзон. – Не нагнись я чуть вперед, пуля угодила бы мне прямо в голову, а не в шляпу.
Между тем Гарба выхватил оба пистолета и с двух рук выстрелил в сторону невидимого врага… – но, судя по выражению злобы, с какой он засунул пистолеты обратно за пояс, было ясно, что он промахнулся.
Тогда он опять сложил ладони рупором – и вслед за тем Лакюзон услышал его окрик:
– Черная Маска!..
Несколько человек горцев тут же с невероятной прытью кинулись вверх по склону долины и принялись обшаривать ельник – дерево за деревом, скалу за скалой, но все их старания оказались тщетными.
– Поостерегитесь, капитан!.. – снова крикнул с вершины склона Гарба.
И с этим словами пустился дальше – выполнять приказ командира.
– Клянусь честью, – рассмеялся Лакюзон, когда раздосадованные горцы, что бросились обыскивать лес, один за другим вернулись к своим, – я, как и наши селяне, уже начинаю верить, что этот сир де Монтегю и впрямь сущий дьявол!
И он тихонько затянул первый куплет расхожей в народе песенки, героем которой был Черная Маска:
Кто крадется там в ночи кромешной? Кто на горную вершину влез? Кто во тьму долины спустился неспешно? Человек то или бес? В шуме вихря, что несет его в вечность Под цокот копыт гремучий Коня, что чернее тучи. Все, кто не спит, заприте двери крепче! Сеньор ли в замке своем, Мужик ли в хижине убогой – Все ищут спасенья в молитве строгой, Бледнея в сумраке ночном, Едва лишь заслышат сказку О страшной Черной Маске!– Но как он, человек или дьявол, умудрился от нас ускользнуть? Право слово, не могу взять в толк…
– Гарба, конечно, нам все расскажет, – заметил преподобный Маркиз.
– Во всяком случае, – продолжал Лакюзон, – не менее странно другое – как Антид де Монтегю оказался здесь, ведь он должен быть сейчас в Безансоне.
– Ничего странного. Эта долина лежит почти на его обратном пути в Замок Орла.
– Верно, да только меня удивляет, как это он успел так быстро обернуться.
– Может, догадался, что ему угрожает какая-то опасность…
– Вряд ли. Он пока не знает, что Черная Маска для нас уже не тайна.
– Тогда чего же ты хочешь, Жан-Клод?.. Будем ждать, ведь ничего другого нам не остается. Только будущее вверит нам ключ от всех этих тайн.
Лакюзон водрузил на голову шляпу, пробитую пулей Черной Маски, и маленький отряд, задержавшийся в пути из-за опасного происшествия, быстрым шагом двинулся дальше.
Мы же поспешим объяснить то, что не могли понять ни Лакюзон, ни преподобный Маркиз, а именно: каким образом Антид де Монтегю оказался на дороге, по которой шли горцы.
Как и сказал двум нашим друзьям Ришелье, сир де Монтегю покинул Блетранский замок вместе с графом де Гебрианом и господами де Лонгвилем и де Виллеруа где-то за час до того, как закрыли главные ворота. Он все еще находился во французском лагере, когда дерзкая вылазка горцев увенчалась успехом и Ришелье оказался во власти капитана и священника. Однако вместо того, чтобы выдвинуться вместе с французским войском к Блетранскому замку, он не мешкая погнал коня обратно в Замок Орла в сопровождении всего лишь двух слуг, на которых мог положиться целиком и полностью.
Он не знал, что капитан Лакюзон открыл ужасную тайну, так давно скрываемую, – тайну Черной Маски. Но в глубине души он опасался, что кардинал, попав в плен к горцам, решит выкупить себе свободу, выдав Лакюзону и Маркизу того, кого они считали самым главным врагом борцов за свободу Франш-Конте. Если бы эти опасения действительно оправдались, против Антида де Монтегю ополчилась бы вся провинция, партизаны устроили бы на него настоящую охоту и затравили бы, как свирепого волка. В таком случае, если и не вполне вероятном, то по крайней мере возможном, Антид де Монтегю, как ему казалось, мог бы укрыться лишь за добротными, крепкими стенами его собственной неприступной крепости.
Однако времени у него впереди было предостаточно, и прежде всего ему хотелось узнать, чем закончится штурм Блетранского замка французскими войсками. Для этого он отрядил третьего слугу, наказав ему потом нагнать его в условленном месте, неподалеку от первых плоскогорий Юры. И слуга подробно и точно расписал Антиду де Монтегю все, что произошло под конец той ночи. Он рассказал, что штурм остановили по приказу самого кардинала; рассказал он и о победоносном отходе горцев, и о том, что они увели с собой Ришелье; наконец, он сообщил, какой дорогой направлялся в горы небольшой отряд Лакюзона.
Тогда-то Антиду де Монтегю и пришло в голову устроить засаду на косогоре в долине, о чем нам уже известно, и одним метким выстрелом из мушкета избавиться от самого опасного своего врага.
Место для засады он выбрал очень удачно. Укрывшись за скалами в гуще ельника, он оставался совершенно незаметным и мог спокойно прицелиться в Лакюзона, а после так же скрытно выбраться на вершину плоскогорья, где его должны были ждать слуги с лошадьми. Таким образом, он мог не беспокоиться, что горцы его обнаружат и пустятся за ним в погоню.
Но тут, как мы знаем, на вершине склона нежданно-негаданно объявился Гарба – он-то и сорвал коварный план. Тревожный окрик ординарца-горниста спугнул Антида де Монтегю, у которого были настолько верный глаз и твердая рука, что он мог одним выстрелом подбить орла в небе. Граф потерял хладнокровие и не смог прицелиться быстро и точно, чтобы попасть, как говорится, в яблочко.
И тем не менее, как мы знаем, его пуля лишь самую малость отклонилась от цели.
Промахнувшись и затем уклонившись от двух выстрелов ординарца Лакюзона, Монтегю, который перед тем как засесть в засаду надел из осторожности черную маску, поспешил скрыться с глаз Гарба. Он добрался до места, где его поджидали слуги с лошадьми, вскочил в седло, пришпорил коня и помчался во весь опор по узкой, но достаточно проторенной дороге, что вела в Монетрю-ан-Жу, а оттуда – прямиком в Замок Орла.
XXVIII. В замке Орла
Лакюзон, отрядив Гарба в Гангонову пещеру, рассчитывал, что, сколь бы проворным ни был его ординарец, полковник Варроз и Тристан де Шан-д’Ивер успеют подойти к Со-Жирару лишь через час после того, как он прибудет туда сам вместе с преподобным Маркизом и остальными горцами.
Каково же было его удивление, когда Варроз, не заставив себя ждать, первым оказался в условленном месте.
– Это чудо, да и только!.. – воскликнул он. – Или, может, Гарба примчался к вам на крыльях ветра?
– Гарба так и не добрался до Гангоновой пещеры, – ответил Варроз, – он встретил нас прямо здесь…
– Но как это могло быть?
– Нас предупредили.
– Предупредили… – повторил Лакюзон. – Но кто?
– Я, капитан, – вдруг выступив вперед, сказала Маги.
И тут же продолжала:
– Давеча я издали следила за вашими горцами – шла за ними до самого леса, у Блетрана, где они устроили засаду, и, когда удостоверилась, что замок и кардинал в ваших руках, сразу поспешила обратно – сообщить эту счастливую весть полковнику и господину Тристану. Милостивый Господь дал мне сил. Я шла всю ночь, не останавливаясь, сокращала путь, продираясь только мне одной ведомыми тропинками – и наконец, незадолго до рассвета, добралась до Гангоновой пещеры. Можете себе представить, капитан, с какой радостью меня встретили.
Лакюзон горячо обнял старуху.
– И тогда, – снова заговорил Варроз, – поскольку мой обратный путь лежал через Со-Жирар и поскольку, как мы догадывались, ты непременно захочешь штурмовать Замок Орла, меж нами было решено дождаться тебя здесь. И Гарба, которого ты послал ко мне, подтвердил наши догадки.
– Благодарю вас за прозорливость, полковник, – сказал Лакюзон.
– Я думал сообщить тебе новую весть, – продолжал Варроз, – но Горба сказал, ты и так все знаешь…
– Что еще за весть, полковник?
– Антид де Монтегю вернулся.
– Верно, – усмехнулся капитан, показывая Варрозу свою простреленную шляпу. Черная Маска позаботился о том, чтобы собственной рукой обозначить свое присутствие, вот я и думаю вскорости отплатить ему за учтивость той же монетой… А теперь, полковник, давайте говорить о вещах серьезных.
– О штурме замка, так?
– Да.
– И что ты решил?
– Скоро все увидим. У сеньора де Монтегю много людей?
– Да, помимо гарнизонных есть еще шайка серых, человек двести пятьдесят, – подоспели нынче утром.
– Вы точно знаете?
– Точнее некуда. После того как ты ушел, я велел четверым нашим переодеться в крестьян и послал их понаблюдать за крепостью, а по возвращении доложить о малейших подозрительных перемещениях…
– То, что к нему пожаловали серые, подтверждает одно: Антид де Монтегю насторожился. Подкрепление из двух с половиной сотен человек, да еще в такой товердыне, как Замок Орла, который охраняет сама природа, равносильно двум тысячам солдат в чистом поле.
– Точно.
– А значит, надо собрать все наши лучшие силы.
– На это уйдет время.
– Неважно. Отправим гонцов во все стороны. И сегодня же вечером у нас будет тысяча двести – полторы тысячи человек.
– А этого хватит?
– Надеюсь. Тысяча с лишним горцев стоит больше, чем три тысячи серых и шведов.
– Когда идем на штурм?
– Когда стемнеет. Дождемся подкрепления, да и наши пусть отдохнут после давешних вечерней и ночной вылазок, а то совсем выбились из сил…
Приказы были отданы без промедления, и два десятка горцев разошлись по всей округе с охотничьими рожками – их пронзительные звуки, повторенные на разные лады, служили всем повстанцам сигналом «к оружию!».
Близ Со-Жирара разбили временный лагерь. Развели костры, чтобы готовить снедь, которую люди полковника доставили из Гангоновой пещеры. Расставили часовых – предупредить всякую неожиданность. И, наскоро перекусив, горцы завернулись в свои плащи и улеглись под покровом скал и елей, набираясь сил перед новыми трудными испытаниями.
* * *
Наступила ночь.
Постепенно подоспело отовсюду и долгожданное подкрепление. Таким образом, в Илайской долине собралось около полутора тысяч повстанцев. Все, начиная с троих предводителей и заканчивая последним солдатом, пребывали во власти беспощадной ненависти и неутолимой жажды мести. Все понимали – предстоит не заурядная вылазка, не обычный налет, к каким они давно привыкли, а великий бой за торжество справедливости и возмездие, и, если кто из них погибнет в этом бою, тот падет не случайной жертвой, а станет мучеником, отдавшим жизнь за святое дело.
Преподобный Маркиз весь день исповедовал горцев и отпускал им грехи, подобно тому, как позднее поступало большинство капелланов на полях сражений в Вандее[74].
Когда прозвучал сигнал к отходу, Маркиз, в своей неизменной красной мантии, взобрался на обломок скалы и, возвысившись над небольшим войском, обратился с последним напутствием к своим сподвижникам и благословил всех, кто собрался вокруг него, поскольку многие из них шли на смерть.
Потом Лакюзон крикнул:
– Вперед!
И войско молча выступило в поход.
На землю опустилась глубокая ночь – час назад горцы, без единого звука, окружили замок, выделявшийся темной громадой на фоне неба, едва освещенного луной, которая все еще скрывалась за ближайшими заснеженными горными вершинами.
Наводящая ужас крепость как будто спала, даже казалась покинутой. Не было слышно ни размеренной поступи часовых на крепостных стенах, никаких других звуков – только завывания ветра, пронизавшего бойницы стен и обвевавшего углы башен, да слабый, отдаленный рокот водных потоков.
И вот у первого подъемного моста медленно и скорбно протрубил сигнальный горн, и его заунывный глас разнесся многократным грозным эхом, отразившись от древнх стен.
Затем, после короткой паузы, ночную тишину вспорол крик:
– За тобой, граф Антид де Монтегю, владетель Замка Орла, скрывавшийся под черной маской, пришли преподобный Пьер Маркиз, полковник Жан Варроз и капитан Лакюзон – мы, трое предводителей горских повстанцев!
Граф Антид де Монтегю, владетель Замка Орла, ты, трижды предатель и трижды клятвопреступник, продал Франш-Конте Франции и замыслил погубить ее защитников, поклявшись расставить им коварные ловушки и перебить всех до единого. Покуда парламент не приговорил тебя к смерти и не постановил казнить, как убийцу и изменника, мы, трое педводителей горских повстанцев, объявляем тебя вне закона. Мы велим стереть твой замок с лица земли, предав там все огню и мечу, вплоть до самой высокой башни. Мы велим схватить тебя и доставить в Доль, живого или мертвого, чтобы передать в руки палача, как и должно.
Мы, предводители горских повстанцев, собственноручно подписали эту декларацию и приказы, мы, трое: Пьер Маркиз, священник, полковник Жан Варроз и Жан-Клод Прост, капитан Лакюзон.
Я все сказал!..
Голос смолк.
Вслед за тем Гарба протрубил новый сигнал, еще более скорбный и грозный.
Когда стих последний трубный звук, с крепостной стены послышался хорошо знакомый голос Антида де Монтегю – громкий, насмешливо-презрительный:
– К вам, самозваным вожакам горских разбойников, к тебе, Пьер Маркиз, горе-пастырь и никудышный вояка, к тебе, Жан Варроз, старый, беззубый солдафон и сварливый, злой пес, у которого не осталось сил кусаться, к тебе, Лакюзон, главарь банды мятежников, – к вам обращаюсь я, владетель Замка Орла, я, человек в черной маске, и заявляю, что не боюсь вас и вздерну всех троих на шпиле Игольной башни!
Я все сказал!..
Ответом на этот злобный выкрик было гробовое молчание – но тишина длилась не больше десяти минут.
– Огонь! – крикнул вслед за тем Антид де Монтегю. – Стреляйте по этим мужланам, дерзнувшим напасть на орла в его гнезде!
И тут же на стенах замка вспыхнули огненные языки – эхо разнесло по долинам оглушительный грохот выстрелов трех сотен мушкетов, открывших огонь одновременно, – Лакюзона и Гарба, стоявших у подъемного моста, обдало ураганом пламени и дыма.
Но каким-то чудом обрушившийся на них град пуль не задел ни того, ни другого.
– На штурм! – громогласно скомандовал тогда капитан, потрясая топором. – За мной, мои верные горцы!
* * *
Давайте оставим на время осаждающих и осажденных – предводителей горцев и хозяина Замка Орла – и вернемся во времени немного назад, к Эглантине. С девушкой мы расстались, когда ее, бесчувственную, унес белый призрак, точно скупой свое сокровище.
В прологе нашей книги мы вместе с Пьером Простом, врачом обездоленных, проникли в Игольную башню, прошли под тем низким сводом, на котором лекарь оставил отпечаток своей окровавленной руки… поднялись по лестнице из двадцати двух ступеней, что вели на второй этаж… и наконец мы переступили порог круглой комнаты, занимавшей весь верхний ярус башни.
Читатели, конечно, помнят, что в ту роковую ночь на 17 января 1620 года хозяин Замка Орла велел закрыть гобеленами стены комнаты, потолок, оконные проемы и даже пол, дабы никакие приметы, ни малейшая догадка не привели сюда Пьера Проста, вздумай он когда-нибудь дознаться до правды, которую от него утаили.
Черная Маска хотел скрыть рождение Эглантины под непроницаемым покровом тайны, чтобы в будущем мать с дочерью никогда не встретились.
Но случай или Провидение распорядились иначе – и алмазная розочка на медальоне, который несчастная роженица передала врачу обездоленных, стала звездой-покровительницей, вдруг озарившей путь в гавань для потерпевших крушение на корабле жизни. Благодаря ее свету приемная дочь Пьера Проста в конце концов нашла свою родную мать – Бланш де Миребель.
Когда бедняжка Бланш наконец испытала огромную и нежданную радость, вновь обретя дочь, которую считала потерянной навсегда, она была еще молода: ей не исполнилось и сорока. Только телесные и душевные муки долгого заточения состарили ее до времени, но не стерли последние следы той дивной красоты, что когда-то пленила сердце Тристана де Шан-д’Ивера.
Лицо у Бланш покрылось мертвенной бледностью, под глазами обозначились синеватые круги, становившиеся с годами все больше, а взгляд, некогда нежный, обрел странное – потерянное выражение.
Несчастная женщина, однако, сохранилс свои дивные, бархатистые темные волосы, которые когда-то множеством кос ниспадали ей до пят. Только теперь эти прелестные пряди, хоть и сохранившие шелковистую пышность, стали белыми как снег, и словно стекали среребристыми струями ей на плечи и иссохшую грудь.
Быть может, наших читателей удивило, что в течение долгих лет заточения узница пользовалась относительной свободой: владетель Замка Орла позволял ей выходить на верхнюю площадку Игольной башни и появляться в той части земляной насыпи, которая была отгорожена от остального мира никогда не отпиравшейся решеткой. Этой мнимой свободы Бланш де Миребель добилась для себя лишь спустя пять-шесть лет после того, как ее заточили в Игольную башню.
После довольно долгой болезни, часто сопровождавшейся горячечным бредом, бедняжке пришло в голову и дальше разыгрывать тихое помешательство – не проявляя ни буйства, ни ярости, она притворилась, будто не помнит даже своего имени и не сознает пережитое – ни прошлых, ни нынешних страданий. Она распустила волосы и стала кутаться в простыни, словно в длинное развевающееся покрывало – и так часами кружила по комнате, которая служила ей темницей, то и дело нудно повторяя низким голосом народные песни, знакомые ей с детства.
Антиду де Монтегю, поверившему, что у пленницы самое настоящее безумие, захотелось сыграть на этом. Он решил, что появление призрака в саване на вершине Игольной башни и среди деревьев на насыпи будет ему только на руку: создаст атмосферу ужаса вокруг главной башни Замка Орла и позволив чудесным образом скрыть правду за покровом жутких легенд, которые очень скоро разошлись по всей округе.
Благодаря ложному безумию, и только ему, для Бланш де Миребель и раздвинулись границы ее заточения.
Она не получила полной свободы, зато теперь по крайней мере у нее появилась возможность видеть солнце и вдыхать свежий воздух.
XXIX. Мать и дочь
Бланш де Миребель, удерживая Эглантину на руках и с нечеловеческой силой прижимая ее к груди, живо взбежала по лестнице в свою комнату, а вернее, темницу, и уложила так и не пришедшую в себя девушку на постель.
И тут ее разум пронизал безумный страх, отчего она содрогнулась всем телом.
«А вдруг она умерла! – пролепетала несчастная женщина. – Что, если она и впрямь мертва!..»
Тогда она упала на колени перед постелью и припала ухом к груди Эглантины, пытаясь уловить биение ее сердца, хотя бы малейшие признаки жизни в ее теле. Сердце девушки билось ровно – и бедная мать вздохнула с облегчением.
Но на смену первому беспокойству тут же пришли другие тревоги.
Женщина вдруг подумала, что сир де Монтегю с приспешниками наверняка уже хватились девушки и пустились на ее розыски, чтобы узнать, куда она подевалась, а может, они даже заподозрили, что она укрылась в Игольной башне и вот-вот нагрянут…
«Ах, – вздохнула Бланш, чувствуя, как от одной этой мысли ее охватывает настоящее безумие, – ах, они убьют сначала меня, а потом ее!..»
И она принялась забрасывать тело дочери простынями и одеялами, надеясь, что это послужит ей какой-никакой защитой и укроет ее от посторонних глаз. Потом, встав у этой кучи, накрывшей дорогое сердцу сокровище, женщина приняла грозный вид, поклявшись себе защищать свое дитя до последнего вздоха.
Впрочем, скоро ей стало ясно, что владетель замка не знает, где оказалась Эглантина, и тогда ею овладела безграничная радость, впервые переполнившая ее душу после стольких лет мытарств и отчаяния.
Материнский инстинкт, доселе забытый, вдруг пробудился в ней с неукротимой силой.
Она разгребла кучу покрывал, под которыми спрятала Эглантину, обхватила девушку руками, уложила себе на колени и принялась качать, как укачивают младенцев, называя ее всеми ласковыми и нежными словами, которые могут прийти в голову только молодой матери, баюкающей дитя.
От ее поцелуев и ласки Эглантина пошевелилась. Она пробыла без сознания около часа – и теперь мало-помалу приходила в себя.
– Где я? – пока еще слабым голосом проговорила она, озираясь кругом в кромешной тьме.
В то же самое время к ней вернулась память. Девушка вспомнила призрака, который вдруг возник перед ней, когда Лакюзон хотел вывести ее из замка. От леденящего ужаса, пронзившего ее при этом воспоминании, она вскрикнула, стремясь высвободиться из обхвативших ее рук, и собралась с последними силами, чтобы бежать.
Бланш нутром почувствовала, что девушка напугана, и постаралась ее успокоить. Она опустилась перед Эглантиной на колени, взяла ее за обе руки и принялась целовать их, омывая слезами; при этом она с мольбой и бесконечной нежностью шептала:
– О дитя мое, дорогое, возлюбленное дитя!.. Во имя Неба, не бойся…
И девушка скоро успокоилась – не столько благодаря этим словам, потому что они казались ей бессмысленными, сколько благодаря тому, как они были произнесены. Ей подумалось, что такой трогательный, такой глубоко взволнованный голос не может принадлежать лживому человеку, и она прошептала в ответ:
– Но кто вы и почему называете меня своим дитя?
– Ах! – воскликнула Бланш, вновь заключая трепещущую Эглантину в объятия. – Кто я?.. Твоя мать!..
– Моя мать? – переспросила девушка с глубочайшим недоумением.
– Да, да, да, твоя мать… мать! Я люблю тебя больше, чем Господь отвел любить человеку… и отдала бы свою жизнь за один-единственный день твоей жизни… Целых восемнадцать лет я оплакивала тебя, отчаиваясь при одной лишь жестокой мысли, что умру, так и не увидив тебя… Да, я твоя мать… мать!
– Как бы мне хотелоссь вам верить, – прошептала Эглантина, – но, увы.
– А ты разве не веришь?
– Как же мне верить, если вы говорите то, чего не может быть.
– Не может быть?.. Почему?
– Моя мать умерла, и это случилось давным-давно.
– Кто тебе такое сказал?
– Мой отец.
Бланш снова ужаснулась. Неужели она ошиблась?.. Неужели девушка, которую она прижимала к сердцу, и впрямь не ее дочь?.. Неужели человек, вверивший девушку ее заботам, вольно или невольно обманул ее?..
Она обратилась душой к Богу, ибо только он мог дать ей сил справиться со столь жестоким разочарованием.
Тогда дрожащим голосом она спросила:
– Как ваше имя, дитя мое?
– Эглантина.
– А как зовут вашего отца?
– Пьер Прост, из деревни Лонгшомуа.
– Он ведь врач, не так ли?
– Да, и во всей округе его еще называют врачом бедняков.
– Сколько же вам лет?
– Восемнадцать.
– Вы знали свою мать?
– Нет. Мне сказали – она умерла, когда произвела меня на свет.
– А вы случайно не видели у вашего отца одну безделушку… золотой медальон, с розочкой, выложенной алмазами?
– Видела, и довольно часто… из-за того медальона меня и назвали Эглантиной.
– В таком случае вы, может, помните и день своего рождения?
– Да. Я родилась в ночь на 17 января 1620-го…
Девушка не успела договорить последнее слово, как вдруг из горла Бланш вырвался глухой крик радости. Она уже нисколько не сомневалась: ведь теперь у нее появилось бесспорное доказательство. К тому же она вспомнила и последние слова капитана Лакюзона: «Вот дитя, родившееся в ночь на 17 января 1620 года. Вот ваша дочь, ее зовут Эглантина. Она думает, что ее мать умерла, а… врач бедняков – ее отец. Примите же ее! Спрячьте и сберегите!.. Я Жан-Клод Прост… я капитан Лакюзон. Скоро я вернусь за вами обеими…»
Из этих слов было ясно, что Эглантина ничего не знает о своем рождении. Было ясно и то, что от нее хотели это скрыть во что бы то ни стало, – и человеку, которого она считала своим отцом, приходилось неизменно повторять, что ее мать давным-давно умерла.
Бланш, разумеется, могла открыть ей глаза на все, о чем девушка до сих пор не подозревала, но, чтобы зажечь огонь счастья в глазах девушки, надо было омрачить ее чистую, невинную душу рассказом о том, как Антид де Монтегю надругался над ее матерью.
И Бланш отказалась от подобной мысли, не посмев осквернить своими воспоминаниями девичью чистоту и невинность.
– Послушай, дитя мое, – через какое-то время промолвила она, – ты действительно моя дочь, и я могла бы тебе это доказать, но пусть лучше это сделают другие, те, кому ты, конечно же, безоговорочно доверяешь… Ведь ты же поверишь Пьеру Просту и капитану Лакюзону, так?
– О да! – горячо ответила Эглантина.
– Ну что ж, тогда можешь смело довериться мне уже сейчас, дорогое мое дитя. Потому что, клянусь, они оба обязательно скажут, что я твоя мать.
– А когда я увижу их снова?
– Скоро. Капитан Лакюзон обещал вернуться за нами и вызволить отсюда.
– Занчит, нам угрожает опасность?
– Нет, но ведь мы с тобой узницы.
– Игольной башни?
– Да.
– Так это вас называют белым призраком?
– Да, меня, ведь я бедная пленница, несчастная и отчаившаяся, потому что провела в заточении долгие-долгие годы, казавшиеся мне столетиями… но теперь я безмерно счастлива и забыла свое горестное прошлое. Потом ты узнаешь обо мне все-все. А сейчас давай говорить только о тебе… – скажи, как ты оказалась в замке Орла?
И Эглантина начала рассказывать обо всем, что мы поведали нашим читателям в предыдущих главах, а посему нам остается только прибавить, что рассказ девушки был выслушан с жадным вниманием и горячим интересом.
Так прошел остаток ночи – потом наконец занялся новый день.
Впервые в бледных отсветах зараждающейся зари мать смогла разглядеть пока еще незнакомые черты своей дочери. Конечно, за нескончаемо долгие часы мечтаний Бланш де Миребель нарисовала некий идеальный образ своего дитя и оделила дочь самыми чудными качествами, не забыв изящество и красоту. Однако куда легче почувствовать, чем выразить то, что творилось в душе матери, когда она смогла своими глазами увидеть, что ее идеал превзойден во сто крат и что явь оказалась много краше мечты.
Хотя наше перо не очень искусно, мы, однако, не удержались бы от соблазна и не отступили перед невероятно трудной задачей – и непременно попытались бы описать эту сцену, трогательную, полную живого очарования. Но на память нам вовремя пришла дивная глава из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, где затворница крысиной норы находит Эсмеральду, свою дочь, потерянную двадцать лет тому назад. Так что мы предоставим нашим читателям возможность, положившись на воображение, восполнить наше молчание, а лучше, мы просили бы их перечитать восхитительные страницы из «Осенних листьев» и «Песен сумерек»[75]…
Итак, минуло два дня.
Никакая опасность нашим узницам пока не угрожала. Прежде всего потому, что Антида де Монтегю не было в замке. Но даже останься он в здесь, пленницам меньше всего следовало бы опасаться, что ему вдруг вздумается нагрянуть в Игольную башню.
Он не переступал порог зловещей обители Бланш пятнадцать лет с лишним, а слуга, которому было поручено носить еду для женщины, делал это с такой же неохотой, как и в случае с Тристаном де Шан-д’Ивером, запертом в каменном мешке водосборника. Иначе говоря, нерадивый служка оставлял корзину со снедью на первой ступеньке лестницы и убирался восвояси, не удосуживаясь подняться чуть выше и обменяться с пленницей хоть словом.
Бланш, после того как ей вернули дочь, наслаждалась этими мгновениями покоя – ей даже хотелось продлить их до бесконечности. Она жила только настоящим, будто вычеркнув из памяти прошлое и стараясь не думать о будущем. Она была так счастлива, что ей казалось, будто малейшая перемена может ее погубить.
Но Эглантина совсем не разделяла ее настроения… Она постоянно вспоминала последние слова Лакюзона, сказанные женщине в белом: «Скоро я вернусь за вами обеими…» – и горячо молилась, чтобы долгожданный избавитель пришел как можно скорее.
Однако на второй день к вечеру смутная тревога омрачила счастье Бланш. Небосвод ее души, на миг озарившийся светом, вновь затянуло мрачными тучами.
Днем несчастной временами чудился лязг оружия и какой-то странный гул – все это наводило на мысль, что в замке собирается целое войско. С наступлением темноты вновь стало тихо, но даже в наступившей тишине нет-нет да и слышался глухой отдаленный шум, похожий на рокот приближающейся грозы.
Что все это значило? Неужто будущее готовило ей новые тяжкие испытания вдобавок к жесточайшим бедам, выпавшим на ее долю в прошлом?
Эглантина, разбитая телом и духом, лежала в постели, не раздевшись, и спала спокойным, глубоким сном. Бланш стояла в глубоком проеме окна, выходившего на Илайскую долину, всматривалась в непроглядную тьму и прислушивалась к невнятным, едва различимым звукам.
Вдруг во мраке ночи протрубил сигнальный горн Гарба – протяжно и зловеще.
Бланш содрогнулась.
Заунывный звук горна, исполненный тревоги и угрозы, точь-в-точь отражал состояние ее души.
Эглантина по-прежнему спала.
Вслед за сигналом горна послышался человеческий голос.
Речь, обличавшая графа Антида де Монтегю, владетеля Замка Орла, как трижды изменника и клятвопреступника, поставленного вне закона, эхом отозвалась в сердце Бланш.
– Ты слышишь?.. Слышишь? – прошептала она, подойдя к постели и схватив Эглантину за руки.
– Что там такое, матушка? – внезапно пробудившись, удивилась девушка.
– Они идут!.. Они пришли!
– Да кто?
– Предводители горцев… герои… освободители… – Лакюзон, Варроз и Маркиз.
– Ах, – воскликнула Эглантина, в порыве радости вскакивая с постели, – слава богу, мы спасены… и свободны!
Однако неожиданно прозвучавший голос Антида де Монтегю был им своеобразным ответом: «Рано!..» – ибо в словах его звучала явная угроза: «К вам, самозваным вожакам горских разбойников, обращаюсь я, владетель Замка Орла, я, человек в черной маске, и заявляю, что не боюсь вас и вздерну всех троих на шпиле Игольной башни!»
Почти сразу за этим, как мы помним, негодяй скомандовал: «Огонь!..»
И замок тут же заволокло дымом.
– Матушка, матушка, – зашептала Эглантина, бросаясь в объятия Бланш, – они убили его!.. Мы пропали!..
Но, не успела она договорить, как за грохотом мушкетной пальбы послышался громогласный командный крик: «На штурм! За мной, мои верные горцы!»
Девушка тотчас изменилась в лице: на смену ужасу в душе ее пришли уверенность и радость – Эглантина вскинула голову и, подобно тому, как только что проговорила: «Мы пропали!..» – воскликнула снова:
– Мы спасены!
XXX. Штурм
Антид де Монтегю, как мы помним, боялся, что кардинал де Ришелье выдаст предводителям горцев тайну его измены, и он прекрасно понимал, что в таком случае рассчитывать на их милость и пощаду ему не придется.
А посему он решил готовиться к обороне, убежденный в том, что Замок Орла, с его многочисленным гарнизоном, – неприступнуая крепость. Устроив перед тем засаду в горном ущелье, чтобы покончить с капитаном, – о чем мы уже знаем – граф отрядил человека в Клерво подкупить отряд в двести пятьдесят головорезов-серых и незамедлительно привести их в Замок Орла.
Наемники прибыли почти в одно время с хозяином замка.
Сир де Монтегю не мешкая расставил их по местам, с лихвой снабдив боеприпасами и загодя выплатив им месячное жалованье, а в довершение всего наказал глядеть в оба, как если бы штурм должен был состояться в этот же день.
Предчувствия Антида де Монтегю оправдались, и, как мы знаем, очень скоро.
Наши читатели, верно, не забыли подробности, с какими в предыдущих главах мы описывали местоположение Замка Орла, поэтому нам нет надобности повторять, что, располагаясь на вершине скального отвеса, со стороны Илайской долины эта крепость была неприступна. И только со стороны Шо-де-Домбьефа, то есть там, где располагался главный въезд, можно было штурмовать замок с большим или меньшим успехом, хотя всякого рода препятствий и там хватало.
План штурма Лакюзон, Варроз и Маркиз разработали заранее. Он был простой, но для его исполнения требовались неукротимая отвага и пламенная целеустремленность горцев и их предводителей.
Двум отрядам под командованием Маркиза было поручено накрыть непрерывным огнем ту часть крепостной стены, где помещались первые ворота с подъемным мостом.
Пока лучшие стрелки партизан с удивительной меткостью поливали градом пуль серых, которые не успевали укрыться за зубцами крепостной стены, Варроз с Лакюзоном, спустившись в ров, велели воздвигать лестницы, потом с двумя десятками товарищей, вооруженных топорами и пистолетами, они полезли вверх и вскоре взобрались на стену.
Там горцев ожидало куда более сильное сопротивление, однако и оно не выдержало их неумолимого натиска. Пространство вокруг них постепенно расчищалось, и под огневым прикрытием своих товарищей, державшихся поодаль, они бросились крушить топорами балки, к которым крепились цепи подъемного моста.
Под тяжелыми ударами топоров крепкое дерево разлеталось в щепки, мушкетная пальба тем временем не прекращалась ни на миг, наступающие все лезли и лезли вверх по лестницам, и под их натиском серые попятились, однако отступление их не было беспорядочным бегством – они защищали каждую пядь земли, притом отчаянно.
Вдруг послышался такой грохот, будто обрушилась громадная скала.
Грохоту вторил оглушительный возглас, радостный и победоносный, – это разом вскричали все осаждающие.
Подъемный мост рухнул.
Горцы тут же ринулись в сводчатый проем, снесли ворота, стоявшие у них на пути и, почувствовав себя хозяевами положения, захватили первый пояс укреплений.
Но это преимущество, хоть и важное, не было решающим.
Антид де Монтегю, сражавшийся в первых рядах и являвший всем пример неоспоримой храбрости, как раз командовал отходом гарнизонных и серых, когда пал подъемный мост, и защитники замка, отступив в строгом порядке ко второму поясу укреплений, успели поднять за собой другой мост и закрыть еще одни ворота.
Коротко говоря, горцы отвоевали только лишь пространство между двумя стенами, однако продвигаться дальше они не могли – нужен был новый приступ, более трудный и опасный, чем первый. Над этим узким поясом возвышались укрепления замка и осажденные, прятавшиеся в глубоких оконных проемах, теперь стреляли сверху, находясь в полной безопасности и имея возможность целиться спокойно, без суеты.
Партизаны падали один за другим, словно сметенные шквалом огня, который изрыгали невидимые мушкеты. Как только кто-то из них пытался выстрелить в свою очередь, вспышка, озаряя на миг темноту, выдавала его, и он тотчас становился удобной мишенью для осажденных.
В таком опасном положении горцы не продержались бы долго.
Лакюзон приказал доставить лестницы, которые его люди перед тем использовали во время первого приступа, и приготовился дать сигнал к новому штурму.
Но Маркиз, с которым капитан поделился своим планом, был совершенно другого мнения.
– И все же, – заметил Лакюзон, – еще каких-нибудь пять минут такого же стремительного натиска – и мы, одолев это новое препятствие, оказались бы на эспланаде. А захвати мы эспланаду, то и замок наш.
– Ты прав, – ответил священник, – но мы положим людей ни за понюшку табаку, а жизнь человеческая священна.
– Что же делать?
– Надо, как мне кажется, чтобы Варроз попробовал атаковать с другой стороны. И тут уж неважно, удачной будет его попытка или нет: главное – отвлечь внимание вояк Антида де Монтегю, рассредоточить их, и тогда мы снова хозяева положения. Согласен, Жан-Клод?
– Ну да! Безусловно!
– Что ж, тогда прямо сейчас и надо предпринять отвлекающий маневр, о котором я говорю… А где полковник?
– Должен быть где-то здесь. Мы с ним только что подрывали опоры подъемного моста.
– Варроз! – окликнул преподобный Маркиз.
Ответа не прозвучало.
– Полковник! – позвал в свою очередь Лакюзон.
В ответ та же тревожная тишина, вселившая смутное беспокойство в души священника и капитана. Варроза нигде не было. Значит, он погиб, и для любого, кто знал полковника, его гибель казалась более вероятной, чем просто отсутствие в минуту опасности. Между тем горцы, из тех, что находились поблизости, слышали, что Варроз не откликался на зов.
Слух о его гибели с быстротой молнии разлетелся по ближним и дальним рядам атакующих и, нарастая, как снежный ком, оброс новыми мрачными вестями: преподобный Маркиз убит вместе с полковником…
И тогда глубокое уныние и отчаяние овладело этими людьми, с самого начала войны привыкшими к тому, что им всегда сопутствует удача, залогом которой неизменно служили быстрота их атак и отвага.
Сейчас же, как казалось, все выходило наоборот! Победоносный штурм первого пояса укреплений мало что дал. Теперь же перед воюющими выросло еще более грозное препятствие, практически неодолимое в кромешной тьме. Серые некоторое время назад прекратили огонь, и вспышки мушкетных выстрелов больше не освещали ночной мрак. В то же мгновение Замок Орла, прославленный в страшных народных сказаниях, окутал их непроницаемым покровом своих тайн и ужасов… а тут еще разом пали два их командира, которых, казалось, не брали ни пули, ни клинки, и одним из этих командиров был преподобный Маркиз. Как говорили, он был сражен наповал, и его не спасла даже красная мантия, служившая ему крепким щитом… Оттого проклятый замок казался и вовсе неприступным! Он как будто находился под защитой самого дьявола, поправшего священную мантию слуги Божьего…
Вот когда животный, суеверный страх завладел этими смельчаками, от природы дерзкими до безрассудства. И не случайно они, перешептываясь меж собой, едва слышно говорили друг дружке: «Варроз погиб!.. Маркиз погиб!.. Выходит, против дьявола мы бессильны…»
И эти герои, вмиг обратившиеся в трусов, уже подумывали о том, чтобы бежать с позором. Единственное, что их пока еще удерживало, так это военная дисциплина и чувство уважения к ближнему.
Слухи, обескуражившие горцев, не замедлили дойти до ушей священника и капитана.
Маркиз отовсюду слышал одно и то же: «Преподобный погиб!..» И он тут же понял: если не положить конец этим сплетням, на воинов, разом превратившихся в слабых и трусливых зайцев, больше нечего рассчитывать.
Но как в этом беспросветом мраке было доказать, что он, Маркиз, цел и невредим благодаря своей красной мантии и сейчас ни пуля, ни кинжал не страшны ему. Воистину – странное положение для живого человека, не знающего, как доказать, что он жив!..
Напрасно Маркиз кричал: «Я здесь, с вами!» Его слова заглушал все нарастающий ропот горцев, твердивших одно и то же: «Красной мантии больше нет с нами!.. Бог оставил нас!..»
Напрасно и Лакюзон ходил от одного к другому, стараясь разубедить своих бойцов. Суеверный страх, поразивший горцев, сделал их глухими. Они уже не слышали голоса своего командира.
– Что же делать, господи, что делать? – спросил священника капитан.
– Есть только один выход, – живо отвечал тот, – показаться всем в красной мантии.
– Но как?
– Вели зажечь факелы и командуй «на штурм!». Я первым полезу на стену, и тогда, если будет угодно Богу, они все меня увидят.
– Верно, – отозвался Лакюзон, – но тогда и серые вас увидят.
– Не это сейчас важно!
– Вы станете отличной мишенью – на вас тут же обрушится град свинца!
– Неважно! – повторил Маркиз.
И с улыбкой прибавил:
– Ты же знаешь, в красной мантии я неуязвим!
Лакюзон, с тяжелым сердцем и недобрыми предчувствиями, тем не менее внял воле священника.
Он велел зажечь факелы, и, когда их пламя осветило алую мантию Маркиза и горцы, воспрянув духом, дружно закричали от радости, капитан скомандовал «на штурм!».
Воины-повстанцы, в чьих сердцах полное, холодное отчаяние сменилось неудержимым, горячим задором, ринулись к лестницам. Свщенник – первый, Лакюзон – следом за ним.
Из высоких окон замка и бойниц крепостной стены послышался ужасающий грохот.
– Гасить факелы! – крикнул Маркиз. – И вперед! За Лакюзона! За Лакюзона!..
– За Лакюзона! – подхватили горцы и, воодушевленные воинственным кличем, с неудержимой стремительностью полезли на крепостную стену.
Но священник не смог последовать за ними: он упал на руки Лакюзона и Гарба.
– Вы ранены, отец мой? – с тревогой вопросил капитан.
– Да, – ответил Маркиз, – ранен… смертельно… Только никому ни слова, они не должны знать…
Кровь, подступившая к горлу Маркиза из простреленной груди, заглушила его голос. И все же через мгновение он продолжал:
– Слушай, Жан-Клод, наши верят в красную мантию… не обманывай их надежд… они не должны знать, чо Маркиз погиб…
– Погиб!.. – в изумлении повторил Лакюзон. – Нет, нет, не может быть… вы не умрете!.. Вы не можете!..
– Через минуту, – едва слышно продолжал священник, – через минуту все будет кончено… Успокойся, сын мой, и крепись… Похорони меня в Шан-Сарразене, я так хочу… и, главное, пусть могила моя сохранит тайну красной мантии… Боже мой… Господи Боже, защити святое дело, за которое я проливаю кровь… Боже мой, благослови оружие защитников Франш-Конте!
Голос Маркиза потух – тело его сковали предсмертные судороги.
И, однако же, он нашел в себе силы прибавить:
– Твоя рука… сын мой… тайна… прощай…
И он обмяк на руках, которые поддерживали его. И испустил дух.
Лакюзон, подавленный самым тяжким горем, какое он когда-либо переживал, попытался отмахнуться от ужасной яви, как от кошмарного наваждения. Он опустился на колени перед телом Маркиза и приложил руку к его сердцу – но все было кончено… безвозвратно. Это благородное сердце перестало биться.
– Боже мой, – прошептал он, – Боже мой, почему ты не взял меня вместо него? Почему меня оставил в живых?..
Но ему пришлось подавить свою горькую печаль: времени оплакивать невосполнимую утату не было.
Лакюзон повернулся к Гарба.
– Надо исполнить последнюю волю героя, которого больше нет с нами, – сказал ему он. – Надо сохранить тайну красной мантии. Завтра выкопаем Маркизу могилу в Шан-Сарразене. А пока возьми его тело и спрячь где-нибудь в скалах под Игольной башней. А я иду в бой…
Гарба, давясь слезами, пробормотал в ответ что-то невнятное, и капитан, живо взобравшись по одной из лестниц, приставленных к стене, ринулся в самую гущу схватки, завязавшейся на эспланаде. Он крушил серых с неудержимой силой и яростью и при каждом ударе повторял:
– По крайней мере, я отомщу за тебя!..
К тому времени, когда Лакюзон присоединился к своим товарищам, их положение становилось нелегким. Хотя горцев было больше, чем серых, стиснутые в узком пространстве, они не могли развернуться. К тому же их обстреливали из всех зданий, окружавших эспланаду: из окон главного корпуса, казарм и женского дома. Под сплошным огненным натиском преимущество франш-контийцев таяло на глазах. Они не могли перейти в рукопашную, когда неукротимая отвага становилась их главным оружием и склоняла чашу весов в их пользу.
Справедливости ради следует добавить, что и серые бились исправно, честно отрабатывая деньги, полученные от хозяина Замка Орла.
Коротко говоря, преимущество в схватке без устали оспаривалось обоими соперниками, и было трудно сказать, чья в конце концов возьмет, как вдруг совершенно неожиданно случилось событие, полностью изменившее исход сражения.
Внезапно осажденные услыхали у себя за спиной победоносные возгласы, смешавшиеся с криками ужаса. Пальба из окон стала стихать, и ее тут же заглушил боевой клич горцев: «За Лакюзона!.. За Лакюзона!..» – эхом раскатившийся по всему замку.
Серые оказались меж двух огней.
XXXI. Возмездие
Пришло время объяснить причину столь невероятной удачи и столь же внезапного исчезновения Варроза.
Полковник находился вместе с Маркизом и Лакюзоном в первом поясе укреплений, окутанном кромешной тьмой, как вдруг он почувствовал, что кто-то цепко схватил его за руку.
– Что вам нужно? – спросил Варроз.
– Идемте, полковник, – ответил ему приглушенный голос.
– Вы кто?
– Маги…
– О! – удивился Варроз.
– Идемте же! – повторила старуха.
– Куда?
– Туда, где вам следует быть.
– Но, – живо возразил Варроз, – разве мне не следует быть здесь?
– Не так чтоб уж очень, потому что захват замка зависит от того, что вы будете делать дальше…
Маги уже несколько дней кряду исправно доказывала свою безоговорочную преданность борьбе за свободу Франш-Конте, служа верой и правдой этому святому делу, – и Варроз после недолгих колебаний согласился пойти с нею.
Старуха быстро вывела его из замка на дорогу, где они повстречали Тристана де Шан-д’Ивера с сыном во главе отряда горцев, числом двести человек, спеших на выручку товарищам. Маги повела их дальше другой дорогой – к подножию скального отвеса, увенчанного крепостной стеной. Там, раздвинув кусты, она отперла потайную дверь ключом, который ей сам выдал сир де Монтегю, и, открыв потерну, сказала:
– Теперь замок ваш. Идите за мной и ничего не бойтесь, я выведу вас куда надо.
С этими словами Маги проникла в подземный ход, а за нею последовали Варроз, отец и сын де Шан-д’Иверы и горцы, перестроившиеся в колонну по двое.
Подойдя к потайной филенке, скрытой за портретом последнего из Водри, Маги остановилась и сказала Варрозу:
– Полковник, от гостиной замка вас отделяет только эта дверь.
Варроз одним ударом топора разнес филенку и с криком «За Лакюзона!.. За Лакюзона!» ворвался в гостиную.
Дюжина серых, стрелявших по горцам из окон, была сметена до того, как успела опомниться.
Полковник не мешкая собрал своих людей, построил их в одну плотную колонну и, вырвавшись во главе ее на эспланаду, напал на серых с тыла; при этом горцы без устали кричали:
– За Лакюзона!.. За Лакюзона!
Между тем Тристан де Шан-д’Ивер и Рауль не последовали за отрядом Варроза.
Оставшись вдвоем в гостиной, они поспешили открыть уже знакомую нам дверь, что выходила на земляную насыпь и располагалась вровень с нею.
Тристан думал о Бланш де Миребель.
Рауль – о Эглантине.
И в один голос они воскликнули:
– В Игольную башню!
Мы нижайше просим прощения у наших читателей за то, что вот уже на протяжении нескольких глав переносим их с места на место.
Хотя мы и признаем себя не слишком искушенными в опасном ремесле рассказчика, но тем не менее прекрасно понимаем, что негоже беспрестанно отвлекать внимание читателей то на одно, то на другое. Единственным оправданием нам может послужить только необходимость. Если несколько действий происходит одновременно в разных местах и если эти действия связаны меж собой, можно ли избежать столь внезапных переходов в повествовании? Когда нечто подобное случается в комедии или драме, театральные подмостки обычно делят пополам, книга же не дает таких возможностей, как сцена.
Но, как бы то ни было, нам пора снова возвращаться к Эглантине и ее матери, которых мы оставили в ту самую минуту, когда девушка, услыхав команду капитана Лакюзона «на штурм!», воскликнула: «Мы спасены!..»
Почти сразу же снова грянула мушкетная пальба – и несколько шальных пуль угодило в стену Игольной башни. Одна из них даже пробила оконное стекло и застряла в толще настенного гобелена.
Обе женщины с криком ужаса отпрянули в сторону и кинулись в ту часть комнаты, куда не долетали пули. Час с лишним они в мыслях переживали перипетии схватки, все слыша, хотя и ничего не видя, и только по возгласам радости или гнева могли судить, кто берет верх.
Вдруг, в тот самый миг, когда серые отошли к эспланаде, заперев за собой вторые ворота и подняв другой мост, Бланш расслышала на земляной насыпи голос Антида де Монтегю, который отдавал слуге какие-то распоряжения. Узнав этот голос, Бланш почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног.
В это же самое время заскрежетали дверные петли внизу, под лестницей – и вслед за тем на ступенях послышался топот кованых сапог.
Это поднимался Антдид де Монтегю.
– Господи, – взмолилась Бланш, едва не теряя рассудок от страха, – Боже, защити нас!..
Не говоря ни слова в ответ на расспросы Эглантины, которой передался материнский страх, она подхватила ее на руки, отодвинула гобеленовую портьеру, за которой помещалась дверь на винтовую лестницу, что вела в верхнюю часть башни, усадила девушку на ступеньку, наказав бедняжке держать рот на замке – иначе им обеим пришел бы конец, – закрыла за собой дверь и вернулась в комнату. Чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, она упала, на постель.
И тут на пороге возник Антид де Монтегю: в правой руке он держал окровавленную шпагу, а в левой лампу. Вид у него был самый зловещий: брови сошлись у переносицы, на правой щеке кровоточит легкая рана, лицо мертвенно-бледное, с жутким землистым оттенком. Это искаженное злобой лицо, эти свирепые, полные ненависти глаза делали его похожим на самого поверженного дьявола.
Он медленно подошел к камину и поставил на него лампу, потом вложил шпагу в ножны, повернулся к Бланш, скрестил руки на груди и с поистине дьявольской ухмылкой на губах вперился в искаженное от страха лицо несчастной женщины. Он разглядывал ее пристально и молча целую минуту.
Бланш, обезумевшая от ужаса, трепетала под этим испепеляющим и вместе с тем завораживающим, как у змеи, взглядом.
Наконец, уже не в силах ждать дольше и предпочитая самую страшную уверенность невыносимой, постылой тревоге, узница прошептала:
– Во имя Неба, что вам от меня нужно?
– А кто вам сказал, будто мне от вас что-то нужно? – с усмешкой спросил Антид.
– Разве одно ваше появление не доказывает, что мне грозит новая беда?
– Неужели я внушаю вам такой страх?
Бланш опустила голову, ничего не сказав в ответ.
– Вы ненавидите меня всеми силами души, разве нет? – продолжал хозяин Замка Орла.
– Нет, – возразила узница, – во мне нет больше ненависти – одно лишь прощение.
– Прощение?.. – удивился Антид. – То есть?
– Я двадцать лет прожила в полном одиночестве, – продолжала Бланш, – если такое существование можно назвать жизнью. И все это время обращалась сердцем и душой к Богу, моля его принять и то, и другое и очистить. И он дал мне сил и решимости. Дал забыть горькое прошлое и вселил надежду на лучшее будущее. И, главное, он отпустил мне грехи. Поэтому, монсеньор, я вас прощаю.
Антид де Монтегю не ожидал услышать такое.
Он ждал упреков, проклятий, возгласов ярости и отвращения… Скажем больше, он желал увидеть гнев и бессилие своей жертвы. И сейчас ничто не раздражало его больше, чем это ангельское спокойствие и нечеловеческая решимость.
То было его первое поражение – провал одной из частей странной драмы, приведшей его в Игольную башню, – впрочем, ее смысл мы скоро поймем.
А пока с едва сдерживаемым раздражением, которое выдавали дрожь и горечь в его голосе, он сказал:
– Признаться, я совсем не понимаю, чего вы добиваетесь, ломая передо мной комедию, в которую я никогда не поверю.
– Комедию? – удивилась Бланш.
– Ну да, – топнув ногой, продолжал сир де Монтегю. – Неужто вы и в самом деле думали, будто я вам поверю? Нет-нет, сударыня, вы не могли все забыть. И простить все не могли. Слишком много зла я вам сделал, чтобы вы могли вот так просто сменить гнев на милость.
– Зла, что вы мне сделали, – отвечала Бланш, – я больше не помню, да и не хочу вспоминать.
– Быть того не может! По вашим словам, все двадцать лет вы возносили душу к Небу… но что сталось с вашим сердцем?.. Вы все забыли – бросьте! Неужто вы не помните даже имени своего любовника – Тристана де Шан-д’Ивера?
– Тристан… – пробормотала Бланш. – О Боже, Боже мой, зачем вы произнесли это имя? Зачем было поминать его при мне?
– Он любил вас страстно, горячо, этот благородный кавалер, не так ли? – с убийственной насмешкой продолжал Антид. – Любил всеми силами своей нежной души. Да и вы сами любили его без памяти, невзирая на слово, данное другому. Такая любовь не угасает. Годы идут, а огонь не ослабевает. Вы так крепко любили Тристана, что любите его и посейчас! Таким душам, как у вас, не свойственна забывчивость.
В ответ Бланш лишь скорбно вздохнула.
Между тем Антид де Монтегю со все нарастающей обидой продолжал:
– А ведь это было так естественно – все, что когда-то произошло. Разве не был я достойным соперником Тристана де Шан-д’Ивера? Или он был моложе, красивее, благороднее и богаче меня? Почему вы поступили наперекор всему и предпочли его мне? Вы были обещаны мне, это так, что вам до меня! С таким мелкопоместным сеньорчиком, как граф Антид де Монтегю, владетель Замка Орла, слово легко взять обратно, и этим все сказано. Я сразу понял что к чему, уж поверьте. Но мне и в голову не могла прийти крамольная мысль навсегда разлучить Тристана де Шан-д’Ивера и Бланш де Миребель. Я всего лишь испытывал ваши чувства. И оставил себе радость, приятную и подлинную, воссоединить однажды два этих любящих сердца… в лучшем мире.
– В могиле! – подавленно прошептала узница.
– В жизни! – возразил сир де Монтегю.
– Да что вы говорите! – воскликнула Бланш, чувствуя, как у нее голова идет кругом. – Тристан мертв, и это вы его убили!
– Нет, – снова возразил Антид с безжалостно, – Тристан не умер. Убей я Тристана, месть моя была бы неполной и жалкой… Я придумал кое-что получше.
Бланш упала на колени и сложила руки, словно в мольбе. В словах господина Замка Орла она чувствовала некую тайну, мрачную и зловещую.
– Нет, Тристан не умер! – продолжал граф де Монтегю. – Внук убийцы барона де Водри, человек, укравший у меня невесту, стал моим узником… И вот уже двадцать лет льет слезы и терпит муки в каземате замка. Тристан здесь… Тристан рядом с вами!
– Мучитель! – в праведном исступлении воскликнула Бланш. – Вы обманываете меня! Ваши слова – неслыханная ложь, вы все придумали, чтобы вытянуть из меня всю душу!
– Значит, – спросил сир де Монтегю, – вы мне не верите?
– Нет, не верю!
– А если Тристан де Шан-д’Ивер предстанет перед вами прямо сейчас, тогда поверите? Поверите, когда увидите его, связанного по рукам и ногам, беспомощного, с кляпом во рту?.. Когда я скажу, что возвращаю ему девушку, которую я похитил юной, прекрасной и чистой, но возвращаю обесчещенной мною во время ночного кутежа, в обличьи ветхой старухи?.. Поверите, когда я оставлю вас наедине друг с другом в этой башне, которую будет пожирать огонь. Ведь я хочу отметить вашу новую помолвку с небывалой, поистине пламенной радостью и видеть, как Игольная башня обрушится на вас, когда я покину замок. Вы, Бланш де Миребель, поверите мне, если я скажу вам: «Вы умрете, и Тристан де Шан-д’Ивер умрет вместе с вами!»?
Антид де Монтегю смолк, желая услышать, что скажет Бланш.
Бланш не могла произнести в ответ ни слова. В полном отчаянии она думала об Эглантине и ломала руки, силясь подобрать слова в бессмысленной надежде разжалобить своего мучителя, но все слова замирали на ее губах, искривленных от нестерпимой боли.
Между тем звериное сердце Антида де Монтегю колотилось в порыве дикой радости. Месть его наконец свершилась вполне – так, как он мечтал! Он с наслаждением смаковал ее, воображая себе муки своей жертвы… Теперь он был счастлив!
И не стоит уверять нас, что такого не может быть: ибо мы представили вам сущее чудовище. Во имя торжества человечности мы бы и сами хотели, чтобы нас обвинили, и по справедливости, в том, что мы излишне сгущаем краски. Но, к сожалению, примеров тому немало как в прошлом, так и в настоящем. Кто такой Антид де Монтегю в сравнении с Тиберием и Нероном или маркизом де Садом и некоторыми злодеями из числа наших современников?..
В это самое время на лестнице послышались шаги.
– Слышите?.. – проговорил владетель Замка Орла. – Слышите? Неужто у вас не трепещет сердце? Неужто огонь любви и нажеды не жжет вам душу? Вот он идет, ваш жених, ваш долгожданный суженый… Тристан де Шан-д’Ивер собственной персоной.
– Вы не ошиблись, Антид де Монтегю, – ответил ему с порога низкий голос. – Это жених… суженый… мститель.
Сир де Монтегю вздрогнул и резко обернулся.
Прямо перед ним, со шпагами в руках, стояли барон Тристан и Рауль.
Бланш, внезапно оживившись, с радостным криком бросилась к своим спасителям, которых ей послал сам Бог.
– Кто вы такой? – спросил Антид де Монтегю, кладя руку на эфес шпаги.
– Тот, кого вы ждали, – отвечал Тристан, – барон де Шан-д’Ивер.
– Нет… – сдаленным голосом пробормотал Антид, – нет, нет! Не может быть!
– За двадцать лет мытарств я изменился, верно? Но приглядитесь ко мне внимательнее, сир де Монтегю, и признаете.
– Тогда, – вскричал Антид де Монтегю, кинувшись на Тристана со шпагой наголо, – тогда вы умрете!..
Но в следующий миг он наткнулся на острия шпаг отца и сына – и был принужден попятиться.
– Антид де Монтегю, – продолжал Тристан, – час возмездия для вас слишком запоздал, но наконец ваша судьба решилась. Дьявол бросает вас, а Господь осуждает… Теперь вы наш пленник.
– А не рано ли! – взревел Антид в неистовом порыве ярости. – Сперва возьмите меня, если сможете.
– Благородные люди не скрещивают клинки с разбойниками, – возразил барон, отразив выпады, которые сделал сеньор де Монтегю, и, ограничившись только этим, не стал нападать на него в ответ. Вместо этого он лишь воскликнул: – Горцы, сюда!
В комнату тотчас ворвались пять или шесть повстанцев. Они обступили Антида де Монтегю – и через минуту он был обезоружен и крепко связан.
Покончив с этим, горцы по сигналу Рауля вышли.
– Где Эглантина? – чуть слышно обратился к Бланш молодой человек.
– Здесь, – отвечала та.
– Антид де Монтегю видел ее?
– Нет.
– Выходит, она ничего не знает?
– Ничего.
– Ну и слава богу! – прошептал Рауль. – И пусть она никогда не узнает, что этот презренный негодяй ее отец.
– Вот видите, сеньор де Монтегю, – продолжал меж тем Тристан, покуда Антид весь кипел от злобы, пытаясь высвободиться из пут, – вот видите, я был прав, когда сказал, что вас осудил сам Господь. Вы в нашей власти – связаны по рукам и ногам, и, если я до сих пор не убил вас, как мог бы, то лишь потому, что не мне принадлежит право вас судить, обвинять и приговаривать к наказанию, против которого моя шпага, пронзи она вашу грудь, ровным счетом ничто!
– Возможно, роли еще поменяются, – возразил Антид. – Мое исчезновение вряд ли останется незамеченным, верные мне люди освободят меня, и уж тогда горе вам!
– Неужели вы настолько безрассудны, что все еще на это надеетесь? Замок Орла принадлежит отныне не вам, Антид де Монтегю, а горцам.
– Наглая ложь!
– Подойдите к окну и сами взгляните.
Пленник, которому путы все же позволяли двигаться, кое-как доковылял до узкого оконного проема.
Оттуда открывалось жуткое для графа зрелище.
В редком свете факелов, которые велел зажечь капитан, он увидел, что бой и вы самом деле уже закончился. Серые, зажатые с двух сторон отрядами Лакюзона и Варроза, бросились врассыпную, оставляя эспланаду, заваленную телами убитых. Солдаты бежали кто куда… Они бросались в ров прямо с крепостных стен и лезли вниз, отчаянно цепляясь за каменные выступы.
Лишь небольшой горстке из них, числом двадцать пять – тридцать человек, удалось с кровью пробиться сквозь ряды победителей и улизнуть по спущенным мостам.
Но горцы, с высоты эспланады и крепостных стен, добивали их из мушкетоа, как охотники зайцев в чистом поле.
Антид де Монтегю понял, что для него все кончено – раз и навсегда, и никакой надежды не осталось. Вот когда его обуял поистине дикий ужас: у него застучасли зубы, на лбу выступил холодный пот, все тело пронзила дрожь.
Будучи совсем недавно свирепым тигром, владетель Замка Орла вмиг превратился в жалкую, трусливую гиену.
– Ах, – воскликнул Тристан де Шан-д’Ивер, – теперь вы дрожите и вам страшно. Вы, недавно такой спесивый, такой грозный, сейчас согнулись под бременем раскаяния и страха, вы, сеньор изменник, отданный в наши руки карающим Господом!.. Вы взошли на высшую ступень злодейства, Антид де Монтегю! Вы прошли через убийство, надругательство, поджог, насилие и предательство!.. Оглянитесь вокруг и посмотрите, до каких высот бесчестья вы вознеслись!.. Вы убили отца этой благородной и несчастной женщины, а ей уготовили постыдную пытку, навязав свою гнусную страсть… Плодом вашей отвратительной старсти был младенец – девочка, которую вы отдали человеку, силой привезенному к вам – с завязанными глазами и с пистолетом у виска… Вы убили этого человека на площади Людовика XI, чтобы похоронить вместе с ним и свою тайну, ибо вы боялись, что рано или поздно вас разоблачат… Однако перед смертью Пьер Прост успел все рассказать капитану Лакюзону, он отдал ему таинственную вещицу, которую Бланш де Миребель успела передать врачу обездоленных, чтобы однажды тайна открылась, – тайна младенца, рожденного в ночь на 17 января 1620 года.
– Эта девочка умерла! – пробормотал сеньор де Монтегю.
– Эта девочка выжила! – возразил Тристан. – Она жива и знает вас. Она здесь, рядом со своей матерью. Ваша дочь – Эглантина!
– Она моя дочь?.. – в изумлении переспросил Антид де Монтегю.
– Вы позволили себе усомниться, не так ли? – продолжал барон. – В самом деле, кто может поверить, что очаровательная девушка с нежным, чистым взором, этот искренний, невинный ангел – дитя презренного негодяя, подлого хозяина Замка Орла? И тем не менее это правда. Иногда по воле Господа даже на отравленной нечистотами земле вырастают самые прекрасные, самые благоуханные цветы.
– Ах, – прошептал Антид, потрясенный до глубины души, – вот, стало быть, откуда этот странный голос, который взывал к ней в моем сердце… Вот, значит, почему я без гнева внимал ее надменным речам и упрекам, когда она, будучи у меня в руках, без всякого страха угрожала мне… Во мне говорил голос крови: это же моя дочь!.. Моя дочь… я нашел ее, и в такой-то час! О, Бог справедлив!.. Как же он справедлив!
– Да, Бог справедлив, – подхватил Тристан, – и не позволит, чтобы страшные признания омрачили чистые грезы нежной девушки. Эглантине никогда не придется краснеть за своего отца, потому что она никогда его не узнает. Вы хотели навсегда скрыть тайну ее рождения? Что ж, вам это удалось, сеньор де Монтегю – эта тайна умрет вместе с вами. Для людей Эглантина так и останется дочерью врача обездоленных и будет носить имя своего приемного отца до того самого дня, когда станет баронессой де Шан-д’Ивер.
Мертвенно-бледное лицо Антида де Монтегю побагровело, глаза налились кровью.
– Что вы сказали?.. – сдавленным голосом проговорил он. – Что вы сказали?
– Эглантина любит моего сына, а мой сын любит Эглантину.
– Вашего сына?! Он же сгорел в замке Шан-д’Иверов!.. И ваш род должен был оборваться на вас.
– Моего сына спасли из огня, и он стал достойным носителем великого имени, которое отныне возродит… Вот он, сеньор де Монтегю, посморите на него, как вы смотрите на его отца, и увидите, что у Рауля и Тристана не только одна душа, но и одно лицо.
– Ах, – вскричал граф, – не может быть!.. Не может быть! Шан-д’Иверы и Монтегю не могут породниться!.. Кровь Водри и Монтегю кипит от гнева!..
– Кровье Шан-д’Иверов очистит каплю грязной крови, что течет в венах Эглантины.
– Никогда… никогда! Уж лучше пусть она умрет. Я закричу, что она моя дочь и что ей пристало ненавидеть вас всех!
– Вы будете молчать, сеньор де Монтегю!
– Ни за что!
– Будете. Так надо. Я требую!
– Лучше убейте меня, но молчать я не стану.
Рауль сделал знак горцам, охранявшим лестницу.
Двое из них заткнули Антиду де Монтегю рот кляпом, и он, невнятно крича, принялся отчаянно вырываться из их рук, потом упал на пол и забился в страшных судорогах. Затем, мало-помалу презренный негодяй присмирел – и застыл в неподвижности, словно мертвый.
Однако, судя по прерывистому дыханию и злобно сверкавшим глазам, было ясно, что он жив.
Тристан де Шан-д’Ивер наступил ему на грудь.
– Бланш, – сказал он, – приведите Эглантину. Пришло время успокоить бедняжку.
Тут кто-то из горцев крикнул:
– Полковник с капитаном!
В комнату вошли Варроз и Лакюзон.
Тристан указал им на Антида де Монтегю, снова забившегося в ярости у его ног, и прибавил:
– Как видите, справедливость восторжествовала.
– Да, – отвечал Лакюзон, – и, клянусь, дело на этом не закончится, оно будет доведено до полного конца и послужит ярким и грозным примером для будущих предателей!
Потом он спрсил:
– А где Эглантина?
– Здесь, – ответил барон.
В самом деле, девушка, бледная как полотно, но очень счастливая, появилась в узком проеме двери на винтовую лестницу вместе с матерью, которая поддерживала ее, приобняв.
Девушка в порыве радости и сестринской нежности бросилась капитану на шею, потом склонила голову перед Раулем, и, когда он поцеловал ее в лоб, ее бледность вмиг исчезла.
– Дитя мое, – проговорил тогда Тристан дрожащим от волнения голосом, – ваша мать и я – мы оба согласны благословить ваш союз с моим сыном, Раулем де Шан-д’Ивером… Дочь врача обездоленных, двоюродная сестра капитана Лакюзона сделает честь семье, которая ее примет, сколь бы высоко ни было положение этой семьи.
И Тристан с Бланш, эти два мученика, наконец-то спасенные, возложили руки на склоненные головы Рауля и Эглантины.
Владетель Замка Орла, в отчаянии наблюдавший эту сцену, ревел, точно демон, поверженный мечом архангела Рафаила.
Тут Тристан как будто что-то вспомнил.
Он быстро огляделся кругом и заметил:
– Здесь не хватает еще кого-то…
– Кого же? – глухим голосом спросил капитан.
– Преподобного Маркиза.
Лакюзон отвернулся и смахнул со щеки слезу.
– Маркиз ждет нас в Гангоновой пещере, – сказал он.
Затем, отведя барона в сторонку, он шепнул ему:
– Маркиз мертв.
– Мертв? – переспросил потрясенный Тристан.
– Да, мертв, но пока никому ни слова. Пусть его смерть до поры останется в тайне. Такова последняя воля героя, которого больше нет…
Вслед за печальной новостью, которую Лакюзон сообщил барону, на несколько мгновений воцарилась тишина. Странное молчание капитана и барона горцы, свидетели происходящего, могли толковать каждый по-своему. Наконец их предводитель нарушил молчание.
– Рауль, – сказал он, обращаясь к молодому человеку, – возьмите себе в сопровождение пару сотен человек и отведите вашу невесту с ее матушкой в Гангонову пещеру.
– А вы разве не с нами, капитан?
– Я вас нагоню, чуть погодя.
– Но что еще здесь делать?
– Осталось совершить великий акт возмездия.
– Какой еще акт?
– Скоро все узнаете, а пока не спрашивайте… Ступайте же, Рауль, ступайте, брат…
– Людям из сопровождения взять с собой факелы?
– Факелы?.. – со зловещей улыбкой проговорил Лакюзон. – Это ни к чему. Они вам не понадобятся.
– Так ведь темно, хоть глаз выколи.
– Через несколько минут здесь будет светло как днем, обещаю.
Рауль удивленно воззрился на капитана.
По выражению его лица молодой человек, конечно, угадал скрытый смысл услышанного, потому что не стал больше ни о чем расспрашивать. Он молча вышел из комнаты и вскоре вместе с Бланш де Миребель и Эглантиной покинул башню, а потом и замок.
Лакюзон, Варроз и несколько человек горцев остались наедине с Антидом де Монтегю – связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, он неподвижно лежал на полу.
Вошел Железная Нога.
– Ну что? – спросил Лакюзон.
– Все готово, капитан, – ответил помощник.
– Все приказы исполнены?
– Все.
– Людей расставили по местам?
– Так точно, капитан.
– Отлично.
Лакюзон подал знак.
Горцы, несколько человек, подняли бывшего хозяина Замка Орла и, не трогая ни пут, которыми были стянуты его руки, ни кляпа, которым ему заткнули рот, развязали веревки только у него на ногах, чтобы он мог свободно идти.
Антида де Монтегю поставили между капитаном и полковником, а впереди и позади него встало по горцу, и, повинуясь тычку в спину, он под конвоем вышел из башни.
На эспланаде и земляной насыпи выстроились ровными рядами почти все горцы. Они встретили пленника криками ненависти. Было видно, как тут и там внутри замковых построек снуют люди – одни размахивают горящими факелами, а другие катят бочонки, стянутые железными обручами.
Лакюзон дал сигнал к отходу.
Повстанческое войско тотчас пришло в движение и плотными рядами покинуло эспланаду, после чего, перебравшись через мосты, партизаны взобрались на ближайшие вершины.
Капитан велел подвести Антида де Монтегю к выступу скалы, нависавшему над пропастью. Железная Нога с парой горцев удерживали его за концы веревок, которые стягивали ему кисти рук и локти.
Капитан поднес пальцы к губам – и раздался пронзительный свист, так часто вселявший ужас в души французов, шведов и серых.
В то же мгновение вокруг замковых построек заклубились, точно пар, облака белесого дыма, а через несколько мгновений дым сгустился и вскоре повалил из выбитых дверей и окон – замок, весь целиком, тотчас заволокло красновато-оранжевой дымкой, похожей на сернистые тучи, что вырываются из жерл Везувия и Этны во время мощных извержений.
Прошла еще пара минут – и теперь уже туман как будто разлился повсюду, а вслед за тем из него вырвались громадные, раздвоенные языки и гребни ярко-оранжевого пламени, взметнувшегося до самых крыш.
Первые отблески зарождавшегося пожара озарили Илайскую долину мерцающим светом, напоминавшим северное сияние.
Громоподобный гвалт, в который слились возгласы радости, разом вырвавшиеся из сотен глоток, приветствовал это бедствие, ставшее символом высшей кары.
А пленник лишь слабо стонал – кляп заглушал его надрывные крики.
– Антид де Монтегю, – обратился к нему Лакюзон, – вы подожгли стены замка де Шан-д’Иверов, и вот теперь мы подожгли стены Замка Орла. Возмездие свершилось…
Презренный негодяй, видя только в смерти избавление от нестерпимых мук, терзавших его, напряг все силы и попытлася было броситься к краю пропасти, зиявшей у него перед глазами. Но Железная Нога с подручными живо его усмирил, заставив встать на колени.
– Граф де Монтегю, – продолжал капитан, – даже не пытайтесь умереть так скоро! Вы будете ждать той минуты, когда вас передадут в руки палача, который ждет вас в Доле… Лучше посмотрите, сеньор, как пылает Игольная башня! Я же обещал Раулю де Шан-д’Иверу, Бланш де Миребель и Эглантине осветить им путь ярким светочем! И, как видите, слов на ветер не бросаю.
Потом, после короткой паузы, во время которой Антид извивался и дергался в своих путах, точно змея на раскаленных угольях, Лакюзон заговорил снова:
– Вот-вот, пускай же рухнет эта твердыня, дабы не случилось ей увековечить ни имя изменника, ни память о нем! Завтра даже случайный путник будет тщетно искать глазами стены, венчающие эту скалу, где еще недавно стоял Замок Орла…
Между тем замок уже превратился в один гигантский костер и гора, увенчанная им, походила на громадный вулкан во время сильнейшего извержения. Небо от горизонта до горизонта будто окрасилось кровью. Еще никогда прежде испуганным взорам людей не открывалось столь ужасающее зрелище!
И вдруг картина разом изменилась.
Небо словно разверзлось, прожженное ураганом пламени, взметнувшегося ослепительно сверкающими фонтанами с земли. Тут же раздался грохот, в сравнении с которым громовые раскаты или пушечные выстрелы показались бы жалкими ударами.
Вслед за тем непроглядная тьма озарилась ярким, искрящимся светом.
Огонь подобрался к бочонкам с порохом, хранившимся в арсенале Антида де Монтегю, и тем, что горцы заложили под своды замковых построек.
От Замка Орла не осталось и следа!..
Капитан отдал приказ – и войско неспешно и молча двинулось вниз к долине, уводя с собой пленника, окруженного железным кольцом из люжины горцев с обнаженными шпагами.
Лакюзон с Варрозом, оставшись вдвоем, замыкали шествие.
Им обоим предстояло исполнить скорбный и священный долг…
Им предстояло исполнить последнюю волю умирающего Маркиза…
Им предстояло выкопать в Шан-Сарразене могилу, где должны были упокоиться останки легендарного священника-воина…
И с этой печальной задачей им надлежало справиться вдвоем, памятуя о том, что напоследок прошептали слабеющие уста мученика свободы: «И пусть могила моя сохранит тайну красной мантии…»
Через час после того, как померкли последние отсветы пожара в замке Орла и вновь воцарилась кромешная тьма, два человека опустились на землю рядом с мертвым телом под естественным сводом маленькой пещеры, расположенной при входе в Илайскую долину.
Это были Варроз и Лакюзон. Они сидели у тела преподобного Маркиза.
По испещренным морщинами щекам старика и обветренному лицу молодого человекаа ручьями текли слезы.
Полковник сжимал в дрожащих от волнения ладонях холодную руку священника-воина, и губы его шептали бессвязные слова, исходившие из его истерзанной души.
– Вот так… – твердил он, – вот так, ты первым ушел, старый мой, дорогой друг, храбрый и верный товарищ юности моей и зрелости… Господь призвал тебя к себе… Я не вправе жаловаться, но почему он оставил меня на этой земле, если тебя здесь больше нет… Мы выросли вместе с тобой и по жизни шли бок о бок… Вместе сражались под одним знаменем и за одно дело – так почему же мы не умерли вместе? О брат мой, о друг мой, я прощаю тебя за то, что ты опередил меня, только потому, что знаю – скоро мы с тобой снова будем вместе…
И Варроз прижал холодную, безжизненную руку друга к своему лбу, к губам и сердцу.
Лакюзон тоже страдал глубоко, хоть и безмолвно. Он не проронил ни одной жалобы и даже не думал утирать слез; его взгляд, безжизненный, пустой, был устремлен в сторону окутанной мраком долины, однако разглядеть что-либо в этом мраке он даже не пытался.
В мыслях своих Лакюзон жалел не просто человека, а предводителя сторонников великого дела. Он осознавал всю серьезность утраты, которую понесла их Родина, и страдал не просто как друг, но и как гражданин Франш-Конте.
В троице предводителей горских повстанцев преподобного Маркиза не случайно называли Святым Духом. Маркиз был душой и мозгом войны за независимость, и Лакюзон это прекрасно понимал. Никто лучше Маркиза не мог придумать общий план военной операции, продумав его вместе с тем до мелочей. Даже сам капитан не обладал такой широтой взглядов и глубиной суждений. В этом Маркиз мог стать соперником самому Ришелье. Благочестие же и сила духа окружали священника-война ореолом святости и привлекали к нему простых людей.
Что же теперь станется с повстанческим движением горцев, которое вел за собой, словно добрый пастырь, преподобный Маркиз? Кем заменить его, если враг снова вторгнется на свободные земли Франш-Конте?..
Капитан задавал себе эти вопросы, а ответов на них, к своему глубочайшему сожалению, не находил… Он поник головой под бременем тяжкой ответственности, которая отныне целиком ложилась на него одного, потому что Варроз, как нам известно, был скорее исполнительной рукой, чем разумом, готовым дать нужный совет…
Внезапное появление во мраке человеческой фигуры вывело капитана из тяжелых раздумий, а Варроза из состояния горького отчаяния.
– Стой! Кто идет? – спросил Лакюзон, хватаясь за пистолеты.
– Это я, капитан, я, Гарба, – послышался в ответ голос ординарца.
– Нашел, что нужно?
– Да, капитан, даже больше того. Вы просили носилки, а я раздобыл телегу.
– Где?
– На илайской мельнице.
– Ты там никого не переполошил?
– Нет, капитан. Телега стояла под навесом… я умыкнул ее без лишнего шума. Завтра верну обратно.
– Где же ты ее оставил?
– На дороге, в двух шагах отсюда.
– Ладно…
Лакюзон и Гарба завернули тело священника в плащ и в сопровождении Варроза, все рыдавшего, как мальчишка, понесли к телеге, на которую его и возложили. Ординарец взялся за оглобли, а капитан с полковником встали по бокам телеги, и этот необычное траурное шествие двинулось в сторону Шан-Сарразена.
«За Мексской башней, – согласно господину Луи Жуссерандо, у которого мы позаимствовали этот отрывок, – в одном лье от Оржеле и чуть вверх по течению от Пильского моста, река Эн, несущая свои воды меж двух горных вершин, делает излучину, образуя на правом берегу полуостров. По очень древней легенде, в эпоху сарацинского вторжения, при Карле Мартелле[76], сарацины стояли там лагерем».
В легенду эту можно поверить хотя бы потому, что полуостров похож на настоящую крепость, огражденную со стороны долины остроконечными скалами, громоздящимися на отвесном горном склоне, что спускается прямо к реке. Даже сегодня там различимы руины старинных крепостных сооружений, отделявших полуостров от долины и защищавших подходы к ней с этой стороны. Как бы то ни было, местные крестьяне спокон веку называли это место Шан-Сарразеном[77], и такое название сохранилось до наших дней.
Шан-Сарразен издревле слыл проклятым местом в здешних горах. Оно и понятно: прошли века, а ни один человек так и не осмеливался ступить в его пределы, не говоря уже о том, чтобы проникнуть в глубь кустарниковых зарослей, которыми сплошь поросло это место. То, как поговаривали, было пристанище сатаны, место сбора всех злых духов и всех местных чудищ.
В то время, когда происходили события нашей истории, суеверия в душах жителей Франш-Конте еще были крепки. Страх, который внушал Шан-Сарразен, откуда, по слухам, Князь тьмы еженощно выпускал легионы призраков, не давал людям даже подступиться к этому месту. И кто знает, быть может, эти суеверные страхи и побудили Маркиза назначить Шан-Сарразен местом своего упокоения? Может, он заблаговременно знал, что никто не отважится искать в таком месте тайну красной мантии?..
Было около двух часов ночи, когда Лакюзон, Вароз и Гарба двинулись в путь с бесценными останками, вверенными их заботам.
Стояла глубокая ночь, небо было черное-черное, и только время от времени луна показывалась на короткие мгновения из-за туч, а потом снова скрывалась за облачной завесой.
Вынужденный скрыть смерть Маркиза от горцев, капитан отказался от сопровождения, однако к завтрашнему дню нужно было придумать благовидный предлог, чтобы объяснить отсутствие священника. Лакюзон уже подумывал, не пустить ли слух, будто Маркиз отбыл ко французскому двору, чтобы обсудить условия мира с самим королем.
Хотя такой предлог может показаться нашим читателям несколько наивным, добрые, простодушные франш-контийцы поверили бы этому запросто и безусловно.
От подножия скал, на которых громоздился Замок Орла, до Шан-Сарразена было не больше трех лье, к тому же капитан, чтобы избежать случайных встреч, решил идти по прямой – по открытому полю, минуя большую дорогу и проторенные тропы.
Так, наша троица оставила позади деревушку Терия и сделала крюк, обойдя другую – Птит-Шьет; потом друзья подошли полями к склонам Франейской долины и двинулись дальше вдоль них, оставив вверху Шатель-де-Жукс.
Пока все шло благополучно, однако впереди их ожидало серьезное препятствие: наших ночных путников отделяла от Шан-Сарразена река, быстрая и глубокая. Как же переправиться через нее?..
Варроз предложил взять вправо – выбраться на сен-клодскую дорогу и переправиться через Эн по Пильскому мосту. В этот неурочный час вряд ли кто-то повстречался им в пути.
Лакюзон решил согласиться с полковником – и трое друзей выкатили телегу на сен-клодскую дорогу.
Они уже были почти в четверти лье от Пильского моста, как вдруг Гарба остановился.
– Что случилось? – спросил Лакюзон.
– Вы ничего не слышите, капитан? – прошептал ординарец.
Лакюзон прислушался.
– Нет, – сказал он вслед за тем.
– Напрягите же слух…
Лакюзон опустился на колени и припал ухом к земле, на дороге.
Он расслышал быстрые шаги, пока еще далекие, то довольно четкие.
– Верно, – отозвался он, поднявшись, – за нами идут какие-то люди.
– И их много… – прибавил Гарба, прислушиваясь в свою очередь, – по меньшей мере человек двадцать пять – тридцать.
– И… – продолжал Лакюзон, – они не идут, а бегут.
– Значит, за нами гонятся, – заметил Варроз.
– Точно. Но кто? Не может быть, чтобы кто-то знал или догадывался, кто мы такие.
– Сдается мне, капитан, – предположил Гарба, – это та самая шайка серых, которых мы выкурили из Замка Орла… вот они и кинулись, куда глаза глядят.
– Может, и так. Надо бы от них оторваться – давайте поспешим! И, как только перевалим через мост, свернем с дороги.
Гарба собрался с силами и еще быстрее потащил телегу вверх по довольно крутому склону, вершину которого венчал Пильский мост.
Там ординарец, запыхавшись, на миг остановился.
Между тем топот приближался. Очевидно, это была организованная погоня, и беглецы, пока взбирались вверх по склону, потеряли много времени.
– Нас выдал скрип телеги… – прошептал Гарба.
– Что же делать? – спросил Варроз.
– Первым делом надо бросить телегу – она слишком тяжелая и только мешате нам. А тело захватим с собой и спрячемся в лесу вон там, слева от дороги, – может, нас не заметят, – ответил капитан.
С этими словами он взвалил тело Маркиза себе на плечи и бросился в лес, покрывавший горный склон до самой реки. Варроз последовал за ним.
А Гарба, прежде чем побежать за товарищами, толкнул телегу вперед. Она с огромной скоростью скатилась вниз и разбилась о парапет моста.
Не прошло и пяти минут, как трое наших друзей, затаившихся за скалой на краю дороги, увидели, что мимо них стремглав пронеслись преследователи, принявшие их, должно быть, за припозднившихся крестьян, которых можно запросто обобрать и неплохо поживиться.
Это и правда были серые, числом тридцать человек.
Выскочив на Пильский мост, они ненадолго остановились возле разбитой телеги. Но после короткой заминки кинулись все так же бегом дальше. И скоро перевалили через мост.
– Влево!.. Только влево! – сказал Лакюзон. – И поживей! Здесь больше нельзя оставаться – слишком опасно. Эти головорезы того и гляди вернутся и тогда уж точно нас найдут. Давайте к реке! Попробуем отыскать брод или переправимся через реку вплавь. А там до места уже рукой подать… Когда покончим с нашим скорбным делом, ради которого мы оказались здесь, скоротаем остаток ночи в гроте там же, у реки, чуть ниже Шан-Сарразена…
Трое друзей проскользнули в заросли, стараясь не шуметь: они осторожно раздвигали ветки, прокладывая себе узкий проход скозь молодые деревца и колючие кустарники.
Они уже подбирались к лесной опушке, и до реки им оставалось преодолеть открытое пространство шириной сто пятьдесят – двести футов. Прямо напротив виднелся полуостров, где и располагался Шан-Сарразен, возвышавшийся на отвесном склоне каменной громады, похожей на те, что обрамляют берега Ла-Манша от Гавра до Трепора, захватывая Этрета, Фекан и Дьепп.
По ту сторону реки их ждало спасение.
Выбравшись на лесную опушку, трое беглецов остановились, чтобы попытаться предугадать действия серых, гнавшихся за ними по пятам.
Между тем серые, опрометью взобравшись на вершину холма, тоже остановились и стали прислушиваться. Удивленные тем, что впереди на дороге ничего не слышно, они повернули обратно и разбежались в разные стороны, как гончие псы в поисках потерянного следа. Походя то один из них, то другой припадал ухом к земле, держась все время настороже.
Лакюзон, Варроз и Гарбо, верно, выдали себя, шумя, пусть едва слышно, пока продирались через заросли. Одним словом, серые смекнули, что беглецы, за которыми они гнались, могли укрыться только в лесу слева от дороги. И тогда преследователям пришло в голову разделиться на три группы: одни остались на дороге, откуда просматривалась вся долина, другие кинулись в лес, а третьи наконец принялись шарить вдоль берега реки.
– Нам больше ничего не остается, – сказал тогда Лакюзон, – кроме как не колеблясь проскочить через открытое поле и переплыть реку. Она широкая и глубокая, и если они никудышные пловцы, то не посмеют преследовать нас дальше. Так что давайте не мешкая и без оглядки вон к тем скалам. Думаю, про грот они ничего не знают, а если и наткунтся на него, что ж, тогда нам придется за себя постоять. У вас есть с собой порох и пули, полковник?
– Да, – ответил Варроз.
– А у тебя, Гарба?
– И у меня, капитан.
– Хорошо, надо засунуть пороховницы за галуны шляп, а пистолеты повесим себе на шею – и бегом марш!..
Лакюзон подал им пример. Не выпуская из рук тело Маркиза, он первым выскочил на открытое пространство – двое друзей тут же последовали за ним, – и, в несколько рывков добежав до реки, мигом нырнул в воду.
Шум и топот во время этой перебежки привлекли внимание серых, и те стали громко окликать друг друга и кричать:
– Вот они!.. Вот они!
В то же время они открыли огонь из мушкетов, стараясь целиться в сторону беглецов, но паля наудачу.
Ни одна пуля, к счастью, не попала в цель, хотя вспышки разрывавшихся патронов тут же осветили троих героев, изо всех сил боровшихся с течением реки.
Вслед за первым залпом грянул второй, уже более точный, и пули угодили в воду, взметнув фонтанчики брызг совсем рядом с Лакюзоном.
– Смелей! – бросил тот. – Еще пара гребков, и мы на другом берегу…
И трое пловцов принялись грести с удвоенной силой.
Раздался одиночный выстрел.
– Ах! – вскрикнул Варроз.
Вслед за тем старик, повернувшись кругом, хлопнул обеими руками по воде.
– Что с вами? – живо откликнулся Лакюзон.
– Держи меня, – пробормотал Варроз, – держи… кажется, меня зацепило.
Пуля попала ему в левое плечо.
Гарба, державшийся справа от полковника, тут же подплыл к нему.
– Обопритесь на меня, – сказал он, – мы дотянем…
Серые услышали крик полковника.
Трое из них кинулись в воду, и остальные наверняка последовали бы за ними, но кто-то из оставшихся на берегу, должно быть, главарь, остановил их, сказав:
– Зачем? Бежим к мосту, а после обшарим другой берег. У них раненый – куда им деваться…
И серые живо удалились.
Тем временем беглецы перебрались на другой берег.
– Вам больно, полковник? – спросил Лакюзон.
– Не то слово! Пуля застряла в плече.
– Передохнем немного.
– Нет-нет, мне хватит сил дотянуть до грота. Идем…
– Сперва надо избавиться от головорезов, которые дышат нам в затылок, а то они наведут на нас остальных… Так что, пока их мало, справимся с ними запросто.
– Ладно, – согласился Варроз, вынимая шпагу.
Лакюзон уложил тело Пьера Маркиза на землю и спрятался за ивой. Полковник и Гарба сделали то же самое… и не успели серые выбраться из воды, как наши друзья разом набросились на них.
Трое головорезов тут же рухнули наземь – и больше не встали. Двое из них были убиты, а третий – смертельно ранен.
– Теперь, полковник, – продолжал Лакюзон, – в грот, да поскорей!
XXXII. Грот
Варроз, едва держась на ногах, собрался с духом и оперся на Гарба, пока Лакюзон взваливал себе на плечи свой груз, и, продираясь сквозь мрак, они втроем двинулись к скалам, где располагался грот.
Покуда они вот так отступали, серые переправились через реку по Пильскому мосту и бросились дальше вдоль берега.
Подойдя к тому месту, где думали встретить своих товарищей, они принялись их звать.
И в ответ услышали стон.
Пошарив впотьмах, они наткнулись на двоих убитых, а потом на третьего – он, приподнявшись из последних сил, прошептал:
– Варроз… это Варроз…
– Что ты сказал? – воскликнул главарь. – С ними Варроз?
– Да.
– А ты почем знаешь?
– Они назвали его полковником, а еще помянули какой-то грот…
С этими словами серый повалился навзничь – и отдал душу дьяволу.
– Этого просто быть не может, – продолжал меж тем главарь. – Как Варроз мог оказаться здесь, да еще в такой час, да без охраны? И про какой такой грот они говорили?..
– Ну да, – заметил кто-то из его подручных, – грот действительно есть, я знаю. Он дальше, в скалах, под Шан-Сарразеном… лакюзоновы коники там часто прячутся.
– Но тогда… – спохватился главарь, напряженно шевеля мозгами, – тогда, ежели один из них Варроз, двое других наверняка Лакюзон собственной персоной и Маркиз… А коли так, нам здорово подфартило! Один из них ранен… их трое, а нас двадцать семь… мы сладим с ними в два счета. Но сперва поищем грот.
И серые тоже бросились к скалам.
Грот, где Варроз, Лакюзон и Гарба думали укрыться, – в Юрских горах он и по сей день известен как Варрозова пещера – располагался в семидесяти-восьмидесяти футах над рекой, вровень с серединой скалы, на которой стоял Шан-Сарразен. Добраться туда можно было по довольно крутой тропинке, едва проторенной козами да пастухами, к тому же местами она пролегала сквозь заросли кустарника, а местами была завалена камнями, обвалившимися сверху.
Вход в грот был узкий и низкий – от силы пятнадцать или двадцать футов в ширину. Он вел в высокую и просторную сводчатую залу, за которой располагался узкий проход во вторую пещеру, тупиковую.
По слухам, когда-то в скале был проход и вел он прямиком в Шан-Сарразен. Но громадная каменная глыба, оторвавшаяся от свода, – сдвинуть ее с места не смогла бы и сотня человек, реши они разом взяться за дело, – напрочь завалила этот проход, если, конечно, он там был на самом деле.
Даже днем, когда все видно, как на ладони, и ничто не мешает подъему, было трудно, скажем прямо, добраться до грота. А посему судите сами, каково пришлось трем нашим друзьям, тем более что один из них нес на плечах тяжесть, а другой был ранен и страдал от невыносимой боли.
Однако, как верно подмечено, твердая воля способна и горы свернуть – и Лакюзон, Варроз и Гарба добрались-таки до заветного грота, ни единым звуком не выдав себя серым, которые шли за ними по пятам.
Что верно, то верно, горцы из повстанческих отрядов не раз прятались ночами в обеих сводчатых камерах грота. Они оставили там кучу соломы. Горба собрал эту солому и соорудил из нее некое подобие ложа, чтобы уложить Варроза.
– Ну как, полковник, вам лучше? – спросил Лакюзон.
– Нет, сынок, страдания мои безмерны, я потерял много крови, и силы оставляют меня… я уже не жилец.
– Во имя неба, полковник, не говорите так!
– Отчего же, коли так оно и есть. Я просил Бога соединить меня с Маркизом, и он, похоже, внял моей мольбе, так что, наверно, придется тебе, бедный мой Жан-Клод, похоронить нас обоих, священника и меня, в одной могиле. Только вот хотел я умереть как солдат, в честном бою, а не в стычке с разбойниками, затравленный, как лис.
– Вы огорчаете меня, полковник. Не смейте думать о смерти! Вы будете жить.
– А я думаю иначе, сынок. Будь сейчас светло как днем, ты бы сам увидел: кровь льет из меня ручьем…
– Мы остановим ее.
– Как?
– Я чем-нибудь зажму вашу рану, перебинтую…
– К чему все это?
Не обращая внимания на полное безразличие Варроза к собственной жизни, капитан оторвал несколько клочьев от своей одежды и как мог зажал страшную рану старика.
Но пуля, раздробив ему плечо, как видно, пробила и артерию – и кровотечение, хоть его и удавалось остановить ненадолго, возобновлялось опять, и повязки снова и снова быстро пропитывались кровью.
Лакюзон, потеряв всякую надежду, в отчаянии уронил голову на грудь и прошептал:
– Боже, сжалься же над нами!
– Как видишь, надежда уходит, бедный мой сын, – проговорил Варроз, – и жить мне осталось до тех пор, пока из дряхлой моей плоти не вытекут последние капли крови. А после, когда вены мои иссохнут, я вверю свою душу Богу, милосердному и грозному, ибо только он один решает исход боя, а я всегда старался служить ему верой и правдой, как добрый христианин… Надеюсь, он откроет мне врата рая своего без лишних вопросов… Я верю… Да и потом, преподобный Маркиз уже там, наверху, по правую руку от небесного престола… уж он-то, верно, замолвит за меня слово, не оставит одного… Ведь сам понимаешь, негоже полковнику Варрозу, Варрозу Франш-Контийскому, идти в ад, чтобы снова встретить этих шведов и серых, а вдобавок Антида де Монтегю, ведь скоро и он будет там… Нет-нет, этому не бывать!.. Так что сделай, как я, сынок, успокой свою душу… Преподобный умер, и я умру, а придет срок, может, очень скоро, умрешь и ты.
Лакюзон плакал.
Он стоял на коленях возле полковника, и губы его едва слышно бормотали:
– Сразу двое… двое за одну ночь. О Господи, за что ты наказываешь нас так жестоко и так поспешно!..
Между тем Варроз продолжал:
– Мне уже не больно… плечо немеет, и рану я больше не чувствую. Только вот спать хочется… я посплю. И это будет последний мой сон, сынок.
– Отец мой… – воскликнул капитан исполненным муки голосом, – отец мой, благословите же меня!
– Ляг рядом со мной на солому и положи мою правую руку себе на лоб. Я хочу так уснуть, и пусть мое благословение витает над тобой, даже когда я буду спать уже вечным сном.
Лакюзон повиновался – полковник как будто забылся сном. С губ его срывался лишь слабый, глухой стон – в такт вдохам обессилевшей груди.
Гарба, держась за рукоятки пистолетов, которые он только что перезарядил, расположился в первой камере грота. Он сидел, привалившись спиной к скальной стене и не сводил глаз с узкого прохода, что вел наружу.
XXXIII. Гомеровский герой
Прошел час или около того.
Луна, быстро спускаясь за горизонт, в конце концов разорвала плотную пелену облаков, затянувшую небо от края до края, и бледное ее сияние упало на площадку перед входом в грот. В бледном лунном свете тьма снаружи казалась еще более непроглядной, чем мрак в чреве грота.
Вдруг ординарец вздрогнул.
Ему послышался слабый шорох, как будто по склону скатился камешек.
«О-о… – пробормотал Гарба, – что бы это могло быть? Может, заяц пробежал или птица ночная крылом за что-то задела, а может, и какой человек…»
В положении наших героев, понятно, это было вопросом жизни и смерти.
Гарба приподнялся и, силясь не дышать и унять учащенно забившееся сердце, прислушался.
Через мгновение шорох повторился.
Где-то совсем рядом с гротом зашевелились кусты.
«Плохо дело, – подумал ординарец, – это может быть только человек, а человек в такое время означает враг…»
Прошло еще несколько секунд.
Гарба снова затаил дыхание.
Внезапно в лунном свете промелькнула смутная тень.
Снаружи, у входа, кто-то замер на месте…
Потом тень наклонилась, снова выпрямилась и почти сразу же исчезла.
В то же время послышался окрик:
– Эй, ребята, сюда! Они у нас в руках! Вот он, вход в их логово.
– Тревога, капитан! – живо выкрикнул Гарба. – Нас обнаружили.
– Я все слышал, – ответил Лакюзон, – а выжидал потому, что не хотел будить полковника.
– Эх, – проговорил тогда угасающим голосом полковник, – я не сплю и пока еще жив… Надеюсь, сон жизни скоро закончится и я умру как солдат… Помоги же мне встать, сынок, и дай мою шпагу.
Поддерживаемый Лакюзоном, наш герой поднялся сперва на колени, потом встал на ослабшие ноги и, опираясь на свою добрую, крепкую шпагу, стал ждать.
Снаружи послышались шаги и голоса – они становились все ближе.
Серые были совсем рядом.
Вскоре синеватые просветы на небе снова скрыло тенью, на сей раз более плотной.
Серые заняли весь проход.
– Ах ты, дьявол! – воскликнул один из них. – Да тут черно, как в печке! И впрямь вход в преисподнюю!.. Запалите-ка ветки, чтоб виднее было…
Совет был правильный – его исполнили незамедлительно. Ветки, сорванные с самшитовых кустов, что росли в расщелинах меж камней, занялись трескучим пламенем – и вход в грот ярко осветился.
В то же самое время серые, несколько человек, согнувшись, заглянули внутрь.
Гарба только этого и ждал.
Он разом разрядил оба пистолета.
Двое серых упали. Остальные отпрянули, взвыв от страха и ярости.
Гарба уступил место капитану, готовому стрелять в любое мгновение, а сам принялся перезаряжать свои пистолеты.
Не усепл он покончить с этим делом, как серые снова пошли на приступ. Наши герои дали залп из четырех пистолетов – на земле остались лежать четыре трупа.
– Перезаряжаемся! – скомандовал Лакюзон. – Да поживей!
Оторопев от оказанного им «горячего» приема, осаждающие больше не смели высунуть нос. Укрывшись на склоне горы, чуть ниже входа в грот, они открыли непрерывную пальбу из мушкетов, целя в зияющий впереди проем. Но их пули, все как одна, угодили в свод, не задев трех наших героев.
Обескураженные промашкой, серые прекратили стрельбу.
Какое-то время они, похоже, совещались, потом послышался голос их главаря:
– Сдавайся, Варроз, и сохранишь себе жизнь!
– Нет, черт возьми, не сдамся[78]!
После недолгого молчания снова послышался окрик главаря:
– Если не сложишь оружие, мы перебьем вас всех до последнего, и живым тебе не уйти! Так что сдавайся.
И Варроз отвечал все так же:
– Нет, черт возьми, не сдамся!
Взбешенные потерей своих, серые и впрямь были настроены расправиться раз и навсегда с тремя нашими друзьями, один из которых был ранен. Только теперь они изменили тактику.
Они вскинули тела убитых товарищей – наподобие щитов и, прячась за них, ринулись в проход, который вел в переднюю камеру.
Их расчет был точен – пули Лакюзона и Гарба не могли пробить защиту из человеческой плоти. И через какое-то время в пещерном мраке, освещенном лишь зыбкими отблесками горящих снаружи веток, завязалась ожесточенная рукопашная схватка.
Серых было шестеро.
А наших друзей – только двое: Варроз был при смерти.
И тут произошло нечто необыкновенное – почти чудо.
Обессиленный полковник, с перебитым плечом, совсем обескровленный, на едва держась на ногах, вдруг с невероятным усилием воли, души и нервов решительно двинулся к противникам, схлестнувшимся не на жизнь, а на смерть, поднял свою тяжелую шпагу и дважды рубанул ею сверху вниз.
Двое серых тут же рухнули наземь – головы у обоих были рассечены пополам. Остальные при виде такого развернулись и бросились наутек.
– О Господь всемилостивый, – проговорил Варроз, поднося к губам крестообразный эфес шпаги, – слава тебе! Теперь можно и умереть…
Старый солдат припал на одно колено, затем, не выпуская шпагу из руки, медленно осел на землю.
Господь внял его последней просьбе – он умер в бою.
– Отец мой, – воскликнул Лакюзон, – подождите! Мы скоро будем с вами!..
– Думаете, они вернутся, капитан? – спросил Гарба.
– Да, именно так я и думаю. Их осталось еще человек двадцать, а нас только двое, так что последний наш час, похоже, пробил. Нам конец. Разве что продадим нашу жизнь подороже. Раз нам суждено умереть, пускай умрут и они.
– Но как вы себе это представляете, капитан? У нас осталось всего четыре выстрела.
– Есть у меня один план…
– Какой?
– Скоро увидишь. Дай-ка мне пороховницу полковника и свою…
– Вот, держите.
Лакюзон повел Гарба во вторую камеру грота.
Как мы уже говорили, дальний проход позади нее завалило гранитной глыбой, а он, по слухам, вел под землей прямиком к Шан-Сарразену.
Капитан отвинтил крышки у пороховниц и подсунул обе под гранитную глыбу. А затем опорожнил свою, сделав на земле пороховую дорожку, и с пистолетом в руке стал ждать.
– О-о! – удивился Гарба. – Понимаю, капитан, вы задумали нас подорвать.
– А заодно и их. Ну, как тебе мой план, Гарба?
– Замечательный план. Думаю, полковник с преподобным Маркизом порадуются там, на Небесах.
– А тебе не жаль умирать таким молодым, бедный мой Гарба?
– Нисколько, капитан. Сами посудите, умереть с вами заодно, да еще от вашей руки, – ведь вы же собственноручно подпалите порох? – большего счастья для бедного ординарца-горниста и быть не может! Сегодня, завтра, днем раньше, днем позже… как ни крути, а все едино придется покинуть этот свет. И уж лучше сделать это так, в славной компании.
– Ну что ж, друг мой, тогда давай обнимемся.
– Эх, капитан, со всей душой!..
– А теперь помолимся Богу и подготовимся…
Прошло пять минут.
Не было слышно ни единого шороха – ничто не шелохнулось у входа в грот.
– Капитан, – заметил тут Гарба, – интересно, что там удумали эти разбойники?.. Честно сказать, меня одолевают сомнения. Может, покончить со всем разом, а то уж больно невмоготу ждать?..
И с героической беспечностью Гарба затянул свою песенку, послужившую сигналом Лакюзону и Раулю де Шан-д’Иверу в ту ночь, у крепостных стен Сен-Клода:
Граф Жан, уж час заветный наступает, Уж солнце горизонт ласкает, И колокол как будто бы рыдает, Уж соловей в листве знай распевает, И розы цвет благоухает В долине, где поступь моя затихает. Ищу тебя я тщетно во мгле. Граф Жан, я здесь, приди же ко мне!..Не успел Гарба допеть, как внезапная возня у входа в пещеру подсказала молодым людям, что головорезы снова зашевелились.
– Отлично! – прошептал Гарба. – Наконец-то они решились. Лучше поздно, чем никогда.
Меж тем серые, один за другим, ползком, как ужи, прокрались в переднюю камеру.
Там они разом вскочили на ноги и, не подозревая о существовании другой камеры, с громкими криками бросились на гранитные стены, рубя шпагами воздух.
– Время пришло, – сказал Лакюзон. – И да примет нас Господь!
С этими словами он приложил дуло пистолета к пороховой дорожке и спустил курок.
Раздался глухой, но мощный взрыв. Гранитная глыба подскочила, точно сухой лист, поднятый ветром, – гора содрогнулась до самых глубин своего подземного чрева. Свод грота раскололся пополам. И с оглушительным грохотом обрушился на первую камеру, завалив серых каменными обломками. Над второй камерой свод остался на месте, незыблемый, как арка собора.
Когда землетрясение прекратилось и дым вперемешку с пылью рассеялся, Лакюзон и Гарба, изумленные и даже испуганные тем, что все еще живы, разглядели в лунном свете, проникавшем в разверзшийся пролом гранитного свода, ступени длинной лестницы, тянувшейся вверх – до самого Шан-Сарразена.
Они были спасены – и свободны!..
– Право слово, капитан, – воскликнул Гарба, – мы вернулись с того света!.. Думаю, еще никто не мог бы похвастать, что видел то, что видели мы!..
XXXIV. Человеческое правосудие
Нужно ли здесь что-то объяснять?.. Как бы то ни было, мы это сделаем – на всякий случай.
От взрыва, сместившего, как мы уже говорили, гранитную глыбу, открылся давным-давно заваленный проход на лестницу, которую когда-то вырубили сарацины. С этой титанической работой они справились отлично, а целью их трудов было проделать потайной ход из крепости прямо к реке, чтобы доставлять по нему провиант и воду.
Лакюзон, пробравшись во вторую камеру, перенес туда и тело Маркиза.
А тело Варроза так и осталось погребенным под грудой камней, словно Провидению было угодно уготовить этому последнему отпрыску рода титанов гробницу величиной с гору.
– Раз Господь оставил нас в живых, – проговорил Лакюзон, – значит, мы ему еще нужны. Закончим же начатое!..
Подхватив на пару мертвое тело священника, капитан и Гарба первыми за многие столетия после постройки лестницы двинулись вверх по ее крутым ступеням навстречу свету.
Когда они добрались до Шан-Сарразена, Лакюзон сказал:
– Давай копать могилу.
И они вдвоем принялись вырубать землю шпагами и потом выгребать ее руками.
Спустя два чаоса, когда после безмолвных усилий работа подошла к концу и достаточно глубокая могила была вырыта, они опустили тело священника в эту холодную усыпальницу. Затем они засыпали могилу, а сверху присыпали ее булыжниками, мхом и лишайником, чтобы скрыть все следы того, что здесь произошло.
После Лакюзон опустился на колени – и с его губ сорвался крик, исходивший из самого сердца:
– Христос, сын Господа всемогущего, ты, один из Троицы, правящей в Царствии небесном, принес себя в жертву, придя на землю, и отдал жизнь свою во спасение людей. Бог-Отец и Бог-Святой Дух остались на небесах… Из троицы, защищавшей Конте, только я один, Сын, остался здесь. Отец же и Святой Дух вознеслись на Небеса… Христос, разве не закончилась моя миссия на этом свете? Вверяю себя под защиту твою. Одели же меня разумом Маркиза и силой Варроза, если Родине еще нужны сила одного и разум другого! Христос, молю тебя, услышь меня!..
Вслед за тем Лакюзон поднялся, укрепленный своей молитвой, и, обращаясь к Гарба, сказал:
– Идем!
И они вдвоем, не оборачиваясь, ушли прочь.
* * *
На третий день после событий той ночи на улицах доброго города Доля царили большое оживление и необычная суматоха.
Было одиннадцать часов утра.
Лавки были закрыты, звонили колокола, горожане, нарядившиеся по-праздничному, слонялись по улицам, подобно бесконечным, все нарастающим потокам, сливаясь в настоящее человеческое море. Более многочисленная и шумная толпа заполонила возвышенности вдоль дороги со стороны Лон-ле-Сонье.
Определенно в городе намечалось некое важное событие – должно быть, ожидался приезд какой-то важной особы.
Вдруг бессчетное множество глоток взорвалось единодушным возгласом.
Самые зрячие разглядели на дороге быстро приближавшееся облако пыли.
Пыль поднимали столбом копыта мчавшейся во весь опор лошади со всадником в облачении горского повстанца.
Когда горец поравнялся с толпой зевак, те окликнули его:
– Везут?
– Везут! – коротко бросил в ответ всадник и, не останавливаясь, на полном скаку влетел в город.
– Да здравствует Лакюзон!.. – закричали на все лады горожане.
Через четверть часа напряженного ожидания дорога вдалеке снова заклубилась пылью – на сей раз ее густое облако было больше и надвигалась не стремглав, а медленно, будто величаво.
– Это кортеж!.. – вопили зеваки. – Кортеж!
И они не ошиблись.
Процессию возглавляли пятьдесят горцев.
За ними, во главе отряда из пятисот человек, следовал Железная Нога.
Лакюзон и Гарба, оба верхом, ехали чуть впереди странной упряжки.
Это была большая четырехколесная телега, запряженная четверкой волов, – на ней помещалась своего рода деревянная клетка, похожая на те железные клети, что придумал и даже поставлял ко двору Людовика XI кардинал Балю[79].
В этой клетке сидел на корточках человек, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, с непокрытой головой и обнаженными плечами.
Клетку венчала приколоченная гвоздями черная маска.
Толпа крестьян, бежавшая за телегой и стоявших вдоль обочин дороги, кричала от ненависти и требовала крови.
За упряжкой следовал другой отряд горцев из пятисот человек.
Узник, связанный, поруганный, больше походил на мертвеца; его лицо было сплошь измазано грязью и помоями, которыми походя бросали в него люди. Этим жалким, униженным человеком был Антид де Монтегю, когда-то – владетель Замка Орла.
Лакюзон хотел приподнести всем жестокий наглядный урок!
Он хотел, чтобы в памяти людей навсегда запечатлелся образ изменника, которого ждала страшная кара.
– Да здравствует Лакюзон!.. – восторженно приветствовала его толпа.
Но он едва слышал эти приветствия.
Погруженный в свои горькие мысли, непрестанно думая о Маркизе и Варрозе, которых, увы, больше не было рядом, он воспринимал свой триумф со скорбным безразличием.
Процессия вошла в город и направилась к ратуше, где заседал парламент.
Горцы оттеснили толпу – Антида де Монтегю вытащили из клетки и поволокли в ратушу, где ему должны были вынести приговор. Толпа тут же переметнулась на широкую площадь, расположенную по соседству с крепостной стеной в северо-восточной части города. Посреди этой площади, взятой в кольцо зеваками, возвышались эшафот, костер и виселица.
Покамест никто еще не знал, к какому виду смертной казни приговорят злодея, – и, чтобы не отсрочивать саму казнь, было решено все предусмотреть загодя…
Через час толпа разом смолкла и почтительно расступилась.
Появился Лакюзон, а за ним – все члены парламента в черных, отороченных горностаем мантиях.
Осужденный шел следом за судьями между палачом и его помощниками, под конвоем горцев. Его поддерживали, а вернее, несли, поскольку сам он идти не мог.
И вот заведующий судейской канцелярией, развернув пергаментный свиток, четко произнося каждое слово, во всеуслышание огласил смертный приговор:
«Сего дня, 16 ноября, года 1638-го от Рождества Христова, мы, заседатели парламента города Доля, в силу полномочий, данных нам тремя судебными округами и удостоверенных Его Католическим величеством Филиппом IV, королем Испании;
Верша суд от имени Господа и провинции Франш-Конте;
Учитывая, что дворянин Антид де Монтегю, граф и владетель Замка Орла, совершил преступления, связанные с вероломством и изменой своей Родине и Его величеству Филиппу IV;
Учитывая, что он способствовал разорению Конте, вступив в союз с ее врагами и выдав Франции предводителей горского повстанчества;
И принимая в расчет, что все означенные преступления доказаны;
Объявляем сира де Монтегю, графа и владетеля Замка Орла, вероломным изменником; приговариваем его к смерти и предписываем сжечь его тело, а пепел развеять по ветру; но, принимая во внимание справедливое требование капитана Жан-Клода Проста, оставляем за последним право самому назначить род казни Антиду де Монтегю, владетелю Замка Орла.
Совершено в здании парламента города Доля.
От имени членов парламента, заседавших в суде:
Председатель,
Буавен».Чтение приговора было встречено громоподобными возгласами одобрения.
– Правильно!.. Правильно!.. – кричал народ. – Да здравствует парламент! Да здравствует капитан Лакюзон!
Когда шум стих, слово опять взял заведующий судейской канцелярией.
– Капитан Жан-Клод Прост, – громко возгласил он, – какой род казни вы избираете? Говорите – и воля ваша будет исполнена.
– Однажды… – заговорил Лакюзон, – однажды сир де Монтегю, в ответ на вопрос кардинала де Ришелье, сказал о преподобном Маркизе, что он, «как мужлан», заслуживает казни «через повешение»… Так вот, Антид де Монтегю, владетель Замка Орла, я требую, чтобы вы ответили по закону «око за око». Топор палача не коснется вашей недостойной головы. Для вас сойдут перекладина и веревка…
Затем, окинув пристальным взглядом толпу, Лакюзон прибавил:
– Войне конец. Конте победила – она цела и свободна! Да здравствует Конте! И да не воздвигнется впредь виселица, карающая ныне изменника!
– Да здравствует Конте! – вторил ему народ. – Да здравствуют защитники свободной Конте!
Через мгновение человеческое правосудие свершилось.
Божья справедливость восторжествовала.
* * *
На другой день в Дольском кафедральном соборе отпраздновали свадьбу – намеренно скромную и немноголюдную.
Рауль де Шан-д’Ивер дал свое имя Эглантине в присутствии капитана Лакюзона, барона Тристана, Бланш де Миребель и старой Маги, которая разом преобразилась – будто помолодела, когда обрела надежду принять в скором времени третье поколение де Шан-д’Иверов.
Разумеется, сердца ликовали, и вместе с тем в глубине их таилась горькая печаль.
Считали тех, кого не было рядом…
Увы, их оказалось слишком много!
Недоставало Пьера Проста! Недоставало Маркиза! Недоставало Варроза!..
Как только торжественная церемония завершилась, Лакюзон, с траурной повязкой на рукаве и с печалью на сердце, снова подался в горы.
Оставшись один и взвалив на себя нелегкое бремя защитника свобод и судеб древней, благородной земли, он спешил снова преклонить колени перед безвестной могилой, навсегда сокрывшей тайну красной мантии.
Сноски
1
Роман написан в 1861 году.
(обратно)2
Генеральные штаты – высшее сословно-представительское учреждение во Франции с 1302 по 1789 год. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.
(обратно)3
Магистрат – выборное должностное лицо, член городского управления, а также судья.
(обратно)4
«Из глубин…» (лат.) – отходная молитва.
(обратно)5
Бытие, 3:16.
(обратно)6
Пенмарк – мыс на западном побережье Франции, в Бретани.
(обратно)7
Имеется в виду «Радуйся, Матерь Божья!» – начало вечерней католической молитвы.
(обратно)8
Ливр – старинная французская монета.
(обратно)9
Eglantine (фр.) – роза эглантерия, дикорастущий цветок.
(обратно)10
Имеется в виду Конде, Луи II де Бурбон (1621–1686) – французский принц, военный деятель.
(обратно)11
Имеется в виду мятежный герцог Анри II Орлеанский (1595–1663).
(обратно)12
«Ангелус» – молитва, обращенная к Богородице, или колокольный звон, призывающий к этой молитве.
(обратно)13
Намек на созвездье Лебедя, или Креста.
(обратно)14
Густав II Адольф (1594–1632) – шведский король.
(обратно)15
Грессе, Жан-Батист Луи (1709–1777) – французский поэт и драматург, автор многочисленных юмористических стихотворений, в которых он высмеивал монастырские обычаи и нравы.
(обратно)16
Альба, Фернандо Альварес де Толедо-и-Пименталь (1507–1582) – испанский государственный и военный деятель.
(обратно)17
«Редгонтлет, или Красная перчатка» (1824) – роман Вальтера Скотта.
(обратно)18
Труазешель и Птит-Андре – прозвища палачей, подручных Тристана Отшельника, или Луи Тристана (начало XV века – около 1477), начальника королевской полиции Людовика XI (1423–1483), французского короля из династии Валуа, – героев романа Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Прозвища вышеупомянутых палачей, соответственно, означают «Три Ступени» и «Малыш Андре»; первым прозвищем палач обязан своей профессии – по трем ступеням осужденный на казнь поднимался на эшафот.
(обратно)19
Подобные отталкивающие сцены доподлинно соответствуют историческим фактам. И автор ощущал совершенно обоснованную необходимость их воспроизвести, дабы дать своим читателям как можно более полное представление об отвратительных жестокостях, какие чинили шведы и серые во время той долгой захватнической войны (примечание автора).
(обратно)20
Вольтов столб, или элемент Вольта, – первый гальванический элемент, устройство для получения электричества, применявшееся на заре электротехники; был изобретен в 1800 году итальянским физиком и физиологом Алессандро Вольта (1745–1827).
(обратно)21
Бенсерад, Исаак де (1612–1691) – французский салонный поэт и драматург.
(обратно)22
Химена и Сид – персонажи трагедии Пьера Корнеля «Сид».
(обратно)23
Эскуриаль – муниципалитет в Испании.
(обратно)24
Секваны – кельтское (галльское) племя, жившее между Сеной (Секваной), Роной и швейцарской Юрой.
(обратно)25
Vox populi, vox Dei! (лат.) – Глас народа – глас Божий.
(обратно)26
Dominus vobiscum! (лат.) – Господь с вами!
(обратно)27
Amen! (лат.) – Аминь!
(обратно)28
Доминикино – прозвище Доминико Цампиери (1581–1641) – итальянского живописца болонской школы.
(обратно)29
Лесюер, Эсташ (1616–1655) – французский художник, представитель стиля барокко, писавший картины на религиозно-исторические темы.
(обратно)30
Сурбаран, Франсиско де (1598–1664) – испанский художник, представитель севильской школы живописи.
(обратно)31
Тюренн, Анри де Ла Тур д’Овернь (1611–1675) – виконт, французский полководец.
(обратно)32
Намек на герцога де Виллара (1653–1734), проигравшего в 1709 году битву при Мальпаке за Испанское наследство и пославшего королю Людовику XIV донесение, вошедшее в историю: «Сир, не отчаивайтесь, еще одна такая “победа” – и у противника просто не останется войск».
(обратно)33
«Gaudeamus igitur!..» – «Итак, будем веселиться!..», начало старинной студенческой песни, возникшей из застольных песен вагантов.
(обратно)34
Коломянка – льняная ткань.
(обратно)35
Дофине – историческая область во Франции.
(обратно)36
Антуан де Ла Саль (ок. 1386 – ок. 1462) – французский писатель позднего Средневековья.
(обратно)37
Вандейцы – жители Вандеи, участвовавшие в Вандейских войнах – контрреволюционных восстаниях во Франции 1793–1796 годов.
(обратно)38
Deus ex machina (лат.) – Бог из машины.
(обратно)39
Маги – франш-контийское сокращение от Маргаритта (прим. Автора).
(обратно)40
Линия – мера длины, равная 2,25 мм.
(обратно)41
Имеется в виду лесистая часть Шотландии.
(обратно)42
Сальватор, Роза (1615–1673) – итальянский живописец, гравер, поэт и музыкант.
(обратно)43
Триумвир – член триумвирата, союза трех лиц, объединившихся для какой-либо совместной деятельности.
(обратно)44
Фермопилы – место греко-персидского сражения (480 г. до Р.Х.) в Греции.
(обратно)45
Латники – воины, облачавшиеся в латы.
(обратно)46
«Верую!» – начинающаяся с этого слова молитва, которая представляет собой краткий свод догматов христианского вероучения.
(обратно)47
«Исповедуюсь!» – начало католической покаянной молитвы.
(обратно)48
Каракалла (188–217) – римский император.
(обратно)49
Буасо – старая мера сыпучих тел, равная 12,5 литра.
(обратно)50
Орканья, Андреа (1308–1368) – итальянский живописец, скульптор и архитектор.
(обратно)51
Челлини, Бенвенуто (1500–1571) – выдающийся итальянский скульптор, ювелир, живописец и музыкант эпохи Возрождения.
(обратно)52
Пинта, французская – старая мера емкости, равная 0,93 литра.
(обратно)53
Бассомпьер, Франсуа де (1579–1646) – маршал Франции, фаворит Генриха IV.
(обратно)54
Имеется в виду Швейцарский союз.
(обратно)55
Милон Кротонский – знаменитый греческий атлет, живший около 520 года до нашей эры.
(обратно)56
Буколика – жанр литературных произведений, идеализированно изображающих пастушескую жизнь и сельский быт на фоне природы.
(обратно)57
Лучше умереть, чем опозориться (лат.) – выражение, приписываемое кардиналу Иакову Португальскому.
(обратно)58
Иосафатская долина – в христианстве место Страшного суда, названное в честь иудейского царя Иосафата (873–849 до Р.Х.).
(обратно)59
Пьеса французской писательницы Дельфины де Жирарден (1804–1855).
(обратно)60
Намек на историю спасения младенца Моисея (XIV–XIII века до Р.Х.), будущего еврейского вождя и законодателя, которого мать оставила в корзине из тростника в камышовых зарослях на берегу Нила, где его нашла дочь фараона.
(обратно)61
Евангелие от Матфея, 26–39.
(обратно)62
Матфей, 26–52.
(обратно)63
Соответственно – «Franche-Comté» (франц.), или «Франш-Конте».
(обратно)64
Фридрих I Барбаросса (ок. 1123–1190) – император Священной Римской империи.
(обратно)65
Филипп IV Красивый (1268–1316) – французский король.
(обратно)66
Бальи – должностное лицо в феодальной Франции, управляющее областью или округом (бальяжем) и выполняющее административные и судебные функции.
(обратно)67
Прозвище кардинала Ришелье.
(обратно)68
Прозвище Людовика XI.
(обратно)69
Тристан Лермит, прево, и Оливье ле Дэн, цирюльник, – прислужники Людовика XI.
(обратно)70
Туаза – старинная французская мера длины, составляющая 6 футов, или около 2 метров.
(обратно)71
Потерна – потайная дверь или потайной ход.
(обратно)72
«Закон суров, но закон» (лат.) – то есть каким бы ни был суровым закон, его следует исполнять.
(обратно)73
Псалом, 134: 16.
(обратно)74
Вандея – департамент на западе Франции, центр роялистских мятежей в период Великой французской революции и Директории.
(обратно)75
«Осенние листья» и «Песни сумерек» – сборники поэтических произведений Виктора Гюго, опубликованные с 1830 по 1843 год.
(обратно)76
Карл Мартелл (ок. 688–741) – майордом франкского государства Меровингов.
(обратно)77
В переводе с французского (букв.) – Сарациново Поле.
(обратно)78
Ответ доподлинно исторический (примечание автора).
(обратно)79
Балю, Жан (ок. 1421–1491) – французский религиозный и государственный деятель.
(обратно)
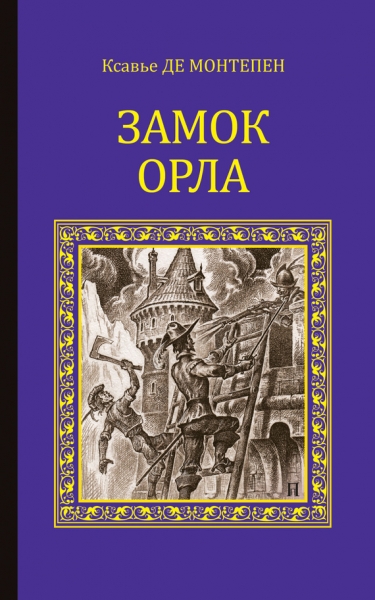



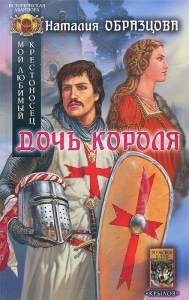
Комментарии к книге «Замок Орла», Ксавье де Монтепен
Всего 0 комментариев