ЖЮЛЬ ВЕРН Прекрасный желтый Дунай • В Магеллании
Прекрасный желтый Дунай
I НА СОСТЯЗАНИИ В ЗИГМАРИНГЕНЕ
В тот день, 25 апреля, необыкновенное оживление — песни, здравицы, выкрики, рукоплескания, звон стаканов — царило в трактире под вывеской «Встреча рыболовов».
Трактир, чьи окна смотрели на левый берег Дуная, находился на краю очаровательного городка Зигмарингена, столицы прусского анклава Гогенцоллернов, расположенного почти у истоков этой великой реки Центральной Европы.
В соответствии с вывеской, написанной красивыми готическими буквами, именно в вышеназванном трактире встретились в тот день члены «Дунайской удочки» — международного общества рыболовов, объединявшего в основном немцев, австрийцев и венгров. Полными кружками и стаканами они пили отменное мюнхенское пиво и доброе венгерское вино. Во время заседаний большой зал трактира исчезал в завитках пахучего дыма, без конца струившегося из длинных курительных трубок. Но, хотя члены общества уже ничего не видели, они, по крайней мере, слышали друг друга, да и как было не слышать, если ты не глухой.
Следует заметить, что рыболовы — невозмутимые и молчаливые на рыбалке — становятся самыми шумными на свете в остальное время и особенно, когда приступают к описанию своих подвигов — они тут ни в чем не уступают охотникам.
Подходил к концу один из самых обильных обедов, собравший вокруг трактирного стола сотню сотрапезников. Все — рыцари удочки, ярые поклонники поплавка, фанатики крючка. Уместно допустить, что их глотки странным образом пересохли этим прекрасным апрельским утром. Бесчисленные бутылки на сервировочных столах, разнообразные ликеры, сопровождавшие кофе, через какое-то время уступили место раку[1] из ферментированного риса, ост-индийской тафии[2], ратафии[3] — экстракту из черной смородины, Кюрасао[4], данцигской водке[5], можжевеловке, эликсиру Гаруса[6], каплям Гофмана, «Киршвассеру»[7] и даже виски из шотландского ячменя, хотя общество не числило среди своих членов ни одного сына зеленого Эрина[8].
Три часа пополудни пробило в трактире «Встреча рыболовов», когда раскрасневшиеся собутыльники встали из-за стола. Некоторые пошатывались и искали поддержки у соседей. Но большинство, отдадим им должное, твердо держались на ногах. Не потому ли, что привыкли к подобным продолжительным заседаниям, проходившим несколько раз в год в связи с состязанием «Дунайской удочки»? Эти состязания, всегда очень многолюдные, широко отмечались и имели заслуженно хорошую репутацию как в верхнем, так и в нижнем течении знаменитой реки, желтой, а отнюдь не голубой, как заявлено в названии известного вальса Штрауса. Благодаря самоотдаче, неутомимой деятельности и доброму имени председателя «Удочки», венгра Миклеско, конкурсанты с удовольствием приезжали на соревнования из Баденского герцогства, Вюртемберга, Баварии, Австрии, Венгрии и из румынских земель.
Общество существовало уже пять лет. И не просто существовало — процветало. Его постоянно возраставшие финансовые возможности позволяли вручать победителям довольно значительные призы. Кроме того, на его стяге сверкали медали за многочисленные победы в состязаниях с другими подобными организациями. Общество хорошо знало законодательство в области речного рыболовства, отстаивало свои права как перед государством, так и перед частными лицами: как известно, каждый имеет право ловить рыбу в реках, протоках и судоходных водах на верховодку или донку. У общества в нескольких местах по течению Дуная были свои пруды и водохранилища, охранявшиеся сторожами. В общем, оно отстаивало собственные привилегии с упорством, скажем даже, с профессиональным упрямством, свойственным существу, чьи инстинкты рыболова-любителя делают его достойным быть выделенным в отдельный вид рода человеческого.
Только что прошедшее состязание было первым в этом 186... году. Уже в пять часов утра члены «Дунайской удочки», около шестидесяти человек, покинули город, чтобы добраться до левого берега Дуная, немного ниже по течению реки.
Погода стояла прекрасная, ничто не предвещало дождя. Конкурсанты надели униформы общества: просторные льняные (в сильную жару их меняли на полотняные) костюмы, короткие куртки, не стеснявшие движений, брюки, заправленные в сапоги с высокими голенищами, белые фуражки с большими козырьками того же цвета. Участники запаслись различной снастью, той самой, что предписана «Учебником рыболова»: разного рода удилищами, сачками, удочками в чехлах из замши, свинцовой дробью разного калибра для грузил, запасом искусственных мушек, лесами, скрученными из флорентийского конского волоса. Лов был свободным — это значит любая пойманная рыба засчитывалась и каждый рыбак мог прикармливать свое место в зависимости от того, кого хотел привлечь: голавля, гольяна, умбру[9], камбалу[10], колюшку, леща, линя, окуня, пескаря, плотву, подуста, речного карпа, форель, щуку, угря, уклейку или усача, живущих в водах Дуная.
Пробило шесть часов, и ровно девяносто семь участников с удочками-верховодками приготовились забросить крючок.
Горнист подал сигнал, и девяносто семь удочек вытянулись над водой вдоль берега.
К конкурсу были приготовлены несколько различных призов, но два главных — по сто флоринов каждый — предназначались: первый — для рыболова с наибольшим уловом и второй — для счастливчика, поймавшего самую крупную рыбину.
Состязание проходило в идеальных условиях. Возникли небольшие споры из-за слишком строго отмеренных мест и запутавшихся удочек — обычные мелкие инциденты, требовавшие вмешательства судей, — но в общем ничего серьезного вплоть до второго сигнала горна, который ровно без пяти одиннадцать положил конец соревнованию.
Каждый улов был предъявлен жюри — председателю Миклеско и четырем членам «Дунайской удочки». Эти честнейшие господа отличались самой строгой беспристрастностью, так что результаты судейства не могли вызвать никаких протестов даже в этом особом мире горячих голов и болезненных самолюбий. Что до результатов состязания, то жюри держало их в секрете. Они станут известны только в час награждения призеров, то есть после обеда, который объединит всех участников за одним столом.
Этот час настал. Рыболовы, не говоря уже о любопытных жителях Зигмарингена, собрались у эстрады, где расположились председатель и члены жюри.
Стульев, скамеек, табуреток было вполне достаточно, точно так же, как не наблюдалось нехватки ни в столах, ни в кувшинах с пивом, ни в бутылках с разнообразными напитками, ни в больших и маленьких стаканах. На собраниях рыболовов не станут слушать речь, не сев, и не сядут, не утолив жажду.
После шумных и веселых переговоров каждый занял свое место, и на весеннем воздухе с новой силой задымились трубки.
Председатель встал, его приветствовали криками: «Слушайте! Слушайте!» — столь же многочисленными, сколь и громкими.
Господин Миклеско, элегантный и внушительный, сорока пяти лет, в полном расцвете сил, был типичным венгром с приятной физиономией и теплым тембром голоса. Председатель в самом деле отлично смотрелся между двумя заседателями, один из которых — серб Иветозар — был постарше, а другой — болгарин Тича — помоложе. Венгр прекрасно говорил на немецком, понятном всем членам «Дунайской удочки», и ни одно его слово не было пропущено присутствующими.
Опустошив пенистую кружку и замочив в пиве кончики длинных усов, господин Миклеско начал со следующих слов:
— Дорогие коллеги, не ждите от меня традиционной речи с преамбулой, развитием и заключением. Нет, мы здесь не для того, чтобы упиваться официальными докладами, я просто поболтаю с вами о наших маленьких делах как с добрыми друзьями, я бы даже сказал, как с братьями, если такое определение оправдано для столь многонациональной ассамблеи!
Эти две фразы, длинные, как в начале всякой речи, даже если оратор имел совсем другие намерения, были встречены единодушными рукоплесканиями, к которым присоединились многочисленные «отлично!», «отлично!» вперемежку с «ура!».
Затем, поскольку председатель поднял свой стакан, все прочие полные стаканы ответили ему дружным звоном. Те, что разбились при чрезмерно сильных соударениях, немедленно получили замену.
Господин Миклеско продолжил речь, выдвинув рыболовов, одаренных природой многочисленными добродетелями, в передовой отряд человечества. Действительно, сколько терпения, изобретательности, хладнокровия, недюжинного ума требуется, чтобы преуспеть в этом деле, которое является скорее искусством, чем ремеслом! И сие искусство гораздо выше тех доблестей, которыми тщетно похваляются охотники.
— Можно ли сравнить, — воскликнул он, — охоту с рыбалкой?..
— Нет! Нет! — послышалось со всех сторон.
— Какая заслуга в том, чтобы убить перепелку или зайца, когда видишь их на близком расстоянии и когда собака — разве у нас, рыболовов, есть собаки? — поднимает их к вашей пользе?.. С одной стороны — дичь. Вы видите ее, когда хотите, целитесь в нее на досуге и пичкаете многочисленными свинцовыми дробинками, большая часть которых пропадает даром!.. С другой стороны — рыба. Вы не можете проследить за ней взглядом... она прячется под водой... Исключительно с помощью крючка на конце лесы, бесчисленных хитрых маневров, деликатных приглашений, напряженной работы ума, инстинктивной ловкости необходимо заставить рыбу клюнуть, затем аккуратно подсечь и вытащить из воды, порой замершую на конце удочки, а порой трепещущую и как бы аплодирующую победе рыболова!
На этот раз на эстраду обрушилось громоподобное «браво!». Несомненно, председатель Миклеско отвечал лучшим чувствам членов «Дунайской удочки». Он знал, что не может зайти слишком далеко в восхвалении своих собратьев, ставя их занятие выше всех прочих человеческих занятий. Он мог не бояться обвинений в преувеличении, вознося до небес горячих поклонников рыбной ловли и взывая великой древнеримской богине, в чью честь устраивались рыболовецкие игры, венчавшиеся знаменитыми процессиями[11].
Поняли ли его слова собравшиеся? Без сомнения. Свидетельством тому стали новые, еще более громкие возгласы одобрения.
Опустошив кружку, наполненную белопенным пивом, оратор вдохнул полной грудью и произнес:
— Остается только обвить гирляндами славословий наше процветающее общество, чья репутация утвердилась во всей Центральной Европе! Год от года оно пополняется все новыми и новыми членами. Все понимают: стать участником наших состязаний — большая честь! Немецкая пресса, чешская пресса, румынская пресса не скупятся на щедрые и, добавлю, вполне заслуженные похвалы в наш адрес, я провозглашаю тост — и прошу поддержать меня — за тех, кто посвятил себя международному делу «Дунайской удочки»!
В том, что присутствующие поддержали председателя Миклеско, не стоит и сомневаться. Бутылки опрокинулись в стаканы, стаканы — в глотки с такой же легкостью, с какой воды великой реки и ее притоков протекают между пятью тысячами километров берегов![12]
И мы бы поставили здесь точку, если бы председательское выступление завершилось этим тостом. Однако — и сие не должно никого удивлять — за ним последовали и другие — по причине также вполне объяснимой.
Итак, председатель выпрямился во весь рост, секретарь и казначей встали со своих мест. В правой руке каждый держал кубок, полный крепкого немецкого шампанского, а левую — прижимал к сердцу. Затем голосом, чьи раскаты всё усиливались, Миклеско, окинув взглядом присутствующих, изрек:
— Я пью за общество «Дунайская удочка».
Присутствующие встали и поднесли бокалы к губам. Одни взгромоздились на скамейки, другие поднялись на столы в единодушной поддержке господина Миклеско.
Председатель, опустошив свой кубок, наполнил его из неисчерпаемого кувшина, стоявшего перед заседателями, и вновь загрохотал:
— За разные народы[13]: 3а баденцев, вюртембержцев, баварцев, австрийцев, венгров, сербов, валахов, молдаван и болгар из общества «Дунайская удочка»!
И болгары, бессарабы, молдаване, валахи, сербы, венгры, австрийцы, баварцы, вюртембержцы, баденцы ответили ему как один человек и осушили содержимое своих кубков.
Наконец председатель заявил, что хотел бы выпить за здоровье каждого члена «Дунайской удочки». Но, поскольку их число достигло двухсот семидесяти трех, вынужден ограничить себя и объединить свои чувства в одну общую здравицу.
Несмотря на это ограничение, в ответ раздалось тысячекратное «ура!», которое продлилось до полной потери голоса у кричавших.
Этот, второй по счету, номер церемонии последовал сразу за первым, включавшим застольные экзерсисы.
Третий номер должен был заключаться в провозглашении лауреатов состязания в Зигмарингене.
Как мы прекрасно помним, рыболовов оценивали по двум различным номинациям, и, соответственно, призы, также различные, были приготовлены для каждой из них.
Первые предназначались тем рыцарям удилища, которые за отведенное время выловили наибольшее количество рыбы. Вторые — тем, кто стал обладателем самых крупных экземпляров. Могло, однако, произойти и так, что кому-то достанется двойная победа.
Каждый присутствующий, естественно, находился в тревожном ожидании, ибо, как уже говорилось, жюри хранило результаты в секрете. Но настал момент, когда тайное должно было наконец стать явным.
Председатель Миклеско взял официальный документ — список лауреатов в двух номинациях.
В соответствии с традицией, не идущей вразрез с уставом общества, первыми оглашались лауреаты, занявшие более низкие места. Таким образом интерес возрастал по мере чтения списка, присутствующие даже заключали пари по поводу тех или иных имен. Вполне вероятно, по крайней мере в Америке, что эти пари достигли бы огромных сумм, как если бы речь шла о выборах президента Соединенных Штатов.
Победители выходили к эстраде, председатель целовал их в обе щеки и к поцелуям добавлял диплом и денежную премию, чей размер определялся завоеванным местом.
Рыба, после пересчета собранная в садки, оказалась типичной для Дуная: колюшка, плотва, пескарь, камбала, окунь, линь, щука, голавль и прочие. Валахи, венгры, баденцы, вюртембержцы фигурировали в списке тех, кто получил небольшие призы. Хотя жюри действовало абсолютно честно и никто не мог упрекнуть его в пристрастности или несправедливости, тем не менее возникли некоторые разногласия. Так, по поводу третьего места, которое поделили молдаванин и серб, выловившие одинаковое количество рыбы, разгорелся ожесточенный спор, восстановивший двух лауреатов друг против друга. Они были соседями на рыбалке, концы их удочек и поплавки перепутались. И каждый настаивал на том, что жюри засчитало другому вытащенную им рыбу. Серб утверждал, что в его активе тридцать семь рыб, а не тридцать пять, молдаванин заявлял обратное.
Напрасные усилия: по существующим правилам жюри не принимало никаких протестов подобного рода. Вердикты его являлись окончательными и считались законными и справедливыми. Раз решено, что два участника поделили одно место, то сербу и молдаванину нечего и спорить.
Тем не менее ни тот, ни другой не соглашались уступить и после взаимных обвинений перешли к оскорблениям, а после оскорблений — к драке. Председатель Миклеско оказался вынужденным вмешаться и прибегнуть к помощи своих заседателей. Мало того, молдаване — члены общества — взяли сторону молдаванина, а сербы встали на защиту серба, вследствие чего произошла достойная сожаления баталия, которая с немалым трудом была остановлена. Правду сказать, когда на карту поставлено самолюбие, от этих рыболовов-любителей — таких спокойных и уравновешенных, не склонных к насилию — всего можно ожидать!
Когда порядок восстановили, оглашение лауреатов продолжилось, и, поскольку больше не оказалось никого, кто поделил бы одно место, никакой инцидент не нарушил хода церемонии.
Второй приз достался немцу по фамилии Вебер, поймавшему семьдесят семь рыбин различных пород, и это имя было встречено бурными аплодисментами. Вебера все хорошо знали, много раз он занимал высокие места на предыдущих состязаниях, и, возможно, некоторые даже удивились, что не он получил первый приз за количество пойманной рыбы.
Но нет! В садке немца фигурировало только семьдесят семь, семьдесят семь считанных и пересчитанных рыб, тогда как его конкурент, если не более ловкий, то более удачливый, сдал садок с семьюдесятью девятью рыбами.
Итак, прозвучало имя победителя по количеству пойманной рыбы: им оказался венгр Илья Круш.
Вместо аплодисментов по собранию пронесся удивленный шепот. Дело в том, что имя это было почти не знакомо членам «Дунайской удочки», в которую победитель вступил совсем недавно.
Поскольку лауреат не вышел к эстраде за премией в сто флоринов, началось вручение призов во второй номинации, то есть по весу. Среди призеров значились румыны, сербы, австрийцы, ни одного поделенного места не оказалось, и потому не последовало ни протестов, ни споров.
Когда огласили имя второго призера — Иветозара, одного из заседателей, — ему аплодировали так же, как немцу Веберу. Он победил с голавлем весом в три с половиной фунта, который, несомненно, ушел бы, если бы не хладнокровие и ловкость этого рыбака. Иветозар был один из самых видных, самых активных, самых преданных членов общества, ему принадлежал рекорд по полученным призам. Его также приветствовали дружными рукоплесканиями.
Оставалось только огласить первого призера, и сердца собравшихся трепетали в ожидании имени лауреата.
Однако какое удивление, больше чем удивление — изумление воцарилось в аудитории, когда председатель с тщетно скрываемой дрожью в голосе произнес:
— Первый по весу за щуку в семнадцать фунтов — венгр Илья Круш!
Опять тот же лауреат, второй раз прозвучало его имя!..
Полная тишина установилась в собрании, руки, готовые к аплодисментам, остались неподвижными, глотки, готовые прославлять победителя, не исторгли ни звука. Острое любопытство захватило присутствующих.
Илья Круш... Появится ли он наконец? Решится ли получить из рук председателя Миклеско почетный диплом и сто флоринов?
Внезапно по рядам пробежал ропот.
Один из присутствующих, который скромно держался в стороне, приподнялся и направился к эстраде.
То был венгр Илья Круш.
II У ИСТОКОВ ДУНАЯ
Илья Круш оказался мужчиной среднего роста, плотного телосложения, лет пятидесяти. У него были голубые глаза, того голубого цвета, который можно назвать венгерским, светлые волосы, уже отдававшие желтизной, не очень густые усы и бакенбарды, довольно крупная голова, несколько сужающаяся кверху, широкие плечи и еще крепкие руки и ноги. Илья Круш, хотя и предававшийся мирному досугу рыболова-любителя, оставался полон сил, духовное и физическое начало в нем счастливо дополняли друг друга, доброе сердце прекрасно уживалось с добрым здравием, и одно не вредило другому. Во всяком случае, составить себе ложное представление об этом человеке было невозможно: перед собранием предстал славный малый, предупредительный и любезный, легко привязывающийся к людям и всегда готовый помочь им. С добродушной физиономией и уравновешенным нравом, он практически полностью соответствовал привычным представлениям о рыболовах и никак не мог подмочить репутацию своих собратьев. Но прежде всего это была личность, не ищущая ни шума, ни блеска, — сдержанность дважды лауреата «Дунайской удочки» заметили все.
Большинство присутствующих почти или совсем не знали победителя. Никогда раньше он не участвовал в состязаниях общества. В его ряды он вступил только пять или шесть месяцев назад под именем Ильи Круша, венгра из маленького городка Рац-Бече[14], что на правом берегу реки Тисы, притока Дуная. Эти сведения он сообщил, когда делал свой вступительный взнос. Таким образом, победитель являлся членом общества, как и все прочие, но, повторим, в первый раз участвовал в соревнованиях и добился потрясающего успеха в обеих номинациях сразу: по весу и по количеству!
Илья Круш, прибыв в Зигмаринген накануне, явился на состязания только утром и занял место, которое уготовила ему судьба на левом берегу реки. Это место оказалось самым последним вниз по течению. Полный комплект снастей, аккуратно уложенная сумка — все указывало на серьезного, можно даже сказать, незаурядного рыболова, в общем, на настоящего профессионала. Но никто из собратьев не обратил на него внимания, и среди сотни соперников он был самым неприметным.
Из своей безвестности Илья Круш вышел лишь тогда, когда его дважды вызвали к эстраде на вручение дипломов и премий за первые места. На его добром круглом лице запечатлелось выражение нескрываемой радости, но при этом было непохоже, что он чрезмерно возгордился. На эстраду мелкими шажками поднялся человек, судя по всему, привыкший считать ступеньки на лестнице, слегка склонился к столу, пожал руку председателю Миклеско и спустился, смущенно потупив глаза. Его щеки слегка окрасились румянцем, когда раздались аплодисменты в честь дважды лауреата.
Чтобы завершить это послеполуденное мероприятие, оставалось только выпить в последний раз за успех «Дунайской удочки», что и было сделано настолько добросовестно, что ни в бутылках, ни в стаканах не осталось ни одной капли жидкости. И если в этот день подвалы трактира «Встреча рыболовов» не оказались полностью опустошенными, то только потому, что его хозяин проявил чудеса предусмотрительности. Однако пришла пора разойтись и этим неугомонным любителям выпить.
Около шести вечера председатель Миклеско пожал всем руки и пригласил участников на следующее состязание по рыбной ловле, сказав, что время и место будут определены позднее. Так как «Дунайская удочка» объединяла представителей разных народов, то соревнования последовательно проводились в каждой из придунай-ских стран. Кроме того, многие претенденты на дипломы и премии приезжали издалека, а в этот раз, поскольку конкурс проводился почти у истоков Дуная, обратный путь для тех, кто жил поблизости от устья, был очень долгим.
Что касается Ильи Круша, то ему предстояло совершить половину этого пути, поскольку он жил в одном из маленьких венгерских городков.
Само собой разумеется, газеты Центральной Европы подняли большой шум вокруг конкурса, который навсегда останется в анналах «Дунайской удочки». Такое случалось редко, точнее, не случалось ни разу, чтобы один и тот же человек занял первое место в обеих номинациях. Поэтому не стоит удивляться тому, что Илья Круш быстро стал знаменитым. Венские, будапештские, белградские газеты посвятили ему хвалебные статьи. Венгрия по праву гордилась тем, что произвела на свет такого героя. Его прославляли не только в прозе, но и в стихах, в его честь сочинили даже несколько песен.
Как же этот скромный человек — а сомнений в его скромности не могло и возникнуть, — отнесся к такой славе? Заткнул уши при звуках медных труб, доносящихся со всех сторон? Вознамерился спокойно вернуться в свой городок, чтобы снова погрузиться в привычную, мирную жизнь, посвященную непреодолимой страсти к рыбалке?.. Никто не мог ответить на этот вопрос. Церемония завершилась, садок и сачок в одной руке, удочка — в другой, и победитель удалился в сторону верховья, тогда как его собратья направились в Зигмаринген.
Таким образом, в течение двух последующих дней невозможно было узнать, что стало с Ильей Крушем. Если бы он сел в поезд, идущий в Рац, то его возвращение, конечно, не осталось бы незамеченным, газеты непременно проинформировали бы об этом общественность; но доподлинно известно, что, покинув Зигмаринген, он не отправился в Венгрию.
Следует также отметить, что личность Ильи Круша не была подтверждена документально. Ему, как и каждому члену «Дунайской удочки», верили на слово. Победитель только что завершившихся соревнований утверждал, что он — венгр из Нижней Венгрии, и не имелось никаких оснований в том сомневаться. Он сделал вступительный взнос и находился в равном со всеми положении. От членов «Дунайской удочки» требовалась одна-единственная вещь — быть страстно преданными рыбной ловле и считать это благородное занятие высшим по сравнению со всеми прочими «из репертуара человечества»!
Многие считали, что после достигнутой победы Илья Круш вряд ли пренебрежет возможностью участвовать в последующих состязаниях, на которые шесть раз в год собирались члены рыболовного братства. Скорее всего он еще не раз заявит о себе — и, кто знает, возможно, фортуна опять ему улыбнется. Но в любом случае это произойдет не раньше чем через два месяца, и, вполне вероятно, счастливый победитель вернется в свои родные края, в свой город, где сограждане окажут ему столь же восторженный, сколь и заслуженный прием.
Но каково же было всеобщее удивление, когда 26 апреля в одной венской газете появились следующие строки:
«Имя Ильи Круша сейчас у всех на устах. Известно, какого двойного успеха добился он на последнем состязании “Дунайской удочки”, и, естественно, после такого урожая наград вполне позволи-
тельно возлечь на триумфальном ложе, чтобы вкусить плоды своих побед.
Однако что же мы узнаем? Этот удивительный венгр готов вновь поразить всех. Он не довольствуется дипломами и премиями, врученными ему председателем Миклеско, и собирается поставить другой рекорд, поскольку в будущем такая возможность может и не представиться.
Да! Если мы хорошо проинформированы — а всем известно, сколь достоверны обычно наши сведения, — Илья Круш предполагает спуститься вниз по Дунаю. С удочкой в руке он проплывет всю великую реку от истоков в герцогстве Баден до дельты у Черного моря, всего около семисот лье!
Уже завтра Илья Круш забросит крючок с наживкой в воду могучей интернациональной реки, и стоит задаться вопросом: не слишком ли оскудеют ихтиологические запасы прекрасного Дуная в самое ближайшее время?!
Мы будем держать читателей в курсе этого оригинального и, несомненно, единственного в мире предприятия».
На этой фразе заканчивалась статья, привлекшая к герою дня внимание как Старого, так и Нового Света.
Итак, Илья Круш намеревался пройти весь Дунай и попутно ловить рыбу, но об условиях этого путешествия австрийская газета не сообщала. Собирается ли он передвигаться пешком по тому или другому берегу?.. Или будет плыть по течению на какой-нибудь лодке?.. И что станет делать с рыбой, пойманной за время своего путешествия, которое продлится никак не меньше нескольких месяцев?.. Будет ли питаться собственным уловом или решит продавать его в прибрежных городах и деревнях?..
Короче говоря, любопытству не было предела. Одни сочли это сообщение газетной байкой, другие же, и таких оказалось большинство, напротив, восприняли новость совершенно серьезно. Многие даже заключали пари: или данное предприятие завершится благополучно, или после первого контакта с Дунаем у самого его истока смелый рыболов откажется от своего плана и не достигнет ни одного из многочисленных устьев реки.
Когда председателя Миклеско спросили, что он думает об Илье Круше, об этом оригинале, он не смог дать удовлетворительного ответа и объяснил почему:
— Я и мои коллеги не много знаем о победителе последнего состязания. Он совсем недавно вступил в наше общество, и никто раньше не был с ним знаком. Круш показался мне простым, уравновешенным человеком, тем, кого охотно называют добрым малым. Но, несомненно, судя по задуманному им предприятию, за этим простодушием прячется энергичный характер, поистине недюжинная стойкость и редкая воля!
Председателя спросили, сообщил ли ему герой дня о своих планах.
— Ни слова, — последовал ответ. — Я узнал о них только из статьи в газете.
— И больше не видели Илью Круша?
— Нет, я не видел его после вручения премии, — подтвердил председатель, — и это довольно странно. Казалось бы, о своих планах ему надлежало поставить в известность, по крайней мере, коллег из «Дунайской удочки», чьим дважды лауреатом он только что стал!
Председатель Миклеско был прав. Довольно странно, что Илья Круш до такой степени скрытен. Но, в конце концов, от подобного оригинала всего можно ожидать.
Но тогда, если Илья Круш ни слова не сказал комитету общества, может, он говорил с газетчиками и те получили сведения от него лично?
Нет, похоже, этот слух, так же как и многие другие, возник сам собой. Тогда стоит ли ему доверять?
В конце концов, ждать оставалось недолго. Если верить столь хорошо информированной газете, 27 апреля предприятие начнет осуществляться, и, следовательно, через сутки все поймут, что к чему.
Несколько граждан, из самых нетерпеливых, в надежде встретиться с Ильей Крушем, искали его в гостиницах и ресторанах Зигмарингена, но все напрасно. Похоже, он не задержался в городе. Как мы помним, по завершении церемонии победитель пустился в путь по правому берегу вверх по течению реки. Уместно было задаться вопросом, не вознамерился ли рыболов выяснить точное местоположение истока Дуная.
Скорее всего тем, кто интересовался задуманным проектом, надлежало искать Илью Круша в нескольких лье от Зигмарингена, если только, вопреки сообщению австрийской газеты, лауреат «Дунайской удочки» не отправился восвояси по железной дороге, совершенно не подозревая о том, что вновь стал объектом всеобщего внимания.
Во всяком случае, возникало одно затруднение: определено ли с точки зрения географической науки местоположение истока или истоков великой реки? Зафиксировано ли оно на карте с точностью, которой должен подчиниться Илья Круш? Не существовало ли некоторых разночтений в этом пункте, и не получится ли так, что загадочного венгра будут пытаться настичь в одном месте, а он окажется в другом?..
Можно утверждать, что Дунай, или Истр, как называли его в древности, берет начало в великом герцогстве Баден, географы называют даже координаты его истока: 6° 10' восточной долготы и 47°48' северной широты. Даже если предположить, что эти координаты верны[15], приводятся они с точностью до минуты, а не секунды, что дает повод для довольно значительных расхождений. Однако, в соответствии с проектом, речь шла о том, чтобы забросить удочку в точке, откуда истекает первая капля дунайской воды.
Но в конце концов, заметим, абсолютная математическая точность в данном вопросе не столь уж и важна. Никто не навязывал Илье Крушу этого проекта. Он был его единственным автором, и кто же станет выяснять, начал ли венгр свою экспедицию именно там, где действительно рождается великая река. Главное состояло в том, чтобы присоединиться к рыболову, когда его поплавок в первый раз устремится в сторону низовья.
Если обратиться к легенде, долгое время считавшейся географическим фактом, то Дунай берет начало просто-напросто в саду князей Фюрстенбергских. Колыбелью ему служит мраморный фонтан, откуда многие туристы наполняют фляги водой, медленно перетекающей через край. Неужели у этого неисчерпаемого водоема и следует поджидать Илью Круша утром 27 апреля?
Ведь на самом деле настоящий, подлинный, исток великой реки — теперь это достоверно известно — образуется слиянием двух речек — Бреге и Бригах, которые стекают с высоты 875 метров в одном из лесов Шварцвальда[16]. Их воды соединяются воедино возле До-науэшингена, в нескольких лье[17] выше Зигмарингена, и получают здесь общее название Донау[18], преобразуемое в Дунай.
Если один из этих ручьев более других заслуживает считаться самой рекой, то это Бреге, чья протяженность превышает тридцать семь километров и чей исток находится в Бризгау.
Самые завзятые болельщики решили, что пунктом отправления Ильи Круша, — во всяком случае, если тот действительно собирается в путь, — будет Донауэшинген, именно туда они, по большей части члены «Дунайской удочки», и отправились вместе с председателем Миклеско.
Итак, с самого утра собравшиеся поджидали Круша на берегу Бреге у места слияния двух ручьев, часы шли, но герой дня все не появлялся.
— Он не придет, — вздохнул кто-то.
— Это всего лишь розыгрыш! — послышалось в толпе. — Нас просто дурачат.
И тогда председатель Миклеско встал на защиту венгерского рыболова.
— Нет, — не согласился он, — я не верю, что член «Дунайской удочки» надумал разыграть своих собратьев!.. Тогда его следовало бы с треском изгнать из наших рядов. Ведь в общество входят вполне достойные и серьезные люди, и ни один из них не может позволить себе подобное... Илья Круш, по-видимому, задерживается, и вскоре мы увидим его...
— Если только, — заметил секретарь, — дата объявлена правильно...
— А возможно, — последовало другое предположение, — этот человек никогда и не задумывал ничего подобного...
И в самом деле, не пошли ли гулять по миру россказни, не имеющие под собой никаких оснований, может, на свет появилась очередная «утка», «высиженная» ежедневной прессой? Какое же разочарование поджидает тогда европейскую общественность!
Незадолго до девяти часов из груди тех, кто собрался у места слияния Бреге и Бригаха, вырвался крик:
— Вон он, вон!
В двухстах шагах из-за поворота показалась лодка, направляемая кормовым веслом через водоворот рядом со стрежнем. Она следовала вдоль берега, управлял ею один человек. На корме стоял тот, кто несколько дней назад участвовал в состязании «Дунайской удочки», обладатель двух первых премий.
После церемонии Илья Круш добрался до лодки, служившей ему плавучим домом в нескольких километрах от Зигмарингена, вот почему искать его в городе было бесполезно. О намерении спуститься вниз по Дунаю венгр рассказал нескольким людям. От них информация дошла до газеты, статья в которой впоследствии и имела столь необыкновенный резонанс.
Достигнув нужной точки, лодка остановилась, и малый якорь зацепился за берег. Стоило Илье Крушу выйти на сушу, как его обступили собравшиеся. Рыболов казался несколько смущенным, — решительно, он не был человеком, готовым к публичным выступлениям.
Председатель Миклеско подошел к нему и протянул руку, которую Илья Круш почтительно пожал, предварительно стянув с головы меховую кепку из выдры.
— Илья Круш, — промолвил председатель Миклеско, исполненный своего обычного достоинства и торжественности, — я счастлив вновь видеть славного лауреата нашего последнего конкурса!
«Славный лауреат», немало растерянный, не зная что сказать, посмотрел налево, потом направо. Тогда председатель заговорил вновь:
— Поскольку мы встретили вас у истоков нашей интернациональной реки, должен ли я сделать вывод, что следует отнестись серьезно к проекту, который приписывается вам: спуститься с удочкой вниз по Дунаю до самого его устья?
Илья Круш молчал, опустив глаза, от смущения язык не повиновался ему.
— Мы ждем ответа, — настаивал председатель.
Еще минута безмолвия, после которой Илье Крушу удалось выдавить из себя:
— Да... господин председатель... есть такое намерение, потому-то я и забрался в эти места...
— И когда вы начинаете путешествие?
— Прямо сегодня, господин председатель.
— В этой лодке?
— В этой лодке.
— Без остановок?
— Нет... по ночам.
— Но речь идет о шести-семи сотнях лье...
— При десяти лье за двенадцать часов это займет около двух месяцев.
— Тогда в добрый путь, Илья Круш...
— Премного благодарен, господин председатель.
Илья Круш в последний раз откланялся и вновь впрыгнул в суденышко, любопытные же сгрудились на берегу, чтобы видеть его отплытие.
Венгр взял удочку, наживил ее, положил на одну из банок, затащил якорь на борт и мощным толчком багра оттолкнулся от берега. Усевшись на корме, он забросил удочку, а мгновенье спустя вытянул ее — на крючке трепыхался усач. В это время лауреат уходил за поворот, все присутствующие приветствовали его неистовыми криками восторга.
III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ
В Международную комиссию входило столько членов, сколько насчитывается стран, ограниченных или пересекаемых Дунаем с запада на восток.
Вот каков был ее состав: от Австрии — господин Цвидинек; от Венгрии — господин Ханиш; от герцогства Баден — господин Рот; от Вюртемберга — господин Церланг; от Баварии — господин Улеманн; от Сербии — господин Урош; от Валахии — господин Кассилик; от Молдовы — господин Тич; от Бессарабии[19] — господин Ходим; от Болгарии — господин Иоаннице[20].
Комиссия собралась 6 апреля в Вене, столице Австро-Венгрии, в большом зале Таможенного дворца. В тот день надлежало приступить к процедуре избрания председателя и секретаря.
И сразу началась самая настоящая битва, камнем преткновения стал национальный вопрос. Ничто не предвещало, что члены комиссии достигнут взаимопонимания, хотя обычно немцы, австрийцы, сербы, валахи, болгары и молдаване, хорошо знакомые с языками, бытующими в этой части Европы (вплоть до берегов Черного моря), легко находят общий язык.
Но мало обсуждать или спорить на одном языке. Главное — согласие на уровне идей.
Итак, именно на этом заседании малые страны не захотели признавать себя подчиненными странам крупным, и острая дискуссия восстановила их друг против друга. Баден, Сербия, Вюртемберг, Молдова, Болгария и Бессарабия выдвигали претензии, на удовлетворение которых не могли пойти ни Бавария, ни Венгрия, ни Австрия. И однако, национальные симпатии или антипатии не являлись главными в вопросе, который надлежало решить. Каждый из прибывших был назначен в комиссию правительством своей страны и представлял императора, короля, великого герцога, воеводу или господаря[21]. Таким образом, все имели равные права и ожидали, что права эти будут соблюдены, в частности, при выборе председателя Международной комиссии.
В этой ситуации произошло то, что чаще всего происходит, когда все упорствуют и никто не хочет уступить. Несомненно, из всех государств, чьи представители были в комиссии, самым значительным по положению в Европе, численности населения и богатой истории была Австро-Венгрия, и считалось, что председательство надлежит доверить либо господину Цвидинеку, либо господину Ханишу.
Ничего подобного. Как вы думаете, кому досталось наибольшее число голосов?.. Господину Роту, представителю герцогства Баден. Когда сей господин занял место в президиуме, назначение секретарем господина Хоцима из Бессарабии уже не представляло особого интереса.
Началась дискуссия, и, несмотря на естественные опасения, возникшие после дебатов по поводу выбора председателя, в ней не нашлось места для каких-либо более или менее серьезных инцидентов.
Впрочем, вот о чем шла речь и с какой целью Международная комиссия собралась в венском Таможенном дворце.
С недавнего времени различные государства, через которые протекает Дунай, пришли к выводу, и, надо заметить, совершенно справедливому, что между истоками и устьем реки процветает контрабандная перевозка товаров, в результате чего потери в сборе налогов достигают весьма значительных размеров.
Контрабандные товары были дороги. К ним относились роскошные ткани, отборные вина, консервы и прочие продукты питания, подлежащие таможенным ограничениям.
Откуда поступали эти товары? Куда переправлялись? Самые тщательные поиски полицейских и таможенников не дали ответа на эти вопросы.
Предположение, что контрабанда осуществляется по суше, не подтвердилось. Все заставляло думать, что она проходит по реке.
За судоходством велось тщательное наблюдение. Несмотря на громкие протесты, все дунайские плавучие средства подвергались ежедневному досмотру, корабли арестовывались, задерживались, досматривались, даже подвергались принудительной разгрузке. При этом, конечно, законопослушные торговцы и перевозчики несли существенные убытки.
Пресечь контрабандный промысел так и не удалось. По-прежнему различные товары без всякой пошлины достигали устья реки, где их уже поджидали суда под парами. Отсюда корабли устремлялись к различным точкам побережья Черного моря, а там незаконный груз переправлялся во внутренние районы континента.
Это продолжалось уже несколько лет, и были все основания полагать, что теми же путями распространялись оружие и боеприпасы, когда какая-нибудь война вспыхивала в причерноморских провинциях.
Как бы там ни было, правительства до сих пор оставались в неведении относительно численности контрабандистов, того, какими средствами они располагают, и представители каких народов входят в преступную организацию. Никто из злоумышленников ни разу не был взят с поличным. Поэтому таможня и полиция требовали установить на всем протяжении Дуная неусыпное круглосуточное наблюдение.
Именно в этих целях и была создана Международная комиссия, чье первое заседание посвящалось обсуждению столь серьезных и трудных вопросов.
Председатель Рот, заняв место в президиуме, довел до коллег сведения, собранные самыми различными путями. Из его выступления следовало: придунайские государства несут от контрабанды огромные потери; где накапливаются барыши преступников и как используются — неизвестно, но долее терпеть такое положение вещей уже невозможно. И Международная комиссия должна в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
Один из членов комиссии, господин Кассилик, представитель Валахии, задал следующий вопрос:
— Я желал бы знать и, думаю, мои коллеги тоже, падало ли на кого-нибудь конкретно особое подозрение в контрабанде, осуществляемой как в верхнем, так и в нижнем течении Дуная?
— Могу ответить утвердительно на ваш вопрос, — сказал председатель Рот.
— И этот человек — руководитель преступной организации?
— Есть все основания так полагать.
— И кто же он?
— Некто Лацко, имя это иногда упоминалось в...
— Кто он по национальности?
— Достоверно неизвестно, но, возможно, серб.
Похоже, это пришлось не по вкусу представителю Сербии, господину Урошу, и он счел необходимым заявить протест.
В ответ господин Рот заявил, что сведения, находящиеся в его распоряжении, не вполне достоверны, но, даже если главаря контрабандистов действительно зовут Лацко и тот взаправду серб, это никоим образом не может бросить тень на страну, которой правили королевские династии Стефановичей[22], Бранковичей[23], Церинов[24] и Обреновичей![25]
Господин Урош вполне удовлетворился услышанным. Надо ли говорить, что ситуация развивалась бы точно так же, если бы была уязвлена национальная гордость немцев, австрийцев, венгров, валахов и прочих. Вот только председателю Роту пришлось бы в свое оправдание перечислить другие монаршьи имена.
Итак, подозрения полиций разных стран падали на некоего Лацко, но единственно потому, что это имя назвалось в одном из писем, перехваченных на почте в Пеште[26]. Что же до того, кто его носил, то он был достаточно осмотрителен и ловко ускользал от всех преследователей, его никто не знал и никогда не видел. Был ли он главарем организации и управлял ею из какого-нибудь прибрежного или иного города?.. Сам ли участвовал в контрабанде на всем протяжении реки?.. Неизвестно. Впрочем, можно было предположить, что если Лацко его настоящая фамилия, то он действует под другим именем, совершенно неведомым полиции.
Итак, в проблеме, которую предстояло разрешить комиссии, было много вопросов и очень мало ответов.
Не приходилось сомневаться, что товары значительной стоимости переправляют контрабандным путем к Черному морю.
А вот организация этого обширного и преступного предприятия была неизвестна, как неизвестным было и то, какими средствами она располагает и кто ее возглавляет. Возможно, некий Лацко, серб по национальности.
В этот момент обсуждения молдаванин Тича предложил назначить крупное вознаграждение тому, кто задержит Лацко и выдаст полиции.
— До сих пор, — заметил он, — предлагаемые вознаграждения были незначительными, слишком незначительными, следует увеличить их так, чтобы перед соблазном крупной суммы не устоял кто-нибудь из членов организации контрабандистов!
По правде говоря, в предложении этого молдаванина был определенный резон.
— Какая награда предлагалась до сих пор? — спросил баварец Улеманн.
— Пятьсот флоринов, — ответил секретарь Хоцим.
— Пять сотен флоринов, когда речь идет об операциях контрабандистов, дающих в сто раз большую прибыль?! — удивился молдаванин. — Этого недостаточно!
Вся комиссия поддержала его и по предложению председателя Рота назначила награду в две тысячи флоринов.
— Было бы неплохо, — добавил вюртембержец Церланг, — подкрепить денежное вознаграждение какой-нибудь почетной наградой...
— При условии, что она не достанется одному из польстившихся на две тысячи флоринов бандитов-предателей, — возразил болгарин Йоаннице.
Но это разумелось само собой.
Тогда председатель высказал следующую мысль: если организация преступников подчиняется одному лицу — не важно, Лацко или кому-то другому, — то и международная полиция, обязанная выследить контрабандистов, тоже должна иметь одного руководителя, который держал бы в своих руках все нити следствия, которому бы подчинялись все секретные агенты, готовые связываться с ним днем и ночью. Наконец, это должен быть руководитель, не только обладающий всей полнотой власти, но и несущий всю полноту ответственности за свои действия и указания.
— До сих пор, — провозгласил Рот, — полиция и таможня не могли идти в ногу, поскольку не управлялись одной головой... Отсюда допущенные ошибки, досадные промахи, которых необходимо избежать в будущем.
Все поддержали заявление председателя. Комиссия назначит руководителя, которому будет дана вся власть над другими агентами. И она не разойдется, не сделав свой выбор, пусть даже это вызовет споры, аналогичные тем, что разразились при выборах председателя.
Но, прежде чем говорить о кандидатах, чьи достоинства необходимо обсудить, Рот захотел довести до сведения комиссии докладную записку директора венской таможни.
Вкратце в ней говорилось, что сейчас готовится новая контрабандная операция... В прибрежных районах Верхнего Дуная замечено значительное передвижение товаров, в особенности изделий мануфактуры. Попытки проследить за этим движением оказались напрасными... Оно осуществлялось с такой осмотрительностью, что следы контрабандистов очень скоро затерялись... Кроме того, в различных гирлах[27] реки появилось несколько подозрительных судов. Казалось, они ожидают сведений с суши. После более или менее продолжительного ожидания одни суда отправились к московитским[28] берегам, другие — к оттоманским[29]. Когда в море подозрительные корабли остановил военный патруль, они предъявили документы, которые оказались в полном порядке, и как ни в чем не бывало продолжили свой путь.
Кроме того, в записке указывалось, что наблюдение на всем протяжении Дуная должно стать строже, чем когда бы то ни было. Полученные данные позволяют предполагать, что новая операция контрабандистов уже началась, и Международной комиссии придется принять самые решительные меры, чтобы покончить с мошенниками.
Короче говоря, председатель Рот и его коллеги твердо решили употребить все возможные средства, чтобы остановить эту преступную деятельность, раскрыть главу банды и его сообщников и тем самым полностью уничтожить эту злодейскую организацию.
Оставалось теперь организовать свои действия наиболее эффективным образом, сосредоточив управление в одних руках. То, что таможня, с одной стороны, и полиция, с другой, должны действовать согласованно, не подлежало обсуждению, да, впрочем, они и так уже работали рука об руку. Таможенные катера наблюдали за Дунаем, останавливая для досмотра спускавшиеся по течению суда. Что же касается берегов, то между городками и деревнями по всей длине реки курсировали полицейские отряды, непрестанно увеличивавшие свои круглосуточные обходы.
Но эти средства ни к чему не приводили — возможно, из-за отсутствия единства в руководстве служб различных стран. Именно этот пробел собиралась восполнить Международная комиссия.
Наконец председатель открыл обсуждение кандидатур на пост руководителя операции.
Дискуссия не заняла много времени. Австрия, Венгрия, Болгария, Вюртемберг и другие выдвинули своих соотечественников, работавших в полицейских учреждениях этих стран. Каждый отстаивал своего кандидата буквально с пеной у рта. Кто бы мог подумать, что Центральная Европа располагает таким запасом высококвалифицированных полицейских! В итоге могло произойти то же, что при выборах председателя, когда, устав от баталий, комиссия в конце концов остановилась на представителе одного из незначительных государств.
На этот раз следовало поступить иначе, и если председатель Рот избирался открытым голосованием, то, чтобы назначить шефа полиции, необходимо было прибегнуть к избирательным бюллетеням.
В целом оказалось, что наиболее предпочтительные и примерно равные шансы у венгерского, баварского и молдовского кандидатов, у трех полицейских, чьи умелые действия в поимке преступников уже были не раз оценены по достоинству. Комиссия решила провести тайное голосование именно по этим трем кандидатурам. Постановили, что в первом туре достаточно набрать относительное большинство голосов, то есть пять из девяти, при этом никто не имеет права воздерживаться.
По приглашению председателя каждый написал имя своего избранника на бюллетене, затем они были сложены в шляпу. К слову говоря, в эпоху непрерывных выборов возникает вопрос: не является ли истинным предназначением шляпы служить урной для голосования, а не головным убором?
— Все проголосовали? — спросил председатель.
Да, из шляпы извлекли ровно девять бюллетеней.
Председатель приступил к их обработке, итоги секретарь Хоцим занес в протокол.
Семь голосов были поданы за кандидата от Венгрии Карла Драгоша[30], начальника полиции города Пепгга. На его кандидатуре после обсуждения сошлось большинство присутствующих.
Победа Драгоша была встречена с удовлетворением, и даже представитель Валахии Кассилик и молдаванин Тича, которые за него не голосовали, объявили, что охотно присоединяются к большинству.
Таким образом, можно сказать, голосование было единодушным.
В целом, этот выбор полностью оправдывался предыдущей разносторонней и успешной деятельностью Карла Драгоша.
Карл Драгош, сорока пяти лет, был человек довольно худощавый, наделенный более духовной силой, чем физической, однако крепкого здоровья, хорошо переносивший нагрузки, неизбежные при его должности, и отличавшийся редкой смелостью перед лицом всякого рода опасностей. Он жил в Пеште, потому что здесь располагалась его канцелярия, но чаще всего находился в отъезде, выполняя трудные или деликатные миссии. К тому же, будучи холостяком, Драгош не имел семейных забот и ничто не ограничивало свободы его передвижений. Он считался столь же умным, сколь и ревностным, очень надежным и активным агентом, с особым нюхом, таким необходимым в его профессии.
Поэтому неудивительно, что члены комиссии остановили свой выбор на Драгоше, после того как его соотечественник Ханиш ознакомил всех с заслугами начальника венгерской полиции.
— Мои дорогие коллеги, — сказал председатель Рот, — наше голосование не могло сойтись на более желательном имени, и комиссия поступила мудро, выбрав этого человека на пост руководителя предстоящей операции.
Было решено, что Карл Драгош, который в данный момент находился в Пепгге, будет срочно вызван в Вену, чтобы войти в контакт с членами комиссии до того, как те разъедутся. Его введут в курс того, что может быть ему еще не известно. Он выскажет свои соображения по дальнейшему ходу операции и тотчас приступит к делу.
Само собой разумелось, что выбор, который только что сделала комиссия, останется в строжайшей тайне. Широкая публика не должна знать, что Карл Драгош отныне руководит этим делом, важно не насторожить контрабандистов и не дать им возможности противодействовать полиции.
В тот же день в Пешт была отправлена депеша, приглашающая Карла Драгоша без промедления выехать в австрийскую столицу. Утром следующего дня ему надлежало явиться в Таможенный дворец на последнее заседание комиссии.
Прежде чем разойтись, председатель и его коллеги приняли решение собраться вновь, как только того потребуют обстоятельства, — либо в Вене, либо в любом другом из придунайских городов. В то же время в каждой стране члены комиссии будут внимательно следить за перипетиями расследования и все необходимые сообщения станут адресовать на имя господина Рота в Центральное столичное бюро. При этом еще раз было подтверждено: Карл Драгош располагает полной свободой действий, ему никто не должен чинить никаких препятствий.
Совещание завершилось, все разъезжались с надеждой, что благодаря новым мерам полиция наконец схватит Лацко, неуловимого главаря неуловимой организации контрабандистов.
IV ОТ ИСТОКОВ ДУНАЯ ДО УЛЬМА
Итак, началось путешествие вниз по великой реке, которая пронесет Илью Круша через два герцогства — Баден и Гогенцоллерн, два королевства — Вюртемберг и Баварию, две империи — Австро-Венгрию и Турцию, четыре княжества — Сербию, Валахию, Молдавию и Болгарию. И рыболов-оригинал надеялся легко одолеть этот маршрут протяженностью более шестисот лье, волны Дуная должны были донести его до самого Черного моря. При скорости одно лье в час он сможет проходить двенадцать лье от восхода до заката, если, конечно, никакая случайность не остановит его в пути. Но почему он должен задерживаться?.. Разве не проще спускаться вниз, чем подниматься вверх?.. Конечно, это так, при условии, что река не повернет вспять, от устья к истокам, чего вряд ли можно ждать даже от такой знаменитой и фантастической реки, как Дунай!
Плывя на своей рыбацкой лодке из Рац-Бече в Зигмаринген, Илья Круш частенько обращался за помощью к многочисленным пароходам или буксирам, курсирующим по реке, и ему никогда не отказывали. Впрочем, представляясь, он никогда не забывал упомянуть, что раньше был хорошим лоцманом. Несколько раз капитаны даже смогли убедиться в этом: он прекрасно знал все опасные проходы между бесчисленными островами, рассеянными по руслу Дуная.
Таким путем Илья Круш прибыл на соревнования «Дунайской удочки», членом которой состоял с недавнего времени, и мы видели, каков оказался его успех. Так стоило ли слишком удивляться, что этот столь же незаурядный, сколь и заядлый рыболов задумал интереснейший проект: пройти с удочкой шестьсот лье по реке.
Лодка Ильи Круша была плоскодонкой, длиной около двенадцати футов и шириной около четырех. В ее передней части находилась закругленная к носу рубка с тентом, в которой два человека могли укрыться от ненастья днем и выспаться ночью. Всю площадь рубки, закрывавшейся дверью, занимали матрацы и одеяла. Вдоль бортов плоскодонки располагались ящики для одежды и белья. На корме находился сундук, служивший одновременно сиденьем, в нем лежали разные инструменты и маленькая угольная печка с жаровней, удобная для жарки картошки и мяса. Впрочем, Илья Круш в любой момент мог запастись топливом и продовольствием в прибрежных городах, поселках и деревнях, продав свой улов, конечно, если рыбалка окажется успешной. Несомненно, во время этого путешествия, которое должно было сделать еще более знаменитым имя лауреата «Дунайской удочки», у него не будет недостатка в покупателях ни на левом берегу великой реки, ни на правом.
Добавлю, что лодка была оснащена всем необходимым для рыбной ловли: удочками, удилищами, сачками, подсачниками, поплавками, грузилами, зондами, крючками, искусственными мушками, запасом лески, полным набором инструментов и приманками для рыб различных видов. С утра до вечера Илья Круш намеревался прямо с лодки удить рыбу, а на исходе дня продавать ее. Ночью же он устроится поудобней в рубке и будет крепко спать до самого рассвета. Затем снова поплывет по течению и продолжит свое спокойное и неутомительное плавание, не нуждаясь ни в волоке по берегу, ни в паровом буксире.
Шел первый день путешествия. Всякий раз, когда лодка приближалась к берегу, там собирались зеваки и желали рыболову доброго пути. Даже лодочники — коих немало на Дунае — с интересом наблюдали за его маневрами, обменивались с ним приветствиями и не скупились на аплодисменты, когда ловкий венгр доставал из воды какую-нибудь особенно красивую рыбу.
И в самом деле, в этот день Илья Круш выловил около тридцати рыбин: усачей, лещей, плотвичек, колюшек, нескольких лобанов, которых иногда называют подустами. И когда над долиной начали опускаться сумерки, плоскодонка остановилась у левого берега реки в двенадцати лье от пункта отправления.
Ни разу Илья Круш не попадал в водовороты на излучинах реки, ни разу не прибегал к рулю. Чтобы выправить курс и не столкнуться с другими судами, идущими вверх или вместе с ним вниз по Дунаю, он использовал только кормовое весло. Конечно, всю пойманную рыбку наш герой не мог употребить один, но желающих ему помочь оказалось более чем достаточно. Когда плоскодонка пристала к большому старому дереву, росшему на берегу, лауреата «Дунайской удочки» с радостными криками окружили полсотни милых подданных герцогства Баден. Они собрались, чтобы воздать ему должное.
— Эй! Сюда, Круш! — слышалось со всех сторон.
— Стаканчик доброго пива, Круш!
— Мы купим вашу рыбу, Круш!
— Двадцать крейцеров[31] за эту, Круш!
— Один флорин[32] за ту, Круш!
Рыбак не знал, кого слушать, и очень скоро в его карманах уже позвякивало несколько звонких монет. Похоже было, что к премии, которую Илья получил за состязание, добавится со временем кругленькая сумма, если, конечно, энтузиазм его почитателей у истоков великой реки не иссякнет к ее устью!
Но, собственно, почему этот энтузиазм должен иссякнуть? Вряд ли люди перестанут оспаривать друг у друга рыбу, пойманную самим Ильей Крушем! Ведь как здорово заполучить несколько прекрасных лещей из собственных рук знаменитости. Возможно, заспиртованные, эти экземпляры попадут в какой-нибудь ихтиологический музей!.. Славному рыбаку не приходилось даже идти в ближайшие дома и предлагать там свой улов... Поклонники все разбирали на месте. Да, гениальная идея пришла в голову простому и честному Илье Крушу, не зря он отправился на соревнование дунайских рыболовов!
Само собой разумеется, его часто приглашали поужинать в кругу какой-нибудь гостеприимной семьи. Многие были бы счастливы видеть знаменитость за своим столом. Но, похоже, Круш не намеревался покидать свое судно без особой на то необходимости. Повторяем, сей скромник совсем не искал славы! Если он и не отказывался выпить вина, пива или ликера в одном из прибрежных кабачков, то всегда знал меру, чуточку отличаясь в этом от своих собратьев по «Дунайской удочке».
В половине девятого Илья Круш скрылся в своей рубке, а в девять уже спал крепким сном, который продолжался до первых лучей солнца.
Эти утренние часы, как известно, самые подходящие для рыбной ловли — как в хорошую погоду, так и тогда, когда при южном или юго-восточном ветре идет тихий теплый и прерывистый дождик. Настало утро, и Илья Круш услышал на прощание «Счастливого пути!» от двух-трех человек, поднявшихся в такую рань, чтобы проводить его; он отвязал лодку и сильным толчком багра направил ее в клубы легкого тумана, который скользил по поверхности воды.
Так прошел первый день, потом второй. Илье Крушу понадобилось пять суток, чтобы пройти пятьдесят лье от Донауэшингена до Ульма. Правду сказать, не все дни были равно благополучны. Не то чтобы какие-то неполадки случились с судном — фортуна по-прежнему была к нему благосклонна. Просто обстоятельства не всегда благоприятствовали рыбной ловле: один раз пошел проливной дождь, и тогда Круш, хорошенько укутавшись в брезентовый плащ и спрятав голову под капюшон, старался сколько мог держаться в середине реки, пока сильные волны не заставили его искать укрытие под одним из прибрежных деревьев.
Первого мая после полудня он причалил к набережной Ульма — второго по значению, после столичного Штутгарта, города королевства Вюртемберг.
Было только три часа, по дороге Круш продал весь свой утренний улов и потому мог отдохнуть до завтра, не заботясь о поиске покупателей. Впрочем, это выражение не совсем справедливо, поскольку покупатели сами искали его.
Оказалось, однако, что прибытие лауреата «Дунайской удочки» осталось незамеченным. Его ожидали только к вечеру, поэтому обычного шума и ажиотажа не было. И, очень довольный этим, Илья решил осуществить свою давнюю мечту посмотреть город, не привлекая к себе излишнего внимания. Прежде он никогда не бывал в Ульме и вот теперь получил такую возможность.
Сказать, что набережная была пустынна, будет неточным.
Какой-то человек следовал по берегу за готовившейся причалить лодкой, не сводя с нее глаз.
Узнал ли он Илью Круша? Как бы то ни было, последний ничуть не насторожился.
Незнакомец с острым взглядом, решительной походкой, хотя ему перевалило далеко за сорок, был среднего роста, довольно худощавый, затянутый в венгерский костюм, очень ладно на нем сидевший. Он то и дело оглядывался, будто опасался, что кто-нибудь увидит его или последует за ним. В руке этот человек нес кожаный чемодан.
Когда Илья Круш высадился на берег, незнакомец, похоже, обдумывал какое-то решение. Заговорить ли с рыболовом или вернуться в город, чтобы сообщить о его приезде?..
В это время невозмутимый Илья Круш как следует закрепил якорь, снова влез в лодку, закрыл дверь в рубку, убедился в том, что висячие замки на крышках ящиков заперты, спрыгнул на землю и, довольный тем, что его не сопровождает кортеж поклонников, совершенно свободно достиг первой улицы, ведущей к центру города.
Наблюдатель последовал за ним, держась в двадцати шагах позади.
Ульм разделяется Дунаем на две части, что делает левую часть вюртембергской, а правую — баварской[33], но в целом это очень немецкий город, и, если бы наш рыболов был знатоком, он смог бы заметать разницу между этим городом и городами его родной страны.
Может быть, человек, который преследовал его с северной части Ульма, хотел послужить ему в качестве чичероне[34]? Но он не пытался заговорить с Крушем и довольствовался тем, что не терял его из виду.
Ну а Илья Круш шел вдоль улиц, по сторонам которых располагались старые, открытые лавочки, магазины, в которые покупатели не заходят внутрь, поскольку торговля происходит с застекленных прилавков. Когда в городе дует ветер, стоит страшный грохот, так как на концах железных крюков раскачиваются тяжелые вывески, сделанные в форме медведей, оленей, крестов и корон.
Добродушный Илья Круш с широко раскрытыми глазами и разинутым от удивления и восхищения ртом шел наобум, справедливо полагая, что ноги сами приведут его к местным достопримечательностям. Достигнув старой крепостной стены, он оказался в квартале, где вдоль грязного ручья располагались сушильни мясников, торговцев потрохами и дубильщиков. Вдоволь насмотревшись на выставленное мясо, он соблазнился печенкой, пообещав себе зажарить ее на жаровне в лодке. Как большинство рыболовов, он не особенно любил рыбу, за исключением карпа и щуки, а вот котлетами и другими изделиями колбасников никогда не пренебрегал.
Илья Круш не ограничился только этой покупкой. Он знал, что старый имперский город славится улитками, объем продаж которых каждый год достигает нескольких миллионов штук. Наш герой тоже приобрел несколько дюжин, которые, несомненно, обошлись бы ему дешевле или же вовсе даром, если бы продавец знал, с каким знаменитым клиентом имеет дело. Но, Илья Круш, равнодушный к собственной популярности, надеялся, что его инкогнито не будет раскрыто и через какое-то время он сможет спокойно покинуть Ульм.
Слоняясь по городу наудачу, Илья Круш вышел наконец к собору, одному из самых смело задуманных в Германии. Его мюнстер[35] стремился вознестись в небо выше Страсбургского. Но сим амбициям не суждено было сбыться, и верхняя точка вюртембергского шпиля замирает на высоте трехсот тридцати семи футов[36].
Илья Круш не принадлежал к семейству верхолазов. Поэтому мысль подняться на мюнстер, чтобы охватить взглядом весь город и его окрестности, не пришла ему в голову. Но, если бы он все-таки полез наверх, его преследователь, чье присутствие рыболов до сих пор так и не заметил, несомненно, поспешил бы за ним. Незнакомец был рядом и когда Илья Круш любовался в соборе дарохранительницей, которую один французский путешественник, господин Дюрюи[37], сравнил с бастионом, оснащенным галереей и навесными бойницами, и при осмотре скамей на хорах, которые художник XV века населил знаменитыми в его время мужчинами и женщинами.
Вскоре неразлучная пара оказалась перед городской ратушей. Если бы Илья Круш захотел узнать возраст этого муниципального памятника, возможно, незнакомец ответил бы ему так: «Сим славным стенам более шестисот лет. Они старше, чем воздвигнутый столетием позже прекрасный фонтан Иорга Сирлина[38], которым вы можете полюбоваться на Рыночной площади напротив ратуши».
Но знатный рыболов не задавал вопросов никому — ни незнакомцу, ни какому-нибудь другому жителю Ульма. То, что он видел, без сомнения, отвечало его художественному вкусу, и после рыночной площади наш путешественник спустился обратно к левому берегу реки, поскольку намеревался воссоединиться с тем, что моряк назвал бы своим «портом стоянки».
Незнакомец пустился по тем же запутанным улочкам квартала, где без проводника никак не обойтись. Илья Круш несколько раз вынужден был спрашивать дорогу. Но человек-тень, который, несомненно, хорошо знал город, не воспользовался удобной возможностью оказать маленькую услугу Илье Крушу и войти с ним в контакт. Он по-прежнему оставался в роли наблюдателя.
Возвращаясь назад на набережную, Илья Круш несколько минут разглядывал людей, вышагивавших на длинных ходулях. Это развлечение очень популярно в Ульме, хотя в нем и нет той необходимости, которая была прежде в древнем университетском городе Тюбингене, где сырая и размытая почва совершенно не годилась для обыкновенных пешеходов.
Чтобы лучше разглядеть спектакль, разыгрываемый веселыми парнями, девушками, мальчиками и девочками, Илья Круш расположился в одном из кафе. Незнакомец сел за соседний столик. Оба заказали по кружке знаменитого местного пива.
Через десять минут они снова пустились в путь, который прервался еще раз ради последней остановки.
Илья Круш задержался перед магазинчиком, где продавались трубки. Незнакомец мог бы услышать, как он сказал:
— Отлично!.. Я чуть не забыл!
То, о чем Илья Круш так кстати вспомнил, было ольховой трубкой, ими очень славится Ульм. Он последовал совету торговца и выбрал себе трубку довольно простую, но способную вынести любые превратности плавания в шестьсот лье, затем тщательно набил ее, разжег и, окутанный клубами ароматного дыма, отправился дальше.
Уже почти стемнело, когда Круш оказался на набережной. Возможно, новость о его прибытии уже распространилась по городу. Несколько зевак рассматривали плоскодонку рыболова, развернувшуюся вдоль набережной. Сама по себе она не представляла интереса, упомянутых зевак привлекла сюда только слава ее хозяина. Но, поскольку этот хозяин не показывался, они отложили его чествование на более позднее время, решив вернуться утром, чтобы присутствовать при отплытии лауреата «Дунайской удочки».
Однако по той или иной причине Илья Круш, как мы помним, стремился избежать публичных демонстраций и поэтому намеревался отправиться в путь на рассвете, еще до появления первых любопытных.
Потихоньку спустившись по набережной, он незамеченным сел в лодку, проверил, не отвяжется ли среди ночи швартов, отужинал остатками обеда, и, сложив продукты, купленные в городе, проскользнул в рубку и закрыл за собой дверь. Наконец, очень довольный своим пребыванием в вюртембергском городе, он заснул мирным сном в надежде, что ничто не потревожит его покой.
Этот покой в самом деле никто не потревожил, однако до самого рассвета один человек, не удаляясь далеко от лодки, вышагивал взад-вперед по набережной, словно боясь, что Илья Круги воспользуется темнотой и вновь уплывет по течению или переправится с левого берега на правый.
Едва долина Дуная осветилась первыми лучами рассвета, как на борту судна началось движение.
Дверца отворилась, появился Илья Круш. Он потянулся, открыл один из боковых ящиков, достал стакан и бутылку вишневой наливки и сделал несколько глотков. Затем, раскурив купленную накануне трубку, с явным удовольствием выпустил несколько клубов дыма.
Заметил ли он незнакомца, стоявшего неподалеку, будто на часах? Маловероятно — тот держался в тени парапета, а день еще только занимался.
Набережная была пустынна, и, похоже, если зеваки вернутся, им нечем будет удовлетворить свое любопытство. Лодка, влекомая быстрым течением, будет уже далеко.
Илья Круш вытянул швартовый конец, намереваясь отвязать его и отчалить от берега.
В этот момент незнакомец спустился к воде и ухватился за конец каната.
— Друг мой, — обратился он, — вы — Илья Круш, не правда ли?
У отплывающего Ильи Круша, в общем, не было причин скрывать свое имя, и он неспешно ответил:
— Господи... да... господин...
— И вы намереваетесь отчалить?
— Как видите, господин...
Казалось, рыболов ждет, что незнакомец представится.
— Господин Егер[39], — услышал он наконец. — Я австриец, а поскольку вы венгр, мы созданы, чтобы понять друг друга.
— Что угодно господину Егеру? — В голосе Ильи Круша угадывалось некоторое недоверие.
— Господин Круш, я наслышан о ваших рыбачьих подвигах. И вот захотелось познакомиться с вами. Проект спуститься вниз по Дунаю с удочкой в руке весьма оригинален, и у меня появилось одно предложение.
— Какое, господин Егер?
— Во сколько вы оцениваете рыбу, которую рассчитываете поймать за время плавания?
— Может, в сотню флоринов, — поколебавшись, предположил Илья Круш.
— Хорошо, предлагаю вам пятьсот... Да, пятьсот флоринов, при условии, что каждый вечер буду забирать вашу выручку.
— Пятьсот флоринов! — охнул Илья Круш.
Решительно, рыболов из Рада мог заключить блестящую сделку. Две премии в Зигмарингене, то есть уже двести флоринов, плюс пятьсот господина Егера складывались в сумму, на которую он никак не рассчитывал. Оставалось только решить, можно ли всерьез отнестись к такому предложению.
— Что вы на это скажете? — Казалось, господин Егер боится получить от ворот поворот.
— А что тут скажешь, — пробормотал Илья Круш, — соблазнительно, господин Егер... если только вы не шутите...
— Я бы не позволил себе шутить с господином Ильей Крушем, — несколько сухо возразил господин Егер, — и вообще я никогда никого не разыгрываю.
— Значит, — продолжил Илья Круш, — вы собираетесь подняться на борт моего судна...
— Именно так, господин Круш, это необходимое условие.
Илья Круш явно растерялся и никак не мог найти подходящего ответа.
— Ваше судно достаточно вместительно для двух человек...
— Конечно, господин Егер, и в рубке есть два места...
— Именно так мне и показалось.
— Но путешествие будет продолжительным... Может, месяца два, и...
— У меня в чемодане есть все необходимое: и белье, и одежда...
— Так вы уже основательно подготовились? — Илья Круш внимательно оглядел собеседника.
— Да, господин Круш. Я знал, что вы должны прибыть в Ульм, и поджидал вас... я шел за вами во время вашей прогулки по городу... даже оставался всю ночь на набережной, чтобы не пропустить вашего отплытия... и я готов прямо сейчас, если вы позволите составить вам компанию, отправиться в путь.
— И предлагаете пятьсот флоринов? — переспросил Илья Круш.
— Ровно пятьсот, и вот половина в задаток. — Господин Егер протянул пачку банкнот.
Илья Круш принял деньги, осмотрел их, внимательно пересчитал, как бы давая понять, что еще не совсем доверяет господину Егеру, но того, казалось, это ничуть не задело.
К тому времени к берегу стали приближаться люди: одни шли сверху, другие — снизу, часть — по улицам левого берега. Никакого сомнения, весть о присутствии Ильи Круша разнеслась по городу, и, чтобы избежать встречи с поклонниками, рыболову нельзя было терять ни секунды.
Заметим, что господин Егер, чье лицо помрачнело при появлении любопытных, также заторопился. Он снова задал вопрос Илье Крушу:
— Так вы согласны?
Хотите — верьте, хотите — нет, но Илья Круш принял предложение, и минуту спустя плоскодонка уже отдалась течению, а господин Егер стоял на борту рядом с ним.
Когда зеваки приблизились к воде, лауреат «Дунайской удочки» находился в двадцати туазах[40] от берега, так что они смогли лишь издалека приветствовать его громкими «ура!».
V ОТ УЛЬМА ДО РЕГЕНСБУРГА
Даже в Ульме, пересекая очаровательное королевство Вюртемберг, Дунай представляет собой весьма скромную речку. Она еще не впитала в себя воды больших притоков, которые увеличивают ее мощь, и ничто здесь не предвещало ее превращения в одну из самых значительных рек Европы. Средняя скорость водного потока тут — лье в час. Тяжелые баржи, груженные почти до бортов, и лодки средних размеров спускались вниз по течению, одни просто сплавлялись, другие использовали утренний бриз, веющий из-под облаков на северо-востоке, и поднимали широкие паруса. Солнце сменяли легкие тучки, но дождя не ожидалось.
Такие погодные условия — самые благоприятные для рыбалки, и любой опытный рыболов не преминул бы ими воспользоваться, что уж говорить об Илье Круше!
Он тщательно и неторопливо приготовил снасти, как человек, чьим первейшим достоинством является терпение.
Его компаньон, сидя на корме, казалось, весьма заинтересовался этими приготовлениями. Он заявил, что искусство рыбной ловли особенно привлекает его своей непредсказуемостью.
Будучи по природе словоохотливым, хозяин лодки, не прерывая важных занятий, попробовал выяснить, а не является ли его гость сам рыболовом?
— Господин Егер, — начал он издалека, — мы отправились в долгое плавание...
— О, не по морю, всего-навсего по реке...
— Конечно, — согласился Илья Крут,— но оно, пусть и не такое опасное, продлится много недель, и вам может стать скучно... если только...
— Если только? — повторил господин Егер вопросительным тоном.
— Вы не такой же, как я...
— Какой, господин Круш?
— Рыболов... Как я...
— О! Я никчемный рыболов, — засмеялся господин Егер, — но жаждущий обучаться в вашей школе! Мне достаточно просто смотреть на то, что вы делаете, и, поверьте, это занятие не будет скучным ни секунды!
Смущенный Илья Круш кивнул, а господин Егер поинтересовался:
— Разве вы не начнете нынче же утром?
— Собираюсь, господин Егер, собираюсь, но спешка нам ни к чему... Рыба — существо недоверчивое, чтобы привлечь ее, нужно терпение и предусмотрительность. Попадаются очень умные рыбы, например линь... С ним надо соревноваться в хитрости, у него такая мощная пасть, что если он заглотит крючок и не сорвется с него, то может сломать удочку...
— Насколько я знаю, линь не очень ценится гурманами... — заметил господин Егер.
— Да, чаще всего он невкусный, поскольку любит тинистую воду, где добывает себе пропитание. Но, если повезет и у линя не окажется неприятного привкуса, он становится деликатесом.
— А щука, — поинтересовался господин Егер, — как, по-вашему, не является ли она одной из лучших с точки зрения стола?
— Разумеется, — согласился Илья Круш, — при условии, что она большая — весом не меньше пяти-шести фунтов, маленькие щуки очень костлявы. Но эту зубастую хищницу нельзя отнести к умным и хитрым рыбам...
— Неужели, господин Круш? А я всегда думал, что сии пресноводные акулы, как их называют...
— Столь же тупы, как морские, господин Егер. Безмозглые твари, такие же как окуни и угри! Поймать щуку — выгоды много, а чести мало! Это, как написал один тонкий знаток нашего дела, рыба, которую не надо «брать», поскольку она сама «отдается»!
Господин Егер мог только восхищаться убежденностью и уверенностью, с которой говорил господин Илья Круш, а также тем тщанием, с каким последний готовил свои снасти.
Прежде всего Круш взял удилище, одновременно эластичное и легкое, которое, после того как его перегибали почти до точки перелома, распрямлялось и становилось таким же прямым, как прежде. Оно состояло из двух частей: первая — крепкая, толщиной в четыре сантиметра — сужалась до одного сантиметра в том месте, где начиналась вторая — из тонкого и прочного дерева. Сделанное из орешника, удилище достигало больше четырех метров в длину. Рассудительный Илья выбрал его, чтобы, не удаляясь от берега, ловить на глубине лещей или красноперок. Благодаря гибкому концу удилища оно изматывает их и сводит на нет все рыбьи попытки сорваться с крючка.
И наконец, показав господину Егеру крючки, закрепленные на конце лески из крученого конского волоса, он сказал:
— Как видите, господин Егер, это крючки номер одиннадцать, очень тонкие. Я осторожно, протыкая только с одной стороны, наживляю на них мягкие шарики из пшенной каши, получается лучшая приманка для плотвы...
— Хотелось бы вам верить, господин Круш, — прервал собеседника господин Егер, — но если говорить не о рыбе, а о рыболове, то для него лучшее — это глоточек с утра. Немного водки, как мне кажется, показано...
И господин Егер вытащил из своего чемодана склянку, которая заиграла в лучах восходящего солнца.
— Что ж, охотно, — согласился Илья Круш, — но исключительно потому, что сейчас утро. Видите ли, трезвость для рыболова — прежде всего! Ни в коем случае нельзя употреблять белое вино — оно возбуждает, и вообще алкоголь влияет на глазомер... Предпочтительнее всего холодный кофе...
— Однако вы не откажетесь составить мне компанию, господин Круш?
— Ваше здоровье, господин Егер!
И два небольших стаканчика, наполненных отличной водкой, чокнулись друг о друга в знак доброй дружбы.
Ясно без слов, что, пока Илья Круш занимался своими приготовлениями, плоскодонка спокойно плыла по реке. Она сама держала курс, управлять ею не было необходимости. Да и кормовое весло находилось на месте, в задней уключине, так что, держа удочку в правой руке, рыболов мог поворачивать им левой. На этот раз Илья Круш не намеревался удаляться от левого берега, он рассчитывал пльггь вдоль него на расстоянии не более двух туазов.
— Все готово, — закончил он наживлять крючки. — Остается только попытать счастья.
Господин Егер прислонился к рубке, а Илья Круш сел на корму, положив рядом сачок.
После легкого и равномерного, можно даже сказать грациозного, покачивания удочка была наконец заброшена, крючки погрузились в слегка желтоватую воду, грузило придало им вертикальное, как того и требуют профессионалы, положение. Лебединое перышко, которое не смачивается в воде, служило превосходным поплавком.
Само собой разумеется, в лодке установилась полная тишина. Рыба может легко испугаться шума голосов, впрочем, у серьезного рыбака и так много дел, чтобы пускаться в разговоры. Он должен внимательно следить за всеми движениями поплавка и не пропустить тот единственный момент, когда следует подсечь добычу.
В то утро Илья Круш мог поздравить себя с очередным успехом. Он поймал около двадцати плотвичек, а также несколько голавлей и язей. Господин Егер только и делал, что восхищался скоростью и точностью подсечек, столь необходимых при ловле этой рыбы. Почувствовав, что клюет, Илья Круш не сразу вытаскивал на поверхность плотву или иную рыбу, демонстрируя редкостное хладнокровие — одно из главных качеств всякого рыболова, достойного этого звания, он давал ей побиться в глубине, устать от бесплодных попыток сорваться с крючка и только тогда вытаскивал из воды.
Когда рыба была уже в лодке, беседа возобновилась. Илья Круш отнюдь не стремился утаивать секреты своего мастерства, поскольку не принадлежал к числу тех эгоистов, которые берегут исключительно для себя все приобретения многолетней практики. Господин Егер живо интересовался уроками столь выдающегося учителя, и не было никаких сомнений, что по прошествии какого-то времени он осмелится вооружиться второй удочкой хотя бы для того, чтобы скрасить долгие часы плавания.
Рыбалка закончилась к одиннадцати часам. Солнце стояло почти в зените, его лучи сверкали на поверхности дунайской воды, рыба больше не клевала, теперь только на закате радужного светила Илья Круш мог снова взяться за свой труд.
— Господин Егер, — сказал он, — прошедшие часы самые благоприятные для рыбалки, по крайней мере, в теплое время года. Зимой, наоборот, больше шансов на успех в середине дня.
Они пообедали не только продуктами, которые Илья Круш закупил накануне в Ульме, но и консервами, хранившимися в бортовых ящиках, а также окороком, который господин Егер извлек из своего чемодана. Съестные запасы австриец намеревался пополнять столько раз, сколько потребуется. Он не собирался в течение всего путешествия питаться за счет своего хозяина, а Илья Круш отдал должное угощению, произведенному на лучших колбасных фабриках Майнца.
После полудня, пока Илья Круш дремал, не выпуская изо рта трубку, господин Егер внимательно рассматривал оба берега, корабли, шедшие вверх и вниз по реке на буксире или влекомые течением. Вдоль правого берега, отвоеванного у реки для строительства железной дороги, ходили поезда, пыхтели паровозы, и их дым иногда смешивался с дымом пароходов, чьи колеса взбивали воды реки.
Илья Круш, похоже, не замечал, сколь пристально его спутник изучал как суда, уже довольно многочисленные в этой части Дуная, так и транспортные средства, курсировавшие на его берегах. Другой, более наблюдательный или менее равнодушный ко всему, что не касалось рыбной ловли, человек, несомненно, обратил бы на это внимание.
На закате дня удочка снова была заброшена. Дюжина рыб не отказалась от наживки. И утренняя и вечерняя добыча была продана по хорошей цене в маленькой деревушке, близ которой лодка провела ночь. В соответствии с договоренностью выручка от продажи улова перешла в карман господина Егера. Но Илья Круш чистосердечно признался:
— Все равно, господин Егер, вам будет непросто возместить те пятьсот флоринов, что вы намерены заплатить за мою рыбалку!
— Это, господин Круш, мое дело, вот увидите, она окажется гораздо успешнее, чем вы думаете.
По правде сказать, в этих скромных деревеньках нельзя было рассчитывать на тот же ажиотаж вокруг лауреата «Дунайской удочки», какой имел место в больших городах, как, например, в Ульме.
Ничего особенного не произошло ни третьего, ни четвертого мая. Рыбалка проходила в тех же условиях и принесла ту же выручку.
Вечером якорь был отдан у набережной Нойбурга, это случилось после того, как лодка прошла под двумя мостами, обеспечивающими связь между берегами. Старинный город-крепость насчитывал около шести тысяч жителей, и не будет преувеличением сказать, что если бы господин Егер захотел, как говорят французы, «сделать немного рекламы», то половина населения сбежалась бы, чтобы посмотреть на Илью Круша, и приняла бы его так, как он того заслуживал. Но, мало того, что бравый рыбак отнюдь не искал приветствий толпы, его спутник, несмотря на то, что от этого страдала торговля, по каким-то своим причинам держался столь же скромно.
За три дня от Ульма до Нойбурга лодка прошла двадцать пять лье, но ей понадобилось только полдня, чтобы преодолеть двадцать километров от Нойбурга до Ингольштадта. Она остановилась у впадения Шуттера, одного из притоков великой реки. Здесь пришлось задержаться из-за сильных ливней, шквалистого ветра и своего рода шторма на Дунае.
Два путешественника почли за счастье укрыться от ненастья на постоялом дворе. Но непогода не помешала Илье Крушу пройтись по городку. Он даже предложил господину Егеру составить ему компанию, но тот предпочел остаться в гостинице и если выходил, то только чтобы прогуляться по берегу и, как всегда, посмотреть на движение судов.
Само собой разумеется, пообедали господин Егер и господин Круш вместе на постоялом дворе, они встретились за тем же столом и вечером, за ужином, который оплатил первый, за что получил благодарность второго. Дождь, слегка утихший после полудня, вечером пошел с новой силой. Поэтому господин Егер решил снять комнату на постоялом дворе. Но он занял ее один. Несмотря ни на что, Илья Круш решил вернуться на лодку.
— В моей рубке, — сказал он, — можно не бояться ни ветра, ни ливня, и я не хочу оставлять лодку на ночь без присмотра.
—Тогда до утра, господин Круш, — попрощался с ним господин Егер.
— До раннего утра, — уточнил Илья Круш, — так как мы отправимся на рассвете...
— Если позволит погода...
— Она позволит, господин Егер! Поверьте старому речному волку!
И старый речной волк не ошибся. Полночи под напором западного ветра ревели волны. Но затем ветер повернул к северу, и, когда первые лучи солнца показались на горизонте, слева от реки небо было уже совершенно чистым.
Господин Егер явился спозаранку, когда Илья Круш занимался уборкой, вычерпывая воду, скопившуюся на дне лодки.
— Вы были правы, — признал господин Егер, — небо ясно.
— Да, клев будет отличный! — с энтузиазмом отметил Илья Круш.
Четверть часа спустя лодка отчалила от набережной, но на этот раз, вместо того чтобы следовать вдоль левого берега, пересекла реку и поплыла по течению вдоль правого. Учитывая направление ветра, условия для рыбалки здесь обещали быть более выигрышными.
Миновав Ульм, Дунай течет в общем направлении с юго-запада на северо-восток. Между Нойбургом и Инголынтадтом он несколько раз принимает широтное направление, затем поднимается к северу и достигает своей самой северной точки на широте Регенсбурга. Этот город находится всего в сотне километров от Инголынтад-та, и лодка вполне могла достичь его вечером седьмого мая.
Как предрекал Илья Круш, рыбалка оказалась удачной. Он отлично умел подбирать наживку и выбирал то мошек для форели, голавля и пескаря, то мясные шарики для усача, то слизняков для угря, то головастиков для щуки.
В результате за утренние часы его сачок вытащил на борт около сорока различных рыб, почти таким же оказался и вечерний улов, хотя, возможно, большая скорость лодки мешала рыбалке. Течение было довольно быстрым, что позволило за двое суток преодолеть двадцать пять лье. Уже довольно поздно, почти в девять часов вечера, Илья Круш остановился у моста в Регенсбурге.
Продажу рыбы пришлось отложить на завтра. К тому же наш чемпион не собирался проводить весь день восьмого мая в этом городе, поскольку уже несколько раз бывал здесь. Но если господин Круш не горел желанием осмотреть Регенсбург, то, похоже, у господина Егера были другие намерения: он предложил провести здесь целые сутки.
— Я бы хотел, — сказал он, — посвятить этому городу весь завтрашний день. Мне необходимо урегулировать тут кое-какие дела, чтобы не возвращаться сюда специально еще раз.
— Никаких возражений, господин Егер, правда, мы слегка задержимся... Но раз это создаст вам неудобства...
— Спасибо, господин Круш, остается только пожелать друг другу доброй ночи.
Договорившись, отужинав, выкурив трубку, оба, полураздетые, вытянулись в рубке, и ничто не потревожило их сон вплоть до того момента, как восходящее солнце осветило огненной точкой острый шпиль собора на Гезандтенштрассе[41].
Самое время напомнить, что после отбытия из Ульма лауреату «Дунайской удочки» ни разу не оказывали того восторженного приема, с каким его встретили в баденском городе. Как могло случиться, что такая знаменитая персона проскользнула незамеченной между берегами Дуная? Ни в Нойбурге, ни в Ингольштадте не было ни толпы любопытных, ни даже дежурного, призванного сообщить о прибытии Ильи Круша.
Правда, газеты Ульма информировали о его отъезде утром седьмого мая, но при этом еще никто не прознал, что теперь он путешествует вниз по Дунаю не один. В тот момент, когда любопытные на набережной собрались попрощаться с ним, плоскодонка уже покинула берег, и никто не заметил его спутника. А иначе сколько было бы разговоров!.. Кто напарник рекордсмена?.. И на каких условиях Илья Круш согласился взять его с собой?.. В дело немедленно вмешалась бы ульмская пресса... Затем новость была бы воспроизведена всеми немецкими, австрийскими и венгерскими газетами со всяческими более или менее достоверными комментариями. Но, как ни странно, после Ульма новостей не поступало. Казалось, никто не знает, что стало с героем-рыболовом, столь восхваляемым до сих пор. Он спокойно прошел Нойбург, Ингольштадт, незамеченным проплыл мимо городков и деревней обоих берегов.
В Регенсбурге, так же как и в прочих местах, Илья Круш не стремился себя афишировать. Он, так же как и господин Егер, предпочитал сохранять инкогнито. Возможно, поэтому никто не обратил внимания на скромное суденышко среди многочисленных барж, стоявших на причале у набережной Регенсбурга. Отметим, что судоходство здесь очень оживленное, поскольку Дунай, после того как в черте города в него вливаются Наб[42] и Реген, становится достаточно глубоководным даже для кораблей водоизмещением в двести тонн.
Что до плоскодонки, то Илья Круш привязал ее у первой из пятнадцати арок моста, соединявшего два берега великой реки. Сооруженный в середине XII века, этот мост, длиной в триста шестьдесят футов и опирающийся на два острова, до сих пор самый большой в Германии.
Нам остается предположить, что жители Регенсбурга, который в течение пятидесяти лет был резиденцией имперского сейма, слишком поздно узнают, что после Карла Великого и Наполеона в их городе проездом целые сутки гостил лауреат «Дунайской удочки».
VI ОТ РЕГЕНСБУРГА ДО ПАССАУ
На следующий день на заре господин Егер первым выбрался из рубки, умылся прохладной речной водой, почистил одежду и, водрузив на голову шляпу с широкими полями, встал на корме лодки.
Отсюда было хорошо видно все, что делается впереди и позади ковчега. Взгляд напарника знаменитого рыболова по очереди направлялся на все без исключения суда, которые плыли по реке или стояли у набережных обоих берегов. Казалось, это зрелище чрезвычайно интересует его. Он следил за приготовлениями к отплытию, которые совершались там и сям, за поднятием парусов, за окутанными черным дымом трубами буксиров. Но больше всего его занимали баржи, которые спускались или готовились к отплытию вниз по Дунаю.
Через четверть часа к господину Егеру присоединился вылезший из рубки Илья Круш.
— Привет! Как спали? — поинтересовался он.
— Так же крепко, как вы, господин Круш. Так, как если бы провел ночь в лучшей комнате лучшей гостиницы. А теперь я вас покину до ужина. Увидимся вечером.
— Как вам угодно, господин Егер, и, пока вы занимаетесь вашими делами, я пойду продам наш улов на рынке Регенсбурга.
— Постарайтесь продать его как можно дороже, господин Круш, — попросил господин Егер, — так как речь идет о моей выгоде...
— Как можно дороже, не беспокойтесь. Но, боюсь, придется нам попотеть, чтобы выручить ваши пятьсот флоринов...
— Мне так не кажется, — только и заметил господин Егер, попрощавшись с господином Крушем.
Очевидно, австриец знал город, так как, не колеблясь, выбрал нужное направление, чтобы достичь центра. Недалеко от моста он оказался перед Домским собором с незавершенными башнями и рассеянно взглянул на примечательный портал конца XV века, затем зашагал вперед по тихим улицам этого шумного в прошлом города, до сих пор кое-где окруженного феодальными донжонами[43] в десять этажей. Теперь в Регенсбурге насчитывается всего двадцать шесть тысяч душ. Понятно, что господин Егер не пошел любоваться дворцом князя Турн и Таксис[44], готической часовней и готическим монастырем, а также коллекцией трубок, являвшейся украшением этой древней обители. Он тем более не посетил городскую ратушу, в прошлом резиденцию сейма, чей зал украшен старинными росписями и где находится камера пыток с различными орудиями, которую не без гордости демонстрирует местный привратник. Австриец не потратил тринкгелъд, как немцы называют чаевые, чтобы оплатить услуги чичероне. Ему не нужен был никто, чтобы добраться до «Дампфпшфсхоф»[45], следуя по улицам, обрамленным домами, чьи фасады украшают барельефы, изображающие гербы имперской аристократии.
Войдя в гостиницу, господин Егер сел за столик в вестибюле и попросил местные и иностранные газеты. Чтение заняло у него целый час, и, предупредив швейцара, что вернется к обеду, он покинул гостиницу, не назвав своего имени, что, впрочем, и не требовалось, поскольку австриец не собирался снимать комнату на ночь.
Если бы Илья Круш этим утром последовал за своим спутником, то увидел бы, как тот прямым ходом отправился на почту. Там господин Егер спросил, нет ли писем до востребования на инициалы X.K.Z.[46]
Его уже несколько дней дожидались два письма — одно из Белграда, с сербской маркой, другое из Измаила, молдовского города, расположенного близ устья Дуная.
Господин Егер взял письма и внимательно прочитал их. Лицо его при этом оставалось непроницаемым, затем он положил их обратно в конверты и засунул в карман.
Он собирался уже покинуть почту, как вдруг к нему подошел какой-то человек, довольно просто одетый.
Они явно были знакомы — господин Егер жестом остановил вновь прибывшего, когда тот едва не заговорил с ним.
Этот жест, очевидно, означал: «Не здесь... нас могут услышать».
Оба вышли на улицу и пошли бок о бок на соседнюю площадь. Тут они в полной безопасности проговорили минут десять. Господин Егер даже достал одно из писем и дал прочитать несколько строк своему собеседнику.
И, если бы Илья Круш был рядом, он услышал бы, как господин Егер говорит:
— Этот корабль прибыл в Никопол?[47]
— Да, но, сколько ни искали, ничего не нашли...
— Хорошо. Ты возвращаешься в Белград?
— Да.
— По всей вероятности, я буду там через три-четыре недели.
— Я должен дожидаться вас там?
— Непременно... Если только не получишь за это время других указаний.
И перед тем, как попрощаться:
— Ты что-нибудь слышал о некоем Илье Круше?
— Об этом рыболове, который решил спуститься вниз по Дунаю с удочкой в руках?
— Именно. Если я буду с ним, когда он прибудет в Белград или куда-то еще, делай вид, что не знаешь меня.
На этом они расстались; один стал подниматься по улице вверх, другой, господин Егер, направился к гостинице «Дампфшифсхоф».
Наступило время обеда. Но, прежде чем занять место за общим столом, господин Егер зашел в вестибюль, написал два письма, несомненно, в ответ на полученные утром; затем, бросив запечатанные конверты в ближайший почтовый ящик, сел обедать.
За столом уже сидели пять или шесть человек, болтавших о том о сем. Господин Егер ел более основательно, чем в лодке, но не принимал никакого участия в разговоре. Однако он держал ухо востро, как человек, привыкший прислушиваться ко всему, что говорится вокруг. Его особенно поразило, когда один из сотрапезников сказал соседу:
— Ну как, нет новостей об этом пресловутом Лацко?
— Нет, так же, как ничего не слышно о пресловутом Круше, — ответил другой. — Говорили, что он проследует через Регенсбург, но пока ни слуху ни духу...
— В самом деле странно...
— Если только эти Круш и Лацко не одно и то же лицо...
— Вы шутите?
— Черт возьми, кто знает?
Услышав эти мало что значившие слова, очевидно, просто так брошенные на ветер, господин Егер резко поднял голову. При этом он едва заметно пожал плечами и закончил трапезу, так и не произнеся ни слова.
В половине первого господин Егер, оплатив счет в гостинице, пустился в путь по улицам, которые спускались к набережной. Его мало интересовали верхние кварталы города, чего не скажешь об оживленном движении судов на реке. Надо заметить, что иностранцы редко пренебрегают визитом в предместье Штадт-ам-Хоф. Господин Егер в этом отношении оказался исключением, он вернулся на берег.
Отсюда, вместо того чтобы присоединиться к Илье Крушу, который должен был уже продать рыбу и находиться в лодке, он пошел по мосту, который привел его на правый берег реки.
Здесь у причала стояло множество барж, готовившихся к отплытию. Часть из них, прицепившись цепочкой к буксиру, уже отправилась вверх по реке.
Но, похоже, господина Егера интересовали не они, а корабли, собиравшиеся плыть к низовьям Дуная.
Полдюжины их могли вместить около сотни тонн груза, но при этом осадка кораблей едва достигала трех-четырех футов, что позволяло им пройти даже по самым мелким протокам между островами и берегом.
Господин Егер целых два часа наблюдал за всем, что происходило на борту. Он смотрел, как грузчики подносят мешки и заполняют трюмы, как проходят последние приготовления тех, кто собирался покинуть Регенсбург после полудня.
Движение на набережной было тоже довольно оживленным. Не говоря уже о речниках, здесь слонялось немало любопытных.
Среди зрителей были и те, кого привело сюда не просто чувство любопытства. В толпе легко различались сотрудники таможенной полиции. Господин Егер сразу же узнал их — Международная комиссия приняла самые суровые меры, чтобы обеспечить наблюдение за Дунаем на всей его протяженности. Ни один корабль не оставался без внимания либо во время остановок в прибрежных городах и поселках, либо во время плавания. Тогда их досматривали агенты, курсировавшие по реке днем и ночью на специальных лодках. Но пока неуловимого Лацко так и не схватили. И, когда господин Егер покинул набережную, крупное дело о контрабанде не продвинулось ни на шаг.
По мосту он шел крайне медленно, останавливаясь всякий раз, когда какая-нибудь баржа проходила под центральными сводами. Суда, не причалившие в Регенсбурге, он провожал взглядом от первого поворота реки до последнего и не обращал никакого внимания на прохожих.
Внезапно на его плечо легла чья-то рука и кто-то заговорил с ним:
— Так, так, господин Егер, похоже, все это вас очень интересует...
Господин Егер обернулся и увидел лицо Ильи Круша, который смотрел на него с улыбкой.
— Да, — ответил он, — очень любопытно! Я часами могу смотреть на корабли.
— Э, господин Егер, когда мы достигнем низовий реки, будет еще интереснее! Там столько кораблей! Подождите, вот доберемся до Железных Ворот... вы там когда-нибудь были?
— Нет, — ответил господин Егер.
— Ну, это надо видеть! — воскликнул Илья Круш. — Если нет в мире реки прекраснее Дуная, то на всем Дунае нет места прекраснее Железных Ворот!
Решительно, достойный рыболов был восторженным поклонником родной реки, и всякий раз, когда представлялась возможность, начинал восхвалять ее. К этим похвалам охотно присоединял свой голос и его спутник. Но на самом деле Дунай интересовал господина Егера прежде всего как «движущаяся дорога», если воспользоваться известным выражением X...[48]
Тем временем солнце клонилось к закату. Большие часы Ильи Круша показывали около шести.
— Я был внизу, в лодке, когда увидел вас на мосту, господин Егер, — сказал он. — Делал вам знаки, но вы не ответили... Тогда я пошел за вами... Завтра мы отплываем очень рано, не пора ли поужинать?
— С удовольствием, господин Круги, пойдемте.
Оба спустились на левый берег и направились к месту на набережной, где пришвартовалась их лодка. Сворачивая с моста, господин Егер вспомнил:
— А как же торговля? Вы выгодно продали рыбу, господин Круш?
— Не очень, гоподин Егер... В это время рынок Регенсбурга завален товаром... Может, удастся выручить больше в Пассау, Линце или Прессбурге[49]...
— О! Не волнуйтесь, — заявил господин Егер. — Повторяю еще раз: я ничего не теряю, наоборот... Сумма, заплаченная мной за вашу рыбу, удвоится, когда мы доберемся до устья Дуная!
Через четверть часа господин Егер и Илья Круш мирно ужинали на борту. Покончив с едой, они расположились рядышком в рубке. Под пролетом моста, как под крышей, можно было не бояться перемены погоды. И действительно, они даже не слышали, как среди ночи крупными каплями пошел дождь.
В полшестого утра, миновав Регенсбург, плоскодонка проследовала вдоль правого берега, где течение оказалось самым быстрым. Рыбалка принесла плотву и красноперку, последняя еще не успела уйти на каменистое или илистое дно, куда любит прятаться днем.
— Взгляните, господин Егер, — сказал Илья Круш своему спутнику, — сейчас, в начале мая, я наживляю мелкие крючки пшенной кашей, в которую для аромата добавляю асафетиду![50] Зимой же хороша наживка из сухого хлеба, смоченного свежей кровью... Конечно, лучше, когда поплавок неподвижен, потому что у плотвы и красноперки прямой рот и они хватают наживку очень быстро... Тем не менее и нам можно рассчитывать на отменный улов и хорошую выручку... Будьте уверены, я не упущу вашей выгоды, господин Егер...
— Знаю, знаю, господин Круш, вы же самый порядочный человек на свете... Не терзайтесь, пусть все идет своим чередом!
Илья Круш, не торопясь, выловил за утро около сорока плотвичек, которых подсекал ловким, но не слишком резким движением.
Улов в этот день вполне вознаградил его, но рыбак больше радовался не за себя, а за господина Егера — с тех пор, как они путешествовали вместе, лауреат «Дунайской удочки» с его доброй и сентиментальной натурой чувствовал к своему спутнику все большую симпатию.
Ниже Регенсбурга на правом берегу простирались бескрайние поля, богатые плодородные земли со множеством ферм, деревень. Сюда часто подходили корабли, и, вполне возможно, контрабанда активно осуществлялась именно с низовьев Дуная. По крайней мере, в Баварии это побережье находилось под пристальным наблюдением, и агенты начальника полиции Карла Драгоша беспрестанно объезжали эти края.
На холмистом левом берегу рос густой лес, он тянулся вплоть до Ромервальда[51]. Илья Круш и господин Егер заметили возвышавшийся над городком Донаупггауф летний дворец князей Турна и Таксиса и старый замок регенсбургских епископов; затем еще выше, над Сальваторбергом[52], появился своего рода Парфенон[53], заблудившийся под баварским небом, ничуть не напоминающим небо Аттики[54]. Парфенон воздвигли благодаря королю Людвигу. Здесь находится музей, где выставлены бюсты героев Германии, но внутри это сооружение не так впечатляет, как снаружи, где являет собой прекрасное архитектурное целое. И если сей Парфенон уступает афинскому, то превосходит тот античный по форме храм, которым шотландцы украсили один из холмов «Старой коптилки» — Эдинбурга.
Течение несло лодку вдоль правого берега, мимо тенистых островов, поросших красивыми деревьями. Река здесь часто петляла, но взору каждый раз открывался, по сути, один и тот же пейзаж. Илья Круш решил остановиться в Штраубинге — продать рыбу и пополнить запасы провизии. Пройдя устье Изара, одного из левых притоков[55], он пришвартовался на ночь у поселка Деггендорф, где Дунай, уже тысячи двухсот футов в ширину, пересекается мостом из двадцати шести пролетов. Это на одиннадцать больше, чем у моста в Регенсбурге; но в Деггендорфе мост деревянный и даже разборный и каждый год его убирают накануне весеннего паводка. Затем мост восстанавливают, и многочисленные паломники, посещающие этот край, знаменитый своими святынями, хранящимися в Обер-Альтайхе, в старой церкви Богенберга и в Деггендорфе, могут перейти с одного берега на другой.
Илья Круш заметил, но не придал особого значения тому, что не только в крупных городах, но даже в самых скромных деревеньках у господина Егера находились знакомые. Не раз местные жители подходили и обменивались с ним парой слов. Он не забывал заходить на почту, где на его имя почти всегда были письма.
— Э, господин Егер, — сказал однажды рыболов, — у вас, похоже, везде приятели?
— Это правда, господин Круш... И все потому, что я частенько бывал в прибрежных районах Дуная.
— Из любопытства? — поинтересовался Илья Круш, но, спохватившись, решил, что его вопрос не совсем тактичен, — возможно, у господина Егера есть свои секреты.
Но, похоже, это было не так, поскольку господин Егер поспешил объясниться:
— Нет, не из любопытства, господин Круш. Я ездил по делам одного пештского торгового дома, а это, знаете ли, позволяло не только увидеть разные страны, но и приобрести множество знакомств.
Больше ничего и не требовалось, чтобы удовлетворить любопытство рыболова, который ни разу не усомнился в абсолютной порядочности своего спутника.
На подходах к Пассау правый берег реки становится менее плоским. На горизонте прорисовываются первые отроги Ретийских Альп[56]. Дунай стискивается с двух сторон сужающейся долиной, течение его становится бурным и быстрым. Этот маршрут весьма притягателен для путешественников. Раньше здесь встречались довольно опасные пороги, где нередко суда получали серьезные повреждения. Ложе реки было покрыто огромными камнями, а стремительное течение не позволяло легко обойти их. Во время паводка трудности уменьшались, но при нормальном уровне воды плавание нередко приводило к гибели судов. Чтобы избежать этого, самые страшные из рифов, пересекавших русло реки, были взорваны. Ныне дунайские пороги не так опасны, как прежде, водовороты больше не затягивают корабли в омуты, поверхность реки довольно спокойна и число кораблекрушений значительно сократилось.
И все-таки и большим и малым судам следует соблюдать тут определенную осторожность. Господин Егер не мог нарадоваться, глядя, как Илья Круш управляет лодкой. Едва она отклонялась от курса, как славный рыболов, отличавшийся замечательной верностью глаза и руки, одним ударом кормового весла придавал суденышку нужное направление.
Илья Круш и господин Егер покинули Регенсбург утром девятого мая. Утром одиннадцатого, пройдя сорок километров и проведя ночь у левого берега, они достигли небольшого местечка Фильс, что всего в часе от Пассау, последнего баварского города на правом берегу Дуная.
На заре два часа были посвящены рыбалке, которая принесла несколько дюжин голавлей, карпов, плотвы и усачей. Вместе с рыбой, пойманной накануне и еще не сбытой с рук, получилось много товара, продать его компаньоны собирались на рынке в Пассау.
Но им не пришлось добираться до рынка. На этот раз заметка в утренней газете сообщила о прибытии Ильи Круша и его уже поджидали. Наконец след знаменитости был обнаружен!
В самом деле, около пятидесяти зевак прибежали на берег, чтобы приветствовать лодку. Господин Егер вскричал:
— Эй! Вам не удастся пройти незамеченным, господин Круш, и, думаю, недостатка в покупателях не будет! Рыба от лауреата «Дунайской удочки»! Да, я немного спекулирую, играю на вашем имени, эти усачи, карпы, плотва и голавли пойдут по цене золота! Но я не любитель шумных сборищ, к тому же не имею никаких прав на эти почести, поэтому оставляю вас вашим почитателям!
С этими словами господин Егер спрыгнул на землю, едва лодка коснулась берега. Все взгляды были обращены на Илью Круша. И мало кто заметил, что у победителя появился спутник.
VII ОТ ПАССАУ ДО ЛИНЦА
Совершенно очевидно, что город на правом берегу Дуная у места слияния двух почти таких же, как он, рек — Ильца, текущего с гор Богемии[57], и Инна, наполненного водами Тироля, — не должен испытывать недостатка в пресноводной рыбе. Если когда-нибудь обществу «Дунайская удочка» понадобится широкий водный бассейн для состязания нескольких тысяч рыболовов сразу, то его председателю господину Миклеско достаточно будет указать на Батава-Кастру древних[58]. Епископ Пассау, которому принадлежит также титул архиепископа Лорхского, рекомендует соблюдать пост каждую пятницу и в канун больших церковных праздников, а для верующих непростительно не придерживаться рекомендаций Церкви (речь, разумеется, идет о католиках). Поэтому неудивительно, что на рыбный рынок постоянно и в изобилии поставляются щуки, карпы, усачи, плотва, лещи и голавли — всего этого, вылавливаемого в трех водных потоках, в изобилии хватает на всех.
И вполне вероятно, что, если бы Илья Круш решил предложить свой улов местным домохозяйкам, не раскрывая своего инкогнито, у него ничего бы не вышло. Даже обойдя все кварталы и преодолев двести сорок ступеней лестницы Марияхильф, ведущей на самый высокий городской холм, где многочисленные паломники читают молитву на каждой ступеньке, он не смог бы и по бросовой цене сбыть с рук ни одной уклейки.
Но в Пассау знали о прибытии Ильи Круша, что с точки зрения коммерции было весьма выгодно для господина Егера.
К тому же Илья Круш и его спутник решили один день провести в Пассау. Но не для того, чтобы осмотреть достопримечательности, — по правде говоря, тут нет ни одного памятника, достойного внимания туристов, — хотя Пассау по своему местоположению — один из самых живописных придунайских городов. К тому же господин Егер уже бывал здесь за счет пештского торгового дома. Теперь же, похоже, у него были какие-то другие дела. Он встретился с Ильей Крушем только во время ужина, вскоре за которым последовал час отхода ко сну. Тем самым знаменитый рыболов весь день мог упиваться восторженным приемом местных жителей. Из двенадцати тысяч горожан, населявших в то время Пассау, по крайней мере половина хотели поприветствовать его.
Толпа все увеличивалась. На набережной собралось уже несколько сотен любопытных. Множество членов «Дунайской удочки» желали поприветствовать лауреата недавнего состязания, установившего новый рекорд.
Поначалу Илья Круш даже не знал, кого слушать. Одни хотели повести его в муниципальный дворец, чтобы предложить почетный бокал вина, и если бы наш славный герой попробовал хотя бы по капле от каждого напитка, фигурирующего в карте вин местных гостиниц, то беднягу довели бы до положения риз. Любой турист нашел бы здесь сто восемьдесят вин различных марок «от баденского аффенталера по сорок восемь крейцеров за бутылку до шлосс-йоханнисбергского по девять флоринов». Всего сто восемьдесят капель, но Илье Крушу не понадобилось бы больше, чтобы лишиться возможности соображать и передвигаться!
Среди этих фанатиков были и такие, которые настаивали на том, чтобы отвести знаменитость в дворец Оберхаус, надменно возвышающийся на холме, у подножия которого в ста двадцати метрах плещутся, сливаясь в один поток, три крупные водные артерии.
Третьи хотели просто прогуляться с ним по трем городским предместьям под звуки рожков и барабанов.
Наконец, четвертые не соглашались отпустить его из Пассау без посещения долины Инна, самой чудесной в этом баварском крае, славящемся красотой своих долин!
По правде говоря, Илья Круш, распродав всю рыбу, мечтал лишь о том, чтобы поскорее вырваться из горячих объятий своих поклонников, и проклинал того болтуна, из-за которого оказался в центре ликующей толпы. Провести так целый день ему, всегда избегающему всякого шума, было ох как нелегко! Разумеется, если бы не обещание отложить свой отъезд на следующий день, если бы не необходимость дождаться возвращения компаньона, он немедленно отдал бы швартов, при необходимости даже обрубил бы его и, толкнув лодку по течению, быстренько удалился.
Пробило девять часов. Мужчины, женщины, дети, шумные и требовательные, досаждали ему своим неуемным гостеприимством:
— Сюда, господин Круш!
— Посетите городскую ратушу...
— Пойдемте во дворец Оберхаус!
— Нет... в Марияхильф!
— К нам, Илья Круш!
— К нам, лауреат «Дунайской удочки»!
Начались споры, затем ссоры, даже драки, и наш герой вряд ли вышел бы из этой авантюры целым и невредимым.
Вот в его честь зазвонили колокола церкви, с оглушительным грохотом стали взрываться петарды, взмыли над головой ракеты... Полицейские уже собирались вмешаться и задержать кое-кого, чтобы освободить бедного рыцаря удочки, но тут весьма кстати произошло событие, на которое Илья Круш даже не рассчитывал.
Пробравшись сквозь толпу, к нему приблизился человек, который с помощью полицейских оттеснил его в сторону и сказал:
— Я от господина Егера... Если вы хотите немедленно уехать, он присоединится к вам сразу за городом!
Еще бы он не хотел!.. Только об этом и мечтал. Не важно, что человек ему не знаком. Он произнес имя господина Егера, этого достаточно.
С помощью полиции бедняге удалось вырваться как раз в тот момент, когда одни упорно тянули его к Оберхаусу, а другие — к Марияхильфу. Без полицейского подкрепления неизвестно, что могло бы произойти. Но, в конце концов, нигде нет закона, позволяющего удерживать гражданина помимо его воли, даже на границе Баварии и Австрии. Венгрия, несомненно, выступила бы с протестом в защиту своего гражданина, а король Баварии ни за что не захотел бы затевать войну из-за венгра, на которого не поступило ни одной жалобы. Рыболов не был виновным, он был жертвой — жертвой славы. Победа должна была достаться представителям власти, пусть бы для этого пришлось прибегнуть к помощи баварской армии.
Полиция действовала решительно, и Илья Круш в сопровождении агентов, словно преступник, спустился к тому месту, где оставил свою лодку. Он занял место в лодке и мощным толчком багра отправил ее в путь. Зевакам пришлось отпустить его в плавание.
Можете не сомневаться, если бы лауреат «Дунайской удочки» приехал в экипаже, его поклонники выпрягли бы лошадей... Здесь же все увидели, как особо рьяные почитатели зашли в речную воду, чтобы ухватиться за лодку, подобно тритонам[59] или наядам[60], эскортирующим галеру триумфатора.
Через полчаса Илья Круш встретился с господином Егером, который поджидал его в некотором отдалении от города.
— Когда я узнал, что происходит, то послал к вам знакомого, — сказал ему компаньон, — и поскольку ничто уже не держало меня в Пассау...
— И хорошо сделали, господин Егер! Вызволили меня из такой переделки!.. Они все с ума посходили! Но вы могли бы и сами прийти...
— Увы, не отпускали дела. А вам задерживаться было больше нельзя...
— Вы правы, господин Егер, — ответил Илья Круш. — Еле-еле вырвался.
— Э! Главное, чтобы это не повторилось... в Линце или Прессбурге...
— И не говорите, господин Егер!
— Ба! В конце концов вам станут по душе овации!
— Никогда!
Илье Крушу можно было верить на слово. Рыболов постарался побыстрее сменить тему.
— Господин Егер, — начал он, — я думал, ваши дела займут у вас весь день...
— Дела? — удивился господин Егер. — Собственно говоря, у меня нет никаких дел... Так, кое-какие старые знакомые, которых надо бы навестить... Ничего более!
Илья Круш был не любитель совать нос в чужие дела, и разговор на том и оборвался.
Плоскодонка плыла довольно быстро, и, обернувшись, господин Егер и Илья Круш смогли увидеть Пассау во всей его красе.
Не более трех дней должно было занять путешествие от Пассау до Линца. После границы, став австрийским, Дунай сжимается еще более узким каньоном, течение достигает высокой скорости, чем пользуются суда, идущие вниз к австрийской столице.
Левый берег ниже Пассау остается баварским вплоть до притока Дедельсбах. Взору то и дело открываются дивные пейзажи: долины, орошаемые водопадами, лесистые холмы, зеленеющие до самого горизонта поля. Берега Дуная оживляются водоплавающими птицами, цаплями и нырками.
Заметив их, Илья Круш вспомнил, что иногда эта дичь ловится на удочку.
— Да, господин Егер, они хватают крючок как голавли или прожорливые щуки! Но такой улов не достоин рыбака, и за него не получишь приза на состязании!
Иногда путешественники проплывали мимо старинных руин, которые охотно посетил бы всякий любознательный турист. Но Илья Круш и его компаньон не собирались тут задерживаться. В течение трех дней, останавливаясь ночью преимущественно в местах, где о лауреате «Дунайской удочки» никто не знал, они любовались живописными поселениями средней Австрии.
Незадолго до Нойхауса рукава реки позволяют со всех сторон рассмотреть руины замка Хагенбах. С этого места скорость течения реки несколько уменьшается. После поселка Ашах берега постепенно понижаются. Нет больше ни холмов, ни долин, только простор гладкой равнины, где не на чем глаз остановить. Но русло реки загромождается множеством островов.
Несмотря на трудности судоходства, впрочем, уменьшившиеся после проведенных здесь специальных работ, лодка плыла в полной безопасности, кормовое весло ограждало ее от ударов и переворотов. Решительно, если господин Егер хорошо знал местность вокруг Верхнего Дуная, то Илья Круш не менее хорошо знал все извивы и проходы самой реки. Ему не составило бы никакого труда управлять даже самым тяжелым судном или одним из тех длинных бревенчатых плотов, что сплавляются вниз по реке.
После Регенсбурга Дунай течет на юго-запад вплоть до Линца, немного ниже этого города лодка остановилась вечером четырнадцатого мая.
Все три дня рыбалка шла довольно вяло, поскольку рыба не очень охотно клюет, когда поплавок быстро несется по течению. Надо быть глупой и прожорливой щукой, чтобы соблазниться пес-кариком или маленьким карпиком, трепещущим на крючке.
— Вот уж действительно, — заметил Илья Круш, дав хорошенько заглотить живца, перед тем как подсечь и вытащить на борт щуку весом в пятнадцать фунтов, — когда у тебя челюсти с семью сотнями зубов...
— Если бы у нас было столько, мы, наверное, были бы такими же обжорами! — перебил его господин Егер.
— Ваша правда, — согласился Круш.
В тот вечер ему удалось сохранить инкогнито и по хорошей цене отдать рыбу оптовому торговцу из Линца, чей дом стоял на берегу.
Не станем удивляться, что после этого Круш задал господину Егеру несколько вопросов.
«Знает ли господин Егер Линц?» Господин Егер знал Линц, поскольку какое-то время даже жил там.
«Есть ли у господина Егера дела в Линце?» Господин Егер не имел никаких оснований на целые сутки задерживаться в Линце — главном городе округа Мюль.
«Поскольку рыба продана, не сочтет ли господин Егер возможным двинуться в дальнейший путь завтра на заре?» Господин Егер не видел никаких причин поступить иначе. Да, лодка тронется в путь сразу, как только этого пожелает господин Круш.
— Что избавит вас, — не выдержал господин Егер и засмеялся, — от назойливых поклонников, которые, конечно, захотят встретить рыболова-победителя. Двадцать три тысячи жителей Линца будут весьма разочарованы, узнав, что знаменитый Илья Круш воздержался от официального визита в их город!
Можно не сомневаться, сей довод не смутил нашего скромного рыболова, потому было решено, что плоскодонка отчалит с появлением на берегу первых же зевак.
Еще одним аргументом в пользу того, чтобы не задерживаться в Линце, было то, что сам по себе он ничем не примечателен. Это военный городок, чьи укрепления, вопреки мнению австрийского правительства, вряд ли устоят против современных пушек. Линц защищен тридцатью двумя массивными башнями, с которых можно вести перекрестный огонь: двадцатью тремя — на правом берегу и девятью — на левом. В целом, это своего рода огромный укрепленный лагерь, которым командуют из цитадели Пёстлингберг. Что до исторических памятников, то дело даже не в том, что здесь не хватает возвышений, чтобы расставить их в живописных местах (город как раз стоит на пяти или шести холмах), и не в том, что недостает водной глади, в зеркало которой можно было бы смотреться (река, усеянная островами и пересекаемая деревянным мостом, разливается у городской черты подобно безмятежному озеру), просто, кроме старого королевского замка из красного кирпича, который в один прекрасный день превратился в казарму и тюрьму, архитектурные сокровища в Линце едва ли можно сыскать.
Линц — не коммерческий центр, и господин Егер, выполняя поручения пештского торгового дома, редко бывал здесь. Во всяком случае, сей господин даже не подумал завершить вечер в одном из городских кафе, вместо этого он решил прогуляться перед сном по берегу.
Назавтра, едва забрезжил рассвет, лодка отчалила от берега и тронулась в путь, и, пока австриец полеживал в рубке, венгр с удочкой в руке держался неподалеку от берега.
VIII ОТ ЛИНЦА ДО ВЕНЫ
На Дунае между Линцем и Веной находится несколько городов. Но ни один из них по своей значительности не сравнится ни с Регенсбургом, ни с Пассау или Линцем. Мимо них Илья Круш проскочил незамеченным, но столь же удачно миновать Вену было почти невозможно. В австрийской столице очень много членов «Дунайской удочки», и все они, безусловно, захотят оказать честь своему блестящему собрату.
Может быть, удастся остановиться в Вене только на одну ночь? Вряд ли. Хотя великая река и не пересекает имперский город, расстояние, их разделяющее, примерно равно расстоянию от одного предместья до другого. И скорее всего господин Егер проведет там целый день. К тому же газеты предупредят горожан... И потом, Илья Круш — честный человек, и, если его улов будет оплачен золотом, он не вправе лишать господина Егера такой прибыли.
В общем, разумнее было подождать и довериться обстоятельствам.
Покинув Линц, Дунай с математической точностью оправдывает слова поэта, который сказал о нем в своих «Восточных мотивах»[61]:
...он течет с запада на восток[62].Над сорок восьмой параллелью Дунай слегка поднимается вверх, чтобы немного севернее омыть своими водами Креме, затем спускается к югу и между двумя австрийскими берегами отдает должное имперской столице.
Между Линцем и Веной русло реки имеет многочисленные изгибы. Чтобы попасть из одного города в другой, нужно проплыть почти пятьдесят лье и потратить на это минимум четыре-пять дней — плавание большого судна может прерваться из-за неправильного маневра или из-за затора в узком проливе. Впрочем, когда речь идет о легком суденышке, сидящем в воде едва на фут и управляемом таким мастером своего дела, как Илья Круш, подобного можно не опасаться.
Другой причиной задержки крупных дунайских судов являлись в то время строгие и частые таможенные досмотры. Сколько времени уходило на обыск трюмов! Ни один речник не мог избежать их. После международного совещания в Вене дело о контрабанде не сдвинулось ни на йоту. Она продолжалась, в том не было никаких сомнений. Главаря преступников, пресловутого Лацко, полиции выследить так и не удалось. Он сбивал с толку самых ловких ищеек. Появились также основания полагать, что он не плавал на контрабандных судах, а руководил деятельностью банды из какого-то неизвестного логова.
Само собой разумеется, сотрудники полиции и таможни не тратили усилий на обыск лодки Ильи Круша. Она была вне подозрений. Смеясь, рыболов говаривал:
— Ну, хорошо, а как же я? Почему все уверены, что я не перевожу контрабандные товары из Зигмарингена к устью Дуная?
— В самом деле, почему? — в тон ему отвечал господин Егер.
За очаровательным местечком под названием Грейн, расположенном на левом берегу Дуная, послышался сильный шум воды, как будто в нескольких сотнях ту азов ниже стояла плотина.
— Это пороги Штрудель, — пояснил Илья Круш. — Много кораблей потерпело здесь крушение. Сейчас стало гораздо лучше, потому что русло расчищают вот уже более ста лет.
Действительно, расчистка началась при Марии-Терезии[63], и в результате удалось углубить русло так, что даже во время сильной засухи его глубина достигает двух метров.
Когда лодка дошла до скалистого острова Вердер, длиной около километра и шириной четыреста метров, господин Егер поинтересовался, с какой стороны им предстоит обогнуть эту преграду.
— Если бы я управлял баржей, господин Егер, — ответил Илья Круш, — то пошел бы по левому рукаву, где менее опасные мели. Но с нашей плоскодонкой нечего бояться идти и по правой протоке, здесь путь короче.
— Значит, корабли тут никогда не ходят?
— Никогда, это опасно.
— Понятно, господин Круш, но, если вам не трудно, я хотел бы, чтобы мы обошли остров Вердер слева... Знаете, вопрос судоходства меня очень интересует... Я даже подумываю серьезно им заняться в будущем.
— Не беспокойтесь! — ответил Илья Круш, всегда готовый услужить господину Егеру. — Мы и получаса не потеряем!
Именно так путешественники и поступили. Лодка направилась в левый рукав реки.
Там шли одна за другой три баржи. Паруса были спущены, они шли по течению, которое здесь ускоряется из-за сужения русла. Господин Егер смотрел, как маневрируют корабли, и в то же время с особым интересом разглядывал их экипажи.
Речники же не обращали никакого внимания на лодку с двумя человеками на борту. Такие маленькие суденышки постоянно пересекают Дунай. И к тому же матросы были слишком заняты: им следовало удержаться на глубокой воде, чтобы избежать мелей. Раздавались команды лоцмана, оставалось только строго выполнять их. Когда надо было изменить направление, использовались мощные багры, лежавшие в пазах, проделанных в планшире. То была тяжелая работа, требовавшая большой сноровки и солидных знаний.
На борту плоскодонки происходило следующее: господин Егер по каким-то причинам разглядывал главным образом матросов, а Илья Круш интересовался действиями лоцмана. Казалось, он понимает его как никто. С губ рыболова невольно срывались такие слова:
— Немного вправо, иначе сядешь на мель!.. Так, хороший маневр... Право руля, право!.. Хорошо... Вот уже и по курсу... Головная баржа идет отлично... Остальным надо держаться за ней! Но все должны быть очень осторожны при повороте Вирбель! Там самое опасное место!
Течение несло лодку быстрее, чем караван кораблей, поскольку плоскодонка проходила там, где для них было слишком мелко, и в результате ее путь сокращался. Уже через двадцать минут она обогнала их.
Господин Егер, стоявший на носу лодки, чтобы лучше видеть, вернулся на корму, на свое место рядом с Ильей Крушем.
Итак, эта часть Дуная довольно труднопроходима для больших и тяжело груженных кораблей.
Они рискуют сесть на песчаные мели, а чтобы с мели сняться, им придется освободиться от половины груза. К тому же на реке встречаются огромные скалы, одни из них высятся у берегов, другие — торчат прямо на фарватере. Если при такой скорости течения баржу затянет к скале, возникнет опасность не только переворота, но и полного разрушения, потери груза и даже людей.
— Понимаете, — сказал Илья Круш, — прежде всего надо найти опытного лоцмана, а на Дунае есть такие...
— Но, господин Круш, — заметил господин Егер, — мне кажется, вы сами были блестящим лоцманом...
— Я был им, господин Егер, был. Прежде чем осесть в Раце, я проработал лоцманом почти пятнадцать лет.
— И вы, господин Круш, смогли бы провести один из таких кораблей к пункту его назначения?
— Конечно, господин Егер. Но только по Дунаю, а не по рекам, которые в него впадают... Не думаю, чтобы русло сильно изменилось за те четыре года, что я уже не работаю... Да, вот уже четыре года, как из лоцмана я превратился в рыболова...
— И довольно удачливого, господин Круш...
— Ваша правда, господин Егер. Что может быть лучше рыбалки, когда уходишь в отставку?
После Штруделя были еще опасные пороги, в том числе у Вир-беля, где образуются мощные водовороты, попадя в которые судно уже не сможет выбраться. Также очень труднопроходимое место у Хаупггейна — плотина из огромных скал. Несмотря на все усилия по улучшению фарватера, из-за уклона в четыре фута на сто морских саженей[64]. Дунай в этом месте может сравниться с некоторыми большими и бурными реками Америки.
За этими порожистыми участками судоходство — по крайней мере до Вены — становится довольно легким. Лодка с нашими героями продолжала свой путь по спокойной глади воды без каких-либо происшествий. Илья Круш успешно ловил рыбу и продавал ее по неплохой цене в прибрежных городках и деревнях, таких, например, как Шпиц и Штейн, где, к великому удовлетворению рыболова (которое, похоже, разделял и господин Егер), его никто не узнал.
Река протекает здесь по своего рода каналу. Окрест не было никаких достопримечательностей, горы отступили к линии горизонта, давая равнине полный простор.
Отметим только несколько здешних живописных мест и среди них — замок Перзенбург, резиденцию императора, расположенную на мощном скалистом основании, которое держит ее с изяществом и надежностью. Кроме того, местечко Мария-Та-ферл, куда ежегодно направляются тысячи паломников. Исполнив долг благочестия, они затем могут насладиться великолепным и грандиозным видом, обрамленным цепью Норийских Альп[65]. Наконец, уже перед самой Веной, стоит еще полюбоваться аббатством Мёльк.
Его построили бенедектинцы на гранитном мысу высотой около двухсот футов. Позади двух элегантных башен фасада возвышается огромный медный купол, а над ним колокольня, которая сияет словно золото, когда ее заливает солнечный свет.
В Кремсе, городке на левом берегу, из поля зрения туриста исчезают горы Богемии и Моравии[66], которые тянутся по правому берегу после Регенсбурга.
Прежде чем покинуть Креме, Илья Круш вынес на продажу около тридцати хороших рыбин, выловленных накануне, и получил за них довольно кругленькую сумму.
Господин Егер остался ждать возвращения Ильи Круша в лодке.
Тот пришел, занял место на заднем сиденье и вывел лодку на середину потока, где скорость течения была наибольшей.
Они болтали, и в какой-то момент рыболов сказал господину Егеру:
— Если бы вы пошли со мной в Креме, то узнали бы новость, которая взбудоражила весь городок.
— Какую?
— Уверяют, что знаменитый Лацко наконец попался в лапы полиции...
— Знаменитый Лацко... главарь контрабандистов? — довольно живо поинтересовался господин Егер.
— Он самый.
— И где же его взяли?
— В Гране, во время одной из стычек с таможней.
— Это в Венгрии?
— В Венгрии, господин Егер, но это вовсе не значит, что он венгр!
Илья Круш не допускал даже мысли, что преступник может оказаться его соотечественником, и полагал, что разговор окончен. Но господин Егер после некоторого раздумья сказал:
— Так об этой новости говорят в Кремсе?
— Со вчерашнего дня, господин Егер.
— И сообщение считается достоверным?
— Дважды или трижды меня уверяли, что это так.
— А откуда пришло известие?
— Из Вены.
— Жаль, что я не составил вам сегодня компанию, господин Круш... я мог бы сам все проверить... просмотреть газеты...
— Вас это так интересует, господин Егер?
— И да и нет, господин Круш. Но речь идет о контрабанде, и, если дело наконец дошло до развязки, все могут себя с этим поздравить...
— Золотые слова, господин Егер!
Они помолчали несколько минут, пока удочка приносила на борт великолепные экземпляры подустов, тех самых подустов, которых иногда ошибочно называют лобанами. Подуст охотно клюет в быстрой воде, где сбивается в стайки, и поймать его довольно просто. Этим и воспользовался господин Круш. Заметив в воде стайку, рыболов забрасывал связку крючков, не заботясь о наживке, поскольку прожорливый подуст бросается на все что ни попадя.
— Вернемся к Лацко, — вновь заговорил господин Егер. — Если он в самом деле является главарем организации контрабандистов, то полиция нанесла ей хороший удар.
— Да, господин Егер, для них это большая удача, вроде как для меня поймать щуку весом в двадцать фунтов.
— Так, думаете, его поймали?
— Все узнаем в Вене, господин Егер. В любом случае, если Лацко не взяли вчера, его возьмут завтра, я так думаю...
— О! Говорят, это очень ловкий тип! — возразил господин Егер. — Никто не знает, где он находится. Что до национальности, то она тоже неизвестна... До сих пор полицейские ничего не смогли выяснить...
— Все верно, господин Егер, но рано или поздно преступника все равно изловят, — ответил Илья Круш.
— К сожалению, — добавил господин Егер, — слухи о поимке Лац-ко всякий раз оказываются ложными. И кроме того, никто не знает, настоящее ли это имя...
— Оно заставляет думать о его венгерском происхождении, — как бы про себя вымолвил Илья Круш, — а я бы предпочел, чтобы у него была немецкая фамилия...
— Э! Да вы патриот, господин Круш!
— Да, и венгр всей душой. Но я повторяю: то, что не было сделано сегодня, случится завтра.
Вместо ответа господин Егер в знак сомнения покачал головой.
— И потом, — вспомнил Илья Круш, — не забывайте, что за его голову обещана награда, и какая награда! Две тысячи флоринов!
— А что, если бы они оказались в вашем кармане? — засмеялся господин Егер.
— Они бы прекрасно себя там чувствовали, так же, как и в вашем, я полагаю.
— Разумеется, господин Круш.
— Впрочем, — заметил рыболов, — этот Лацко сможет предложить в два или три раза больше за свой побег, если его схватят... Преступная организация должна быть очень богатой, ведь она действует уже много лет...
— Но, — горячо возразил господин Егер, — такой человек, как вы, старый дунайский лоцман, честный рыболов, никогда не согласится, если добрая удача отдаст в ваши руки главаря контрабандистов, взять от него деньги.
— Конечно нет, господин Егер, нет! — ответил Илья Круш.
Ясно, как и почему завязался этот разговор. Но вот правдивой или ложной оказалась новость из Кремса, мы узнаем через некоторое время в Вене. Как и то, верно ли, что поимка Лацко — заслуга шефа полиции Карла Драгоша, на которого Международная комиссия возложила поиски преступника. Или этот захват осуществил один из его подчиненных? Чуть позже читателю предстоит выяснить, удалось или нет избежать стычки между полицией и контрабандистами? Захвачен ли хотя бы один из кораблей, доставлявших товары к Черному морю? Если все, о чем гудела толпа, происходило в окрестностях Грана[67], то у господина Егера и Ильи Круша скоро будет возможность самостоятельно собрать интересующую их информацию, достигнув этого города в венгерской части Дуная.
Совершенно естественно, что, заканчивая свой разговор, господин Егер и Илья Круш упомянули имя Карла Драгоша.
— Да, — уверенно произнес Илья Круш, — это очень удачный выбор... Невозможно найти более умного человека, чем глава пештской полиции...
— Я полагаю, он венгр? — спросил господин Егер.
— Венгр, истинный венгр, — не без некоторой гордости ответил Илья Круш.
— Вы знаете его, господин Круш?
— Нет, господин Егер, я никогда не имел чести встречаться с ним...
— Говорят, это ловкий полицейский...
— Сколько раз, рискуя собой, он добивался своей цели.
— Хорошо, господин Круш, надеюсь, обстоятельства будут ему благоприятствовать, и этого Лацко наконец удастся схватить.
— Так и будет, господин Егер. — Илья Круш сказал это с такой убежденностью, что его компаньон не смог сдержать улыбки.
Ниже маленького городка Корнойбурга[68] судоходство на великой реке опять становится затрудненным. Но теперь ему мешают не протоки острова Вердер, не пороги Вирбеля и не водовороты Хаунштейна, а песчаные мели. Дунай разливается вширь, и, хотя кораблекрушения здесь маловероятны, нужна большая осторожность в управлении, чтобы избежать их.
Через некоторое время лодка с нашими героями повстречалась с одним из тех длинных бревенчатых плотов, на которых живет, можно сказать, целый плавучий город. Этот плот с трудом проходил между мелями. Илья Круш сам предложил свои лоцманские услуги плотогонщикам, и те охотно последовали его указаниям. В нем сразу признали человека, который хорошо знает Дунай, и это совсем не удивило господина Егера. После нескольких часов задержки лодка, влекомая течением, направилась к австрийской столице.
Чувствовалось приближение большого города. Местами небо чернело от заводского дыма. Кораблей становилось все больше, особенно пароходов, курсировавших в окрестностях Вены. Вдали теснились деревни, устремляя ввысь колокольни своих церквей. Загородные дома, виллы располагались на округлых холмах побережья.
В этот день, после полудня, лодка достигла подножия Каленберга[69], чья вершина уже с утра виднелась по правому борту. Отсюда, с высоты больше тысячи футов, открывается прекрасный вид не только на столицу, но и на горы Венгрии и Штирийские Альпы.
Наконец к девяти часам вечера, пройдя мимо Нуссдорфа, где пароходы останавливаются из-за невозможности пройти по мелководному рукаву Дуная, который ближе всего подходит к городу, лодка причалила к маленькой пристани, расположенной в узкой дунайской бухточке.
Прошло двадцать два дня с тех пор, как Илья Круш забросил удочку в исток великой реки, чтобы потом спуститься вниз по течению и, занимаясь рыбалкой, пройти около семисот километров.
IX ЗА МАЛЫМИ КАРПАТАМИ
Несколько дней спустя два человека беседовали, курили и выпивали на постоялом дворе у дороги, спускающейся от лесной опушки в предгорьях Малых Карпат к Дунаю. Последние отроги этих венгерских[70] гор замирают у левого берега реки, несколько выше Прессбурга, крупного города королевства, расположенного между Веной и Буда-Пештом[71]. Неподалеку находится также устье Моравы, одного из главных притоков Дуная.
Двое мужчин сидели за столом в полуподвальной комнате, где никто не мог их ни видеть, ни слышать. Зарешеченное боковое окно с толстыми и мутными стеклами все же позволяло им наблюдать за людьми и животными, двигавшимися по дороге вдоль левого берега Моравы, по течению которой в сторону устья проплывали корабли.
Этот постоялый двор навещали в основном речники и возчики, которые заглядывали сюда, чтобы выпить чего-нибудь покрепче или утолить голод. Неприхотливые путешественники могли и заночевать здесь, не слишком облегчив при этом свой кошелек. Редко бывало, чтобы хозяин, хозяйка и их слуга оставались на ночь одни. Небольшая конюшня в боковой пристройке вмещала одну-две упряжки.
Утром две повозки с покрытой толстыми, просмоленными чехлами поклажей подъехали к постоялому двору. Хозяин, несомненно, ждал и хорошо знал возниц.
Первым делом мужчины, те самые, что пили в полуподвальной комнате, спросили:
— Уже здесь?
— Нет, — ответил хозяин. — Он не появится раньше вечера...
— Ладно, распрягаем, — сказал один из мужчин. — Повозки — во двор, лошадей — на конюшню...
— Поесть и выпить, — добавил второй, — мы подыхаем от голода и жажды. У тебя сейчас никого нет?
— Никого.
Похоже, все делалось как обычно, и снаружи нельзя было увидеть повозок, спрятанных во дворе под большим навесом. Что до шести лошадей, по три из каждой упряжки, то им задали хорошего корма. Животные проделали немалый путь по каменистым дорогам Малых Карпат, а впереди их ждал не меньший переход до места слияния Дуная с Моравой. Лошадям требовался отдых, поскольку груз, который они тащили уже несколько дней, был весьма тяжел.
Итак, с самого утра, после долгого ночного пути, два человека устроились на постоялом дворе. Время от времени то один, то другой выходил за порог, чтобы бросить взгляд на дорогу. Но небольшой туман мешал рассмотреть, что делается вдалеке. И в любом случае, как сообщил хозяин постоялого двора, только поздним вечером прибудет тот, кого поджидали эти люди.
Оба возчика, укрыв повозки в надежном месте, жадно набросились на еду. Они шли всю ночь, и теперь голод мучил их так же, как жажда, хотя дорожные фляги, которые эти люди несли под шерстяными накидками, позволяли пить воду и в дороге. Возницы расположились за столом в полуподвале и к довольно скудным блюдам постоялого двора добавили существенные запасы со своих повозок. Гости ели, болтая с хозяином и хозяйкой, — парой, в чьих физиономиях не замечалось ничего располагающего, впрочем, сами возчики были не лучше.
Особенно интересовало постояльцев, не появлялись ли в здешних местах отряды полиции или таможни. Они не встретили их на извилистых тропах в отрогах Малых Карпат, но это и понятно — полицейские, так же как и путешественники, неохотно наведывались в долины, отдаленные от городов и деревень. Но в том месте, где этим утром остановились возницы, начиналась равнина, а по левому берегу Моравы протянулась оживленная дорога. Она проходила через довольно густые леса и соединяла несколько ферм, чьи хозяева возили свой товар на продажу в соседние города и даже в Прессбург. Поскольку к месту слияния Дуная и его притока вела единственная дорога, приходилось ехать именно по ней, и, вполне возможно, она находилась под наблюдением полиции с тех пор, как Международная комиссия приняла меры против контрабанды.
Даже следуя по карпатским ущельям, повозки передвигались только по ночам. Так же они будут двигаться до конца своего пути.
После последнего из множества выпитых стаканов мужчины почувствовали непреодолимее желание спать. Они не нуждались в постелях. Нескольких охапок соломы на полу пустовавшего хлева им вполне хватило, чтобы, вытянувшись один подле другого, уже через пять минут заснуть крепким сном.
Пока они отдыхали, на постоялый двор несколько раз заглядывали прохожие, заказывали выпивку и почти сразу же уходили. То были крестьяне с ближайших ферм или бродяги с котомками за спиной и палкой в руке, направлявшиеся в сторону Прессбурга.
Один из них, болтая с хозяином, посетовал, что неподалеку полиция прочесывает деревню и что честным людям решительно нет покоя.
Хозяин лишь пожал плечами и пожелал бродяге не попадаться, но сообщение намотал себе на ус, чтобы обязательно рассказать об услышанном своим гостям. Полиция редко объезжала Малые Карпаты, и раз она здесь, значит, на то имеются серьезные причины.
К пяти часам возчики проснулись, вернулись в зал и первым делом задали тот же вопрос, что и утром:
— Еще нет?
— Нет, — ответил хозяин, — я же говорил, он приедет не раньше вечера... Меня предупредил его человек... Надо быть поосторожней: в окрестностях Моравы рыщут полицейские.
Похоже, эта новость обеспокоила возчиков, один из них тут же поинтересовался, не появлялись ли полицейские на постоялом дворе.
— Чего не было, того не было, — ответил хозяин, — но один бродяга сказал, что видел их на дороге.
Двое попросили обед и уселись за стол. За едой они разговаривали вполголоса, несомненно, по привычке, поскольку совсем не опасались хозяина.
— Только бы их обойти, — говорил один. — Его должны предупредить, что берега Моравы под наблюдением...
— Да, — согласился второй, — полиция думает, что контрабанда проходит этим путем и что дунайские баржи уже спустились по притоку.
— Пусть думает, нам это на руку...
— До сих пор дорога оставалась свободной для наших повозок.
— Что до корабля, который... — продолжил первый.
— Не стоит беспокоиться, — прервал его второй. — Он стоит у бухты Кордак, в устье Моравы, как честное судно, ждущее загрузки, чтобы отправиться в низовья.
Закончив обед, оба вышли на воздух и стали прохаживаться взад-вперед по дороге.
Пробило уже половину седьмого. Солнце скрылось на северо-западе за цепью Малых Карпат. Сумерки сгущались, ночь обещала быть темной, безлунной, густые облака покрывали небо. Но дождя не ожидалось, и повозки могли успеть достичь устья Моравы до рассвета. Двух возчиков не смущала даже самая непроглядная темень, они хорошо знали дорогу, поскольку уже не раз в тех же условиях проходили путь между постоялым двором и Дунаем.
Они удалились от постоялого двора на сотню туазов и потом вернулись, не заметив ничего подозрительного. Долина была совершенно пустынна. Дуновения южного бриза донесли бы шум голосов и шагов с подветренной стороны. Но нет, ничего не слышно, абсолютная тишина. Впрочем, если верить полученным сведениям, полиция должна была вести наблюдение за берегами Моравы выше по течению и, следовательно, на расстоянии доброй мили от постоялого двора.
Двое мужчин пошли посмотреть на лошадей, отдыхавших в конюшне.
В семь с небольшим дверь в зал резко распахнулась, и хозяин воскликнул:
— Он здесь!
Возчики бросились вон из конюшни и подбежали к вновь прибывшему.
То был мужчина в самом расцвете сил — между сорока и сорока пятью годами, с энергичным лицом, жесткими чертами, безбородый, судя по всему, привыкший к физическому труду и жизни на свежем воздухе. Он походил одновременно и на крестьянина, и на речника. На голове его была круглая шляпа с широкими полями, на ногах — сапоги до колен, под распахнутой курткой виднелся красный пояс, стягивавший в талии панталоны, он кутался в широкую шерстяную накидку, закрывавшую его до пят, что позволяло ему при необходимости оставаться неузнанным.
Был ли это Лацко, главарь контрабандистов, которого искали уже несколько лет, ни Карл Драгош, ни какой-либо другой полицейский не смог бы сказать — никто из представителей власти не видел его в лицо. Ясно одно: если это был Лацко, значит, новость о его поимке в очередной раз оказалась ложной — никакой стычки между полицейскими и контрабандистами в окрестностях Прессбурга не было и господин Рот, председатель комиссии, не получал от Драгоша никакого рапорта на сей счет. Впрочем, после прибытия в Вену господин Егер и Илья Круш сумеют все точно разузнать относительно пресловутого ареста Лацко.
Достоверным являлось лишь то, что уже некоторое время вновь прибывший находился с группой контрабандистов на правом берегу Дуная, где их поджидала партия незаконного товара: ткани, ценные вина, табак и различные консервы. Чтобы пополнить груз, около пятнадцати человек подошли к правому берегу Моравы, прибыли на постоялый двор и под руководством главаря готовились сопроводить две повозки к реке. Когда баржа будет полностью загружена, все сядут на нее и благополучно достигнут устья Дуная, избежав встречи с таможней и полицией.
В общем-то именно Лацко основал организацию контрабандистов. Он был одним из тех, о которых говорят: ни перед чем не остановится. И сам главарь, и его люди не верили, как говорится, ни в Бога, ни в дьявола. Преступная организация протянула свои щупальца по всей дунайской долине, в ее рядах было много сорвиголов, но не было предателей — все обогащались за счет прибыльного ремесла. До сей поры контрабанда ни разу не была обнаружена.
Однако удача может отвернуться даже от того, кто давно привык к ее благосклонности. Лацко почти никто не знал, но имя его уже было известно полиции. Правда, имя человека не написано у него на лбу, и никого нельзя арестовывать только за то, что знаешь его имя.
Едва войдя в зал, мужчина, возможно правая рука Лацко, задал возницам несколько лаконичных вопросов, на которые получил не менее лаконичные ответы:
— Обе повозки здесь?
— Да.
— По дороге не останавливали?
— Нет, хотя везде рыщут полицейские...
— Я знаю... Но они ближе к Мораве. Весь товар прибыл?
— Весь.
— И вы здесь с...
— Сутра.
— Лошади накормлены?
— Осталось только запрячь...
— Запрягайте.
Заметим, что, хотя все пятнадцать контрабандистов явились с этой стороны Дуная, их главарь пришел на постоялый двор один, чтобы не возбудить подозрений, которые могла вызвать ватага вооруженных длинными ножами и револьверами людей. Когда повозки тронутся в путь, его люди будут сопровождать их на расстоянии, чтобы при малейшей тревоге броситься на помощь.
Конечно, они знали, что полиция под началом Карла Драгоша, прибывшего накануне, прочесывает эти места. Преступники были начеку. Одеждой они походили на карпатских венгров. Что до Лацко, то с помощью грима он умел так ловко менять внешность, что неоднократно обманывал даже самых бдительных полицейских. Сколько раз лучшие ищейки встречали безразлично и добродушно улыбающегося простака в поле или у воды, на коне или на судне и не подозревали, что перед ними тот самый Лацко, которого они никак не могут схватить! По правде говоря, Илья Круш вызвал бы у них большее подозрение!
И когда один из его подручных начинал говорить о Карле Дра-гоше, которого комиссия послала выследить Лацко, он отвечал:
— Я знаю свое дело. Даже когда господин Драгош окажется на моем судне со своими полицейскими, он меня не узнает, а что до корабля, то вы прекрасно знаете: можно обыскать его сверху донизу и не найти при этом даже контрабандного коврика!
Пробило восемь, ворота во двор открылись, и повозки, каждую из которых тянули три тяжеловоза, выехали одна за другой. В непроглядной ночной тьме по заросшей травой дороге они двигались почти бесшумно. К тому же часть пути пролегала сквозь густой лес.
От впадения Моравы в Дунай постоялый двор отделяло лишь шесть-семь лье, по пути располагалось всего несколько ферм.
Попрощавшись с хозяином, возчики, ведя лошадей под уздцы, начали спуск с последних отрогов Малых Карпат.
Главарь шел в двадцати шагах впереди. Иногда он уходил то вправо, то влево и обменивался несколькими словами с сопровождавшими его людьми, чтобы узнать, не слышали и не видели ли они чего подозрительного. Все соблюдали тишину и осторожность. Провожатые знали каждый пригорок и каждый поворот на этой дороге, и потому никто не опасался, что собьется с пути.
Казалось, что переход пройдет без сучка и задоринки. Первой фермы обоз достиг довольно поздно, в доме уже все спали. Несколько собак дали знать о том, что проехали повозки. Но ни одна дверь не скрипнула, да и кого могли обеспокоить люди и повозки?
С самого вечера было очень душно, воздух словно наполнился электричеством. Ничто не предвещало бури, к тому же в этом районе Верхней Австрии бури весной очень редки. Зато в конце лета и осенью они порой бывают ужасны. Ураганы проносятся по долине Дуная с такой силой, что иногда даже прерывают движение судов. Главное было успеть загрузить баржу и отплыть до рассвета.
В полночь все остановились. Лошади шли уже четыре часа, следовало дать им отдохнуть. Они тянули тяжело груженные повозки по заброшенной дороге, на которой встречалось много рытвин, и, чтобы бедняги не медлили, на их спины сыпался град ударов кнутом.
Остановиться наметили на целый час. До подступов к реке оставалось только три лье уже по хорошей дороге. Контрабандисты были уверены, что доберутся до притока и справятся с погрузкой еще в сумерках.
Возчики отвели повозки на поляну справа от дороги, на давно знакомое им место. Здесь, в полной темноте, под густым покровом леса груз невозможно было заметить.
Лошадей распрягли, все сгрудились вокруг главаря. Вместе с возчиками собралось около двадцати человек — сильных, привыкших к опасности, не раз показавших себя в серьезных переделках.
Во время привала они сидели под деревьями и шепотом переговаривались, никто не курил, чтобы не выдать своего присутствия. Двое или трое по-приятельски говорили с главарем о том, что нужно срочно завершать экспедицию... Стало слишком опасно. Надо выбрать другую часть реки, где корабли могут поджидать переправляемый товар в большей безопасности. Сейчас же главное — опередить полицию и отплыть до того, как она доберется до Моравы.
Час отдыха прошел спокойно. По знаку главаря повозки уже собирались тронуться в путь, как один из людей, стоявших на опушке, спешно выбежал на поляну со словами:
— Тревога!
Главарь вышел вперед.
— Что случилось? — спросил он.
— Слушай!
При этих словах все обратились в слух.
С дороги, примерно в сотне туазов, довольно отчетливо доносился шум шагов, похоже, шагов отряда. Вскоре зазвучали и чьи-то голоса.
— Остаемся на поляне, — скомандовал главарь. — Нас здесь не заметят.
Разумеется, в такой темноте никто не увидит обоз. Но положение все равно было очень серьезным: возможно, это патруль, который движется к реке. Даже если с наступлением дня полицейские не заметят в глубине бухты корабль, вести туда повозки этой ночью крайне неосторожно. Разумеется, при обыске корабля там не найдут ничего подозрительного. Но присутствие посторонних помешает, конечно, погрузке контрабандного товара.
В общем, следовало полагаться на обстоятельства и действовать по обстановке. Переждав на поляне до утра или, если потребуется, до следующей ночи, люди Лацко спустятся к Дунаю и посмотрят, где находится полиция или таможенники. В данный момент главное —не обнаружить себя, приближающийся отряд должен пройти, ничего не обнаружив.
Вскоре отряд поравнялся с поляной. Несмотря на темную ночь, бандиты разглядели с десяток человек. Характерное бряцание, которое издают металлические предметы, указывало, что люди эти вооружены.
Сомнений больше не было: это один из патрулей, рыскающих, по словам бродяги, по краю.
Вдруг в ответ на какой-то вопрос прозвучало имя Лацко.
Затем раздалась еще одна реплика:
— Думаю, мы прибудем вовремя, господин Драгош!
Легко было догадаться, что отряд возглавляет шеф полиции собственной персоной. Получив обнадеживающую информацию, он вот уже два дня патрулировал вход в Малые Карпаты, но поиски пока ничего не дали. Половину полицейских он послал вперед, на левый берег реки, а сам вместе с дюжиной агентов стал двигаться к притоку. Следуя той же дорогой, что и обоз, он наверняка должен был встретиться с ним.
Главарь бандитов незамедлительно принял единственно верное решение: ничем не выдать свое местонахождение на поляне, дать патрулю пройти, проследить за ним издалека и выяснить, займет он или нет подходы к притоку. Если займет — отложить погрузку, если нет — не менять своих планов и переправить повозки к бухте Кордак.
Однако, когда патруль уже проехал тропинку, ведущую на поляну, произошло то, что коренным образом изменило ситуацию.
Одна из лошадей, испугавшись шума на дороге, фыркнула и испустила долгое ржание, а вслед за ней заржали и остальные лошади.
Карл Драгош и весь его отряд тут же остановились. Обоз был обнаружен. Дело шло к стычке, надо было к ней подготовиться.
— Стой! — крикнул Карл Драгош своим людям.
Приблизившись к поляне, он громко спросил:
— Кто здесь?
Никакого ответа.
Один из полицейских чиркнул спичкой и зажег смоляной факел.
При таком освещении противники не могли рассмотреть друг друга, шеф полиции заметил только две повозки, за которыми наверняка прятались люди.
— Кто вы? — еще раз прокричал Карл Драгош.
— А сами вы кто? — прозвучало в ответ.
— Полиция... В укрытых здесь повозках может быть только контрабанда, а те, кто их сопровождают, могут быть только контрабандистами!
Никакого ответа.
— Мы арестуем эти повозки, — в последний раз предупредил Карл Драгош.
Вместе с отрядом он вышел на поляну, не заметив, что у контрабандистов преимущество в числе — двадцать человек против двенадцати.
Но не успел шеф полиции сделать и пяти-шести шагов вперед, как кто-то властным голосом произнес:
— Еще шаг, и вы — покойник!
Но остановить Карла Драгоша было невозможно. Он выкрикнул:
— Если это говорит сам Лацко, то я сумею заткнуть ему глотку!
Отряд продолжал двигаться к повозкам. Неожиданно кто-то
выхватил факел из руки полицейского, и снова стало темно.
Ни одного выстрела не прозвучало ни с той, ни с другой стороны. Началась рукопашная, но полицейские слишком поздно поняли, что противник сильнее — схватка обернется не в их пользу.
Только через несколько минут в дело вступили револьверы. В полной темноте несколько полицейских и контрабандистов были задеты пулями. Дальше действовать вслепую было безумием. И после яростной атаки, встретившей столь же яростное сопротивление, Карл Драгош решил собрать своих людей и отступить. Покинув поляну, патруль вернулся на дорогу, чтобы соединиться с другими полицейскими выше по Мораве.
Через четверть часа обоз с двумя легко раненными бандитами снова тронулся в путь. Около четырех часов он достиг бухты Кордак. Поблизости никого не было. Товар спешно погрузили. Все, кроме главаря, поднялись на борт. И с первыми лучами солнца баржа по довольно быстрому течению устремилась вниз по Дунаю.
X ОТ ВЕНЫ ДО ПРЕССБУРГА И БУДА-ПЕШТА
Вену от Прессбурга отделяют около двадцати пяти лье, и вечером 25 мая Илья Круш уже преодолел три четверти этой дистанции. После ночи, проведенной под защитой мыса, близ устья маленькой речки (на расстоянии половины ружейного выстрела от нескольких одиночных домов) он забросил удочку и поймал около двадцати отличных рыбин, которых намеревался вечером продать в Прессбурге.
Илья Круш снова был один, его спутник больше не плыл с ним вниз по течению великой реки.
Почему? Было ли их расставание добровольным или случайным? Встретятся ли два друга — а теперь уже можно их так называть, потому что со стороны Ильи Круша речь шла о серьезной привязанности, — позднее, чтобы вместе продолжить плавание? Ответы на эти вопросы читатель сейчас узнает.
Коротко говоря, произошло следующее.
Как мы помним, Илья Круш и господин Егер вечером 18 мая отдыхали у причала в глубине узкой бухты на притоке Нуссдорфа.
Мы знаем также, что плоскодонка не заходила в Вену, так как река проходит несколько севернее города. Поскольку было уже довольно поздно — около девяти часов вечера, — господин Егер решил отложить на завтра свой визит в столицу Австрийского королевства.
Что касается Ильи Круша, то прежде он уже не раз бывал и в этом городе, чья площадь не так уж велика, и во всех его тридцати четырех предместьях. Тогда он с удовольствием осмотрел императорский дворец, дворец канцлера, городскую ратушу, арсеналы, монетный двор, таможню, театр, дворцы Эстерхази, Лихтенштейна, почтительно преклонил колени в соборе Св. Стефана[72], церквах Св. Петра[73], Св. Карла[74], прогулялся по Пратеру, Аугартену и Фольксгартену[75], по площади Старого рынка, вдоволь налюбовался великолепными видами, которые открываются взору с террас сада Бельведер.
Теперь, думаю, понятно, почему Илья Круш решил не покидать плоскодонку, где чувствовал себя укрытым от происков венских газетчиков и где стоустая слава не донимала его. В путь он собирался лишь через день — именно так уговорились они с господином Егером, у которого оказались срочные дела в столице. Уже в восемь утра господин Егер ушел, чтобы непременно вернуться к ужину. По настоятельной просьбе Ильи Круша он пообещал никому не раскрывать инкогнито лауреата «Дунайской удочки».
— Я могу рассчитывать на вас, господин Егер?
— Несомненно, господин Круш.
Сойдя на берег, господин Егер быстрым шагом направился вдоль Дунайского канала, протянувшегося между кварталами Аустер-грюнд и Леопольдштадт, сквозь лабиринт хорошо знакомых ему улиц к центру города.
День для господина Егера выдался богатым на происшествия, а вот для Ильи Круша он оказался самым обычным. Некоторые местные издания все-таки сообщили, что в ближайшие дни он пройдет мимо Вены. Сам рыболов мог в этом убедиться, просмотрев одну из газет в маленьком кафе неподалеку от причала. Завсегдатаи этого заведения даже не подозревали, что в уголке за кружкой пива сидит лауреат «Дунайской удочки» собственной персоной.
Скоро Илья Круш вернулся к лодке и занялся тщательной уборкой: как следует промыл днище и сиденья, встряхнул и выбил пыль из постельных принадлежностей, а затем просушил их на солнце. За работой он думал больше о друге, чем о себе. В полдень рыболов устроился на корме и пообедал с умеренностью, которая так дружит с хорошим желудком, и невозмутимостью, свидетельствующей об уравновешенной психике.
«Где теперь господин Егер? — думал Илья Круш. — Неудивительно, что у бывшего коммивояжера в большом городе много знакомых... Встретился ли он с ними? Наверное, позавтракал с одним, пообедал с другим, и, весьма вероятно, мне придется ужинать без товарища!.. Решительно, превосходный компаньон господин Егер, я ничуть не жалею, что принял его предложение!.. Не то чтобы во время плавания было скучно!.. Но общество господина Егера оказалось таким приятным!.. Похоже, ему нравится рыбная ловля, и скорее всего в конце нашего путешествия в обществе “Дунайская удочка” станет одним членом больше!»
Так размышлял Илья Круш, который, как видим, проникся большой симпатией к господину Егеру.
«Ах! Только бы он не проболтался о нашем прибытии! — подумал рыболов. — Улова у нас нет со вчерашнего дня! Все продано! Значит, ему нет смысла...»
Да, Илья Круш все время боялся стать жертвой славы. Но ведь господин Егер обещал молчать, и предположить, что бывший коммивояжер не сдержит слова, было почти невозможно.
После полудня, покуривая длинную трубку, Илья Круш отправился по магазинам, чтобы пополнить свои съестные запасы: он купил немного свежего хлеба, яиц, пива. На набережной ему встретилось довольно мало прохожих. Оживление царило скорее на рукаве реки, усеянном многими судами. Но никто так и не обратил внимания на скромную лодку в глубине бухты.
День прошел, наступил вечер. Илья Круш с нетерпением поджидал своего спутника. Время тянулось. Он считал минуты. Пришла ночь, но в отличие от нее господин Егер не приходил.
На венских церквах прозвонили семь раз, северный ветер донес перезвон их колоколов.
Господин Егер не появился.
Восемь часов, господин Егер на набережной так и не показался.
«Что случилось? — волновался Илья Круш. — Может, какое дело задержало его... или несчастный случай! Придет ли он ночью? Или задержится до утра? А нам надо выходить на рассвете... Ладно, подожду... Да, подожду... не буду ложиться, все равно не усну!»
Возможно, покажется удивительным, что Илья Круш, флегматичная личность, истинный рыболов, демонстрировал такую нервозность. Этому невозможно дать объяснения, но это было так. В общем, он решил ждать и не отправляться на поиски господина Егера. Да и как его найти в этом огромном городе?
Илья Круш уселся на корме и, чтобы как-то убить время, взял удочку. Ночь, однако, не является благоприятным временем для рыбалки; похоже, между заходом и восходом солнца рыбе проще самой найти себе пищу. По этой причине она плохо клюет и в предрассветные часы, голод еще не терзает ее. И тем не менее Илья Круш уже подсек одного усача и двух колюшек, когда в половине девятого услышал:
— Господин Круш... господин Круш?
Он обернулся и увидел человека, приближавшегося к причалу.
«Ну вот, — подумал он, — кто-то знает мое имя!»
Очень расстроенный, он не спешил отвечать, но незнакомец закричал громче:
— Господин Круш? Господин Круш? Вы здесь, господин Круш?
Тогда Илья Круш встал и ответил:
— Что вам нужно, сударь?
— Вам письмо...
— Письмо? Мне? От кого?
— От господина Егера.
Наконец-то Илья Круш узнает новости о своем компаньоне. Но как он мог допустить такую неосторожность и написать на его имя, ведь теперь оно станет известно всему городу. Значит, дело очень срочное и, кто знает, наверное, очень серьезное.
Через мгновенье он протянул руку незнакомцу:
— Дайте письмо.
— Но... вы в самом деле Илья Круш? — засомневался незнакомец.
— Да, это я! — Голос Ильи Круша выдавал сильное недовольство.
Когда письмо оказалось в его руках, он спросил несколько более мягким тоном:
— Сколько я вам должен?
— О, ничего, я получил флорин от человека, который послал меня к вам.
— И которого вы не знаете?
— Которого я не знаю!
Илья Круш уселся рядом с рубкой, достал небольшой сигнальный фонарь, зажег его и прочел письмо следующего содержания:
«Вена, 8 часов вечера.
Мой дорогой господин Круш!
Непредвиденные обстоятельства вынуждают меня через несколько мгновений покинуть Вену... Нет времени лично предупредить вас... Даже не знаю, где и когда удастся вновь присоединиться к вам... Может, в Пепгге, может, в Белграде...
Пока продолжайте путешествие без меня, желаю вам успеха.
Я передам это письмо с посыльным, пришлось открыть ему и ваше имя, и ваше местонахождение. Будем надеяться, это не доставит вам слишком больших неудобств.
А теперь — доброго пути и доброй рыбалки. Вы знаете, до какой степени я в ней заинтересован, хотя, уверен, у меня не будет причин сокрушаться о задатке, который я вам выдал.
Примите мои искренние сожаления.
Ваш компаньон Егер».
Таково было письмо, и оно поразило Илью Круша. Какое дело могло заставить господина Егера так поспешно уехать из Вены? Здесь было над чем поразмыслить, но, заметив, что незнакомец еще стоит на причале, он сказал:
— Спасибо, мой друг, вы можете идти... Ответа не будет.
Но тот не двинулся с места, а спросил:
— Так вы в самом деле Илья Круш?
— Да... Илья Круш.
— Круш-рыболов?
— Рыболов... Доброй ночи...
— Ну и ну... Когда в городе узнают об этом, ждите нашествия любопытных.
— Ах, да что вы говорите...
— Вы еще будете здесь завтра утром?
— А как же, мой друг!
— Тогда доброй ночи...
— Доброй ночи.
И человек бегом отправился восвояси, счастливый тем, что ему предстоит распространить по городу великую новость!
В три часа ночи Илья Круш отвязал лодку. Полчаса спустя она вышла в дунайские воды в районе Императорских мельниц. Когда с рассветом толпа почитателей давилась на причале и на набережной, Илья Круш находился уже в добром лье от столицы.
Пройдя Эсслинг и круглый и необитаемый остров Лобау — два знаменитых географических названия в исторической летописи Первой империи[76], Илья Круш продолжал мирное плавание к Прессбургу.
Расстояние между Веной и Прессбургом показалось ему весьма изрядным. Он так хорошо знал реку, что открывавшиеся виды уже не представляли для него интереса. Однообразное плавание, главным образом вдоль правого берега, до местечка Фишамент, между довольно низкими берегами, которые несколько возвышаются в окрестностях Регалсбрюна. Дальше лишь гора Хайнбург заслужила с его стороны рассеянный взгляд. Он ловил рыбу утром, плыл целый день, снова ловил рыбу вечером, ходил продавать улов на хуторах, а лучше в деревушках и городках, проводил там ночь и с рассветом отправлялся дальше.
Таким образом Илья Круш добрался до границы между эрцгерцогством и Мадьярским[77] королевством, границы, которая проходит слева по Лайте, а справа по Марху[78] — двум крупным дунайским притокам[79]. Несколько барж выплывали с Марха, первого левого рукава, который является судоходным, тогда как правые — Инн, Энс и Трайзен — мало пригодны для речного транспорта.
Пройдя теснину, именуемую Венгерскими воротами, обогнув многочисленные мысы Малых Карпат, врезающихся в реку наподобие зубьев пилы, один из которых увенчан легендарной башней Тебен, проплыв вдоль острова, будто перегораживающего в этом месте Дунай, Илья Круш прошел под понтонным мостом и остановился на ночь у последнего дома Прессбурга.
Он все время думал о господине Егере. Нет! Судя по письму, им не суждено вновь встретиться в этой официальной столице Мадьярского королевства[80]. Случится ли это в венгерской части реки, в Коморне[81], в Буда-Пеште? Если бы господин Егер был в Прессбурге, возможно, он захотел бы остановиться на несколько часов в городе, насчитывающем сорок пять тысяч жителей, который по-настоящему оживает, лишь когда собирается венгерский сейм, в городе мирных людей, мелких рантье, где жизнь не очень дорога, ибо эта часть Венгрии богата винами и зерновыми. Правда, Прессбург почти не обладает туристическими и архитектурными достопримечательностями, но само его расположение и, пожалуй, еще огромный четырехугольный замок с угловыми башнями довольно живописны.
Господин Егер не пришел и на следующее утро, 23 мая, и его компаньон в одиночестве пустился в дальнейшее плавание по Дунаю.
Почти тридцать лье от Прессбурга до Рааба[82], почти пятнадцать — от Рааба до Коморна, столько же от Коморна до Грана, около двадцати лье от Грана до Буда-Пешта, всего около восьмидесяти лье должна была пройти плоскодонка, прежде чем достигнуть столицы Венгрии. Восемь дней потребовалось Илье Крушу, чтобы добраться от Прессбурга до Пешта. И все это время он думал о том, что его интересное путешествие было бы еще интереснее, если бы рядом находился господин Егер.
Тем временем лодка плыла на юго-восток вдоль левого берега. Плоская, но плодородная равнина простиралась справа и слева. Ложе реки тут во многих местах усеяно островами, некоторые из них довольно обширны, и, в частности, тот, что венгры называют Золотым садом.
Переход прошел без всяких происшествий, о чем Илья Круш и не думал сокрушаться. То, что никто не знал его имени, не слишком сказывалось на продаже рыбы. Рыба легко находила покупателей. Такое впечатление, что наш герой обладал даром выбирать их в быстрой воде, не покупателей, конечно, а рыб. В действительности он точно и со знанием дела выбирал подходящие по размеру крючки и подходящую для каждой рыбы наживку! Нет, к нему никак не подходила знаменитая фраза, лживая, как большинство подобных фраз: удочка — это такое приспособление, за один конец которого иногда хватается глупая рыба, а за другой всегда держится глупец!
Рааб стоит на месте впадения в Дунай реки, носящей то же название, что и сама крепость. Этот главный город комитата[83] насчитывает около четырнадцати тысяч жителей. Благодаря Илье Крушу его население возросло на одну единицу, а могло бы и на две, если бы господин Егер занял свое место под гостеприимным кровом плоскодонки.
За крепостью Рааб последовала крепость Коморн, не менее знаменитая. Илье Крушу пришлось дойти до рынка, чтобы продать свой улов. Там он услышал о стычке в Малых Карпатах банды Лацко и отряда, возглавляемого самим Карлом Драгошем. Говорили, что полицейские потерпели поражение. С тех пор никто Карла Драгоша не видел и не знал, что с ним сталось. Никаких точных сведений на сей счет не было.
— Эх! — вздохнул Илья Круш. — Вот новость, которая здорово расстроила бы господина Егера!
Но, в конце концов, то было всего лишь рассуждение Ильи Круша, которое его компаньон мог бы подтвердить или опровергнуть, если бы в тот час не находился...
«Где? — беспрестанно спрашивал себя Илья Круш. — Где же он?»
Мысль, что в этом отсутствии кроется что-то таинственное, все чаще посещала его.
Здесь уже упоминалось о том, что венгерские земли своим богатством обязаны виноградникам. На холмах, чье расположение столь же благоприятно, как расположение холмов Бургундии, зреют гроздья знаменитого токайского винограда и других первоклассных сортов[84]. В то же время здесь в огромных количествах выращивают зерновые и табак. Несомненно, в этих краях Лацко мог загрузить свои корабли под завязку и спуститься по Дунаю. С этого места река, питаемая левыми и правыми притоками, становится настолько глубокой, что даже военные корабли среднего тоннажа, при условии правильного выбора фарватера, не рискуют здесь процарапать себе днище.
Горы вновь показались у города Гран, резиденции примаса[85], одного из главнейших лиц в королевстве. Возможно, в этот день, а то была пятница, епископ увидел на своем столе щуку весом в пятнадцать фунтов и пару великолепных карпов, ловко извлеченных из Дуная удочкой Ильи Круша.
Нет смысла добавлять, что в этих местах судоходство очень оживленное, здесь господин Егер, который так любил наблюдать за плывущими кораблями, мог бы полностью удовлетворить свое очень особенное любопытство. Иногда даже образовывались заторы из судов, поскольку река сужалась у первых отрогов Норийских Альп и Карпат.
Корабли часто сталкивались и даже переворачивались, но при этом терпели небольшой ущерб. Главное — терялось драгоценное время. Капитаны и лоцманы ни на миг не должны были ослабить бдительность. Но когда столкновение все же происходило, поднималось столько крику, обвинений и ссор! Как вы понимаете, в такие моменты Илья Круш остерегался вмешиваться в конфликт.
Тем не менее одна баржа водоизмещением двести тонн обратила на себя его внимание: ему показалось, что ею управляет опытная рука. Ветер был попутным, хозяин судна поднял большой парус на мачте, установленной над верхней палубой. Такого рода суда оснащены своеобразной надстройкой, мостиком, тянущимся до кормы и закрывающим каюты, в которых живут матросы, небольшая мачта на носу служит флагштоком для национального стяга.
Чаще всего, особенно во время сплава по течению, эти суда управляются с помощью двух длинных кормовых весел, установленных в задней части этого мостика. Но на корабле, о котором идет речь, все было устроено иначе, он использовал попутный ветер всякий раз, когда позволяло направление течения. Руль с широким пером, возмещавшим в ширине потерянное в высоте, позволял лоцману при слабом течении придерживаться нужного курса.
Итак, кораблем управляла умелая и надежная рука. Ловко проскальзывая меж других судов, он изредка мешал им, но его команда не обращала никакого внимания на шум, поднимавшийся на борту оставшихся позади.
«Хороший лоцман, — подумал Илья Круш, вспоминая прежнее свое ремесло. — Нас было несколько таких в порту Рада, там лоцманское дело в почете, я и сейчас при необходимости не погнушался бы подобной работенкой — глаз у меня по-прежнему верен, рука тверда».
Простим приступ тщеславия нашему милому герою. Да, он не забывал своих товарищей и соотечественников из Рада, но, по правде говоря, у старых лоцманов это в крови до конца дней.
Ближе к верховьям берега Дуная становились все более суровыми. Там царило особое оживление, нараставшее при приближении к крупным городам. Тенистые, покрытые зеленью острова становились все многочисленнее, порой от реки оставались лишь узкие каналы. Но были и протоки, позволявшие кораблям свободно плыть дальше. Легкие суда, паровые или парусные, с туристами или прогуливавшимися жителями, скользили меж островов.
Погода была прекрасной, ветер попутным. Солнечные лучи просвечивали сквозь легкие облачка, плывущие на юг, в направлении, которому следует Дунай после городка Вайцен[86], расположенного ниже Грана.
«Если бы он был здесь, господин Егер! — мечтал Илья Круш. — Это зрелище привело бы его в восторг... Кто знает, может, я скоро с ним встречусь?.. В Буде или в Пепгге. Это, конечно, одно и то же, но дает два шанса вместо одного!»
В самом деле, с одной стороны, справа, находится Буда, старый турецкий город[87], а слева — Пепгг, столица Венгрии. Они стоят друг напротив друга, как сотни других городов ниже по течению, например Землин[88] и Белград, два давних исторических врага.
Именно в Пепгге Илья Круш собирался провести ночь, а может быть, даже следующий день и еще одну ночь, поскольку все время надеялся получить весть от своего друга. К тому же его плоскодонка посреди целой флотилии увеселительных лодок могла спокойно стоять у левого берега.
Если бы не радующее душу зрелище, которое являли собой эти два города, их дома с аркадами и террасами вдоль набережной, колокольнями церквей, позолоченными последними лучами заходящего солнца, да если бы все эти чудеса не привлекли его взгляда, он не пропустил бы того, что непременно заметил бы господин Егер, а именно, что в течение некоторого времени лодка с тремя мужчинами на борту, двое на веслах, а третий за рулем, неотступно держалась позади него.
Поскольку Илья Круш знал один тихий уголок на краю города, где можно спокойно отдохнуть денек-другой, он продолжал плыть вдоль берега. Лодка следовала за ним на расстоянии двадцати футов.
Наконец плоскодонка достигла места, где можно было не опасаться ни столкновения, ни чужого любопытства.
Но, к великому огорчению Ильи Круша, около пятидесяти человек, мужчин и женщин, толпились на набережной.
«Так, — подумал Илья Круш, — меня уже ждут!»
Он хотел было проплыть дальше, но в это время лодка с незнакомцами приблизилась к борту его плоскодонки.
Что до любопытных, то ими как будто владело какое-то недоброжелательство, глухой ропот пробегал по толпе.
Человек, сидевший на корме лодки, прыгнул в плоскодонку вместе с одним из своих компаньонов. Затем он обратился к вновь прибывшему:
— Вы Илья Круш?
— Да, — прошептал наш славный герой.
— Тогда следуйте за мной!
XI КРУШИСТЫ И АНТИКРУШИСТЫ
Хотя Буда в течение полутора веков была резиденцией паши и одним из важнейших форпостов Османской империи, хотя ей приходилось мириться со своим турецким положением, в настоящее время это вполне австрийский, а не венгерский город, несмотря на то, что официально он считается столицей Венгрии. В Буде проживает всего пятьдесят тысяч человек; ее общественные здания, кафедральный собор, церкви и дворцы не занимают сколько-нибудь заметного места в мировой архитектуре; промышленность и торговля здесь почти отсутствуют. Это военный город, город для постоя проходящих войск, город патрулей, курсирующих по улицам денно и нощно. Здесь есть замок, арсенал, театр, Буда является резиденцией губернатора, а также военных и штатских властей. И, невзирая на все эти преимущества, она по праву завидует Пешту, стоящему на противоположном берегу великой реки.
Пешт — это, напротив, интенсивная жизнь, сто тридцать одна тысяча жителей, бойкая торговля. Это город мадьяров, можно даже сказать, город благородных людей, где безумно любят музыку и танцы. В Пеште заседает сейм и действует верховный суд. В его театрах и на бульварах всегда многолюдно, а туристам вечно не хватает времени для осмотра всех достопримечательностей. Кроме того, здесь проходит четыре ярмарки в год, заключаются миллионные сделки. Пештские памятники не превосходят красотой памятники его соперницы, зато тут есть восхитительный городской парк, Штадтвальхен, с тенистыми аллеями, зелеными лужайками, небольшими озерами, по которым плавают элегантные лодки. Понятно, что, обладая такой привлекательностью, Пешт испытывает некоторое презрение к Буде.
Таким образом, эти два города разделяются не только Дунаем, но и непохожестью нравов, обычаев и характеров.
Раньше два города соединялись мостом из кораблей, ныне его заменил великолепный мост, висящий на двух промежуточных опорах[89], но установить мост духовный, который бы объединил во взаимном чувстве симпатии давних соперников, оказалось совсем непросто.
Парадокс состоит в том, что путешественник, желающий увидеть венгерскую столицу в самом выгодном с точки зрения живописности свете, должен отправиться в Буду, чтобы лицезреть Пешт, и в Пешт, чтобы полюбоваться Будой.
На сей раз Пешт был особенно оживлен, город наводнили иностранцы, из окрестных мест на рынки приехали крестьяне, на набережных выстроились цепочки четырехколесных повозок с пестрыми матерчатыми навесами, под которыми находились корзины с овощами и фруктами и клетки с птицей. Движение оказалось затрудненным вплоть до самых отдаленных кварталов. Множество лодок, не говоря о грузовых судах и пароходах, курсировали вверх и вниз по реке. Илье Крушу было бы трудно причалить к левому берегу, не знай он пустынного местечка на краю города, где теперь его плоскодонка стояла под охраной полицейского.
Что же случилось в главном городе комитата? В эту первую неделю июня в Пеште проходило собрание сейма. Радикалы, противники австрийского влияния, вступили в более или менее учтивую схватку с легистами, представлявшими партию умеренных. Над дворцом развевались длинные зеленые, белые и красные полотнища венгерского флага.
Однако случилось так, что в течение нескольких дней страсти, сотрясавшие сейм, сменились страстями, разгоревшимися из-за шумного «дела Круша». Причем два соперничающих города заняли противоположные позиции по отношению к несчастному лауреату «Дунайской удочки». Еще ничего толком не зная, их жители стали крушистами в Пеште и антикрушистами в Буде.
Даже не спросив, кто его арестовывает и за что, Илья Круш, как человек смиренный и покорный, ступил на набережную.
— Вперед! — тут же скомандовали ему.
И Илья Круш пошел, да, пошел, между двумя полицейскими, поскольку сразу понял, с кем имеет дело. Счастье, что ему не надели наручники. Впрочем, по мягкости характера, он и это снес бы безропотно.
Что больше всего удивляло, так это отношение людей, мимо которых его вели. Оно казалось явно враждебным, слышались крики, угрозы, взгляды были полны негодования и ужаса.
— Вот он! — вопил один.
— Очень похож! — рычал другой.
— Какое отвратительное лицо!
— Наконец-то его взяли, теперь уж не выпустят!..
— Поделом ему!..
Злые мегеры — а они есть повсюду, даже в Пеште, — размахивали кулаками.
По дороге толпа лишь разрасталась. «Crescit eundo»[90], — подумал бы Илья Круш, если бы знал латынь и если бы его недоумение не разрасталось вместе с толпой.
Миновав несколько густонаселенных кварталов, полицейские и арестованный подошли к зданию, странным образом походившему на те специальные дома, в которые очень просто войти, но очень трудно выйти.
То была городская тюрьма. Дверь отворилась, появился охранник. Он принял Илью Круша как долгожданного гостя и закрыл за ним дверь перед самым носом у толпы, насчитывавшей уже около сотни человек.
Через несколько мгновений Илья Круш очутился в одиночной камере, где были койка и скамья, замки за ним закрылись, причем ни тюремщик, ни полицейские не объяснили заключенному причину ареста.
Более того, бедняга дошел до такой степени растерянности, что даже не задал ни одного вопроса.
Однако он не был приговорен к смерти от голода или жажды. На маленьком столике, прибитом к стене, лежал кусок хлеба, который он съел, а рядом стояла кружка с водой, из которой он отпил несколько глотков.
Тем временем дневной свет, проникавший в камеру через узкую, зарешеченную амбразуру, постепенно померк. Вскоре наступила ночь, и камера погрузилась в полную темноту.
Тогда Илья Круш, не раздеваясь, вытянулся на койке, и самым добросовестным образом задал себе один-единственный вопрос: «Ну и ну! И что же я такого натворил?»
Какой долгой и тоскливой казалась ему ночь! Но в конце концов он задремал, и, поскольку не чувствовал за собой никакой вины, ему не снилось ничего плохого. Напротив, приснилась щука весом в двадцать один фунт, клюнувшая на головастика, а также господин Егер, который вновь был рядом. Во сне два друга мирно путешествовали вниз по течению.
Пробуждение принесло горькое разочарование.
Охранник приходил утром и вечером, чтобы принести тюремную еду. Каждый раз Илья Круш вежливо спрашивал, за что его держат в четырех стенах. Но тюремщик, несомненно, получил указание молчать и ничего не отвечал.
— По крайней мере... это серьезно? — позволил себе простодушно спросить арестант.
Кивок — вот все, чего он добился, и еще один кивок, который, казалось, говорил, что дело чрезвычайно серьезное.
Пришла вторая ночь. Сны были уже менее приятными, и на этот раз господин Егер уже не появлялся в плоскодонке.
«Что они сделали с моей лодкой? — повторял про себя Илья Круш. — С моими удочками, крючками, со всей моей рыболовной снастью? И как долго они собираются продержать меня здесь? И вообще, что все это значит?»
Этот последний вопрос особенно не давал ему покоя.
Вскоре Илья Круш уже не мог думать ни о чем другом.
На следующее утро, 2 июня, около десяти часов дверь камеры отворилась, затем распахнулась, и тюремщик вывел заключенного за пределы камеры, а затем и за пределы тюрьмы. На улице в сопровождении двух полицейских он сел в экипаж. Вокруг опять толпились любопытные, столь же враждебно настроенные, как и два дня назад.
— Это он! Он! — раздавалось со всех сторон.
— Кто он? — недоумевал Илья Круш.
Экипаж ехал очень быстро и через полчаса остановился, но не перед дворцом правосудия, а перед городской ратушей. Двое полицейских проводили заключенного в низкое помещение.
Если сейм собрался в Пепгге согласно конституции, то одновременно на чрезвычайное и особое совещание там собралась и Международная комиссия. Не все ее члены смогли прибыть: кого-то не нашли, кого-то вызвали слишком поздно. Таким образом, сейчас присутствовали только председатель Рот из герцогства Баден, секретарь Хоцим из Бессарабии, господин Ханиш из Венгрии, господин Урош из Сербии и господин Тича из Молдовы. Всего пять человек, имеющих право голоса.
Мы помним: решая вопрос о том, кто возглавит операцию по поимке дунайских контрабандистов, комиссия единогласно остановила свой выбор на шефе полиции Карле Драгоше. И Драгош немедленно приступил к делу. Ему предоставлялась полная свобода действий, отчитываться перед комиссией он должен был тогда, когда сочтет это необходимым. Всякое разглашение сведений могло поставить под вопрос успех порученного ему дела.
Новостей о Драгоше не было до того самого дня, как прошел слух о стычке его группы с бандой Лацко в предгорьях Малых Карпат. Под натиском превосходящих сил противника он вынужден был отступить. С тех пор никто не знал, что с ним сталось.
Вскоре президент Рот получил настолько серьезное донесение, что счел необходимым собрать Международную комиссию в Пеште, где предполагаемый преступник должен был быть арестован сразу же по прибытии. Внимание членов комиссии обращалось на ряд фактов серьезнейшего характера. Сообщение вовсе не было анонимным, под ним стояла подпись шефа полиции Белграда, который утверждал, что его сведения почерпнуты из самых надежных источников.
Не придать значения данному документу председатель Рот просто не мог. Посовещавшись с коллегами, он принял решение 2 июня созвать комиссию в столице Венгрии. Закрытое заседание должно было состояться в одном из залов Пештской городской ратуши. Но, как это обычно бывает с подобными заседаниями, уже с девяти часов утра зал заполнили привилегированные лица. Впрочем, комиссия не должна была судить обвиняемого. Как инстанция, учрежденная для поимки Лацко и его банды, она собиралась определить, должен ли человек, который предстанет перед ней, быть отдан под суд.
В половине одиннадцатого по приказанию председателя ввели обвиняемого.
Ничего не понимающий Илья Кругл с опущенными глазами и виноватым видом в самом деле походил на виновного. Он стоял перед столом, допрос вел председатель Рот, тогда как секретарь Хоцим записывал вопросы и ответы.
— Ваше имя?
— Илья Круш.
— Национальность?
— Венгр.
— Место рождения?
— Рац на Тисе.
— Место жительства?
— Рац.
— Возраст?
— Пятьдесят два года.
— Профессия?
— Около двадцати лет я служил лоцманом на Дунае.
— А в настоящее время?
— В настоящее время я на пенсии и, конечно, никогда бы не выехал из Раца, если бы не идея принять участие в состязании «Дунайской удочки»...
— Где вы получили два приза?
— Да, господин председатель, приз за количество в семьдесят девять рыб и приз за вес с щукой в семнадцать фунтов.
Илья Круш несколько пришел в себя, впрочем, на столь четкие вопросы он был в состоянии дать не менее четкие ответы. До сих пор его поведение было скорее положительным, и, хотя ему собирались приписать самое серьезное преступление, надо признать, теперь он совсем не походил на преступника.
Наш бедняга до сих пор так и не знал, почему был арестован по прибытии в Пепгг и по какой причине его допрашивает Международная комиссия.
— Итак, — продолжил председатель, — вы покинули Рад и отправились в Зигмаринген для участия в состязании.
— Исключительно с этой целью, — ответил Илья Круш. — И выиграл две премии по сто флоринов.
— В самом деле, — несколько иронично произнес председатель. — Но после такого успеха вам, казалось бы, оставалось только вернуться в Рад, чтобы насладиться триумфом!
— Именно это я делал, господин председатель... — В голосе Ильи Круша явно слышалось недоумение, вызванное последним утверждением.
— Именно это вы и делали, да... но необычным способом. Вместо того чтобы поехать по железной дороге, которая доставила бы вас через Саксонию в Венгрию, или поплыть на пароходе по Дунаю, вы поступили весьма оригинально: решили с удочкой в руках спуститься вниз по реке — от истоков до устья.
— Разве это запрещено, господин председатель?
— Разумеется, нет, если только эта оригинальность не послужила вам маскировкой для осуществления преступных замыслов, в чем мы совершенно убеждены!
— Что вы хотите сказать, господин председатель? — Слова господина Рота, казалось, смутили Илью Круша. — Да, в Зигмарингене мне захотелось пройти весь Дунай... В собственной плоскодонке я отравился к истокам в Донауэшингене. Я все время ловил рыбу и добрался до Пешта. Теперь я был бы уже недалеко от Белграда, если бы два дня назад меня не арестовали, даже не объяснив за что...
— Я все объясню, — заявил председатель. — Но сначала скажите еще раз: вас действительно зовут Илья Круш?
— Верно.
— Вот и неверно! Вы вовсе не Илья Круш...
— А кто же я, по-вашему?
— Вы Лацко, главарь контрабандистов!
— Я... Лацко?!
Илья Круш очень хотел опротестовать это утверждение, но голос его потонул в криках, раздавшихся в зале.
Тогда председатель зачитал полученное им письмо. Да, оно содержало весомые улики против некоего Ильи Круша. Разве здравомыслящему человеку придет в голову идея ловить рыбу на всем протяжении Дуная, если только этот план не предназначался для маскировки совсем иных дел... Пресловутый Лацко до сих пор не был схвачен только потому, что скрывался под именем Ильи Круша. Он знал, что его обложили со всех сторон, и не осмеливался подняться на борт одного из тех кораблей, что подлежат полицейскому или таможенному досмотру... Железная дорога была ему заказана так же, как и дорога по реке... Отсюда возникла идея принять участие в состязании в Зигмарингене, а затем, после успеха, достигнутого там то ли благодаря ловкости, то ли благодаря случаю, был составлен и предан огласке план спуститься по Дунаю весьма необычным манером! На плоскодонке, которая проходила незамеченной, плывя по течению так же, как его корабль или корабли, за которыми он следил днем и ночью, с которыми мог оставаться на связи и за тайной погрузкой которых мог наблюдать, не вызывая ничьих подозрений... Короче, все эти аргументы оборачивались против обвиняемого и делали из него настоящего Лацко и мнимого Илью Круша.
Когда бедняга все выслушал, он был весьма удручен. Тысяча страхов терзали его мозг, глаза ослепли, уши оглохли, разум помутился.
«Неужели волей случая я стану Лацко и не буду больше Ильей Крушем?» — подумал он.
Наконец рыболов, ставший вдруг контрабандистом, вышел из оцепенения и попросил председателя хотя бы навести справки о нем в Раце, в его родном городе, чтобы удостоверить его личность. Снисходительно и по-прежнему насмешливо председатель Рот пообещал ему сделать это в самые кратчайшие сроки, после чего его вновь препроводили в тюрьму. Но никто не сомневался, что он — бандитский главарь, прячущийся под личиной лауреата «Дунайской удочки»!
Тут, однако, следует заметить, что если абсолютное большинство жителей Пешта поверили в версию комиссии, то жители Буды дружно придерживались противоположного мнения. Здесь крушисты, там антикрушисты. Спор ради спора.
Прошла еще одна, дурная для Ильи Круша, ночь, на этот раз бессонная. Разумеется, он чувствовал себя столь же невинным, как новорожденное дитя. Но разве от этого легче? Сколько юридических ошибок признано слишком поздно!
Внезапно его пронзила мысль... А как же господин Егер? Никто ни словом не обмолвился о господине Егере? Значит, они не знают, что он был с ним в лодке?
Да, никто этого не знал. В Ульме вряд ли это привлекло чье-либо внимание... Затем, поскольку Илья Круш стремился не появляться на публике, господин Егер также остался незамеченным... И наконец, его не было на борту, когда в Пеште лодку захватили полицейские.
«Великий Боже, а вдруг мой попутчик и есть... — подумал он и тут же с негодованием отбросил это предположение. — Нет, — повторял рыболов, — нет! Такой превосходный человек! Ах! Хорошо, что я ничего не сказал о нем. Они осудили бы и его и решили, что это он Лацко, а мой товарищ знать его не знает, так же как и я! Какое счастье, что председатель не выведал, что мы путешествуем вдвоем... Я не скажу ни слова! Нет! Ничего не скажу!»
Да, у славного рыболова оказался славный характер. Он не хотел даже задерживаться на мысли, что господин Егер и есть Лацко, ловкий и жестокий контрабандист. И тем не менее упорство, с которым его новый друг рассматривал дунайские суда... его визиты в города... отсутствие как раз в тот момент, когда отряд Карла Драгоша потерпел поражение... Не следовало ли из всего этого сделать соответствующие выводы? Ну, конечно нет! Илья Круш не станет делать никаких выводов! Он не сомневается, что если бы господин Егер приехал в Пешт, то, не колеблясь, выступил бы гарантом его порядочности. Впрочем, его и так признают невиновным, как только из Раца пришлют необходимые документы.
Весь следующий день Илья Круш провел в напрасных ожиданиях, его так и не вызвали в Международную комиссию. Очевидно, еще не пришли сведения, запрошенные в Раце.
Четвертого июня Илья Круш в одиночестве предавался размышлениям — ему еще не предъявили никаких юридических обвинений, и никто из адвокатов не пришел к нему, чтобы поговорить по существу дела. Оставалось лишь беседовать с самим собой. Все время мысли возвращались к господину Егеру. Наверняка так называемое «дело Круша» получило широкую огласку и уже достигло ушей его друга. Следовательно, господин Егер знает об аресте компаньона и не будет искать с ним встречи ниже по течению Дуная, а, напротив, поторопится в Пепгг, чтобы выступить в его защиту...
«Вот только, — думал наш славный герой, — не побоится ли он, что его самого примут за главаря бандитов Лацко, как это случилось со мной? Перспектива очутиться за решеткой кому угодно покажется малопривлекательной».
И ни разу, ни разу у него не возникло подозрения, даже малейшего, насчет его спутника, подозрения, которое, несомненно, возникнет у председателя Рота, секретаря Хоцима и многих-многих других, пожалуй, у каждого, кто узнает, при каких обстоятельствах Илья Круш и господин Егер познакомились в Ульме и стали путешествовать вниз по течению великой реки!
Наконец утром 5 июня дверь камеры вновь отворилась. Точно так же, как в первый раз, обвиняемого дожидался экипаж, который доставил его в городскую ратушу. По-видимому, в деле произошел какой-то сдвиг. Зал был опять переполнен. Казалось, аудитория настроена к Илье Крушу еще более враждебно. Он все еще был Лацко.
Надо сказать, у полиции не было никаких новых известий о Лацко, и для всех это объяснялось тем фактом, что мнимый Илья Круш сидел под замком.
Обвиняемый предстал перед членами комиссии с обескураженным видом, совершенно естественным после четырех суток заточения. Как ни был он уверен в своей невиновности, его подавленность и беспокойство были слишком заметны. Напрасно искал он в зале хотя бы один дружелюбный взгляд... Он не нашел ни одного. Но вдруг в лице председателя Рота что-то изменилось. Да и секретарь Хоцим, и другие члены комиссии смотрели на него с симпатией.
Ах! Какой был эффект, когда председатель, взяв слово, произнес следующее:
— Илья Круш, мы запросили в Раце сведения о вас. Я не стану тянуть время и скажу, что они блестящи по всем пунктам...
Волна удивления, а возможно, и разочарования, пронеслась по аудитории, которая увидела, как добыча ускользает из ее рук.
— Блестящи, — повторил председатель Рот. — Шеф местной полиции прислал неопровержимые доказательства вашей личности и вашей порядочности... Да, вы — Илья Круш, бывший лоцман, один из самых выдающихся на Дунае. Вы ушли в отставку в маленьком городе Раце, где теперь и проживаете...
Илья Круш поклонился, ей-богу, так, как будто выслушал комплименты. Вряд ли в тот день, на состязании в Зигмарингене, получая двойную премию из рук председателя Миклеско, он имел вид более ошеломленный.
И тогда в зале раздались рукоплескания.
— Мы встали на ложный путь, Илья Круш, — сказал в заключение председатель. — Вы свободны, и остается только принести вам наши извинения и пожелать полного успеха вашему оригинальному путешествию!
Дело было закрыто к чести Ильи Круша, ставшего жертвой юридической оплошности, признанной на самом высоком уровне. Его ждала лодка. Но в пути к ней его сопровождала восторженная толпа, в которой смешались и австрийские вельможи, и многочисленные рабочие, в основном мадьяры и словаки. Мужчины, женщины, дета сбежались со всех кварталов, чтобы увидеть героя дня, героя дня вдвойне, смущенного еще больше обычного от такого обилия приветствий и почестей. Хотя это и удлиняло путь, вышедшему из-под стражи пришлось пройти через Штадтвальхен, где цыганский хор присоединил свои пляски и песни к общим восторгам городского люда.
В какой-то момент родилась даже идея проводить Илью Круша в Брюкенбад, в знаменитые купальни, и там как следует отмыть от ложных обвинений. Жители Пепгга отказались от этой мысли только потому, что нужно было пересечь реку выше Буды. Так Илье Крушу удалось избежать триумфальной церемонии, в которой он, впрочем, и не испытывал особой нужды.
Наконец после трехчасового шествия демонстрация достигла маленького мыса, за которым под охраной полицейского стояла плоскодонка. Илья Круш забрался в нее и пустился по Дунаю, который быстро унес рыболова от этого нервного и экспансивного города, где на долю бедняги выпали сначала тюремные страдания, которые могли закончиться смертной, да, да, смертной казнью, а потом — огромная радость оправдания. Еще какое-то время целая флотилия сопровождала его, пока в нескольких лье ниже по течению не потерялись из виду последние колокольни столицы.
Не надо, однако, думать, что счастливая развязка поставила точку в его деле. Нет, еще долго различные партии спорили между собой, высказываясь «за» или «против» Ильи Круша. При этом Пепгг и Буда поменяли свои мнения на противоположные. Первый стал крушистом, а вторая — антикрушисткой.
XII ОТ ПЕШТА ДО БЕЛГРАДА
Пешт отмерил почта половину большого путешествия Ильи Круша. Эта половина, прошедшая легко и безопасно, чуть не закончилась трагической развязкой. И только теперь, почувствовав себя свободным, он понял, насколько серьезным было его положение. Последние крики поклонников уже не достигали его ушей, лодка одиноко и безмятежно скользила меж берегов, а рыболов все повторял: «Я... я!.. Я — Илья Круш из Рада, бывший лоцман, лауреат “Дунайской удочки”, я был принят за Лацко!.. В один прекрасный день негодяя повесят, но как легко и я мог очутиться на его месте!»
И он продолжал погружаться в неприятные размышления: «Конечно, правосудие совершило ошибку, но я не держу зла на председателя Рота!.. В самом деле, главарь контрабандистов — хитрая бестия, он вполне мог выдать себя за меня. Кто бы стал искать его под личиной Ильи Круша!.. Ну да ладно! Я счастливо отделался, поставлю свечку перед святой Девой в Раде!»
И тут он вновь вспомнил о господине Егере и опять похвалил себя за то, что ни разу не произнес перед комиссией имени своего спутника. Если бы узнали, при каких обстоятельствах его друг попал в лодку и как они договорились между собой о продаже улова за пятьсот флоринов, то это показалось бы поведением сумасшедшего или, хуже того, человека, который отыскал предлог, чтобы избежать слежки во время путешествия к устью Дуная.
«Да уж, — думал Илья Круш, — я делал все, чтобы не привлечь к нему чье-нибудь внимание!»
Нет! Ни разу славного Круша не посетила мысль о том, что господин Егер — тот самый Лацко, ни разу! Чтобы такой замечательный человек, чьей дружбой нельзя не дорожить, был главарем контрабандистов?.. Вздор!
«Увидев его снова, — мечтал Илья Круш, — а мы наверняка увидимся, я ему все расскажу, и он с благодарностью воскликнет: “Господин Круш, вы самый прекрасный человек, какого я когда-либо встречал на этой земле!”»
Сделав у Вайцена поворот под прямым углом, чтобы затем продолжить путь с севера на юг до самого Пешта, Дунай продолжает нести свои воды и дальше в том же направлении. Несмотря на многочисленные изгибы, он остается верен ему на протяжении более трехсот километров вплоть до местечка Вуковар. И пока Илья Круш отдавался воле течения, отчаливая утром, останавливаясь вечером, он видел простирающуюся на востоке бескрайнюю пусту_[91]
Это преимущественно венгерская равнина, ограниченная более чем в ста километрах от Дуная горами Трансильвании. Железная дорога от Пепгга до Базиаша пересекает бесконечные степи, обширные пастбища, огромные болота, где кишит водная дичь. Пуста, одно из великих богатств Венгерского королевства, — это всегда щедрый стол, накрытый для бесчисленных четвероногих гостей, тысяч и тысяч жвачных. Редко попадаются здесь пшеничные или кукурузные поля. И к тому же это в высшей степени историческое место, где ныне царствует пастух, канас, и табунщик, чикош. Поэты[92] во все времена воспевали его в своих поэмах.
Река здесь становится значительно шире. По ней постоянно снуют корабли, перевозящие прибрежных жителей с одного берега на другой. Нередко Илью Круша узнавали, когда он проплывал мимо. С палуб раздавались сердечные приветствия, ему дружески махали руками. Процесс по его делу лишь добавил ему популярности, теперь он и помыслить не мог о том, чтобы избежать всеобщего внимания. В доме любого пастуха, рыбака или фермера — местного деревенского аристократа — в самой большой комнате над камином висел портрет, более или менее напоминающий лауреата «Дунайской удочки».
Но во всем этом имелась и положительная сторона: его улов продавался по все более и более высокой цене, что, конечно, доставляло рыбаку немалое удовольствие.
«Это не для меня, это для него! — повторял он. — Похоже, он не потеряет на нашей сделке!»
Затем, все тот же рефрен, который вырывался из самого сердца нашего героя: «Но где же он теперь? Его письмо я храню как драгоценность. Он сказал: “Я даже не знаю, где и когда удастся вновь присоединиться к вам... Но это обязательно произойдет рано или поздно, может, в Пепгге, а может, в Белграде!” Однако в Пеште его не было, и, слава Богу, жалеть не стоит. Будем надеяться на встречу в Белграде, или раньше... в Мохаче... Нойзаце[93] или Петервардейне![94] И уж как я буду ему рад!»
Русло реки все больше и больше заполнялось островками и островами. Некоторые из них были столь велики, что, соседствуя друг с другом, образовывали рукава, где течение достигало огромной скорости. Благодаря этому плоскодонка сохраняла среднюю скорость плавания около двенадцати лье в день и могла достичь устья Дуная в предполагаемые сроки.
Острова эти почти бесплодны. В иле, нанесенном довольно частыми наводнениями, растут лишь ивы, осины да березы. Правда, здесь собирают обильный урожай сена — барки, груженные до планширов, перевозят его на фермы и в прибрежные селения.
Поскольку судоходство тут еще оживленнее, чем в верховьях, таможенной службе скучать не приходится. Под ее неусыпным контролем находится множество пароходов, курсирующих вниз и вверх по течению. Илья Круш хорошо видел, как каждое судно, причалившее к берегу, навещают полицейские, с которыми он только что имел дело и о которых не забудет никогда.
В этой части реки изредка встречаются прибрежные песчаные дюны, иногда они уступают место плодородным полям, как, например, у городка Пакш, рядом с которым проходит большой почтовый тракт, проложенный от Вены до Константинополя[95] через Буду, Землин, Белград, Адрианополь[96] и турецкую территорию.
Нет, никогда еще время для Ильи Круша не тянулось так долго, как в плавание между Пештом и Белградом, которое должно было занять двенадцать дней. Кроме того, небо часто заволакивали огромные тучи, на реку низвергались настоящие ливни. Нередко берега скрывались в густом тумане. И тогда — никаких пейзажей. Пароходам, баржам и буксирам приходится останавливаться. Но бывший лоцман так хорошо знал все изгибы и повороты реки — а одному Богу известно, сколько их между Мохачем и Вуковаром, — что, не думая об отдыхе, смело продолжал плыть все дальше и дальше.
Больше всего его волновало то, что если господин Егер окажется на берегу, то не увидит Илью Круша, а Илья Круш не увидит господина Егера. Так было во время остановки около Мохача. Город, утонувший в клубах тумана, не позволял разглядеть даже шпили своих колоколен. Что до десяти тысяч жителей, то ни один из них так и не узнал, что эту ночь рыболов-герой провел у них в гостях. И когда на следующее утро он вновь отправился в путь, то увидел лишь аистов да стаи ворон, устремлявших свой полет в просветы между тучами.
Именно на этом отрезке пути плоскодонка прошла мимо Бездана. С середины реки можно было разглядеть только водяные мельницы, приводившиеся в движение течением реки, зато рыбацкий поселок Апатии предстал весь как на ладони. Это своего рода плавучая деревня, с центральной площадью, где на высокой мачте развевается национальный флаг, а вокруг в живописном беспорядке разбросаны сооружения самых разных форм, от хижины до шалаша, населенные целыми кланами рыбаков. Вполне вероятно, что Илья Круш впервые за время своего путешествия не сумел бы там продать свой улов — у этих ребят рыбы и так было больше чем достаточно.
В тот же день он оставил справа устье Дравы, одного из больших дунайских притоков, по которому ходят крупнотоннажные суда, а через день остановился у набережной Нойзаца на левом берегу, почти в том месте, где Дунай, резко поворачивая, меняет свое меридиональное направление, которого придерживается после Пепгга, и устремляется на юго-восток, к Белграду[97]. Нойзац — это вольный город, где находится резиденция сербского епископа, викарного епископа[98] митрополии Карловце[99].
В этот день, 15 июня, исполнилось двадцать семь дней с тех пор, как господин Егер попрощался с Ильей Крушем при известных нам обстоятельствах. Белграда лодка должна была достичь к концу недели.
«Что ж, — спрашивал себя Илья Круш, — встречу я наконец господина Егера?.. Нойзац — большой город! К тому же между Веной и Нойзацем хорошее сообщение... У него могут быть здесь дела. Честное слово, никто не заметил, как я приплыл, мне нечего бояться, пойду и обойду пешком все кварталы... Бог даст, может, встретимся на берегу?»
Весь вечер Илья Круш бродил то отдаляясь, то приближаясь к лодке. Но прогулки ни к чему не привели, пришлось вернуться обратно, в пустую рубку.
«Подождем, — сказал он сам себе, — будем надеяться, завтра в Петервардейне мне повезет больше».
На Дунае есть несколько городов, причем довольно значительных, которые располагаются друг напротив друга, один на правом берегу, другой — на левом. Таковы Буда и Пепгг, Нойзац и Петервардейн, Землин и Белград. Порой их разделяет сам Дунай, порой — один из его притоков.
Илье Крушу, дабы попасть из Нойзаца в Петервардейн, нужно было всего лишь сойти на набережную и пройти по наплавному мосту, который связывает эти два города.
С того места, где была оставлена лодка, он видел мощную и высокую крепость на речном мысу, господствующем над дунайскими водами. Петервардейн — столица Славонии, известной под именем Военная граница[100].
Едва солнце показалось над крышами Нойзаца, как Илья Круш уже ступил на набережную Петервардейна. Дунай он пересек на плоскодонке. Это казалось таким удобным: если он встретится с господином Егером, останется только пригласить его в лодку. Он даже не забрасывал удочку этим утром, настолько торопился найти своего дорогого компаньона.
Пусть придется все утро потратить на поиски, обойти квартал за кварталом, он все равно добьется своего.
Но все оказалось напрасным. Встретить господина Егера в городе со многими тысячами жителей можно лишь случайно, да и кто сказал, что он сейчас действительно находится в Петервардейне?
Около десяти часов Илья Круш зашел в кафе, чтобы немного передохнуть, и заказал себе бутылку превосходного карловицкого вина. Карловце — столица сербов, живущих под властью австрийцев. Город расположен всего в нескольких лье на запад от реки. Подкрепляясь одним из лучших вин этого региона, Илья Круш говорил про себя: «Если бы господин Егер был здесь, с каким удовольствием я предложил бы ему стаканчик доброго карловицкого!.. И он бы не отказался... чокнулся со мной, и мы бы выпили за здоровье друг друга!»
Так размышляя, опечаленный Илья Круш машинально бросил взгляд на газету. То была венгерская газета, и его внимание привлекла статья под заголовком «Где Лацко?».
«О! — подумал он. — Вот это интересно, я бы тоже не прочь узнать, где он, главарь контрабандистов, за которого меня приняли! И, честное слово, если его схватят, это еще раз докажет, что Илья Круш вовсе не Лацко!»
Правду сказать, в этом доказательстве уже не было никакой необходимости, личность лауреата «Дунайской удочки» была раз и навсегда установлена.
Статья не сообщала ничего определенного. После стычки между контрабандистами и отрядом полиции в предгорьях Малых Карпат о преступниках не было ни слуху ни духу. Возможно, их корабли продолжали спускаться по Дунаю, но досмотры, которым подвергались все суда, не давали результатов. Неуловимый Лацко, очевидно, изменил внешность и, используя то правый, то левый берег реки, наблюдал за транспортировкой контрабанды к Черному морю. Что до Карла Драгоша, шефа полиции, то о нем также не было никаких известий, и никто, за исключением, может быть, председателя Международной комиссии, получающего информацию из первых рук, не мог сказать, где он в настоящий момент находится.
Дочитав до этого места, Илья Круш внезапно вскочил. Через застекленную дверь кафе, выходившую на улицу, которая вела к набережной, он увидел человека, быстро направлявшегося к верхним кварталам Петервардейна. Ему показалось, что он узнал его.
— Это же он! Он! — вскричал Илья Круш и, поскольку уже заплатил за бутылку карловицкого вина, поспешно выбежал из кафе.
На улице было два или три прохожих, но ни одного, напоминавшего господина Егера. Впрочем, возможно, он свернул направо или налево.
«Я не мог обознаться», — повторял Илья Круш, идя наугад. Навести серьезные справки было не у кого. Да и кто в Петервардейне мог знать господина Егера, кроме него самого?
«Эх, незадача, — вздыхал рыболов. — Вместо того чтобы сидеть в кафе, надо было продолжать ходить по улицам, тогда я не пропустил бы его! Он заметил бы меня, подошел, и... мы снова пустились бы в плавание, уже без всяких задержек...»
Рыбак был вне себя от огорчения. Упустить такой случай! Такой редкий случай! Какова вероятность, что он снова найдет господина Егера? Что же предпринять? Остаться в Петервардейне? Отправиться в Нойзац? А вдруг он обознался? Нет, Илья Круш не допускал подобной мысли... Несомненно, он видел своего компаньона и потерял его след!
Без толку проблуждав целый час по кварталу, Илья Круш решил вернуться на берег и ждать в лодке. Если ему не удалось найти господина Егера, ладно, пусть господин Егер сам его найдет, результат будет таким же превосходным!.. Где бы ни был господин Егер, в Петервардейне или Нойзаце, он, несомненно, будет искать лодку, поэтому следовало не теряя ни секунды вернуться назад.
Общественность не проявляла к лауреату «Дунайской удочки» никакого интереса, и на этот раз он сожалел об этом. Шумная толпа привлекла бы внимание господина Егера. Но газеты с той надежностью информации, которая свойственна многим репортерам, сообщили, что Илья Круш уже миновал Белград, и все уже забыли о нем.
Напрасно Илья Круш ждал в лодке, напрасно после полудня снова пошел на поиски друга. Наступил вечер, а господин Егер так и не появился.
Еще одна тоскливая ночь для Ильи Круша! Но больше задерживаться нельзя. От Нойзаце до Белграда не так уж далеко, и разве господин Егер в своем письме не говорил, что, может быть, присоединится к компаньону у Белграда?..
На следующее утро лодка снова поплыла по течению Дуная. Но господина Егера рядом с Ильей Крушем не было!
Справа возвышались глинистые берега, к реке выходили узкие лощины. На крутых обрывах вклинивались иногда наклонные поля с виноградниками и редкими деревьями. Держась ближе к суше, плоскодонка старалась избежать столкновения с длинными вереницами барж, увлекаемых ветром или течением, и многочисленными лодками.
В тот же вечер, 18 июня, около пяти часов, Илья Круш бросил якорь у места впадения Тисы в Дунай, а удочку забросил в маленькой заводи, где было довольно много рыбы.
Тиса — полноводная река, длиной в девятьсот километров, берет начало в Карпатах, пересекает Трансильванию и Венгерское королевство и, прежде чем влиться в Дунай, омывает местечко Тител. Илье Крушу оставалось пройти десяток лье вверх по Тисе, чтобы достичь Рада.
Как мы помним, это родной город бывшего лоцмана. Здесь, на борту кораблей, он освоил ремесло лоцмана. Здесь обосновался, уйдя шесть лет назад в отставку, здесь полюбил рыбную ловлю. Отсюда были посланы сведения, запрошенные председателем Международной комиссии, сведения, которые позволили удостоверить личность Ильи Круша и восстановить его честь.
Возможно, в этот момент Илье Крушу пришла в голову мысль отдохнуть несколько дней дома, в своей семье, пожать руку старым друзьям, а потом уже продолжить путешествие, которое он намеревался довести до конца.
«Нет, — сказал он сам себе. — А вдруг господин Егер, пока я буду прохлаждаться в Раце, станет ждать лодку в Землине или Белграде? Он же разволнуется, если не найдет ее!»
Рассуждения эти были весьма справедливы. Не возмутительно ли, что газеты, дав ложное сообщение, что Илья Круш уже проследовал в Белград, ввели господина Егера в заблуждение?
Таким образом, Илья Круш отказался, хотя и с сожалением, от идеи наведаться в Рац и на следующее утро, продав в Тителе свой улов, снова пустился в плавание.
Вечером следующего дня он остановился несколько выше Землина и решил возобновить поиски, начатые в Нойзаце и Петервардейне.
Землин построен на правом берегу Дуная при впадении Савы, и эта река отделяет его от Белграда. Поскольку город находится в некотором отдалении от реки, Илья Круш поручил присмотреть за лодкой одному из тех рыбаков, чьи деревянные дома теснятся под кронами больших прибрежных деревьев. На тот случай, если кто-то будет его спрашивать, он сообщил ему свое имя...
— Ах! Господин Круш, — только и вымолвил этот человек.
— Да, но держите язык за зубами... Обещаете?
— Конечно!
И стоило Илье Крушу удалиться, как рыбак поспешил сообщить всему свету, что Илья Круш в городе.
Таким образом инкогнито знаменитого рыболова было нарушено. И сербы, составляющие большинство жителей Землина, не менее достойно, чем австрийцы в Пассау или венгры в Пеште, встретили лауреата «Дунайской удочки». Со времени своего основания в восемнадцатом столетии на месте замка славного Яноша Хуньяди, защитника Венгрии от османских завоевателей[101], Землин, возможно, не знавал таких торжеств.
Но зато до ушей господина Егера, если бы он был в Землине, шум, поднятый вокруг Круша, не мог не дойти, и он поспешил бы присоединиться к своему компаньону.
На следующий день, 19 июня[102], незадолго до полудня, Илья Круш благодаря ясной погоде увидел на другом берегу город, амфитеатром раскинувшийся на холме, с европейскими домами, колокольнями, пламенеющими от солнца, минаретами мечети, которая гармонично соседствовала с церквами. Немного левее, на бельэтаже из фруктовых деревьев, откуда вздымались в небо высокие кипарисы, виднелся второй, более современный, город, контрастировавший со старым турецким.
То был Белград, Alba graeca, Белый город, в прошлом столица Сербского княжества, ныне состоящий из трех сильно различающихся частей: нового города — исключительно сербского; предместья, заселенного одновременно сербами и турками, и крепости — резиденции паши, над которой развевается османский стяг.
В тот момент, когда, причалив к одной из набережных торгового предместья, Илья Круш собирался сойти на берег, какой-то человек дружески дотронулся до его плеча.
То был господин Егер.
— Как поживаете, господин Круш? — спросил он.
— Неплохо... а вы?..
И это все, что смог сказать своему старому компаньону Илья Круш, совершенно ошарашенный и столь же счастливый!
XIII ОТ БЕЛГРАДА ДО ЖЕЛЕЗНЫХ ВОРОТ
Господин Егер и Илья Круш не виделись с тех пор, как расстались в Вене 20 мая, то есть тридцать один день назад. Прошло уже двое суток, как господин Егер прибыл в Белград. Из скромности Илья Круш конечно же не стал выяснять причину столь долгого отсутствия друга. Главным было то, что теперь они снова вместе.
— Когда отправляемся? — вот первое, что спросил Илья Круш.
— Немедленно, если хотите, — ответил господин Егер, — и это избавит вас от славословий толпы, на которые вы совсем не падки...
— В самом деле, господин Егер. Значит, мое прибытие...
— ...согласно газетам, состоится только завтра. Чем больше запаздывают газеты, тем больше они продвигают вас вперед. Самое время...
— ...для ваших указаний, господин Егер. Сейчас около четырех, за три часа мы отойдем на два-три лье от Белграда...
— Решено, господин Круш, решено.
Постороннему наблюдателю, возможно, показалось бы, что господин Егер очень торопится покинуть столицу Сербии. Но Илья Круш ничего не заметил. Он видел одно: друг снова рядом и зовет его в путь.
Тот счел, однако, своим долгом добавить:
— Если только, господин Круш, у вас нет в Белграде никаких дел...
Впрочем, произнесено это было тоном человека, который заранее знает ответ.
— Все мои дела, господин Егер, — в устье Дуная, и поскольку у нас впереди еще больше трехсот лье...
— ...то нельзя терять ни минуты, господин Круш, ни одной минуты! — поддержал рыболова господин Егер.
Что касается достопримечательностей, то в бытность свою лоцманом Илья Круш часто останавливался здесь, иногда в связи с разгрузкой, иногда в связи с погрузкой судна, и потому хорошо знал Конак, или дворец паши, окруженный с четырех сторон толстыми стенами, смешанный Старый город, окружающий крепость с четырьмя воротами по бокам, торговое предместье, где предлагаются товары не только для Сербии, но и для всех турецких провинций[103], улицы, похожие своими лавочками и манерой привлечения покупателей на квартал в Константинополе, новый город, вытянувшийся по берегу Савы, с его дворцом, сенатом, министерствами, широкими проспектами, обсаженными деревьями, и с комфортабельными частными домами, город, резко контрастирующий со Старым городом, в общем, весь этот странный ансамбль, коему имя — Белград. Что до господина Егера, то, даже допустив, что он впервые в столице Сербии, ему вполне хватило бы двух суток, чтобы познакомиться с ней. Следовательно, ни у того, ни у другого не было мотива задерживаться здесь долее. Как сказал Илья Круш, им предстоял еще долгий путь до устья реки. После Белграда крупные города встречаются реже, можно назвать Никопол, Рущук, Силистру и Измаил, и, даже учитывая необходимые остановки для отдыха, плавание могло пройти с хорошей скоростью.
После полудня, около пяти часов, лодка, не привлекая внимания, без шума и излияний народного восторга, вновь устремилась вниз по Дунаю. Прошло совсем немного времени, и эти два города — Землин и Белград, — такие враги в прошлом, такие друзья ныне, для которых уже утратили справедливость слова автора «Восточных мотивов»[104], исчезли из виду. И если Дунай и сейчас приходит в ярость, то уже не из-за угроз Землину или Белграду, а потому, что страшные ветры, обрушивающиеся на его широкое и глубокое ложе, поднимают «волну, подобную морской», и наступает черед речников бояться гнева реки.
Что удивительно, ни господин Егер, ни Илья Круш ни словом не обмолвились о различных событиях, коими было отмечено время их разлуки. Лишь когда лодка спокойно поплыла по течению, Илья Круш вскричал, сжав руки своего спутника:
— Ах, господин Егер, какими долгими показались мне дни без вас!.. В каждом городе, в каждой деревне я надеялся вас встретить!.. Я боялся, не приключилось ли с вами какое несчастье...
— Нет, господин Круш, — отвечал господин Егер, — нет! В Вене мне срочно пришлось заняться важными делами, у меня едва хватило времени, чтобы предупредить вас, черкнув несколько слов! Это очень смущало меня, но я не мог ничего поделать, вы получили мое письмо, когда я был уже далеко...
— Я тоже, господин Егер, не стал задерживаться в Вене... уже в три часа утра отвязал лодку и отправился в Прессбург...
— Отчего такая спешка?
— Перво-наперво, чтобы вас не пропустить, если вы захотите там присоединиться ко мне... и потом, чтобы избежать суеты и шума...
— Так венцы знали о вашем прибытии? — удивился господин Егер.
— Узнали. Ваш письмоносец проболтался, но все-таки я улизнул...
— Вы все тот же, господин Круш!
— Все тот же, господин Егер, и, как всегда, рад вашему обществу.
— Я тоже, господин Круш.
— И мы больше не расстанемся до конца путешествия?
— У меня есть все основания надеяться на это.
Эти слова заставили просиять добродушное лицо Ильи Круша.
— Господин Егер, — спросил он вновь, — скажите, вы знаете, что случилось со мной в Пепгге?
— Еще бы не знать, господин Круш! Арест, заключение... Принять вас за этого пресловутого Лацко, которого никак не удается поймать...
— Ответьте мне, — оживился Илья Круш, — неужели я похож на преступника?
— Конечно нет, более того, если самый честный человек на земле на кого-нибудь похож, то только на вас!
— Тем не менее целых четыре дня, господин Егер, меня считали главарем контрабандистов, и, казалось, председатель Рот ничуть в том не сомневался...
— Господин Круш, — признался господин Егер, — поверьте, если бы я был свободен, когда узнал о вашем несчастье, то примчался бы в Пешт, чтобы заступиться за вас... Когда же я освободился, дело было уже закончено... Более того, я узнал обо всем слишком поздно, чтобы написать председателю Международной комиссии и сообщить ему все, что могу...
— О! Господин Егер, было очень неприятно оказаться запертым в четырех стенах, но, честное слово, я не испытывал никакого беспокойства... В своей невиновности я был уверен и знал, что сведения, запрошенные в Раце, расставят все по своим местам... Я... я... Лацко?!
— Правда, здесь нет здравого смысла, и, я думаю, вы уже забыли об этом злоключении...
— Как если бы его и не было, господин Егер...
— Кстати, а обо мне не упоминалось в этом деле?
— Ни разу, господин Егер. Никто не знал и до сих пор не знает, что я путешествую не один... а если вас кто-то и видел случайно в моей лодке, то мог подумать, что я просто подвожу кого-то...
— Значит, мое имя никем не называлось?
— Ни-ни, господин Егер. Только я его знал. А я, как вы понимаете, не так прост, чтобы проговориться...
— Однако, господин Круш, вы могли рассчитывать на мои показания...
— Да, я думал об этом, но знал, что выкручусь сам, и, кроме того, это могло обернуться для вас неприятностями...
— Неприятностями, почему?
— Потому что комиссия могла решить, что вы и есть Ладко...
— Я?
— Ну да! Теоретически вы могли воспользоваться возможностью в полной безопасности пройти вниз по реке... а меня могли принять за вашего сообщника... Нет уж... Я предпочел молчать.
— И были совершенно правы, — согласился господин Егер, который с каким-то особым вниманием выслушал все, сказанное компаньоном. — О! Как вы были правы, спасибо, друг, за ваше молчание...
— Да что вы, господин Егер! В конце концов, думаю, вам было бы не труднее, чем мне, доказать свою невиновность.
— Разумеется, господин Круш, разумеется!
Когда наступил вечер, лодка причалила к берегу у деревушки, где господин Круш мог продать свой улов и пополнить запасы хлеба и мяса.
На следующий день, после удачной рыбалки на зорьке, течение вновь подхватило плоскодонку, и она быстро поплыла дальше. На австрийском берегу, пологом, часто затопляемом, пограничники, стоявшие неподалеку друг от друга, переговаривались между собой. Наполовину солдаты-наполовину крестьяне, они не получали никакого вознаграждения за службу в мирное время. Понятно, что строгость австрийских порядков делает довольно затруднительной остановку на этом берегу, поэтому, чтобы избежать всяких неприятностей, Илья Круш охотно общался с берегом противоположным.
Там уже стояли многочисленные суда, не желавшие плыть в темноте. Их было около тридцати, шедших друг за другом. Среди барж по-прежнему выделялась та, хорошо управляемая, которую господин Егер заметил неподалеку от Штрудельского ущелья.
— Что касается рыбалки, — говорил Илья Круш, — то река одинаково богата рыбой как с той стороны, так и с этой. И мне, господин Егер, можно сказать, везло... Продажа улова принесла в общей сложности сто двадцать семь флоринов и семнадцать крейцеров. Это позволяет думать, что вам не придется ни о чем сожалеть в конце нашего путешествия...
— Я всегда был такого мнения, господин Круш, — отвечал господин Егер, — это вы потеряете на нашей сделке!
В течение четырех дней, которые потребовались лодке, чтобы дойти до Оршовы, пришлось плыть по весьма капризному и извилистому руслу, сохранявшему генеральное направление на восток и служившему правым своим берегом военным рубежом. Она прошла мимо города Семендрии[105], некогда бывшей столицей Сербии, чью крепость на высоком мысу, перегораживающем часть русла Дуная, защищает целый венец башней и донжонов. В этом месте река с лихвой искупает неплодородность полей, раскинувшихся выше города, — повсюду, вплоть до устья Моравы[106], фруктовые деревья, сады, роскошные виноградники. Эта река стремится к Дунаю по великолепной долине, одной из самых красивых в Сербии. Часть судов, встреченных нашими путешественниками, спускалась к Дунаю, другая — готовилась пройти вверх по течению с помощью буксиров или на прицепе.
После Семендрии плоскодонка благополучно миновала Базиаш, где в ту пору заканчивалась железная дорога из Вены[107] (в скором времени она будет продолжена до Оршовы), затем прошли Голубац[108], с его прославленными руинами, затем легендарные пещеры, в одной из которых святой Георгий схоронил тело собственноручно убитого им дракона. С двух сторон на каждом повороте реки высились островерхие утесы, у их подножия пенились воды, а на горных вершинах, более высоких на турецком берегу, чем на венгерском, рос густой лес.
Каждый турист, несомненно, не раз остановился бы, чтобы подольше полюбоваться вблизи на чудеса, которые река открывает здесь взору. Он вышел бы на берег в ущелье Казан[109], одном из самых примечательных на реке, проследовал бы вдоль волока, чтобы посмотреть на знаменитую скрижаль Траяна[110] — скалу, где еще сохранилась надпись, напоминающая о кампании этого славного римского императора.
Но ни господин Егер, ни Илья Круш не предавались осмотру достопримечательностей: движение торговых судов по-прежнему полностью владело вниманием первого, тогда как второй, следуя капризам течения, думал, вдоль какого берега плыть — турецкого или сербского.
Таким образом, после полудня 24 июня, в довольно дождливую погоду, они прошли карпатскую гряду, которая простирается от Польши до Балкан и пересекает Дунай в том месте, где открывается его четвертый бассейн.
На границе, уже на территории Валахии, стоят две Оршовы — старая и новая. Здесь Дунай входит в османские земли, иначе говоря в турецкие провинции, которые покинет лишь в самом конце, у впадения в Черное море. Оршова, естественно, является военной базой, занятой валашскими солдатами. Именно здесь путешественники самым неприятным образом подвергаются полицейской тирании и таможенным притеснениям.
Разумеется, Илья Круш и господин Егер, которым не нужно было ни разгружать, ни погружать никаких товаров, рассчитывали, что пройдут досмотр без задержки. Их лодка не была грузовой, и при условии, что не появилось никаких новых установлений относительно удилищ, крючков и поплавков, они полагали, что смогут отправиться в путь, когда сочтут удобным, в любой час дня или ночи.
Что удивило господина Егера, так это огромное количество барж у Оршовы. Их было не меньше тридцати, и на каждой стоял валашский часовой. Служащие таможни подвергали суда самому тщательному досмотру.
Господин Егер не замедлил выяснить, что по приказанию свыше на все корабли, желавшие пройти мимо Оршовы, наложено эмбарго. Эта чрезвычайно притеснительная мера была принята по решению Международной комиссии. Все ее агенты получили строжайшие указания. Ни одна баржа не могла продолжить путь вниз по Дунаю, пока таможня не убедится, что на ней нет контрабандных товаров.
— Так, так, — заметил Илья Круш, — это наверняка дело рук шефа полиции Драгоша, кажется, он наконец-то схватит этого Лацко или по меньшей мере задержит один из его кораблей!
Господин Егер не ответил. Сжав губы, он стоял в лодке, чей якорь уже зацепился за песчаный берег, и смотрел на всю эту суету, слушал раздававшиеся со всех сторон крики и протесты против мер, столь пагубных для дунайского судоходства.
И тогда Илья Круш добавил:
— В любом случае нас это не касается... не вижу, какой контрабандой можно загрузить плоскодонку! Впрочем, досмотреть ее можно будет минут за десять, пусть ищут, если есть охота...
Тут наш славный герой ошибся! Он явно недооценил удовольствие, которое испытывают администрации всех стран, и в особенности придунайских, от всяческих бюрократических процедур.
Мирный рыболов был взбешен, но, дабы успокоить вас, скажу, обошлось без сердечного приступа.
— В конце концов, господин Егер, — негодовал лауреат «Дунайской удочки», — я сержусь не из-за себя, боюсь, эта задержка очень расстроит вас...
— Ничуть, — отвечал господин Егер, — я не прочь посмотреть, как все происходит, вдруг удастся обнаружить одну из барж Лацко, за которого вас, господин Круш, приняли!
В общем, двух путешественников задержали у берегов Оршовы на сутки. И все это время суда стояли без движения. Часовые не подпускали к ним никого постороннего, и ни один матрос не имел права покинуть борт. Таможенники заставляли команду выносить грузы и обшаривали все трюмы — проверяли, нет ли второго дна, не прячется ли что-нибудь под обшивкой. После трюмов осматривали все уголки надстройки верхней палубы, каюты, расположенные в корме... Но и потом баржа не сразу получала разрешение на отплытие. Их отпускали только вместе, после уплаты таможенной пошлины.
Конечно, операция проходила не без споров и ссор. Но сил общественного порядка, к которым присоединились и солдаты гарнизона Оршовы, хватало, чтобы сдерживать негодование речников.
Господин Егер проявлял крайний интерес к этим досмотрам, его внимание не ослабевало ни на минуту. Даже Илья Круш не выдержал и поинтересовался:
— Ну как, господин Егер, пока ничего не нашли?
— Нет, и, похоже, вся эта кутерьма напрасна...
— А вы заметили среди барж ту, что встретилась нам в ущелье Штрудель — она так ловко обходила все преграды на своем пути?
— Да, господин Круш, вон она, у пристани... Я сразу ее узнал... Ее осмотрели одной из первых, но ничего подозрительного не обнаружили...
— В самом деле, она уже готова к отплытию, но ей придется ждать остальных. Ну, ничего! Там отличный лоцман, он сумеет наверстать потерянное время!
Действительно, груз на барже уже возвратили на место. Никого не было видно на палубе, наверное, вся команда находилась на суше или в каютах. Только один валашский солдат вышагивал на борту с ружьем на плече.
В соответствии с полученным приказом в операции участвовал шеф таможни Оршовы и досмотр должен был продолжаться для вновь прибывших судов. Что же касается судов, задержанных сутки назад, то для них он закончился вечером 25 июня. Никакой контрабанды не было обнаружено, всем дали разрешение на отплытие.
Некоторые суда отчалили тем же вечером, так как ночное плавание не сулило никаких опасностей. Другие, и среди них та баржа, которая привлекла внимание Ильи Круша, похоже, предпочли дождаться утра. Однако по какой-то причине запримеченная баржа отбыла ночью — на следующий день, когда рассвело, ее уже и след простыл.
Раз-другой забросив спиннинг, Илья Круш поймал несколько крупных рыбин, в том числе довольно больших лососей, затем лодка снова вышла на стремнину.
На следующий день около четырех часов дня она остановилась на отдых у набережной Джюрджево[111], а еще через сутки, пройдя устье Черны, стекающей с трансильванских Карпат, подошла к знаменитому ущелью Железные Ворота.
Проход через него довольно опасен, здесь часто случаются кораблекрушения. На протяжении одного лье между высокими четырехсотметровыми скалами течет, вернее мчится, сужаясь вдвое, река. У подножия скал грудятся огромные, упавшие с гребней, камни, о которые с яростью разбиваются волны, приобретающие тут темно-желтый цвет. С этого места великую европейскую реку можно называть прекрасным желтым Дунаем.
XIV НИКОПОЛ, РУЩУК, СИЛИСТРА
На следующее утро, пока господин Егер еще спал, Илья Круш отлично порыбачил. Идти ночью через ущелье Железные Ворота, где глубина Дуная достигает пятидесяти метров, крайне безрассудно, якорные цепи кораблей рвутся здесь под ударами яростных волн, словно веревки. Поэтому корабли останавливаются либо перед этим ущельем, либо после, в полной безопасности. Так и плоскодонка Ильи Круша, пройдя ущелье за полтора часа, достигла широкой части реки и заняла место ниже небольшого современного города Турну-Северина — в будущем благодаря выгодному местоположению ему предстоит стать крупным торговым центром.
Когда господин Егер вышел подышать свежим утренним воздухом, лодка снова рассекала водную гладь реки. К тому дню, 27 июня, путешественники прошли уже более трех четвертей намеченного пути. Еще две сотни лье — и устье Дуная будет достигнуто. В общем, Илья Круш и его компаньон больше не сталкивались ни с опасностями, ни с усталостью, и все позволяло надеяться на успешное окончание их одиссеи.
— Ничего нового? — Господин Егер устремил взгляд сначала вверх, а потом вниз по реке.
— Ничего, господин Егер, только погода кажется мне неустойчивой... Возможно, будет гроза, шквальный ветер...
— Не страшно! — ответил господин Егер. — Переждем ее у берега. А как баржи?
— Вон они... Все двенадцать, идут друг за другом... Но чем ниже, тем их будет меньше... Большинство не пойдет дальше Силистры или Галаца, редко кто идет в порты Черного моря.
Как всегда внимательно осмотрев баржи, господин Егер занял место на корме.
В течение всей следующей недели путешествие не было отмечено никакими событиями. На небо то и дело набегали тучи. Иногда разыгрывались настоящие шторма, поскольку здесь река, направляющаяся на юг, очень широка и ограничена плоскими берегами, не защищающими ее ни с востока, ни с запада. Тем не менее без всяких приключений лодка прошла мимо знаменитого Траянова моста, или, вернее, мимо двух сложенных из камней опор, которые от него остались. Спутники не стали терять времени и обсуждать подлинность этих руин. Это дело знатоков, которые, впрочем, знают о данном предмете не больше, чем простые смертные.
За Траянским мостом находится пограничный пост Коброво, где заканчивается дорога, смело проложенная инженерами-путейцами сквозь горы, затем — Радуевац — последняя сербская пристань, у которой останавливаются пароходы. И наконец показались Филордин[112], красивый болгарский городок, и на левом берегу Калафат, где Илья Круш весьма выгодно продал свой улов, хотя никто не знал о его прибытии.
В целом, по мере того как они удалялись от крупных городов Австрии и Венгрии, известность Ильи Круша падала. Возможно, звуки медных труб славы сюда просто не донеслись. Огорчало ли его это? Конечно нет. Продавалась бы хорошо рыба, а большего и желать не надо!
Впрочем, если бы в Калафате его постигла неудача, он мог бы перебраться на правый берег. Там находится другой турецкий город — Видин, с довольно развитой торговлей, площадями, кафе, базарами... Здесь легко сбыть свой улов, если торговаться живее, чем это делают восточные люди, коим свойственно безразличие, если не сказать оцепенение. Господин Егер отправился туда, пока Илья Круш занимался коммерцией в Калафате, и с большим трудом раздобыл себе сменную одежду, хотя готов был втридорога заплатить за нее.
Берега реки, омывающие валашский берег с левой стороны и болгарский — с правой, весьма разнообразны. Земли здесь неплодородны, пересечены оврагами и покрыты холмами. Плотность населения — неравномерная. На территории Валахии городки и деревни, прячущиеся под сенью раскидистых деревьев, следуют друг за другом. Рыбная ловля здесь пользуется особым почетом. Мужчины, а также женщины предаются этому благородному занятию под широкими красными зонтами мавританской формы, которые защищают их как от ливней, так и от солнечных лучей. Что до оснащения, то тут им было далеко до лауреата «Дунайской удочки». Должно быть, рыба в этих краях отличается удивительной любезностью, раз соглашается ловиться на столь примитивные орудия местных рыболовов.
Если бы Илья Круш говорил по-турецки или горожане понимали по-венгерски, то наш славный герой охотно дал бы им некоторые советы, присовокупив к ним отборные крючки. Но из-за языкового барьера ему пришлось отказаться от этой идеи.
Река здесь богата рыбой, сюда часто заходят осетры огромных размеров — от трех до пяти метров длиной и весом до тысячи двухсот фунтов. Осетра употребляют в свежем и соленом виде, а его икра является известным деликатесом.
Во время плавания господин Егер и Илья Круш с живейшим интересом наблюдали за рыбами-исполинами.
— Хе, хе, — не удержался однажды господин Егер. — Если одна из этих тварей набросится на нас, от лодки только щепки полетят.
— Вы правы, — согласился Илья Круш. — Поэтому не стоит искушать судьбу, давайте держаться ближе к берегу, там нет никакой опасности.
У болгарского селения Раково[113] Дунай стал еще шире и превратился в настоящий морской залив с белыми гребешками пены на волнах. Глаза едва различали силуэт валашского берега.
Так же как лодка, баржи держались поблизости от берега. С плоскими днищами и неповоротливыми формами, они совсем не предназначены для открытой воды и могут потерпеть бедствие при шквалистом ветре. Плавание вниз по реке продолжали только пять или шесть барж, что весьма удивляло Илью Круша. И когда господин Егер спросил его:
— В бытность лоцманом, господин Круш, вам приходилось доводить корабли до самого устья?
Он ответил:
— Несколько раз, господин Егер, но, знали бы вы, как это опасно!
— И с вами никогда не случалось никакой беды?
— Никогда, нет, никогда, потому что я знаю мой Дунай!
— Как вы думаете, среди этих барж есть такие, что пойдут дальше Галаца?
— Есть, но не все! В море есть несколько бухточек, там их дожидаются парусники или пароходы, которые переправят груз в черноморские порты.
— А много ли в дельте рукавов? — поинтересовался господин Егер.
— Есть два основных, разделенных островом Лети[114], самый крупный из них — Килийский.
— Вам знакомы все рукава?
— Все, господин Егер, на Дунае нет лоцманов, которые не знали бы их...
— Значит, можно предположить, что баржи, которые идут рядом с нами, направляются к Черному морю?
— Можно, господин Егер, и, честное слово, я не удивлюсь, если одна из них, та, у которой хороший лоцман, дойдет до устья.
— Вы уверены? — настаивал господин Егер, который, казалось, придавал этому разговору весьма серьезное значение.
— Почти. Впрочем, скоро мы все узнаем наверняка. Баржа уже не может пользоваться парусом — слишком рискованно, учитывая ее загруженность. Можно встать боком к волне и перевернуться... Лоцман не допустит такой ошибки... А поскольку течение одно для всех, оно не понесет ее быстрее, чем нас... И если баржа направляется в Черное море, значит, мы придем туда одновременно.
И тогда господин Егер задал последний вопрос:
— Что до визитов полиции или таможни, то этой барже они уже не грозят?
— Нет, господин Егер. В низовьях контроль почти невозможен, не то что наверху... Река здесь все шире и шире, что прикажете делать полицейским, когда они на берегу?
— Я так и думал, господин Круш, и потом, эти корабли уже прошли контроль в Оршове, и раз таможня пропустила их, значит, на них нет контрабанды...
— Совершенно справедливо, господин Егер. Вряд ли Лацко даст себя схватить на одной из этих барж!
— Вы, как всегда, правы, господин Круш!
Четвертого июля довольно поздно вечером путешественники закрепили свой швартов за одним из кнехтов маленького дебаркадера у набережной Никополя в месте впадения Алулы[115], на правом берегу Дуная. Этот город, основанный Августом, связует Восток и Италию. Здесь заканчивается в настоящее время трансадриатическая линия телеграфа. В Никополе находится резиденция греческого[116] архиепископа и католического епископа.
Было уже так темно, что господин Егер и его спутник не могли осмотреть Никопол. Турист пожалел бы об этом и, несомненно, задержался бы здесь на несколько часов. В городе насчитывается двенадцать тысяч жителей, он живописно раскинулся меж двух холмов, на одном из которых высится замок, а на другом — крепость.
Илья Круш спросил господина Егера, не хочет ли тот провести в Никополе весь следующий день.
Поблагодарив за предложение, господин Егер сказал, что знает Никопол, у города нет от него секретов, поэтому лучше отправиться дальше на заре, благо погода стоит хорошая.
— Как хотите, господин Егер... Снимемся на рассвете... Но если, к примеру, вам захочется остановиться на денек в Рущуке...[117]
— Да, господин Круш, я был бы не прочь, у меня сохранились весьма смутные воспоминания об этом городе...
— Договорились.
— Сколько от Никополя до Рущука?
— Около двадцати лье, мы будем там послезавтра вечером.
Как только забрезжил день, лодка пошла вдоль болгарского берега, и поплавок потянулся вслед за ней.
Возможно, Илья Круш опасался, что его компаньону в конце концов станет скучно. Нужно обладать на редкость уравновешенной натурой, чтобы в течение долгого путешествия в семьсот лье интересоваться превратностями, неожиданностями и радостями такого благородного занятия, как рыбалка.
Но ничего подобного! Господин Егер не скучал ни минуты. В особенности его занимало все, что касалось речной навигации. Илья Круш даже спрашивал себя, не готовит ли его спутник какую-нибудь статью на сей счет и не в этом ли состоит истинная цель его путешествия?..
И, поскольку Илья Круш не удержался и начал задавать своему спутнику наводящие вопросы, тот с улыбкой ответил:
— Да, да, что-то в этом роде.
— Тогда, господин Егер, наше путешествие, надеюсь, будет вам полезно...
— Господин Круш, я уверен, что не потеряю времени зря.
— И вам не кажется, что наше плавание слишком затянулось?
— Ну что вы, господин Круш, в вашем обществе... в вашем обществе!
Наш славный герой был глубоко тронут таким ответом. И, если представится случай, он сумеет доказать не только свою дружбу, но даже преданность господину Егеру!
Два дня потребовалось лодке, чтобы достичь Рущука. Взору путешественников открывалась довольно скучная картина: одни и те же хижины и шалаши, что на валашской стороне, что на болгарской, да еще пограничные посты. Иногда попадались деревни из нескольких домов, над которыми возвышался простой колодезный журавль. С болгарской стороны обрывистый каменистый берег тянулся до самого Рущука.
Как и обещал Илья Круш, плоскодонка подплыла к Рущуку вечером 7 июля. В этом месте река необычайно широка. На валашском берегу, напротив Рущука, посреди безводной равнины расположился город Джурджево. Отсюда проложена дорога на Бухарест, столицу Валахии. Торговля здесь довольно оживленная, она сосредоточена в квартале, где пересекаются кривые, грязные улочки со складами, полными товаров, и кабачками, полными посетителей.
Но господин Егер хотел посетить не Джурджево, а Рущук, чтобы провести там весь следующий день.
Итак, утром, попрощавшись с Ильей Крушем, который занялся своими обычными делами, он ступил на болгарскую землю. Но, прежде чем удалиться, обернулся и сказал компаньону:
— Думаю, вы не откажетесь поужинать со мной?
— Охотно, господин Егер.
— Тогда в пять часов на главной площади...
— В пять часов.
Рущук — город с тридцатью тысячами жителей на правом берегу Дуная. Он относится к провинции Силистра[118], и, следовательно, к европейской части Турции. Это резиденция греческого епископа. Он плохо построен, дурно содержится, телеги, запряженные волами, с трудом пробираются по узким улицам. Большая часть домов выстроена из глины. Здесь много кофеен, торговых складов, базаров, где продаются ткани, шерсть, фрукты, трубки, табак и разного рода снадобья. Над городом возвышается крепость, там и сям виднеются заостренные минареты синагог и мечетей. Единственное здание, достойное тут внимания туриста, — дворец губернатора.
Вероятно, память быстро возвратилась к господину Егеру, так как он, не колеблясь, нашел дорогу к почте. Там он получил письмо из Галаца, с которым немедленно ознакомился.
— Да, — сказал сам себе господин Егер, — пора!
Он спрятал письмо в карман, с час погулял по городу и затем пообедал в той же гостинице, в которой собирался поужинать со своим компаньоном.
Около часу дня он снова пошел гулять по торговому кварталу, где толпились продавцы, покупатели, грузчики. Несколько торговых судов, парусных и паровых, стоявших на якоре или у набережной, занимались погрузкой или разгрузкой товаров.
Здесь около трех часов дня к господину Егеру подошел человек, несомненно болгарин, если судить по костюму и довольно ярко выраженному национальному типу.
Они были явно знакомы, так как не казались удивленными встречей в этом городе, почти на краю Восточной Европы. Господин Егер ознакомил своего собеседника с различными пассажами из полученного письма. Тот, казалось, согласился с услышанным, и, когда они разошлись, господин Егер вновь повторил те же слова:
— Да! Пора!
В пять часов Илья Круш, о чьем пребывании в городе никто не знал, оказался на условленном месте, и господин Егер проводил его в гостиницу. В меню была икра, квашеная капуста, цыпленок со сладким перцем и, разумеется, венгерское вино. Илья Круш отдал должное всем блюдам, а господин Егер, несмотря на свою озабоченность, не отставал от него.
В девять часов они вместе вернулись на лодку, а на следующее утро довольно быстро поплыли вдоль болгарского берега.
В этих местах уже чувствовалось приближение Черного моря. Если бы Дунай шел прямо на восток, он смешался бы с солеными водами уже через сорок лье от Рущука. Но, следуя по сорок четвертой параллели вплоть до городка Чернаводэ, река вдруг резко поворачивает на север и течет далее вдоль молдавской границы. Только в Галаце она вновь заворачивает на восток и сохраняет это направление до самого устья.
На этом участке реки плавание довольно затруднительно, даже опасно, по крайней мере для барж. Тем не менее три из них, вышедшие из Вены одновременно с плоскодонкой, собирались, по-видимо-му, остановиться в Силистре, самом главном порту на молдавской границе. Они следовали вдоль болгарского берега, стараясь держаться как можно ближе к нему, чтобы быстро найти там убежище в случае ненастья.
Погода явно портилась. Большие косматые тучи, тянувшие за собой по воде огромные клочья тумана, надвигались с востока, напитываясь влагой близкого моря.
Илья Круш с тревогой поглядывал на небо. Он не боялся за свое хрупкое суденышко, поскольку знал, что всегда успеет пристать к берегу. Но плавание может затянуться и, кто знает, не понадобится ли больше времени на последние шестьсот километров, чем на две тысячи, преодоленные от Зигмарингена!
Однако в тот день, 9 июля, остановка не потребовалась, он причалил лишь тогда, когда вечернее солнце скрылось за горизонтом.
Ночь прошла без осложнений. Ветер ослабел на несколько часов, но дождь продолжал лить как из ведра. Пришлось несколько раз вычерпывать воду, скапливавшуюся на дне лодки. Но затем ветер задул с прежней силой, и на рассвете стало ясно, что погода не изменится к лучшему.
Илья Круш был вынужден отказаться от утренней рыбалки, волнение на реке было столь сильным, что он не мог как следует держать удочку.
В тот момент, когда плоскодонка снялась с якоря, три баржи были уже в пути и направлялись к противоположному берегу, где, без сомнения, плыть было легче, поскольку ветер сменился на северо-восточный.
Господин Егер, заметив их движение, попросил пересечь реку и проследовать за тремя баржами.
— Это самое разумное, что можно сделать, — с готовностью ответил Илья Круш и через час уже плыл вдоль валашского берега.
День выдался тяжелым как для барж, так и для нашего рыболова. Тем не менее около пяти часов пополудни они были уже напротив болгарского города Силистра. Этот главный город санджака, включающего всю восточную Болгарию и крепости Нижнего Дуная[119], — один из трех турецких плацдармов. В западной части города находится цитадель, окруженная очень высокой стеной. В Силистре проживают две тысячи душ. Здесь развита торговля шерстью, деревом, скотом, все это направляется в Валахию, а взамен оттуда поступают соль и пенька. Улочки здесь кривые и узкие, дома приземистые, никаких памятников архитектуры. Понятно, почему господин Егер не выразил желания посетить город. Впрочем, для этого пришлось бы вновь пересекать реку, поскольку Силистра, так же как и Рущук, находится на правом берегу. Господин Егер довольствовался тем, что прошелся взад-вперед вдоль берега мимо барж, бросивших неподалеку свои якоря.
На следующее утро в обычное время лодка отчалила. Однако стоит отметить, что две из трех барж направились в сторону Силистры, где они, несомненно, должны были разгрузиться.
Только одна, последняя, баржа, та, чей лоцман не раз доказывал свое профессиональное мастерство, продолжала плыть вниз по течению, несмотря на явное ухудшение погоды.
Плоскодонка пустилась в путь, держась как можно ближе к правому берегу.
Отметим лишь одно событие, а именно: утром к барже подошла лодка, отплывшая от маленькой болгарской деревушки. С лодки на баржу пересел один человек.
После полудня погода совсем испортилась: ветер стал таким сильным, а волны такими высокими, что Илья Круш решил прервать плавание.
— А что же будет делать баржа? — спросил господин Егер.
— Скорее всего то же, что и мы, — ответил Илья Круш. — Думаю, ее лоцман слишком опытен, чтобы продолжать путь в этих условиях. При таких волнах баржа может затонуть.
Илья Круш был прав, и, когда лодка уже стояла в маленькой бухточке под защитой мыса, баржа приблизилась к берегу, чтобы переждать в укрытии вплоть до того момента, когда затишье позволит ей плыть дальше.
Когда баржа отдала якорь, Илья Круш удивился и сказал господину Егеру:
— Лоцману стоило бы стать на якорь ближе к суше... Он не меньше чем в двадцати саженях от берега, это не очень надежно... Если он не сумеет закрепиться или якорь не удержит. Правда, здесь неглубоко, но, в конце концов, даже при полной загрузке осадка не должна быть больше трех-четырех футов. Он мог бы подойти ближе.
Однако лоцман и не подумал изменить место стоянки. Господин Егер разглядел, что человек, прибывший на баржу утром, и матросы на носу внимательно изучали обстановку. Но в итоге баржа осталась на месте.
Быстро спустилась ночь, темная, дождливая, безлунная. До восьми часов господин Егер прохаживался по берегу, несмотря на яростные порывы ветера. Но вскоре дождь пошел с удвоенной силой, и наблюдателю пришлось присоединиться к своему компаньону.
В половине девятого оба они уже вытянулись в рубке, тщательно укрывшись, но уснуть не могли, настолько бешеным стал шторм. А около двух часов ночи сквозь завывание бури послышались отчаянные крики.
XV ОТ СИЛИСТРЫ ДО ГАЛАЦА
Около восьми часов утра после ужасной ночи баржа, стоявшая близ правого берега, подняла якорь и пустилась в путь. На ее корме мужчина с помощью двух матросов держал в руках длинный рычаг руля. На носу еще три человека, и в том числе тот, что сел на баржу накануне, наблюдали за рекой.
Волнение ослабло, ветер, дувший с запада, начинал утихать. На небе, в стороне моря, виднелось несколько голубых просветов. Иногда их пронзали яркие лучи солнца.
С того места, где предыдущим вечером Илья Круга спрятался от бури, можно было разглядеть валашский берег и высившиеся на заднем плане горы.
Одинокая баржа продолжала свой путь по Дунаю. Еще до наступления вечера она должна была достигнуть поворота, после которого река течет на север, — это неподалеку от городка Чернаводэ, который соединяется небольшой железнодорожной веткой с черноморским портом Кюстендже[120].
А где же плоскодонка? Неужели ночью яростная волна настигла ее и разбила о берег?.. Неужели Илья Круги и господин Егер погибли почти в самом конце путешествия?..
Так или иначе, но лодки не было ни вблизи болгарского берега, ни вблизи валашского. Однако если Илья Круш и его компаньон сумели избежать гибели, то напрасно было бы искать того и другого на песчаном берегу или в деревне, около которой лодка стояла до самого утра.
Вот что произошло, к большому удивлению и к большой досаде лауреата «Дунайской удочки». Его втянули в приключение, развязка которого могла оказаться губительной.
Буря, остановившая судоходство на реке, продолжалась всю ночь. Поставив второй якорь, который удерживал лодку у берега, Илья Круш и господин Егер спрятались от проливного дождя в рубке. Но ветер так бросал плоскодонку из стороны в сторону, что им практически не удавалось уснуть.
Итак, было около часу ночи, когда раздались крики отчаяния — то ли с берега, то ли с баржи, стоявшей на якоре ниже по течению. Оба путешественника, выбравшись из-под крыши, в глубокой темноте пытались разглядеть, что происходит.
Нет, крики раздавались не с берега и не из деревни. Они шли с баржи. Сигнальные огни загорались то сбоку, то на корме, то на носу, на секунды выхватывая из темноты картины суматохи и переполоха на борту.
До ушей Ильи Круша и господина Егера доносились обрывки фраз:
— Сюда! Сюда!
— Он упал здесь!
— На воду, шлюпку на воду!
По звукам Илья Круш догадался, что на барже спешно отвязывают шлюпку.
— Должно быть, кого-то смыло волной! — догадался он.
Если это было так, то хозяин сделал все возможное, чтобы спасти несчастного. В самом деле, рискуя перевернуться, шлюпка уже плыла вниз, так как человека могло унести только по течению.
Что до Ильи Круша, то он ничем не мог помочь бедняге — выйти на середину реки означало добровольно отдать себя на растерзание бушующим волнам.
Оба ждали. Сигнальные огни по-прежнему качались на верхней палубе баржи. Через полчаса вновь показался свет фонаря, освещавшего путь шлюпке. Она с помощью весел возвращалась на баржу, и похоже было, что попытка спасения не удалась, так как послышался крик одного из матросов:
— Он пропал! Его нигде нет!
— Разве можно было его спасти? — с сомнением промолвил Илья Круш.
— Течение быстро вынесло его на середину реки, — предположил господин Егер.
— Да, именно отсюда оно направляется к левому берегу.
В общем, казалось, что все закончилось. Шлюпка, не без труда подойдя к барже, была поднята на борт. Затем огни погасли, и все погрузилось если не в тишину, то в темноту.
Илья Круш и его компаньон вернулись в рубку, где тщетно пытались поспать хотя бы несколько часов.
С первыми лучами солнца буря почти утихла, и Илья Круш услышал, как его зовут снаружи.
Он вышел, господин Егер последовал за ним.
Шлюпка с командой из шести человек на борту стояла бок о бок с плоскодонкой.
Один из мужчин, лет сорока, среднего роста, который, казалось, командовал остальными, поднялся на ноги. У него были жесткие черты лица, живые глаза под нахмуренными бровями, лицо грубое, но энергичное, ломкий голос. Широкие плечи свидетельствовали о недюжинной силе.
Обратившись к Илье Крушу, он не спросил, а уверенно сказал:
— Вы Илья Круш...
— Да, — ответил тот, несколько сбитый с толку и обращением, и тоном, которым оно было произнесено.
Мужчина продолжил все так же утвердительно:
— Вы рыболов, победивший в Зигмарингене.
— Да.
— Бывший дунайский лоцман.
— Да, но в свою очередь могу я спросить, кто вы?
Во время этого диалога господин Егер держался крайне незаметно и крайне внимательно рассматривал незнакомца.
— Я хозяин баржи, которая стоит на якоре неподалеку... Этой ночью случилось несчастье: нашего лоцмана смыло волной, он упал в воду, и спасти его не удалось. Поскольку вы лоцман, я прошу вас заменить его.
Илья Круш был настолько не готов к такому предложению, что в первый момент не знал, что сказать. Наконец он бросил взгляд на господина Егера, как будто прося его совета, и поинтересовался:
— Я нужен только, чтобы провести вас до ближайшего болгарского или валашского порта, куда баржа прибудет через несколько часов?
— Нет... Я не смогу там раздобыть лоцмана, а мне он необходим, — хозяин говорил все более и более требовательным тоном, — необходим любой ценой...
— До Галаца или до Измаила?
— До Черного моря.
— По какому гирлу?
— По Килийскому.
Господин Егер, скрестив руки на груди, ждал, что ответит его компаньон.
— Итак? — сказал хозяин.
— Это невозможно, — ответил Илья Круш.
— Я же сказал, любой ценой! Вас устроит сумма в две или три сотни флоринов?..
— Нет, — повторил Илья Круш. — Я начал путешествие, которое не могу прервать...
— Четыреста флоринов, — не унимался хозяин. — Вы заработаете их за какую-то неделю...
— Я отказываюсь, — не отступал Илья Круш. — У меня есть компаньон, которого я не могу бросить одного в лодке...
— Ваш компаньон сядет вместе с вами на баржу. — Голос хозяина дрожал от ярости. — Что до вашей плоскодонки, то мы возьмем ее на буксир. Ваше последнее слово?
— Нет.
В самом деле, Илью Круша никак не устраивало отказаться от своих планов и закончить плавание по Дунаю на этой барже. Если бы речь шла о том, чтобы управлять ею часа два-три, то он с удовольствием оказал бы такую услугу. Но восемь-десять дней, до самого устья Дуная... нет, невозможно. И ему казалось, господин Егер согласится с ним полностью.
Все решилось очень быстро. По знаку хозяина его подручные заставили Илью Круша и господина Егера перейти на шлюпку, сняли плоскодонку с якорей, взяли ее на буксир, и несколько минут спустя она была уже рядом с баржей, где ее тут же подняли на борт.
Напрасно рыболов протестовал. Всякое сопротивление было невозможным — пятнадцать против двоих. И, если бы Илья Круш не подчинился, его отправили бы в трюм и держали бы там, пока он не согласится.
При этом господин Егер вел себя совершенно невозмутимо и, казалось, всем своим видом подсказывал компаньону не упрямиться, а делать то, что велят.
Илье Крушу пришлось подняться на верхнюю палубу, там его проводили к штурвалу, рядом с которым стояли два матроса.
Хозяин тут же сказал:
— Лучше бы вы согласились на мое предложение, оно было выгодным... Вы вынудили меня применить силу... Тем хуже для вас... А теперь вперед! В нужном направлении! И никаких ошибок по дороге! Слышите, иначе...
Хозяин не договорил, он закончил фразу жестом, смысл которого был столь же прост, сколь и грозен.
Илья Круш смирился со своей участью и лишь спросил:
— Какова осадка судна?
— Семь футов, — ответил хозяин.
Через четверть часа якорь был водворен на место, новый лоцман занял место у штурвала, а баржа быстро поплыла по течению.
Что до господина Егера, то никто им не занимался. Он то свободно перемещался по барже, то стоял на палубе, разглядывая болгарский берег, от которого судно почти не отклонялось, то сидел на запасной мачте, погрузившись в собственные мысли. Он не стремился поговорить с компаньоном, хотя никто ему этого не запрещал.
Во время еды их посадили вместе, в сторонке, а когда наступила ночь и баржа встала около берега, проводили в кормовую каюту и заперли на ключ.
Где вы, такие безмятежные, такие счастливые дни этого необыкновенного плавания, когда лодка останавливалась у набережных городов, когда Илья Круш предавался прелестям рыбалки и продавал свой улов в местах стоянок!
Так прошли дни 12, 13, 14 и 15 июля, никаких изменений в ситуации не произошло. Лоцман поневоле, стоя у штурвала, управлял баржей, управлял отлично, как человек, прекрасно знающий свое ремесло. Было очевидно, что хозяин, похитив его, отлично знал, с кем имеет дело. Плоскодонку, которая шла вниз по реке вместе с баржей, его люди заметили много недель назад. Как и большинство лодочников, они знали, что в ней плывет тот самый знаменитый Илья Круш. Затем, когда личность и невиновность лауреата «Дунайской удочки» были установлены на процессе в Пеште, стало известно, что прежде он плавал лоцманом на Дунае. Вот почему, оказавшись в затруднительном положении после потери лоцмана, хозяин решил во что бы то ни стало заполучить Илью Круша.
Конечно, всякий, кто с помощью силы ограничивает свободу себе подобного, ни при каких обстоятельствах не заслуживает прощения. Но хозяин баржи не походил на тех людей, кто ищет оправдания своим поступкам.
Здесь стоит признаться, что господин Егер, не открываясь своему компаньону, имел кое-какие подозрения относительно этой баржи. Будучи в курсе дела о контрабанде — а кто в Австрии, Венгрии и турецких провинциях не слышал о нем? — он вбил себе в голову, что баржа перевозит запрещенный груз и Лацко находится на ее борту. Возможно, это тот самый человек, который сел на нее несколько дней назад. Да! Это тот самый Лацко, которого преследует Международная комиссия и которого до сих пор не удалось захватить самому Карлу Драгошу!
Как бы там ни было, но господин Егер предпочел держать все в строжайшей тайне, даже от Ильи Круша. Если возникнет необходимость предупредить его, он сделает это... А до поры, пока длится плавание, надо просто наблюдать и думать, думать и наблюдать.
Добродушного Илью Круша никак нельзя было отнести к людям подозрительным. Однако во время отдыха 15 июля, в разговоре с господином Егером, убедившись, что никто не может его услышать, он сказал:
— Заметили, господин Егер, какого рода груз везет эта баржа?
— Конечно, бревна, доски, брус...
— Знаю, господин Егер, но еще я знаю, что это не слишком тяжелый груз...
— Разумеется, но к чему вы клоните?
— К тому, что непонято, откуда у баржи такая большая осадка...
Господин Егер молча смотрел на компаньона, а тот продолжал:
— Когда я спросил хозяина, какова осадка судна, он ответил: «Шесть-семь футов». Так вот это кажется мне необъяснимым...
— Необъяснимым... почему?
— Даже если бы она была загружена камнем, металлическими чушками, то все равно не была бы столь тяжелой...
— В конце концов, какое вам до этого дело, господин Круш? — промолвил господин Егер после некоторого размышления. — Что им надо? Довести баржу до места назначения?.. Так отведите ее, а после возьмите деньги за работу.
— Никогда! — вскричал Илья Круш. — Господин Егер, меня принуждают силой! Когда мы приедем, я этого так не оставлю... призову их к ответу!
— Конечно, господин Круш! Человек, достойный звания рыболова, не допустит, чтобы с ним обращались подобным образом!
Была еще одна деталь, на которую Илья Круш счел необходимым обратить внимание господина Егера.
— Как видите, — сказал он, — теперь я не могу удить рыбу... А раз нет рыбы, то нет и выручки. В этих условиях ваши пятьсот флоринов — сумма слишком рискованная, я отказываюсь от них и, как только это проклятое плавание закончится, верну вам то, что вы мне дали...
— Решительно, господин Круш, — улыбнулся господин Егер, — вы самый честный человек на свете! Но не беспокойтесь, кто знает, может, все закончится не так плохо, как вы думаете!
И господин Егер пожал руку господину Крушу с такой сердечностью, что тот расчувствовался до глубины души.
Суда в низовьях Дуная, как пароходы, так и парусники, встречались очень редко. Но, даже когда это происходило, хозяин требовал отойти в сторону на большое расстояние, чтобы ни с кем не «травить», как называют на морском жаргоне разговоры.
Что касается городов и деревень, то здесь принимались те же предосторожности: баржа никогда не останавливалась у набережных. Она всегда вставала на якорь в нескольких сотнях туазов ниже и ни разу не причаливала к берегу или к месту впадения в Дунай притоков вроде Яломицы, Бузеба[121] и других. Поэтому у господина Егера и Ильи Круша не было возможности вступить с кем-то в контакт или бежать под покровом ночи. Когда после полудня 16 июля они достигли Брэилы, города на левом берегу, где ширина реки весьма значительна, с баржи невозможно было различить даже домов на фоне высоких западных гор.
Когда вечером бросили якорь, Илья Круш, перед тем как отправиться в каюту, заметил, глубоко вздохнув:
— Видите ли, господин Егер, я мог бы провернуть хорошенькое дельце в Брэиле... Там всегда отлично продается рыба... Но с этим кораблем, который, словно чумной, шарахается и от болгарских, и от валашских берегов, ничего не выйдет!
— Будьте философом, господин Круш, — вот все, что произнес в ответ его компаньон.
А кому же еще быть философом, как не рыболову?
Заметим, что между компаньонами и экипажем баржи не установилось никаких отношений. Никто из матросов — сильных, но скорее всего грубых — ни разу не заговорил с ними. Большинство в команде были происхождения венгерского или валашского, как хозяин. Только он обращался к Илье Крушу с различными приказаниями. Больше никто не обмолвился с новым лоцманом ни словом.
Что до господина Егера, то его, казалось, вообще не замечали. Правда, и он, со своей стороны, старался держаться как можно незаметнее. Когда порой хозяин смотрел на него, он отводил глаза и изображал полнейшее равнодушие.
В результате плавание прошло без каких-либо происшествий. На смену яростной буре, случившейся в ночь с 11-го на 12-е, пришла ясная погода со слабым ветром. В эти июльские дни температура воздуха бывает очень высокой. Солнце палило нещадно, и лишь иногда набежавшие облака усмиряли его жар. После полудня, как правило, чувствовался морской бриз, который стихал только к вечеру. Но ночи были жаркими, и часто матросы ложились прямо на палубе, чтобы лучше спать.
Илья Круш и его компаньон были лишены этой приятной возможности, и после вечерней остановки возвращались в свою каюту на корме.
Во второй половине дня, 17 июля, баржа прошла мимо Гала-ца, румынского города в семи-восьми лье ниже Брэилы. Река здесь делает поворот под прямым утлом, чтобы последний раз устремиться на запад. В Галаце проживает не менее восьмидесяти тысяч жителей, среди них много греков. Тут находится резиденция Европейской компании по навигации в устье Дуная. Свободный порт в месте впадения Прута[122], откуда экспортируется пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, овес, лен, кожа, жиры. Ежегодный оборот достигает пятидесяти-шестидесяти миллионов франков. Связь с Константинополем обеспечивает Ллойд[123]. Галац состоит из двух городов: старого, с деревянными мостовыми и кривыми улочками, и нового, амфитеатром раскинувшегося на прибрежных холмах.
Баржа не остановилась у Галаца. Она прошла мимо на расстоянии доброй четверти лье, а затем бросила якорь у противоположного, правого, берега.
Ночь прошла спокойно. Утром, собираясь покинуть каюту, чтобы встать на пост у штурвала, Илья Круш обнаружил, что, пока он спал, господин Егер уже вышел. Илья Круш попытался найти его на палубе, но нигде не увидел и позвал...
Господина Егера не было на борту баржи. Он исчез ночью. Да так, что никто ничего не заметил.
XVI ОТ ГАЛАЦА ДО ЧЕРНОГО МОРЯ
Стал ли господин Егер жертвой несчастного случая? Или сам, по собственной воле, сбежал с баржи? Непонятно было, как он смог выйти ночью из запертой каюты, хотя несколько человек охраняли ее до утра.
Хозяин позвал Илью Круша, грубо допросил его, но не смог ничего добиться. Лоцман не слышал, как господин Егер встал, и не видел, как он покидал каюту. Исчезновением своего компаньона он так же поражен, как и хозяин. Должно быть, господин Егер упал в воду и утонул, хотя баржа находилась всего в полукабельтове[124] от берега. Что до добровольного бегства, то зачем оно ему? Тем более что он не предупредил Илью Круша.
Обыскали все уголки баржи... Но господина Егера так и не обнаружили.
Тогда хозяин снова подошел к рыболову.
— Кто этот Егер? — Его голос дрожал от бешенства.
Илья Круш, смутившись, сказал только следующее:
— Господин Егер — мой компаньон по путешествию, начиная с Ульма... Там он занял место в плоскодонке, чтобы пройти вниз по Дунаю до самого устья. За это он купил мой улов и заплатил пятьсот флоринов... Больше я ничего не знаю...
— Он никогда не покидал вас?
— Один раз, в Вене, а через тридцать один день снова присоединился в Белграде.
— Кто он по национальности?
— Конечно венгр, как и я.
Вот и все, что смог вытянуть хозяин из своего лоцмана, который снова встал к штурвалу.
Подняв якорь, баржа пустилась в путь, и, поскольку дул северо-западный ветер, поставили парус, что прибавило два-три узла[125] к скорости течения. Так как расстояние от Галаца до Черного моря около ста тридцати километров, то дня через два-три можно было достичь Килийского гирла.
Бедный Круш исправно выполнял свои лоцманские обязанности. Но какие мрачные мысли терзали его! Нет! Он не мог согласиться с тем, что исчезновение его компаньона было добровольным! Если господин Егер намеревался бежать любой ценой, разве он стал бы скрытничать? Нет, увы! Он стал жертвой несчастного случая... Может, из-за жуткой жары, которая мучила его в каюте, он каким-то образом открыл дверь и в темноте оступился и упал в воду?.. Его унесло, наверное, очень быстро, криков никто не слышал!
Не прошло и двух дней, как 20 июля, после полудня, баржа прошла Измаил. Ситуация за это время не претерпела никаких изменений.
Измаил — порт молдавской Бессарабии, на левом берегу Дуная. Это довольно крупный город, в нем насчитывается сорок две тысячи жителей. Сюда стекаются продукты со всей Молдавии. Находится он под контролем России. Это почти военный порт, по крайней мере место стоянки части дунайской флотилии. Именно чуть выше Измаила река разделяется на множество рукавов.
Когда баржа достигла Измаила, Илья Круш получил приказ держаться ближе к правому берегу. Несомненно, хозяин хотел избежать таможенного досмотра. Ему это удалось, баржа прошла на большом расстоянии от левого берега. Вечером, как и прежде, она стала на якорь в одном лье ниже города.
Ночью Илья Круш не мог выйти из каюты и подышать свежим воздухом. После исчезновения господина Егера его охрана стала более строгой — лоцману ни при каких условиях нельзя было дать ускользнуть... Единственным желанием рыбака было дойти до места назначения и немедленно сойти на берег.
Однако вскоре произошло событие, о котором стоит рассказать подробней.
Около часу ночи наш герой услышал разговор у двери, ведущей в кормовой отсек. Два матроса, возможно те, что охраняли его, толковали о том, что скоро баржа выйдет в Черное море. Один из них сказал:
— Там нас будет ждать пароход...
— Конечно, — подтвердил второй. — Его вовремя предупредили, а таможне и в голову не придет искать его перед Килийским гирлом...
— Да, — продолжил первый, — а там часа за два перегрузим наш товар.
Итак, за устьем реки баржу поджидал пароход... За два часа они перегрузят товар? Значит, речь не идет о бревнах, досках и брусе, которые загромождали палубу и трюм и чья разгрузка требует не меньше двух дней.
И тут Илья Круш услышал имя, названное одним из матросов. Имя хозяина баржи. Лацко!
Какое откровение! Хозяин баржи — главарь контрабандистов! И контрабандный товар, должно быть, спрятан под двойным дном! Да! Никаких сомнений, двойное дно, о существовании которого никто даже не подозревает! Именно поэтому баржа имеет такую большую осадку, гораздо большую, чем обычно имеют суда с таким тоннажем и такими габаритами!
Илья Круш бросился на свою койку. Он не сомкнул глаз. Все думал, что же ему делать? Ему, честному лоцману. Если он откажется выполнять свои обязанности, контрабандисты сумеют заставить его, хотя бы с помощью пистолета!
Илья Круш решил действовать в соответствии с обстоятельствами. И, когда наступил день, как ни в чем не бывало, даже не взглянув на грозного главаря преступной банды, занял место у штурвала.
Ничего нового в тот день не произошло, и с помощью паруса барже удалось пройти около двенадцати лье.
В дельте Дунай разделяется на множество протоков, два главных омывают остров Лети — треугольник, чья вершина находится в точке разъединения двух дунайских рукавов. Тот рукав, что проходит южнее острова, полноводнее, и, как правило, корабли проходят по нему, чтобы достичь Черного моря.
Рукав, который омывает остров с севера, посещается реже, он носит название Килийского гирла по имени небольшого города-крепости, стоящего на его левом берегу.
По этому рукаву и должна была пройти баржа, чтобы дойти до места назначения. Утром следующего дня она, повинуясь быстрому течению, шла вдоль правого берега, чтобы пройти как можно дальше от крепости.
Илья Круш понимал теперь, почему хозяин всегда обходил прибрежные города.
Двое матросов безотлучно находились рядом с лоцманом, чтобы помогать ему в маневрировании. Баржа не только отдавалась воле течения, но и, высоко подняв парус, использовала западный бриз. К пяти часам она должна была достичь моря.
Лацко, обеспокоенный исчезновением господина Егера, нервно вышагивал взад и вперед по палубе. Порой он выходил на нос и вглядывался в горизонт.
Наконец матрос, сидевший у флагштока, закричал:
— Черное море!
И в самом деле, через расширяющееся Килийское гирло показалась линия горизонта, образованная водой и небом.
Илья Круш уже видел ее. Через час настанет конец его путешествию, и — увы! — совсем не в тех обстоятельствах, на которые он рассчитывал!
Но еще он увидел корабль под парами, который шел в открытом море на траверзе острова Лети.
То не был военный корабль под турецким или русским флагом, нет, то было торговое судно, ничем не выдававшее своей национальной принадлежности.
«Они ждут этого прохвоста-контрабандиста, а он ждет их», — подумал Илья Круш.
И не ошибался. Пароход подал сигнал, на его фок-мачте показался огонь. Баржа ответила, троекратно приспустив флаг.
Пароход немедленно изменил курс и направился к барже.
— Ну вот, — прошептал Илья Круш, — настало время выполнить свой долг.
И он слегка повернул штурвал влево, чтобы несколько отклониться на северо-восток.
Ни Лацко, ни его товарищи не заметили ничего подозрительного в этом маневре. Впрочем, им не оставалось ничего другого, как положиться на лоцмана, который уже десять дней умело управлял их судном.
Тем временем пароход приближался к гирлу, через полчаса он будет уже борт о борт с баржей под укрытием острова Лети, на спокойной воде, где можно перегрузить товар.
Внезапно раздался ужасающий скрежет. Баржа сотряслась до самого днища. Мачта переломилась в основании, парус рухнул, накрыв широкими складками матросов, стоявших на носу.
Судно врезалось в песчаный бар[126], который пересекал в этом месте Килийское гирло. Илья Круш прекрасно знал о нем.
Какая разразилась брань, и с какой яростью Лацко набросился на лоцмана!
Этот человек, такой простой и такой отважный, ни секунды не сомневался в том, какая участь его ждет: он жертвовал своей жизнью.
Лацко не потребовал объяснений, страшным ударом он повалил Илью на палубу.
Контрабандистам следовало действовать как можно быстрее: еще не все было потеряно. Баржа только села на мель. Днище не пробито, вода внутрь не поступает, и, когда пароход подойдет, можно будет перенести груз, остававшийся в целости и сохранности.
Но каково было разочарование Лацко и его людей! Вместо того чтобы подойти к барже и помочь ей выпутаться из беды, пароход развернулся и на всех парах устремился в открытое море.
Через четверть часа баржа была захвачена экипажем сторожевого таможенного корабля. Пароход заметил его, когда вышел из-за мыса острова Лети. Понимая, что игра проиграна, и не имея никакой возможности принять на борт Лацко и его людей, он поспешно устремился на восток.
Один из тех, кто находился на борту сторожевика, опережая других, бросился на палубу баржи и, пока тридцать таможенников захватывали яростно сопротивлявшегося Лацко и его сообщников, побежал к корме, где без сознания лежал Илья Круш. Он приподнял его, положил голову бедняги себе на колени и привел в чувство. Когда лоцман открыл глаза, он вскричал:
— Как, господин Егер?!
— Не господин Егер, мой милый Круш, а Карл Драгош, шеф полиции Международной комиссии!
И в самом деле, это был он. Чтобы выследить контрабандистов и получить возможность наблюдать за рекой, не вызывая подозрений, он решил пуститься в плавание вместе с Ильей Крушем, и нетрудно догадаться, почему он уделял такое внимание всем кораблям, которые спускались вниз по Дунаю. На берегу агенты вводили шефа полиции в курс всего происходящего. Именно так в Вене его предупредили, что банда Ладко переправляет товар у предгорий Малых Карпат, и он командовал отрядом в той неудавшейся стычке. Затем господин Егер, точнее Карл Драгош, вновь присоединился к Илье Крушу, чтобы продолжить путешествие. Мы знаем, как зародились его подозрения относительно баржи Ладко. Подозрения эти подтвердились и наблюдениями Ильи Круша. Тогда в ночь с 17 на 18 июля Драгош, не колеблясь, бежал с баржи, даже не предупредив компаньона. Ловко открыв старый замок, он вышел из каюты, проскользнул на корму и, рискуя утонуть, бросился в воду. Дерзкий план удался, шеф полиции смог доплыть до берега. Его приютили в одной маленькой деревушке, где он просушил одежду, а на рассвете отправился в путь. Затем он пересек реку и через двенадцать часов примчался в Ки-лию. Там, представившись, он получил в свое распоряжение сторожевой корабль, который, к счастью, находился в порту. Но, если бы баржа не села на мель при выходе в море, возможно, Карл Драгош прибыл бы слишком поздно и не успел бы захватить товар, и, несомненно, Ладко вместе со своими людьми, перейдя на борт парохода, избежал бы приговора, который его ожидал.
Карл Драгош рассказал все Илье Крушу и добавил:
— Во всяком случае, то, что баржа так кстати села на мель, — это потрясающая удача...
— Которой мы помогли, чем могли! — скромно заметил Илья Крути.
И господин Егер-Драгош, расцеловав его в обе щеки, воскликнул:
— Ах! Какой человек! Нет! Какой человек!
Развязка этой истории очевидна: каторга для Ладко и его сообщников, конфискация товаров, которые были извлечены из второго трюма баржи, большой успех Карла Драгоша, чьи заслуги были оценены по достоинству, и, наконец, премия в две тысячи флоринов, выданная Илье Крушу, которая вместе с премией лауреата «Дунайской удочки» составила кругленькую сумму, не говоря уже о славе, которая покрыла его имя еще больше, чем раньше. Впрочем, это ничуть не изменило его жизнь, столь же счастливую, сколь и скромную. Он по-прежнему проживает в своем доме в Раде, где его навещает верный друг Карл Драгош. Окруженный уважением сограждан, он посвящает свой досуг рыбной ловле в водах Тисы.
И после всего сказанного кто осмелится смеяться над этим мудрым человеком и осмотрительным философом, каким во все времена и во всех краях является настоящий рыболов?
В Магеллании Оригинальная версия
I ГУАНАКО[127]
Грациозное животное с длинной шеей, удлиненными, мускулистыми ногами, рыжеватым телом в белых пятнах, коротким хвостом, покрытым густой шерстью туземцы называют гуанако. Издали стадо этих жвачных можно принять за всадников, мчащихся в строгом порядке по бескрайним равнинам. На сей раз гуанако был один. Остановившись на пригорке, посреди широкого луга, где шумели, качаясь, ситники[128], он повернул морду в сторону ветра и с беспокойством вдыхал запахи, приносимые с востока легким бризом. Опасаясь нападения, животное поводило навостренными ушами, готовясь при малейшем подозрительном шорохе пуститься наутек. Дальнобойное ружье в руках опытного охотника, несомненно, поразит это недоверчивое создание. Достать его может и стрела, если только стрелок укроется за кустами или за валуном. Но редко когда вокруг шеи гуанако затягивается лассо: благодаря молниеносной реакции и необыкновенно быстрому бегу он резко срывается с места и оказывается вне досягаемости.
Равнина вокруг пригорка была отнюдь не плоской. То там, то сям почва поднималась уступчатыми бороздами, какими-то вздутиями, которые остались после размывавших землю ливневых дождей. За одним из таких бугорков, в дюжине шагов от пригорка, прятался туземец, которого гуанако не мог видеть. Полуобнаженный, в рваной шкуре, составлявшей все его одеяние, гибкий как змея, индеец бесшумно полз в траве, приближаясь к желанной добыче. Малейший шорох — и она умчится. Между тем гуанако, почуяв опасность, стал выказывать признаки беспокойства. В этот момент в воздухе послышался свист брошенного лассо. Кинутое с близкого расстояния, оно раскручивалось в полете, но длинный ремень с камнем на конце даже не коснулся головы гуанако, а лишь скользнул по крупу. Охотник промахнулся. Гуанако, отпрянув, поскакал прочь.
Индеец поднялся на пригорок и проводил взглядом животное, которое скрылось в рощице, окаймлявшей равнину с противоположной стороны.
Но если гуанако теперь уже ничто не угрожало, то над индейцем нависла опасность. Смотав лассо, конец которого прикреплялся к поясу, охотник собрался было спуститься вниз, как вдруг в нескольких шагах от него раздалось яростное рычание. Крупный хищник мощно оттолкнулся и почти в то же мгновение приземлился у ног индейца, чтобы вцепиться ему в горло.
Это был один из американских тигров[129], менее крупных, чем их азиатские собратья, но не менее опасных, — ягуар[130], желтовато-серая кошка, размер которой от головы до хвоста достигает четырех-пяти футов[131], шея и бока у нее усыпаны похожими на глазные зрачки черными пятнышками, более светлыми в середине.
Туземец рванулся в сторону — он знал силу и свирепость ягуара, способного когтями разорвать грудь человека, а зубами в одно мгновение перекусить горло. К несчастью, отступая, охотник споткнулся и упал на землю. Судьба несчастного была решена, ибо при себе у него оказался лишь очень тонкий нож из тюленьей кости, который он все-таки успел выхватить из-за пояса.
Когда хищник бросился на индейца, тот нанес ему удар своим оружием, хотя вряд ли оно могло причинить вред столь грозному противнику. Ягуар, однако, слегка попятился, и туземец попытался подняться и занять более удобную позицию, но не успел. Слегка задетый ножом, разъяренный ягуар снова прыгнул и лапами сбил охотника на землю. В тот же момент раздался сухой треск выстрела, и зверь упал замертво — пуля поразила его в сердце.
В сотне шагов, над одной из скал обрывистого берега, поднималось легкое облачко белого дыма. Когда оно рассеялось, взору предстал человек, все еще прижимавший к плечу карабин. Убедившись, что повторного выстрела не потребуется, он опустил ружье, поставил на предохранитель и, повернувшись, посмотрел на юг, где за обрывистым берегом открывались морские просторы.
Наклонившись вперед, человек, явно не туземец, что-то громко выкрикнул, добавив несколько слов с гортанными звуками и удвоенной согласной «к». Во всем облике неизвестного угадывались черты европейца, возможно американца. Не видно было ни сплюснутого между глазницами носа, ни выступающих скул, ни низкого, резко уходящего назад лба, ни маленьких глазок, типичных для индейской расы. Кожа стрелка, несмотря на загар, не отливала бронзой, а интеллигентное лицо и высокий лоб, прорезанный множеством морщин, выдавали в нем человека, привыкшего мыслить. Волосы, уже седеющие, были коротко подстрижены, а борода, тоже тронутая сединой, еще раз подтверждала догадку: победитель ягуара — европеец, ведь у американских аборигенов борода почт не растет. Возраст незнакомца точно определить было нельзя: где-то между сорока и пятьюдесятью.
Высокий рост, крепкое телосложение, недюжинная физическая сила свидетельствовали о безупречном здоровье и большой внутренней энергии, которая, наверное, прорывалась время от времени вспышками гнева. Его степенность чем-то напоминала ту, что свойственна индейцам с Дальнего Запада Соединенных Штатов; а гордость, подлинная гордость, так не похожая на спесь самовлюбленных эгоистов, придавала особое благородство и жестам его, и всей манере держаться.
Через некоторое время крик повторился:
— Карроли!.. Карроли!..
Минутой позже в расширявшейся кверху расщелине скалы, доходившей до самого пляжа с усеянным черными камнями желтоватым песком, появился тот, кого звали этим именем, — индеец лет тридцати-сорока, мускулистый, широкоплечий, с могучим торсом, крупной квадратной головой на крепкой шее, пяти с половиной футов ростом, с очень темной кожей, очень черными волосами, со сверлящим взглядом из-под широких надбровий и реденькой бородкой из нескольких рыжеватых волосков. В общем, у этого существа низшей, если можно так сказать, расы животное начало вполне гармонично сочеталось с человеческим, и это природное начало было не хищным, а мягким и ласковым. Лицом он напоминал скорее добрую и верную собаку, из тех отважных ньюфаундлендов, которые становятся не только спутниками, но и друзьями человека. И как эти преданные животные с радостью бегут на зов хозяина, так индеец поспешил к позвавшему его и обменялся с ним рукопожатием.
Они тихо о чем-то поговорили на одном из индейских языков, делая частые вдохи, — казалось, на каждой половине каждого произносимого слова, затем направились к месту, где лежал раненый охотник.
Несчастный потерял сознание. Из груди у него все еще сочилась тонкой струйкой кровь. Но он открыл глаза, когда почувствовал, что чья-то рука касается его плеча и раздвигает грубую одежду из шкуры, обнажая еще несколько кровоточащих ран.
Раненый, конечно, узнал склонившегося над ним человека — взгляд индейца тут же просветлел, и с побелевших губ сорвалось:
— Кау-джер!.. Кау-джер!
Это слово на местном языке означает «друг», «благодетель».
Присутствие Кау-джера успокоило индейца. Он знал, что находится не в руках одного из тех колдунов, чародеев, торговцев амулетами, этих «якамучес», местных шарлатанов, переходящих из одного племени в другое и частенько получающих то, что, без сомнения, заслуживают, — упреки и нагоняи.
Однако, когда раненый с трудом поднял руку к небу, а затем приложил ее ко рту и слегка выдохнул воздух, как бы проверяя, не отлетает ли его душа, Кау-джер, уже успевший убедиться, насколько серьезны его раны, печально отвернулся.
Индеец закрыл глаза и, к счастью, не видел этого красноречивого жеста.
Карроли быстро спустился со скалы и вернулся с ягдташем, где находилась сумка с медицинскими инструментами и несколькими пузырьками, заполненными соками различных местных растений. Обнажив грудь раненого и держа его голову на коленях, Кау-джер промыл раны родниковой водой, стекающей с холма, вытер последние капли крови, наложил несколько тампонов из корпии, смоченных соком из одного пузырька, а затем отвязал свой пояс из шерстяной ткани и обмотал им грудь индейца, закрепив повязку.
Вряд ли Кау-джер надеялся, что раненый выживет. Ни одно лекарство не могло залечить раны от когтей, задевших желудок и легкие. Но ни при каких обстоятельствах он бы не оставил несчастного, пока в нем теплилась хоть искра жизни. Кау-джер решил доставить его в индейское стойбище, которое тот покинул, возможно, уже несколько дней назад в надежде добыть для семьи гуанако, нанду[132] или вигоня[133]. Но, ослабленный потерей крови, выдержит ли он трудности пути? Не откроются ли его раны во время длительного перехода по пересеченной местности?
Когда индеец вновь открыл глаза, Карроли спросил:
— Где твое племя?
— Там, там... — ответил тот, указывая глазами на восток.
— Это, должно быть, в четырех или пяти милях отсюда, на берегу пролива, — заметил Кау-джер. — Там стойбище валла[134]. Ночью мы видели огни.
Карроли утвердительно кивнул головой.
— Сейчас только четыре часа,— добавил Кау-джер, — скоро начнется прилив, мы сможем добраться до места лишь с восходом солнца.
— Пожалуй. Бриз дует с запада, — произнес Карроли, подняв руку. — Однако...
— Ветер слаб, и к вечеру он прекратится, — прервал его Кау-джер. — Но дойти до острова Пиктон[135] нам поможет течение.
Карроли был готов в любую минуту отправиться в путь.
— Поможем индейцу встать, — сказал Кау-джер. — Может быть, у него хватит сил спуститься к пляжу.
С помощью Карроли раненый попытался подняться, но колени у него подкосились и он вновь потерял сознание. Придется нести его на руках.
До подножия скалы было не так далеко — каких-нибудь шестьсот шагов. За убитым ягуаром Карроли предполагал вернуться после того, как индеец будет доставлен на берег.
За шкуру этого великолепного ягуара скупщики-иностранцы дадут хорошую цену. Ведь в этих краях шкуры — главный предмет купли-продажи, а визиты торговцев мехами очень часты.
Кау-джер и Карроли принялись за дело: один взял индейца за ноги, другой — под мышки. Для двоих сильных мужчин такой груз не был тяжелым. Они обогнули подножие пригорка и направились вдоль земляного уступа к расщелине, передвигаясь мелкими шажками, чтобы как можно меньше беспокоить раненого. Иногда, когда с губ несчастного срывался мучительный стон, они останавливались. Причин для спешки у них не было, так как добраться до становища валла, прежде чем взойдет солнце, они все равно не могли.
Впрочем, в это время года, в мае, соответствующем ноябрю Северного полушария, солнце не заходило за горизонт[136] и лишь пряталось на западе за горами. В тот день небо было чистое, едва подернутое легкой дымкой у горизонта.
Кау-джеру и Карроли потребовалось около четверти часа, чтобы достичь края скалы у расщелины, протянувшейся между каменными глыбами до самого берега. Чтобы не упасть на этом довольно крутом склоне, усеянном сползающими камнями и острым щебнем, надо было соблюдать величайшую осторожность.
Прежде чем начать спуск, Кау-джер решил сделать остановку. Индейца опустили на землю и прислонили спиной к крутому склону. Не открылись ли у него раны? Не сбилась ли повязка? И жив ли он? В последнем можно было усомниться, так как лицо его стало мертвенно-бледным, несмотря на темный естественный цвет.
Карроли, посмотрев на несчастного и, по-видимому, подумав, что тот умер, приложил руку ко рту раненого, затем поднял ее к небу — из бескровных уст вырвалось свистящее дыхание. Кау-джер стал на колени, наклонился к груди индейца и прислушался к биению сердца. Сердце работало, хотя его биение почти не ощущалось.
— Подождем, — сказал Кау-джер.
Он вынул из сумки пузырек, и влил несколько капель в рот раненому. Через некоторое время холодные щеки индейца слегка потеплели.
Карроли воспользовался остановкой, чтобы перенести тушу ягуара с пригорка на край скалы — откуда ее было удобнее перетащить вниз. Пуля, оставив едва заметное отверстие в левом боку, не повредила звериной шкуры. Не было на шкуре и ни единого пятнышка крови. Торговцы, объезжающие туземные племена в поисках звериных шкур, дадут за нее хорошую цену — в пиастрах[137] ли, табаком ли, а может быть, каким-нибудь другим меновым товаром. Карроли приподнял с земли животное, пригнулся и взвалил на спину. Несмотря на всю свою силу, он осел под тяжестью туши и, положив ее поудобнее, медленно двинулся с ношей. Длинный хвост хищника безжизненно волочился по земле.
Кау-джер, озабоченный состоянием раненого, едва взглянул на ягуара. Он еще раз приложил ухо к груди индейца, потом поднялся с колен и сделал несколько шагов в сторону гребня. Взобравшись на самую высокую точку, Кау-джер оглядел горизонт. Судя по всему, перед тем как спускаться, он хотел охватить взором бескрайние дали, расстилавшиеся перед ним, еще раз наполнить душу впечатлениями, воспарить, так сказать, над этим удивительным миром, зажатым между сушей и морем...
Внизу вырисовывалась причудливая путаница береговой черты, где черные скалы образовывали яркий контраст с желтым песком пляжа, обозначая границу пролива шириной в несколько лье. Противоположный берег проступал в виде неясной линии, изрезанной, насколько хватало глаз, бухтами и заливами. К востоку пролив, в его южной части, окаймляла россыпь островов и островков, их очертания выделялись на фоне небесных далей. На севере громоздились ледники; на юге простирался безбрежный океан.
Но выход из пролива не просматривался ни на востоке, ни на западе, а значит, невозможно было различить оба конца побережья, к которому обрывалась высокая и массивная скала.
Северную часть этой безлюдной земли занимали бесконечные луга и равнины, по которым текли реки. Они изливались в виде либо бурных потоков, либо водопадов, с грохотом низвергающихся со скал. На горизонте неясно рисовались скругленные очертания горной цепи, отдаленной на пять-шесть лье; ее вершины темными массами выступали на фоне ярко освещенного небосклона. В бескрайней пампе[138] выделялись темно-зеленые островки густых лесов, в которых было бы тщетно искать человеческие поселения. Сейчас, в лучах заходящего солнца, темные верхушки деревьев заалели, но уже скоро горная цепь, поднимавшаяся на западе, должна была скрыть светило.
С южной стороны рельеф обозначался значительно резче. У берегового обрыва скала поднималась вверх бесконечными уступами, а в дюжине лье от уреза воды резко вздымались островерхие пики, вонзавшиеся в небо. Ближе других к берегу находился один из шарообразных куполов с вершиной округленной формы, в чистом, разреженном воздухе он казался совсем близким. Но ни по величине, ни по высоте его нельзя было сравнить с горами, которые вырастали рядом из каменистых глыб, на мощном костяке орографической[139] системы хребтов со словно приклеенными к ним сверкающими ледниками. Эти горы поднимались до очень холодных слоев атмосферы и своими вершинами пронзали облака в шести тысячах футов над уровнем моря.
Впрочем, не создавалось впечатления, что необозримые пространства, которые открывались взору, необитаемы. Пустынны — да... необитаемы — нет! Сюда постоянно наведывались индейцы того же народа, что и раненый туземец. Они то вели оседлый образ жизни, то кочевали по лесам и равнинам, питаясь дичью, рыбой, съедобными кореньями, плодами, жили в хижинах из веток и дерна или под навесами из шкур, натянутых на колья.
На водной глади пролива глаз наблюдателя не обнаруживал ни суденышка, ни каноэ, ни пироги под парусом, и на всем побережье ни дымка — верного признака присутствия человека. Четвероногих животных здесь было не так-то и много, а гуанако, ускользнувший от лассо индейца, и ягуар, сраженный пулей Кау-джера, представляли собой скорее исключение, чем правило. Зато на пляжах забавлялись амфибии, множество пар голенастых птиц[140] поклевывали фукусовые водоросли[141], сохнущие на камнях, стаи крикливых птиц устроили свои гнезда в расщелинах скал.
В северной части равнины водились страусы нанду, менее рослые, чем их азиатские и африканские сородичи, но не менее пугливые и быстроногие. Печальное безмолвие нарушали приглушенные крики. Их издавали расположившиеся парами морские волки[142] — исключительно ловкие ластоногие, — способные взбираться по крутым склонам прибрежных скал, где их обычно подстерегали «молотильщики»[143].
Наконец, стаями, более многочисленными в воздухе, чем на земле или на поверхности воды, свистя, щебеча, наполняя округу шумом широких крыльев, проносились белые, словно лебеди, альбатросы, большие поморники с длинными цилиндрическими клювами, тираны водоплавающих птиц, длиннохвостые бакланы и другие виды лапчатоногих[144], которые резвились в последних лучах солнца, менее жарких, чем те, что лучезарное светило посылало, вставая из-за горизонта.
В час, когда все проникнуто легкой грустью, Кау-джер стоял на краю скалы, неподвижный как изваяние, и, казалось, не замечал ничего, что происходило вокруг.
Он был погружен в себя, и никто не имел права нарушить его одиночество. Ни один мускул не дрогнул на лице, ни один жест не прервал задумчивости. И вдруг с губ у него сорвалось:
— О нет! Ни Бога, ни властелина!
Эти слова в какой-то мере проливали свет на его загадочное молчание и тайные мысли.
II ВДОЛЬ ПРОЛИВА
— Перенести индейца на шаланду мы сможем только вдвоем. Ягуара оставь пока здесь — вернешься за ним после, — как бы очнувшись, произнес Кау-джер, повернувшись к Карроли.
Их ждало трудное испытание — спуститься с раненым по расщелине к берегу; склон был очень крутой. Туземец не приходил в сознание. Его грудь слегка приподнималась от слабого и неравномерного дыхания. Пусть мертвым, но Кау-джер доставит охотника в стойбище валла.
— Возможно, он не выживет, — сказал Кау-джер, — зато соплеменники смогут проститься с ним.
Они двинулись в путь с большой осторожностью, стараясь не споткнуться и не упасть. Осыпавшиеся под ногами камни грозили нарушить равновесие. Потребовалось немало времени и сил, чтобы выбраться из расщелины и ступить на берег. Здесь сделали остановку, и Карроли вернулся за ягуаром. Он с трудом перетащил зверя к скале, слегка повредив при этом шкуру хищника.
Кау-джер еще раз послушал сердце индейца и молча поднялся.
По песчаному берегу, усеянному небольшими скалами и многочисленными раковинами, раненого перенесли к воде.
На водной глади плавно покачивалась удерживаемая якорем шаланда, на которой валялось с полдюжины шкур вигоней и гуанако, убитых на островах во время плавания. Это было суденышко с двумя мачтами, сильно отличавшееся от пирог туземцев, перекрытое настилом от форштевня[145] до кормовой мачты. Такелаж[146] несколько напоминал оснастку бретонских сардинщиц[147], у которых фок, обшитый с наружной стороны и удерживаемый в натяжении штатом[148], мог служить кливером[149]. Лучше оснащенная, чем каноэ туземцев, с парусами из циновок, балансирами и лопатообразными веслами, она могла плавать в открытом море.
Индейца перенесли на судно и поместили под настилом на охапке сухой травы. Раненый по-прежнему не приходил в себя.
Карроли вернулся на берег, взвалил на плечи ягуара и отнес на корму шаланды, паруса которой уже были подняты. Легкого дуновения ветерка оказалось достаточно, чтобы судно — теперь можно было прочитать его название: «Вель-Кьеж», что на языке аборигенов означало «Чайка», — отчалило.
Время приближалось к пяти, и отлив еще в течение шести часов будет гнать воду на восток. Шаланда держалась в кабельтове[150] от левого берега. Благодаря стихающему северо-западному ветру, шаланда двигалась довольно быстро. Порой, когда ветер порывом налетал из-за какого-нибудь выступа скалы, паруса округлялись. «Вель-Кьеж» тогда заметно кренился, и Карроли, стоявший у руля, отдавал шкот грота и приводил, если надо, руль к ветру[151]. Но солнце клонилось к горизонту, бриз стихал — через каких-нибудь полчаса они будут полностью зависеть от течения.
Мало-помалу скалы становились ниже, иногда они отступали, и тогда безжизненный скальный ландшафт сменялся равнинами, зелеными лугами, густыми лесами. Бухты, питаемые в основном водой рек, впадающих в пролив, становились более широкими, а берег — более изрезанным.
Кау-джер и Карроли хранили молчание. Время от времени Кау-джер заглядывал под настил, склонялся над индейцем, трогал его грудь, прислушивался к дыханию, смачивал бледные губы раненого целительным снадобьем. Затем возвращался на корму и вновь погружался в раздумье, которое его спутник даже не пытался нарушить.
«Вель-Кьеж» оставался во власти течения до восьми часов вечера. Исчез серп нарождающейся луны — ночь обещала быть темной. Надо было поторопиться скрыться за скалами, поскольку вот-вот должен начаться прилив.
Карроли направил шаланду к узкому заливчику, отгороженному от моря высоким каменистым выступом, о который с шумом разбивались волны. Он отдал кошку[152], оба паруса были взяты на гитовы[153] и притянуты к мачтам. Теперь настало время позаботиться об ужине.
Он принес несколько охапок валявшегося на берегу хвороста, сложил из двух камней очаг и развел огонь. Несколько рыбешек, выловленных утром, остатки бедра гуанако, утиные яйца, залеченные в золе, несколько галет из запасов, хранившихся на судне, — вот и вся еда. Пресной водой из ближайшего ручейка разбавили тростниковую водку. Поев, Карроли вымыл столовые и кухонные принадлежности и убрал их в ящичек, прикрепленный к борту с внутренней стороны. Пожелав доброй ночи Кау-джеру, он растянулся на корме и быстро заснул.
Стояла тихая, темная ночь, небосвод был усеян звездами, среди которых на середине расстояния между горизонтом и зенитом блестели бриллианты Южного Креста. Никаких звуков, кроме шипения пены на прибрежной гальке. Природа погрузилась в сон, бодрствовал лишь один человек — Кау-джер. Он сидел на корме, облокотившись на край борта. Ноги его от ночного холода были закутаны одеялом. Погруженный в свои мысли, он не забывал поглядывать на воду — не начался ли отлив, который позволит продолжить путь.
Несколько раз какие-то звуки прерывали его мысли. Он вставал, осматривался, прислушивался. Но, убедившись, что все в порядке, усаживался на прежнее место.
Вероятно, он задремал и спал до двух часов ночи. Одновременно с Карроли его разбудило покачивание шаланды, которая стала разворачиваться на якоре.
— Отлив, — коротко бросил Карроли.
— Пора в путь, — также коротко ответил Кау-джер и полез под настил.
Индеец дышал так слабо, что, только наклонившись совсем близко к его губам, можно было понять, что он еще жив.
Над гладью моря со стороны суши поднялся попутный бриз. Это означало, что с первыми лучами зари «Вель-Кьеж» будет у стойбища валла — цели их плавания.
Плыли в безмолвии по подернутой мелкими пятнами ряби воде, казалось, еще не отошедшей от сна. Судно по-прежнему держалось в нескольких сотнях футов от берега, смутно вырисовывавшегося на фоне светлеющего неба. В предутренней темноте тускло мерцали огни двух-трех костров. То тут, то там виднелись навесы. Под ними отдыхали индейцы. Всю ночь они поддерживали огонь, отпугивавший хищных зверей.
Плавание продолжалось уже несколько часов. Ветер посвежел, шаланда прибавила скорость, паруса слегка подрагивали вдоль ликтросов[154].
На востоке едва заметный свет окрасил горизонт. Туман над водой заалел, затем распластался по морской глади и исчез. Вскоре небольшие светлые пятна на небе сменились целой палитрой цветов, переходящих от красного к белому. Солнце появилось как-то внезапно, его золотистые лучи побежали по легкой морской зыби.
В шесть утра «Вель-Кьеж» достиг выхода из пролива. Здесь, на небольших островках, гагарки[155] били воздух своими недоразвитыми крыльями. С южной стороны три четверти видимого пространства занимал безбрежный океан, освещенный косыми лучами солнца. И только на севере чернел низкий берег, очень широкий и плоский, где произрастали леса из нотофагуса[156]. Кроны деревьев были похожи на большие зонтики. Насколько хватало глаз, берег уходил вдаль, смутно просматривалась его серповидная оконечность, которая загибалась в сторону Атлантического океана.
В этом месте, на берегу прозрачного ручья, петляющего между благовонными винтериями[157] и кустами барбариса, стояли шалаши на каркасах из кольев[158]. Заливистый лай собак возвестил о приближении шаланды. Невдалеке, на лугу, паслось несколько малорослых лошаденок. Тонкие струйки дыма вились над шалашами, а также над пятью или шестью крытыми листвой хижинами, видневшимися на ближайшей опушке, справа, где прибрежные деревья окунали свои корни в океан.
Весть о прибытии шаланды мгновенно разнеслась среди индейцев, и они сразу же узнали «Вель-Кьеж». Более полусотни мужчин и женщин в домотканой одежде, с наброшенными на плечи одеялами из шкур гуанако, высыпали из шалашей и побежали к берегу. За ними неслись полуголые ребятишки, которые, казалось, не ощущали холода, несмотря на довольно свежий бриз. Как видно, в этом становище Кау-джер был желанным гостем. Не первый раз навещал он индейские семьи, как в оседлых племенах, так и в кочевых, как внутри страны, так и на берегах пролива.
Когда шаланда подошла к берегу в узкой бухточке, Карроли бросил кошку прямо на пляж, и один из туземцев поспешил вдавить ее в песок. Паруса были спущены, и Кау-джер сошел на берег.
Его тут же обступили, горячо жали руки. В оказанном ему приеме чувствовалась искренняя сердечность и глубокое уважение. Видимо, немало услуг оказал им Кау-джер, если они называли этого человека, прибывшего, несомненно, из далеких заморских краев, своим благодетелем.
Он говорил на их языке, заходил то в один шалаш, то в другой. Какая-то женщина отвела его к больному ребенку. Кау-джер осмотрел малыша и дал выпить несколько глотков настойки из своей походной аптечки. То же самое проделал он и в других семьях, и все матери, ободренные и успокоенные появлением Кау-джера, горячо его благодарили. Вскоре он уже и не знал, кого слушать. Каждый в нем нуждался, требовал ухода. Его тащили за собой, хотели, чтобы он обошел все стойбище, словно ожидали его в течение нескольких месяцев. Казалось, эти индейцы, предоставленные самим себе, хотели запастись добрыми услугами на все время до его следующего приезда.
Кау-джер направился к одной из хижин, приютившихся возле леса, — и совсем не с целью нанести визит самой значительной персоне племени. Вождей здесь не признавали. Он жестом остановил следовавших за ним индейцев и вошел в нее. Несколько минут спустя он вышел в сопровождении двух женщин. Одной из них было около пятидесяти, но сморщенное лицо и согнувшееся тело сильно старили ее, другой — не больше двадцати; она была среднего роста, с правильными и приятными чертами лица, шею ее украшало ожерелье из бусин, а на руках красовались браслеты из раковин.
Молодая женщина скорее плелась, чем шла. Лицо ее было не таким улыбчивым, как веселые физиономии других индианок валла. Придавленная горем, она дала выход своей отчаянной боли, прорвавшейся наружу слезами и криками.
Кау-джер вернулся к шаланде. Не покидавший судна Карроли получил короткое распоряжение и вытащил из-под настила тело индейца. Еще два часа назад, несмотря на принятые Кау-джером меры, охотник испустил дух. Его мертвенно-белое лицо исказила предсмертная судорога.
Как только тело покойного вынесли на пляж, обе женщины — мать и жена — бросились на колени и, рыдая, обняли его.
Обитатели стойбища собрались вокруг. Соплеменники знали, что накануне, забрав лук, стрелы и лассо, их собрат отправился охотиться на гуанако на западные равнины, и вот «Вель-Кьеж» привез матери, жене, ребенку мертвеца.
Кау-джер вынужден был рассказать о случившемся. Он воспользовался языком аборигенов, которым владел необычайно легко, подробно описал место, где произошла схватка индейца с ягуаром, рассказал о своем запоздавшем выстреле, ибо когти зверя уже разодрали грудь охотника, нанеся ему смертельную рану.
И, когда по приказу Кау-джера ягуара выбросили на берег, туземцы с яростными криками и бранью набросились на него: одни поволокли по песку, другие швыряли в хищника камни, а жена и мать, стоя на коленях, предавались своему горю.
Кау-джер не препятствовал столь бурному проявлению чувств мести, но Карроли вряд ли одобрял его, понимая, какой ущерб будет нанесен шкуре животного.
Между тем молодая женщина, склонившись над телом мужа, приоткрыла рот покойного. Она как бы освобождала душу от телесной оболочки и наблюдала за ее полетом в небесные дали.
Кау-джер отступил на несколько шагов и отвернулся.
Неожиданно вдова, ритмично двигая рукой, жалобно запела полную неизбывного горя песню, то и дело прерываемую рыданиями.
Значит, эти туземцы имели какое-то представление о загробной жизни, о своем пребывании после смерти в высшем мире. Но какому божеству они поклонялись? Не одному ли из языческих идолов, которым обычно приносят жертвы дикие племена? Или индейцы уже исповедовали христианскую религию, влияние которой постоянно возрастало благодаря деятельности миссионеров, проникающих в самые отдаленные районы Атлантического и Тихого океанов?
В любом случае — вырваны ли они уже из плена атавистического идолопоклонства, дошла ли до них христианская вера — этим они обязаны не Кау-джеру. Он посещал индейцев как благодетель, а не как апостол. Не надо забывать ту атеистическую и анархическую фразу, что сорвалась с его губ накануне, когда он, забравшись на вершину скалы, оглядывал окрестности.
Нет! Этот белый европейского или американского происхождения — какого именно, никто не знал — не прочтет последнюю молитву над телом индейца и не поставит крест над его могилой.
Он сделал что мог и должен двигаться дальше. Кау-джер уже собрался подняться на борт своего суденышка, предоставив туземцам самим заниматься похоронными делами, как вдруг индейцы, стоявшие на опушке леса, засуетились.
Дюжина индейцев только что поднялась по левому берегу речки и увидела двоих мужчин, остановившихся на опушке, у последних деревьев.
Это были белые из апостольских миссий: одному явно перевалило за пятьдесят, борода и волосы на голове у него уже поседели; другой был помоложе. Оба — в длиннополых сутанах и широкополых шляпах.
Эти миссионеры, канадцы по происхождению, принадлежали к католической колонии, обосновавшейся здесь, на краю света. Тут они отчаянно и с успехом боролись против влияния проповедников из различных протестантских, методистских[159] или уэслианских[160] сект, столь ожесточенных в своих пропагандистских кампаниях.
А таких пылких проповедников много было на соседних, принадлежащих Великобритании, островах[161]. Эти колонии обзавелись даже мелкими паровыми судами, на которых совершали религиозно-торговые — если можно так выразиться — каботажные плавания[162].
Они развозили зерно, скот и великое множество экземпляров Библии не только на английском, но и на местных языках. Миссионеры приспосабливали тексты Священного Писания к образу жизни туземцев и даже к особенностям сурового климата. Они придумали для страдающих от зимних холодов рыбаков необычный ад, где грешников сжигают не на вечном огне, а мучают жесточайшим морозом — на шкале Фаренгейта[163] для него даже не нашлось отметки.
Карроли уже подтаскивал к боту довольно потрепанного ягуара, и Кау-джер занес было ногу, чтобы взобраться на шаланду, готовую к отплытию. В этот момент он обернулся, и его взгляд остановился на опушке леса. После некоторого колебания Кау-джер опустил ногу и остался на берегу.
Туземцы приняли миссионеров с той же сердечностью и радостью, с какой встречали Кау-джера.
Отец Атанас и отец Северин не раз посещали как стойбище валла, так и другие поселения, разбросанные на огромной территории. Каждый год евангелические дела вели их от одного племени к другому — к индейцам, проживавшим и во внутренних районах, и на побережье пролива, и на соседних островах. У этих святых отцов французская кровь смешалась с саксонской, и в борьбе за паству они отважно противостояли протестантским проповедникам.
Оба миссионера не раз встречались с Кау-джером. Они делали для душ туземцев то же, что он делал для тел, и, хотя святые отцы и Кау-джер выполняли свою работу с одинаковым усердием и одинаковым милосердием, миссионеры напрасно пытались раскрыть инкогнито этого таинственного персонажа. Когда они приблизились к лежавшему на песке телу индейца, Кау-джер не выразил ни малейшего желания вступить с ними в разговор. Он, со своим вольнодумством, с презрением к любому религиозному обряду, не мог благосклонно отнестись к вмешательству миссионеров.
Между тем священнослужители подошли к двум женщинам, еще стоявшим на коленях перед усопшим. Старший из них — отец Ата-нас — наклонился над телом, и ему в нескольких словах поведали о том, скольких усилий стоило Кау-джеру доставить тело индейца в стойбище. «Надо бы поблагодарить его», — подумал миссионер.
Тогда отец Атанас поднялся, подошел к шаланде, остановился перед Кау-джером и обратился к нему на английском языке, которым оба владели свободно:
— Вы сделали все что могли для этого несчастного, — сказал отец Атанас. — Мы знаем, как вы милосердны, как преданы этим бедным туземцам...
— Я всего лишь выполнил свой долг, — произнес Кау-джер, давая понять, что его поступок не заслуживает похвал.
— Но если вы, сударь, выполнили свой долг, — ответил миссионер, — то мы должны выполнить свой.
Вернувшись к женщинам, он преклонил колени и принялся молиться об упокоении души, чтобы по христианскому обряду предать земле тело индейца, обращенного в христианскую веру. Потом труп подняли с земли и понесли на руках. Мать, жена и другие женщины последовали за ними. Держа в руках распятие и читая молитвы, миссионеры во главе похоронной процессии направились к лесу, где под сенью деревьев будет похоронен усопший.
Кау-джер и Карроли забрались на борт, подняли паруса, и «Вель-Кьеж», подгоняемый легким северо-западным бризом, стал удаляться от берега.
III В МАГЕЛЛАНИИ
События, о которых мы только что рассказали, происходили на южном побережье Огненной Земли. Современные географы включают в понятие Магеллании многочисленные острова (вплоть до незначительных), расположенные между Атлантическим и Тихим океанами, у южной оконечности Американского континента. Самая отдаленная от экватора часть этого континента, то есть Патагония, продолженная двумя большими полуостровами — Землей Короля Вильгельма[164] и Брансуиком, — заканчивается на последнем из названных полуостровов мысом Фроуард. Все, что не относится к Патагонии и отделено от нее Магеллановым проливом, образует область, справедливо носящую имя этого великого португальского мореплавателя XVI века.
Магеллания охватывает Огненную Землю, острова Десоласьон, Кларенс, Осте, Наварило, архипелаг мыса Горн, включающий острова Греви, Вулластон, Фрейсине, Эрмите, Хершел, Десит и множество островков и рифов, расположенных на самом краю обитаемого мира, и занимает пятьдесят тысяч квадратных километров, из которых примерно двадцать тысяч приходится на Фуэгию, или Огненную Землю.
Чтобы разобраться в перипетиях нашего повествования, необходимо знать, как была открыта Магеллания, каково ее географическое положение и, наконец, каковы ее связи с Чилийской и Аргентинской Республиками.
Известно, что целое столетие отделяет открытия Магелланова пролива (1520 год) и мыса Горн (1610 год). Португальский мореплаватель обогнул крайнюю точку Американского континента, а голландский моряк Виллем Схоутен обогнул знаменитый мыс, назвав его именем своего родного города.
В эпоху, когда Магеллан прошел проливом между Америкой и Магелланией с востока на запад, можно было подумать, что новый Американский континент, ничуть не менее протяженный, чем только что познанный, доходит почти до Южного полюса.
На самом же деле южнее Магелланова пролива находилась лишь Огненная Земля с прилегающими к ней большими и малыми островами, последний из которых заканчивался мысом Горн.
Вследствие таких географических представлений ни одно государство вплоть до 1881 года (дата, с которой начинается наше повествование), кажется, не имело права претендовать на эту часть Нового Света, как справедливо выразился один из спутников Дюмон-Дюрвиля[165] по плаванию на «Астролябии» и «Зеле» в Магеллановом проливе. Никто не мог польститься на эти земли, даже соседние государства — Чили и Аргентинская Республика, оспаривавшие друг у друга территорию Патагонии. Магеллания не принадлежала никому. Колонисты могли селиться на ней и оставаться полностью независимыми. Даже Англия, которая в 1771 году захватила Фолклендские, или, как их еще называют, Мальвинские, острова[166], лежащие к востоку от материка, никогда не заявляла о своем праве на какой-либо из островов Магелланийского архипелага.
Вход в Магелланов пролив из Атлантического океана открывается между мысом Вирхенес[167] и мысом Эспириту-Санто. Далее пролив расширяется, образуя два залива, — Посесьон на севере и Ломас на юге. Затем, перед первой горловиной[168], он сужается.
Это внутреннее море эскадра Магеллана пересекла 21 октября 1520 года. Португальский мореплаватель выслал на разведку три корабля. Первый не смог противостоять мощным течениям и взбунтовавшейся команде. Судно было вынуждено повернуть обратно, в Европу. Второй корабль, попав на мелководье и рискуя разбиться о подводные камни, также прекратил рекогносцировочное плавание[169].
Только третьему кораблю — под командованием Магеллана — удалось пройти весь пролив. В течение двадцати двух дней он плыл по глубокой воде между берегами Патагонии и Огненной Земли. Своим названием Патагония обязана патагонцам, то есть «людям с большими ногами», обитателям этой части Американского континента, которые носили сапоги, сшитые из шкур гуанако[170]. Берег, на котором путешественники увидели множество огней, стал именоваться Огненной Землей, а жители — огнеземельцами. По обе стороны пролива зеленели луга, шумели леса, текли пресноводные реки, а на западе поднимались высокие горы, покрытые снегом.
Преодолев многочисленные препятствия и борясь с ветром, почти всегда встречным, Магеллан вышел в неизвестный океан, поразивший его удивительным спокойствием, за что и был наречен Тихим.
Путь был проложен. Оставалось только идти по следам знаменитого мореплавателя — плавание в целом было опасным и особенно трудным для парусных судов, когда они пытались пройти с востока на запад, против господствовавших в проливе ветров.
В самом деле, три года спустя последователь Магеллана, капитан Ладрильеро, находившийся в подчинении у чилийского губернатора Хорхе Мендосы[171], хотя и вошел в пролив с запада, вынужден был повернуть обратно из-за постоянно налетавших штормов.
В 1525 году вице-адмирал Себастьян Кано достиг Тихого океана лишь после труднейшего трехмесячного плавания[172].
В 1540 году из трех кораблей эскадры Альфонсо де Камарго только одному удалось ценой огромных усилий преодолеть пролив[173].
В том же году Франсуа[174] Дрейк, посланный английской королевой Елизаветой для грабежа испанских владений, вошел в пролив 20 августа и б сентября, не встретив особых преград, вышел в открытый океан[175].
Перуанец Педро Сармьенто[176], в распоряжении которого имелись лишь два корабля, вынужден был сразиться с английской эскадрой. Он покинул порт Кальяо и вошел в пролив с запада. Именно благодаря ему были собраны самые полные сведения об этом районе. (Правда, рассказ о вояже Педро содержит много преувеличений.) Войдя в пролив Сан-Исидро, Сармьенто от имени испанского короля принял во владение прибрежные земли, достиг второй горловины, сразился с туземцами, которым причинил гигантский ущерб, и в конце концов достиг Европы. После благополучного прибытия он получил под свое командование уже двадцать три корабля и отправился основывать колонию в Магеллановом проливе. Но от четырех тысяч человек, бывших в его распоряжении, скоро, после гибели нескольких судов, осталось всего четыреста, и продовольствия у них было на восемь месяцев.
Построив форт у входа в пролив[177], он смог добраться до его середины, где стали строить город Филиппвиль[178], который впоследствии получил очень красноречивое название — Порт Голода (Пор-Фамин)[179]. На обратном пути Сармьенто был схвачен англичанами и доставлен в Англию. Колонию, им основанную, он покинул в то время, когда она находилась в отчаянном положении: в ней оставались только двадцать три мужчины и две женщины. Эти несчастные пытались через Патагонию добраться до Ла-Платы. Выжил только один колонист по имени Эрнандо. Его подобрал англичанин Томас Кэндиш[180], который проходил в 1587 году мимо Филиппвиля. Взяв беднягу на борт, Кэндиш обогнул мыс Фроуард и вышел в Тихий океан. Его плавание по проливу продолжалось пятьдесят два дня, и ему пришлось отразить атаку людоедов.
Спустя четыре года Томас Кэндиш вернулся в Порт Голода. После двух безуспешных попыток выйти в Южное море[181] он, уступая течению и ветрам, был вынужден отказаться от плавания по проливу и вернулся назад, в Европу.
На долю экспедиции Джона Чилдли, организованной в 1590 году, выпало не меньше бед. После захода в Порт Голода он раз десять тщетно пытался обогнуть мыс Фроуард, но ветры вынудили его корабли отправиться в Европу, а один из них был выброшен на берег Нормандии.
К Ричарду Хокинзу[182] судьба отнеслась благосклоннее. Открыв в 1593 году Фолклендские острова[183], он взял курс на запад и вошел в пролив 10 января 1594 года, дошел до мыса Фроуард, где не смог высадиться, а потом благополучно достиг Тихого океана.
С целью разграбления испанских владений Симон де Кордес, голландец, командовавший пятью кораблями, покинул Роттердам 27 июня 1598 года. 6 апреля следующего года он подошел к проливу и до 23 августа стоял на якоре в бухте, носящей теперь его имя. Лишения, унесшие жизнь сотни моряков, и схватки с дикарями крайне омрачили его пребывание в этих краях. 3 сентября он покинул пролив, но, боясь затеряться, вернулся на место стоянки и в январе 1600 года возвратился в Европу[184].
Оливир ван Норт[185] после пяти рискованных попыток пройти по проливу стал на якорь сначала у мыса Форленд, затем в Порте Голода, от которого остались одни развалины, далее в бухте Морис. В конце концов он успешно прошел по проливу.
Самой удачной из всех была экспедиция, возглавлявшаяся Норисом ван Спильбергеном[186]. Подняв 16 мая 1614 года паруса на шести кораблях, он 25 мая вошел в пролив, доплыл до Порта Голода, сделал остановку в бухте Кордес и 6 мая уже бороздил воды Тихого океана.
За два года до этого Ле-Мер и Схоутен[187] открыли новый, южный, путь из одного океана в другой, пройдя между Огненной Землей и островом Эстадос на восточной окраине Магеллании. Этот пролив получил название пролива Ле-Мер.
Гарсия де Нодаль[188], посланный королем Испании для изучения нового пути, исследовал в 1618 году пролив Ле-Мер, открыл острова, образующие архипелаг мыса Горн, и прошел на запад Тихого океана, а потом вернулся Магеллановым проливом. 9 июля 1619 года он привел свои корабли в Севилью, завершив блистательный поход, в котором не потерял ни одного человека.
В 1669 году остров Элизабет, бухту Агуафреска и Порт Голода посетил Джон Нарборо[189]. Он достиг пролива Сен-Херонимо, вышел в Тихий океан, поднялся до Вальдивии, затем вернулся в Магелланов пролив и после двухгодичного плавания прибыл в Европу. Благодаря его плаванию эти места были нанесены на карту.
В эпоху, о которой мы говорим, грабеж испанских колоний в Южной Америке был очень популярен. Неудивительно, что французы не пожелали остаться в стороне. 3 июня 1695 года из Ла-Рошели с эскадрой в шесть кораблей вышел капитан де Женн[190]. 11 февраля следующего года он обогнул мыс Вирхенес, сделал остановку в бухте Буко у острова Сан-Грегорио, бросил якорь в Порте Голода, затем в бухте Сан-Николас, переименованной во Французскую бухту. Однако дальше он продвинуться не смог и в апреле 1697 года вернулся в Европу.
В 1698 году по стопам своего соотечественника отправился Бошен-Гуэн. Шесть месяцев спустя, лишь на одном из своих шести кораблей, ему удалось обогнуть мыс Вирхенес. Какое-то время он простоял в Пор-Галане, а затем, несмотря на постоянное противодействие ветров и течений, он благодаря своему упорству вышел в Тихий океан.
Шестьдесят шесть лет спустя, 21 июня 1764 года, коммодор[191] Байрон[192] привел корабли «Долфин» и «Тамар» к мысу Вирхенес, установил дружеские отношения с патагонцами и стал на якорь в Порте Голода. Чтобы посетить Фолклендские острова, он взял курс на восток, 18 февраля вновь появился в Магеллановом проливе, 21 февраля опять зашел в Порт Голода и 9 апреля 1765 года вышел в Атлантический океан.
В то же время французский капитан Бугенвиль 16 февраля 1765 года на корабле «Эгль» дошел до мыса Вирхенес, обогнул его, 21 февраля сделал остановку в небольшой бухте, которая была названа его именем, и, взяв на борт строительный лес, в марте вернулся в свою колонию на Мальвинских островах.
В следующем году капитаны Дюкло-Гюйо и Ла-Жироде на кораблях «Эгль» и «Этуаль» добрались до Порта Голода. На полуострове Брансуик им пришлось отбивать нападение туземцев, хотя ранее на мысе Сан-Грегорио с патагонцами был заключен союзнический договор.
Между тем Бугенвиль, передав свою колонию испанцам, направился, в соответствии с полученными им в 1767 году инструкциями, в Южные моря через Магелланов пролив. Он вошел в него 5 декабря того же года, задержался на некоторое время у мыса Посесьон, причем между ним и патагонцами установились прекрасные отношения. 16 декабря он достиг Порта Голода, а 18-го — бухты Бугенвиль. Двадцать шесть дней он пробыл в Пор-Галане и 26 января следующего года при попутном ветре вышел из пролива.
Наконец, английский капитан Самьюэл Уоллис[193], покинувший Плимут 22 июня 1766 года с флотилией, состоявшей из трех судов — линкора, флейты[194] и шлюпа[195], вошел в пролив 16 ноября, наладил добрые отношения с патагонцами, прибыл в Порт Голода, где запасся водой и дровами, и, отважно преодолев многочисленные опасности, в ночь с 10 на 11 апреля вошел в воды Тихого океана.
С этого момента о проливе забыли надолго, вплоть до 1826 года, когда капитан Уоллис[196] получил от правительства Великобритании задание провести здесь гидрографические исследования. Мореплаватель блестяще справился с поставленной задачей. Дальнейшим изучением этих мест занялся в 1834 году капитан Фицрой[197], а с 1837 по 1840 год капитан Дюмон-Дюрвиль, который на корветах «Астролябия» и «Зеле» тщательно обследовал восточную часть пролива между мысом Вирхенес и Пор-Галаном.
С подробностями этого памятного и почетного для Франции похода познакомиться небезынтересно.
Инструкции морского министра, датированные 26 августа 1837 года, формулировали, что целью новой экспедиции является пополнение данных, уже собранных капитаном Дюмон-Дюрвилем и другими мореплавателями, по этим, все еще недостаточно описанным, районам Южных морей, которые необходимо детальнее изучить в гидрографическом, коммерческом и научном отношении.
Седьмого сентября 1837 года «Астролябия» и «Зеле» отправились из Тулона к острову Тенерифе. Там они простояли на якоре с 30 сентября по 12 октября, затем пересекли Атлантический океан и зашли в Рио-де-Жанейро. Вновь выйдя в море 14 ноября, корабли миновали утром 12 декабря мыс Вирхенес, а затем, оставив позади мыс Данджнесс, в тот же день при свежем северном бризе подошли к проливу Примера-Ангостура.
Далее корветы направились в бухту Сан-Фелипе, где во время прилива чуть было не потеряли друг друга из виду. Огни костров по обеим сторонам пролива свидетельствовали о присутствии на северных землях патагонцев, на южных — рыбников. Две последующие недели мореплаватели посвятили обследованию мыса Негро, островов Элизабет и Санта-Магдалена, мысов Монмут, Валентино и Исидро, после чего бросили якорь в Порте Голода. Стоянка Дюмон-Дюрвиля в этом месте продолжалась с 16 по 28 декабря. За это время французы тщательно исследовали местоположение колонии Сармьенто: был обнаружен прекрасный источник пресной воды, установлено, что вода в реке Седжер — целебна, в окрестных лесах растет нотофагус, дримис Винтера[198], барбарис. Окружавшая путешественников великолепная растительность свидетельствовала о правильности выбора перуанского мореплавателя, хотя от его творения осталось одно зловещее имя. Не забывали французы и про гидрографию[199]. Офицеры произвели массу определений долгот, метеорологических наблюдений, определений температуры воды и приливных уровней. Охота приносила множество куликов, дроздов, гусей, уток и другой водоплавающей дичи, рыбная ловля — бычков, кефаль, корюшку, миногу, особенно обильных здесь мидий, пателл[200], мурексов[201], фиссурелл[202]. Офицеры нашли на ветвях дерева «почтовый ящик» — бочонок с записями предшественников. А Дюмон-Дюрвиль установил на самой высокой точке полуострова Санта-Ана столб с настоящим почтовым ящиком, изнутри обитым жестью.
Команда искала встреч с туземцами Патагонии, о которых в то время ходило немало легенд. Путешественники углублялись к югу от Порта Голода, и, хотя им часто попадались развалины хижин, лошадиные скелеты и другие следы индейских стойбищ, увидеть туземцев они так и не смогли.
На заре 28 декабря «Астролябия» и «Зеле» снялись с якоря; предварительно начальник экспедиции положил в почтовый ящик, установленный по его приказу, отчет о проделанной работе. Корабли шли мимо бухт Игл, Гииз-Индиен, Бушаж, Бурнан, Бугенвиль, мимо залива Сан-Николас. Взору мореплавателей открывались лесистые берега, которые террасами уходили вверх, подбираясь к белым вершинам гор Тары[203], пику Нодалес[204] и горной цепи мыса Фроуард[205]. На юге побережье Огненной Земли было гористое, вздымались вверх причудливые скалы в форме пирамид, куполов, зубцов. Но сразу же после того, как корабли миновали мыс Фроуард, растительность стала скудной и малорослой.
Двадцать девятого декабря эскадра подошла к бухте Фортескью, образующей прекрасную гавань у входа в Пор-Галан. Для этого времени года погода в этих широтах была теплой — термометр показывал не менее четырнадцати градусов в тени.
Пор-Галан стал последним пунктом рекогносцировки Магелланова пролива, хотя он находился лишь на середине пути. Карта была составлена весьма точно, а мореплавателям надолго запомнились живописные берега и величественные горы, увенчанные снежными шапками.
Считая, что благоприятный период для плавания в Тихом океане закончился, и по-прежнему надеясь встретить патагонцев, капитан Дюмон-Дюрвиль покинул Пор-Галан 31 декабря, отказавшись от намерения пройти до Тихого океана. Обогнув мыс Фроуард, мореходы остановились, чтобы набрать воды в речке Женн, поохотиться и пособирать целебные травы. Бухту Сан-Николас Бугенвиль назвал Французской[206].
Второго января 1838 года «Астролябия» и «Зеле» подняли якоря и направились к острову Нассау и далее к мысу Сан-Исидро. Подойдя к Порту Голода около мыса Санта-Ана, Дюмон-Дюрвиль выслал вперед шлюпку, чтобы опустить в почтовый ящик второй отчет. Кораблям пришлось задержаться здесь на всю ночь, но уже утром 3 января при спокойном море и благоприятном южном бризе они шли вдоль Огненной Земли с ее низкими берегами, усеянными крупными валунами. Но как на полуострове Брансуик путешественники не заметили ни одного патагонца, так на Огненной Земле они не увидели ни единого рыбника. Лишь несколько гуанако да бесчисленное множество бакланов оживляли пейзаж.
Проверив долготу Порта Голода, нанесенную на карте Кинга, Дюмон-Дюрвиль повел корветы вдоль Патагонии и вдруг заметил палатки. Над поселением реял американский флаг. Наконец представился долгожданный случай установить контакт с местными жителями. Суда, слегка задев килем грунт, вошли в бухту Пеккетт и встали на якорь.
Всем офицерам было разрешено высадиться на сушу, где патагонцы оказали им весьма дружественный прием. Шлюпка доставила на борт «Астролябии» троих туземцев; роста они были среднего: от 162 до 166 сантиметров, пропорционального сложения, со смуглой кожей, длинными черными волосами, низким и покатым лбом, узкими глазами, выдающимися скулами и отсутствием какой-либо растительности на лице у мужчин — такими они предстали перед мореплавателями. В одежде из шкур гуанако, туземцы невозмутимо взирали на пришельцев.
Среди патагонцев находились швейцарец и англичанин. Они, устав от жизни среди дикарей, получили у Дюмон-Дюрвиля разрешение подняться на корабль и покинуть эти края.
Несколько дней спустя путешественникам удалось увидеть и рыбников, которые, несомненно, принадлежали к тому же народу, что и патагонцы, но производили впечатление слабых, измученных людей, выросших в рабстве.
Итак, 8 января «Астролябия» и «Зеле» закончили исследование Магелланова пролива и вновь оказались в водах Атлантики, откуда и направились в приполярные моря. Так началось плавание к Южному полюсу двух корветов под командованием капитана первого ранга Дюмон-Дюрвиля.
Длина Магелланова пролива, разделяющего Патагонию и Огненную Землю и омывающего острова Досон, Кларенс, Десоласьон, составляет пятьсот шестьдесят километров. Если идти проливом, то это сократит путь из Тихого океана в Атлантический на много миль. Французские мореплаватели исследовали две третьих его протяженности, составили с десяток планов бухт и портов, собрали богатейший материал, представляющий большую научную ценность. Во время всего плавания погодные условия благоприятствовали им, не считая бури, которая обрушилась на них в бухте Пеккетт. Не следует забывать, что корветы — парусные суда и что Магелланов пролив легко проходим лишь с запада на восток благодаря господствующим в нем западным ветрам.
Безусловно, в наше время пароходам с их мощными машинами легче преодолевать все препятствия, которые ожидают их в плавании по проливу. Кроме того, в проливе теперь есть удачно расположенный порт, которому сулят хорошее будущее — как в навигационном, так и в коммерческом плане. Это — не старый порт Сармьешто, хотя там и были отличные места для якорных стоянок, от него не осталось даже развалин. Мы имеем в виду колонию Пунта-Аренас, находящуюся на том же побережье полуострова Брансуик, только несколько севернее.
Все, что находится к югу от пролива, принадлежит Магеллании — архипелагу, состоящему из больших, маленьких и совсем крошечных островов и являющемуся как бы продолжением Американского континента между двумя океанами. Внимание научного и коммерческого мира было приковано к событиям, положенным в основу этого повествования. Что же касается мыса Горн, этого близкого родственника мыса Доброй Надежды, находящегося близ оконечности Африки, то скорее именно он заслуживает называться мысом Бурь[207].
IV ЗАГАДОЧНАЯ ЖИЗНЬ
На севере и на западе Огненная Земля имеет весьма изрезанное побережье, с выступающими мысами Орендж, Каталина, Номбре, Сан-Диего, бухтами Сан-Себастьян, Агирре, — от мыса Эспириту-Санто до пролива Магдалены[208]. Над западной частью Огненной Земли возвышается гора Сармьенто[209]. Юго-восточная часть Земли заканчивается мысом Сан-Диего, напоминающим присевшего на задние лапы сфинкса, хвост которого погружен в воды пролива Ле-Мер.
Южное побережье Огненной Земли омывается проливом Бита, по другую сторону которого расположились острова Гордон, Осте, Наварино и Пиктон. Еще дальше к югу разбросаны острова своенравного архипелага мыса Горн.
Именно по проливу Бигл, направляясь в стойбище валла, шла шаланда с телом раненого индейца. После того как печальная процедура была завершена, Кау-джер и его спутник, простившись с туземцами, направились к одному из островов, который располагался у выхода из пролива. Видимо, именно здесь находился приют этого таинственного персонажа, поселившегося почти за пределами обитаемого мира.
Судя по всему, Кау-джер поддерживал отношения только с жителями Огненной Земли — рыбниками, названными так потому, что главным их занятием было рыболовство. В самом деле, никто не видел, чтобы Кау-джер наведывался в Патагонию или во владения Аргентинской Республики, расположенные севернее, или в чилийские провинции на западе. Возможно, что «Вель-Кьеж» никогда не заходил в Магелланов пролив и не становился на якорь перед какой-либо местностью полуострова Брансуик.
В тот период и Аргентина, и Чили претендовали на Патагонию, и, хотя границ между республиками еще не существовало, их претензии касались только северного берега пролива, и вся Магеллания считалась независимой территорией, где жили кочевые и оседлые племена индейцев якана[210]. Это была свободная земля, еще не присвоенная ни одной державой — даже Англией, соседкой с Фолклендских островов, по большей части не заселенных; их немногочисленные обитатели[211] не могли заявить своего права на владение островами.
Не эта ли независимость Магеллании привлекла сюда чужестранца и побудила здесь осесть? По какой причине, — вероятно, очень серьезной — покинул он родину? По своей или чужой воле расстался с ней? Во всяком случае, никому из огнеземельцев и в голову не приходило спросить его об этом. А если бы кто и поинтересовался, то скорее всего ответа не получил бы.
Впервые индейцы увидели этого человека на побережье лет пять-шесть назад и дали ему имя — Кау-джер, что означало «благодетель». Скорее всего он приплыл на одном из английских кораблей, совершающих каботажное плавание между Фолклендами и островами Магеллании. Такие рейсы парусников и паровых судов были довольно часты, хотя и нерегулярны. Они давали возможность иностранцам вести торговлю не только с туземцами, живущими в самых отдаленных уголках обширного Магелланийского архипелага, но и с английскими, французскими, немецкими колонистами, обосновавшимися на больших островах Тихого океана — Ганновер, Веллингтон, Чилоэ, на архипелаге Чонос, соседствующих с Чили.
В обмен на шкуры гуанако, вигоней, морских волков, кожу и перья страусов-нанду огнеземельцы получали необходимые им в хозяйстве вещи. Наконец, китобойный промысел, происходивший как в магелланийских широтах, так и в полярных морях, привлекал определенное количество судов, свыкшихся с извилинами этого морского лабиринта. Разумеется, прибытие этого чужака можно было объяснить и таким образом, но, повторяем, оно произошло лет пять-шесть назад, как раз тогда он начал бродячую жизнь среди яканских и прочих огнеземельских племен.
Кто этот чужестранец? Какой национальности? Из Старого или Нового Света? Эти вопросительные знаки всегда сопутствовали ему. О нем никто ничего не знал: ни его происхождения, ни настоящего имени. Впрочем, на этих свободных территориях, где не было никакой власти, в этой независимой Магеллании, кто бы стал задумываться над подобными вопросами? Ведь здесь не было полиции, которая любит интересоваться прошлым людей, под ее властью невозможно долго оставаться неизвестным... Ни на Огненной Земле, ни в соседних архипелагах не встречалось представителей хоть какой-нибудь державы, а полномочия губернатора Пунта-Аренаса еще не распространялись на другую сторону Магелланова пролива. Следовательно, никто не мог принудить этого иностранца удостоверить свою личность. Редко встречаются страны, а скоро их не останется совсем, где можно жить, не подчиняясь ничьим обычаям и законам, быть совершенно независимым и не стесненным какой-либо общественной связью.
Первые два года своего пребывания на Огненной Земле Кау-джер даже не пытался поселиться в каком-то определенном месте. Он проводил время в обществе туземцев, жил их жизнью и сторонился колонистов разных национальностей, создававших фактории. Он переходил от стойбища к стойбищу, от одного племени к другому, и всюду его ждал теплый прием, ибо все видели в нем доброго и отзывчивого человека. Он питался продуктами охоты и рыбной ловли, жил то среди прибрежных семейств, то в племенах внутренних районов, разделяя с индейцами места в хижинах, вигвамах, навесах.
Он обладал большой физической силой, железным здоровьем, необыкновенной выносливостью и, будучи человеком из породы Ливингстонов[212], Стенли[213] и Нансенов[214], мог бы совершать великие деяния, если бы был одержим страстью к открытиям. Но тогда бы ему понадобилась иная сцена, а не магелланийская область, где после работ Фицроя и Кинга открывать было уже нечего.
Вне всякого сомнения, Кау-джер был образованным человеком, и прежде всего в экспериментальных науках. Он, вероятно, очень тщательно изучал медицину, был неплохим натуралистом, знающим растения и их лечебные свойства, изъяснялся на многих языках: английском, французском, немецком, норвежском, испанском. И каждый говорящий на любом из этих языков мог бы принять его за своего соотечественника. Впрочем, после первых же вопросов о национальности, которые ему сначала еще задавали и которых он избегал, о проникновении в его тайну не было и речи. Следует добавить, что этот загадочный персонаж не преминул выучить ягон, язык якана, самый распространенный в Магеллании; миссионеры пользовались им, чтобы переводить отрывки из Библии; вскоре Кау-джер уже бегло говорил на нем. Впрочем, в контакт с судами, вставшими на якорь в каком-нибудь месте Магелланова пролива, или пролива Бигл, или прочих проходов архипелага мыса Горн, он вступал исключительно для того, чтобы пополнить запасы пороха и пуль, а также лекарственных средств. Все это он либо выменивал, либо покупал за испанские песеты и английские фунты, недостатка в которых, видимо, не испытывал. Впрочем, в своих потребностях он был весьма скромен и удовлетворялся тем, что добывал на охоте и рыбалке.
Но если уединиться в этом затерянном мире его побудила мизантропия[215], непреодолимая неприязнь к обществу себе подобных, чем тогда объяснить его доброту, самоотверженность, великодушие по отношению к туземцам Магеллании? По серьезному и печальному лицу Кау-джера можно было заключить, что жизнь не уберегла его от многих разочарований, может быть, от крушения амбициозных планов, которые не смогли реализоваться, возможно, от отказа реформировать общество, которое он не мог принять... И кто знает, не усилилась ли от всего этого его ненависть ко всему человеческому роду, за исключением жалких индейцев с Огненной Земли?..
Первое время — примерно в течение полутора лет — Кау-джер не покидал главного острова, на который высадился. И все это время росли доверие индейцев к нему и его влияние на туземные племена. К нему приезжали советоваться жители других островов: Осте, Наварило, Вулластон, заселенных индейцами, несколько отличающимися от народности якана; их прозвали каноэ, или индейцы на пирогах; подобно своим собратьям, они жили охотой и рыболовством. Эти индейцы приезжали к своему благодетелю, когда тот оказывался в каком-либо становище на побережье пролива Бигл. Кау-джер никому не отказывал ни в совете, ни в уходе. Часто, в особо серьезных случаях, когда какая-нибудь эпидемия поражала то или иное поселение, где туземцы жили рядом с миссионерами, он устремлялся на борьбу с этим бедствием, сохраняя крайнюю сдержанность во всем, что касалось его самого. Вскоре он стал известен по всей стране. Его слава перешагнула Магелланов пролив. И на том берегу узнали, что некий иностранец, поселившийся на Огненной Земле, получил от признательных рыбников прозвище Кау-джер. Его не раз просили приехать в Пунта-Аренас и наладить отношения с жителями этого чилийского поселения, но Кау-джер неизменно отвечал отказом, и ничто не могло заставить его изменить решение. Казалось, он не хотел ступать на землю, которую не считал свободной.
Именно тогда, через восемнадцать месяцев, произошел инцидент, последствия которого в какой-то мере изменили образ жизни чужеземца.
Кау-джер упорно не хотел появляться на полуострове Брансуик, который относился к Патагонии, зато патагонцы без стеснения вторгались на Огненную Землю — им не составляло никакого труда перебраться на лодках на противоположный берег Магелланова пролива. Там они устраивали временные стоянки и на лошадях совершали «большие рейды» — пробеги от одной оконечности Огненной Земли до другой.
Неутомимые всадники, патагонцы, преодолев обширную горную область на севере Огненной Земли, появлялись то у мыса Орендж, у начала второй горловины[216], то у мыса Эспириту-Санто, у самого входа в пролив. Продвигаясь от бухты к бухте вдоль побережья Атлантического океана, они требовали от огнеземельцев уплаты дани, а если встречали сопротивление, то нападали на них и забирали пищу, захватывали в плен детей и увозили в племена патагонцев, где держали в рабстве до совершеннолетия. Иногда они добирались до мыса Сан-Диего, до пролива Ле-Мер, последнего рубежа Огненной Земли. Кау-джер неоднократно видел их, когда они шли проливом Бигл, направляясь к полуострову, диковинным образом изборожденному отрогами горных массивов Дарвин и Сармьенто, но уклонялся от встреч, а если обнаруживал их следы вблизи стойбищ огнеземельцев, то предупреждал последних об опасности. До сих пор он никогда не вступал в контакт с этими жестокими грабителями, на которых не могли найти управу власти Чили и Аргентины.
Между патагонцами и огнеземельцами существуют довольно заметные этнические различия как в антропологическом, так и в бытовом отношении: патагонцы относятся к народу техуэльче[217], огнеземельцы — к якана. Возможно, прежде якана жили в Патагонии, расположенной между Чили, Аргентиной и Атлантикой. Но сильные всегда правы, и гонимые огнеземельцы были вынуждены оставить континент и искать спасения на островах.
Пора покончить с легендами, созданными Сармьенто, и разрушить сложившиеся представления относительно патагонцев и, в частности, их роста. В среднем они не выше 173 сантиметров, хорошо сложены, кожа у них смуглая, волосы черные, поддерживаемые на лбу повязкой, а сзади падающие на плечи; у них нет ни усов, ни бороды. У них широкие скулы, узкие и раскосые, напоминающие монгольские, глубоко посаженные глаза, приплюснутый нос.
На Американском континенте, по ту сторону Магелланова пролива, и то лишь на самом побережье и, возможно, в западной части Патагонии, сплошь занятой лесами и горами, еще, может быть, и встречаются рыбники. Вся же остальная территория с ее бескрайними равнинами и необозримыми прериями принадлежит патагонцам. Этим храбрым и неутомимым всадникам нужны огромные территории: пастбища для выпаса лошадей, охотничьи угодья, где водятся гуанако, вигони и страусы.
И еще об одном отличии между этими индейскими народами следует сказать.
Патагонцы объединены в компактные племена, подчиняющиеся власти вождя — касика, типа знаменитого Контре, о котором упоминает Дюмон-Дюрвиль. В отличие от них рыбники лишены социальной организации и живут семьями в общем поселении. И они вовсе не охотники, а рыболовы. Большую часть своей жизни они проводят не на спине лошади, а на воде, плавая в своих пирогах по бесчисленным извилистым проливам Магеллании.
Огнеземельцы немного уступают патагонцам в росте. У них большая квадратная голова, выдающиеся скулы, редкие брови. Углубление на черепе у них выражено сильнее. Их считают довольно примитивными существами, однако, если судить по количеству детей, вымирание им не грозит. То же самое можно сказать и о собаках, кишащих вокруг их стоянок.
В наши дни, как и во времена плавания «Астролябии» и «Зеле», рыбники страдают от соседства патагонцев, которые часто вторгаются на Огненную Землю.
Однажды, это было в ноябре 1874 года[218], судьба странника забросила Кау-джера на западное побережье Огненной Земли, примыкающее к Магелланову проливу, и он вынужден был вмешаться, чтобы остановить нападение на рыбников в Баия-Инутиль.
Этот залив, обрамленный с севера болотистыми берегами, глубоко вдается в сушу почти напротив того места, где Сармьенто основал свою колонию Порт Голода.
Группа индейцев техуэльче высадилась на южном берегу Баия-Инутиль и напала на стойбище якана, насчитывавшее не более двадцати семей. Нападавшие были хорошо вооружены и численно превосходили своих противников — их было около сотни, — а потому никаких шансов спастись у якана не оставалось.
Однако они попытались сопротивляться и действовали мужественно благодаря индейцу племени каноэ, который только что прибыл на своей пироге в стойбище. Его звали Карроли. Он был лоцманом и сопровождал каботажные суда, идущие проливом Б игл или через архипелаг мыса Горн.
Возвращаясь из Пунта-Аренаса, куда Карроли провел норвежское судно через пролив Дарвина, он, перед тем как войти в пролив Бигл, сделал остановку в Баия-Инутиль. Карроли организовал оборону и с помощью якана попытался отбросить нападавших. Но силы были слишком неравными. Рыбники не могли оказать серьезного сопротивления. Лагерь был взят, шалаши разбросаны, полилась кровь. Ничто не могло помешать грабежу и изгнанию семей внутрь острова.
Десятилетний сын Карроли — Альг — в пироге ждал отца, который никогда не расставался с мальчиком после смерти жены, жительницы Огненной Земли, умершей несколько лет назад.
Внезапно около лодки появились два патагонца. Ребенок не хотел оттолкнуть пирогу от берега, что спасло бы его, но лишило бы отца надежды на спасение.
Один из патагонцев прыгнул в лодку и схватил мальчика.
В это время Карроли увидел, что враг уносит сына, и бросился вдогонку. Около его уха просвистела стрела, выпущенная другим патагонцем, но не задевшая его... И в то же мгновение прогремел выстрел. Смертельно раненный похититель покатился по земле, а освобожденный ребенок бросился к отцу. Оставшийся в живых бросился в сторону стойбища...
Выстрел был произведен человеком, только что подоспевшим к месту сражения. Это был Кау-джер.
Нельзя было терять ни мгновения. Все трое быстро столкнули пирогу в воду и прыгнули в нее. Она находилась уже в кабельтове от берега, когда подбежавшие патагонцы выпустили тучу стрел, одна из которых попала в ребенка. Что касается стойбища, то оно было полностью разрушено, многие якана погибли в схватке, а остальные разбежались по округе. Таковы были обстоятельства, при которых близко сошлись Кау-джер и индеец-каноэ. Они уже знали друг друга, встречались, когда «благодетель» во время бесконечных поездок по Огненной Земле оказывался в береговых поселениях.
Полученная мальчиком рана внушала некоторые опасения, поэтому Кау-джер решил не оставлять мальчика, пока тот будет нуждаться в его помощи. Отец же, стоя на коленях, повторял:
— Вылечи его, вылечи...
— Вылечу, — отвечал Кау-джер, убедившийся, что рана не смертельна.
Подняв парус, пирога при благоприятном северном бризе вышла из Баия-Инутиль. Обогнув мыс Валентайн на оконечности острова Досон, лодка прошла по Магелланову проливу, затем по проливу Кларенс, обойдя остров того же названия, и, наконец, через пролив Кокберн вошла в пролив Бигл. Спустя двое суток она остановилась в хорошо защищенной бухточке Исла-Нуэвы, острова, расположенного у восточного входа в пролив Бигл.
Мальчик уже был вне опасности — рана затягивалась. Карроли не знал, как и благодарить Кау-джера, дважды спасшего жизнь сыну.
Привязав лодку, индеец отвел Кау-джера в сторону.
— Там мое жилище, — сказал он. — Хочешь его посмотреть?
— Да, Карроли.
— Если решишь побыть у нас несколько дней, будешь дорогим гостем. Затем на пироге я отвезу тебя на ту сторону пролива. Если же пожелаешь остаться навсегда, мой дом станет твоим домом и я стану твоим другом. Здесь ты будешь у себя...
— Что ж, пожалуй, — ответил Кау-джер, глубоко тронутый словами индейца.
Сыну Карроли исполнилось десять лет. Для своего возраста Альг был сильным и хорошо владел трудным ремеслом отца. Когда Карроли проводил по проливу корабли, сын обычно сопровождал его. Но, когда прошло несколько лет, ему часто случалось оставаться на Исла-Нуэве, и, как мы помним, его не было с отцом, когда Кау-джер и Карроли везли индейца, раненного ягуаром, в стойбище валла.
С тех пор Кау-джер не покидал больше Исла-Нуэву и не расставался с Карроли и его сыном. Их дом стал обителью Кау-джера, и жизнь для них изменилась к лучшему: жилище было немного переоборудовано и благоустроено благодаря деньгам Кау-джера. Но это новое существование не оторвало «благодетеля» от благотворительных дел. Число его визитов в туземные племена не уменьшилось, и, когда за Кау-джером присылали, Карроли чаще всего сопровождал его. Непрочную пирогу Карроли вскоре сменил на добротную шаланду «Вель-Кьеж», приобретенную после кораблекрушения одного норвежского судна в проливах возле острова Вулластон. Работать стало легче и безопаснее. Карроли, отличный моряк, получил тем самым судно, выдерживающее длительные переходы, и смог расширить свою лоцманскую практику на всю восточную часть Магелланова пролива.
Так прошло несколько лет, и трудно было предположить, что эта независимая жизнь, добровольно избранная Кау-джером, каким-либо образом может измениться. Но однажды неожиданное и невероятное событие нарушило ее размеренное течение.
V ИСЛА-НУЭВА
Остров Исла-Нуэва, имевший форму неправильного пятиугольника, невелик — всего два лье в длину и одно в ширину; он служил форпостом для тех, кто входил в пролив Бигл с востока. Здесь росли даже деревья: нотофагус, дримис Винтера, миртовые, попадались кипарисы средней величины. Равнины заросли колючим кустарником, остролистом, барбарисом, низкорослым папоротником. В защищенных от ветра местах проглядывала плодородная почва, пригодная для выращивания огородных культур. Там же, где слой гумуса был недостаточен, особенно у песчаного берега, природа выткала ковер из лишайников, мхов и плаунов.
И вот на таком острове, на внутреннем склоне высокой скалы, обрывавшейся к морю, индеец Карроли жил уже лет десять. Кроме него, других поселенцев не было, по крайней мере постоянных, потому что в теплое время года сюда наведывались огнеземельцы за тюленями и другими ластоногими, издавна облюбовавшими эти места. Охотники ставили шалаши в глубине бухточки, и Карроли их присутствие никогда не причиняло хлопот. С наступлением же первых холодов они исчезали, на Исла-Нуэву возвращалось обычное спокойствие.
Вот уже шесть лет, как на острове одним жителем стало больше: после встречи с Карроли бродячая жизнь Кау-джера закончилась. Жилище индейца племени каноэ стало его домом, где Кау-джер проводил все свое время, свободное от поездок по Магеллании.
Впрочем, Карроли, учитывая его профессию лоцмана, не смог бы выбрать лучшего поселения.
Все корабли, оставлявшие за кормой пролив Ле-Мер, проходили в виду Исла-Нуэвы. Те, кто хотел достигнуть Тихого океана, обогнув мыс Горн, не нуждались в лоцмане. Те же, кто прибыл в эти края торговать, а значит, должен был воспользоваться многочисленными проливами, чтобы дойти от Десита до Эрмите, от Фрейсине до Греви, от Хершела до Вулластона и даже до Осте и Наварино или пройти по всему проливу Бигл, не могли обойтись без лоцмана, а самым искусным, самым опытным, лучше всех знающим проливы и проходы этого лабиринта, был индеец Карроли с Исла-Нуэвы.
Однако в Магелланию приходило не так уж много судов, и лоцманское ремесло не могло прокормить индейца и его сына. Поэтому им приходилось заниматься охотой и рыбной ловлей. Шкуры жвачных животных, мех ластоногих, перья страуса они обменивали на самое необходимое: оснастку пироги, одежду и пищу. Если бы Карроли платили за работу пиастрами, он бы мог потратить их в Пунта-Аренасе, единственной в те времена чилийской колонии в Магеллании. Колонии Ушая[219] тогда еще не существовало. Лишь несколько лет спустя аргентинское правительство основало ее на побережье пролива Бигл.
Итак, Карроли добавил к профессии лоцмана ремесло охотника и рыбака. Последнее, впрочем, было широко распространено среди островитян и требовало постоянного передвижения по архипелагу.
Рыбная ловля всегда давала хороший приработок, но охота стала приносить желаемые результаты только после того, как у него поселился Кау-джер. Конечно, на Исла-Нуэве с ее ограниченными размерами не только было очень мало гуанако и вигоней, на которых охотились ради меха, но и пернатых, кроме нескольких нанду, ни на пляжах, ни внутри острова практически не водилось. Следовательно, обширных охотничьих угодий остров просто-напросто не мог предоставить, но по соседству, на более крупных островах — Наварино, Осте, Вулластон, Досон, не говоря уже об Огненной Земле с ее огромными равнинами и густыми лесами, водилось множество травоядных и хищных зверей.
За несколько часов на пироге Кау-джер и Карроли могли перебраться с одного острова на другой и пересечь пролив Бигл, высадившись на побережье Огненной Земли. Домой они возвращались с богатой добычей, привозя туши животных, сраженных пулями и стрелами. Позднее, когда они обзавелись шаландой, друзья добирались до островов Кларенс и Десоласьон, плавая по всей западной части Магелланова пролива. В Пунта-Аренас «Вель-Кьеж» заходил для продажи мехов, а также приобретения необходимых в хозяйстве вещей и пополнения запасов пороха и пуль. Заметим, что во время этих стоянок Кау-джер никогда не появлялся на палубе шаланды и никогда не высаживался на берег Брансуика. И разумеется, губернатор чилийской колонии, который был немало наслышан о «благодетеле» и о его растущей популярности среди племен Огненной Земли, ни разу не удостоился его визита.
И, когда его превосходительство все-таки пожелал познакомиться с Кау-джером и направил ему приглашение посетить Пунта-Аренас, Кау-джер не приехал, отказавшись от каких-либо связей с чилийской колонией. Тогда губернатор попытался получить более подробные сведения о «благодетеле» индейцев, но так ничего и не узнал о нем. Возможно, если бы Магеллания была владением Чили или Аргентины, власти потребовали бы от Кау-джера указать свою национальность и причины, побудившие его выбрать эти отдаленные края местом своего пребывания.
Климат Магеллании гораздо менее суров, чем об этом принято думать. Буйная растительность довольно хорошо свидетельствует о его мягкости. Лето жаркое, а зимы не такие холодные, как в других странах, расположенных на той же широте, например в Северной Америке — в Канаде и Британской Колумбии. Даже в самые сильные холода льды в этих краях не появлялись и не мешали плаваниям шаланды, по крайней мере, в проливе Бигл. Стало быть, поездки Кау-джера прерывались редко, и, если море не штормило, индейцы Огненной Земли могли рассчитывать на обычный визит.
Иногда, на время этих поездок, мальчишка оставался на Исла-Нуэве один. Впрочем, отсутствие взрослых было непродолжительным — не более недели; иногда лоцманские обязанности уводили Карроли с сыном далеко от пролива Бигл, и тогда на острове оставался только Кау-джер.
Исла-Нуэва, как и большинство островов, рожденных неистовым напором теллурической[220] революции, которая раздробила оконечность Американского континента, была сложена из песчаных пород, покоящихся на гранитном основании.
Жилище было построено у подножия одного из высоких холмов, защищавшего от ветров. Долгое время Карроли жил в пещере, образовавшейся в гранитном массиве, что в целом предпочтительнее, чем навес, вигвам или яканская хижина. Она располагалась в глубине маленькой бухточки, куда не докатывались морские волны и где стояла в безопасности пирога. Индейцу и его сыну пещеры было вполне достаточно. Но с прибытием Кау-джера налево от нее мало-помалу поднялся одноэтажный дом, на сруб которого пошли местные деревья, пригодились и обломки скал, а известь получали из мириад раковин теребридов[221], мактров[222] и тритоний[223].
Дом построили рабочие с Мальвинских островов, а все расходы оплатил Карроли из собственных сбережений. Каждую из трех комнат освещало окно с прочными ставнями. Посредине находился общий зал с огромным камином. Слева — комната Кау-джера, неприхотливо обставленная: кровать, стулья, столы и несколько полок. Справа — еще скромнее обставленная комната Карроли и Альга. Вдоль торцовой стены устроили уютную кухню с чугунной плитой и разнообразной утварью.
Навигационный инвентарь, снаряжение для рыбной ловли и охоты, запасы дров — выброшенные на берег стволы и деревья из местных лесов — хранились в пещере, как, впрочем, и приготовленные на обмен меха и шкуры.
Как-то раз, после длительного отсутствия, шаланда наконец появилась вблизи острова. Альг, за которым с радостным лаем бежал его верный пес Золь, бросился навстречу отцу и Кау-джеру. Прибывшие обняли юношу, затем, поставив «Вель-Кьеж» на якорь в глубине бухты, Карроли с сыном перенесли в пещеру меха, шкуру ягуара, такелаж.
Кау-джер направился к дому, вошел в свою комнату и открыл окна и ставни, впустив поток света и воздуха.
Благодаря заботам Альга в доме царили чистота и порядок. На этого понятливого и трудолюбивого мальчика можно было положиться и спокойно оставить дом. Впрочем, в холодное время года никто не высаживался на остров, а летом только огнеземельцы наведывались по какому-нибудь срочному делу.
Кау-джер, казалось, вернулся в свою комнату с определенным удовлетворением. Он нашел там свои бумаги, стоящие на полке книги, по большей части труды по медицине, политической экономии и социологии. В шкафу расположились различные склянки и хирургические инструменты. Туда же Кау-джер положил походную аптечку, которую вынул из охотничьей сумки, в угол поставил ружье. Сев наконец за стол, он достал записную книжку и занес в нее все события, которые произошли во время последнего плавания на Огненную Землю.
Переодевшись, Кау-джер вышел из дому. К этому времени Карроли и Альг уже закончили свою работу. Юноша тут же покинул взрослых, отправившись на кухню, где занялся разведением огня, ожидая дальнейших распоряжений отца.
Кау-джер и Карроли направились к небольшому, огороженному участку земли, расположенному у подножия холма. Деревянный забор защищал участок от вторжения многочисленных грызунов. Там, на площади двух-трех акров[224], виднелись грядки с плодородной землей, пригодной для выращивания овощей, капусты, картофеля, особенно много было сельдерея, который как противоцинготное средство очень ценится в высоких широтах, салата, а также азореллы[225], растения с желтыми цветками, похожего на азореллу камеденосную с Мальвинских островов. Корни азореллы заменяют туземцам хлеб, но они, хотя имеют довольно приятный сахаристый вкус, в сущности, малопитательны.
Лорантусы[226] — ярко цветущие деревья — украшали участок, клумбы пестрели голубоватыми и фиолетовыми солончаковыми астрами, желтоватым дороником, кальцеоляриями, стелющимся по земле ракитником. Благодаря усердию Альга на участке царил такой же порядок, как и в доме. Впрочем, отсутствие взрослых длилось не более двух недель. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, Кау-джер намеревался покидать остров только ради охоты и рыбной ловли.
Начинался май — месяц, соответствующий ноябрю в Северном полушарии. Приближалась зима с ее снегами и заморозками. Работы, впрочем, хватит, потому что приближалось время самого успешного лова, или, точнее сказать, охоты на морских волков.
Окончив осмотр огорода, Кау-джер и Карроли направились в пещеру, служившую теперь складом товаров. Здесь хранились шкуры пум, ягуаров, гуанако, вигоней и кожи нанду, а потому пол тут был посыпан слоем мелкого песка, а стены обиты сухими, не пропускающими сырость досками.
Эта пушнина, а особенно шкуры гуанако, обработанная по патагонскому методу, отличалась удивительной мягкостью и могла служить плащом — такие носят касики[227], когда облачаются в национальный костюм. Из этих шкур делали даже ковры, которые пользовались таким же спросом, как и ковры из кожи страуса, и высоко ценились заезжими купцами. Больше всего было тюленьих шкур. Охота на этих ластоногих, столь многочисленных в проливах архипелага, могла бы приносить Магеллании огромную прибыль, когда бы лежбища стали объектом необходимой регламентации. Но охота эта трудна и даже опасна, поскольку морские волки любят забираться на береговые обрывы и самые неприступные гребни, и, чтобы они не ушли, надо перекрыть им путь к морю. Поэтому зверобои должны быть сильными и ловкими, ибо риск упасть очень велик. Зато за свой труд они получают хорошую плату. Беда в том, что большинство охотников относятся к числу авантюристов худшего сорта, к людям без стыда и совести, для которых не существует норм поведения и которые стоят не больше, чем золотоискатели. И они долго еще будут наведываться в магелланийские края, ибо, хотя золотоносные месторождения региона исчерпаны, стада морских волков, все еще исчисляемые тысячами, будут поставлять ценный груз в трюмы судов.
Таково было поселение на Исла-Нуэве, после того как Кау-джер устроил там свою резиденцию рядом с Карроли и его сыном. Они не нуждались ни в чем. Гуанако обеспечивали всех троих сытным питанием. Их мясо, такое вкусное в жареном виде, не менее великолепно, если его завялить. Для этого его нарезают ломтями, отбивают меж двух камней, дают немного протухнуть, потом коптят и оставляют на несколько недель на открытом воздухе.
Бухты острова изобиловали рыбой — краснобородками[228], корюшкой[229], вьюнами; песчаные пляжи — съедобными моллюсками, в том числе мидиями, запасы которых неистощимы, а водоплавающая дичь заполняла все побережье.
Пресную воду брали из небольшой речки, которая текла с юго-западной стороны и была столь стремительна, что ни одна пирога не могла подняться против течения. Ее исток находился под высокими нотофагусами на склоне поднимавшегося на двести пятьдесят футов холма. В море она впадала слева от пещеры, а ее узкое глубокое устье, зажатое между двумя мысами, служило прекрасной гаванью для «Вель-Кьежа».
Приближался зимний сезон, и в домике на Исла-Нуэве возобновилась размеренная жизнь. Лишь несколько фолклендских каботажников завернули на остров, чтобы забрать очередную партию мехов, до того как снежные бури сделают плавание в этих краях невозможным. Шкуры были выгодно проданы или обменены на провизию и боеприпасы, необходимые в суровое время, с июня по сентябрь, хотя и тогда температура воздуха не опускается больше чем на десять градусов ниже нуля.
В последнюю неделю мая на острове остался Кау-джер с Альтом. Лоцманские услуги Карроли потребовались датской шхуне, которая, пытаясь избежать опасностей у мыса Горн, шла из Атлантического океана в Тихий по проливу Бигл. При благоприятном ветре «Вель-Кьежу» ничто не грозило.
Кау-джер очень привязался к юноше, которому уже исполнилось семнадцать лет. Альг отвечал ему искренней сыновней привязанностью. И кто знает, может быть, именно эти добрые чувства, которые испытывал Кау-джер к Карроли и его сыну, были теперь единственной связующей нитью с человечеством[230], после стольких разочарований, причину которых никто не знал.
Как бы то ни было, Кау-джер стал развивать умственные способности мальчишки, обучая его тому, что паренек мог понять. И, разумеется, отец и сын, вырванные, так сказать, из состояния дикости, многим отличались от других туземцев Магеллании, столь далекой от цивилизованного мира.
Само собой разумеется, Кау-джер воспитывал юношу в духе свободы и независимости, которые он сам ставил превыше всего. Карроли и его сын должны были видеть в нем равного себе, а не господина, ведь тот, кто достоин звания человека, не может иметь хозяина. Поэтому нас не должно удивлять, что Кау-джер, верный своим принципам, пытался искоренить в них чувство религиозности, присущее самым отсталым народам. Он не желал больше терпеть власть господина, как не принимал и существования Бога.
Как мы уже говорили, во время своих поездок миссионеры не раз встречались с Кау-джером, чьи неисчерпаемое милосердие и неустанная преданность несчастным рыбникам не могли не вызывать у них восхищения, и они даже пытались завязать с ним знакомство. Один из них пожелал поговорить с «благодетелем» и отправился на Исла-Нуэву. Но после встречи с человеком, столь непреклонным в своих убеждениях и отвергавшим любые дискуссии на социальные и религиозные темы, миссионеру ничего не оставалось, как убраться восвояси. Вспомним также эпизод с посещением отцами Атана-сом и Северином стойбища валла во время похорон индейца. На слова благодарности, адресованные Кау-джеру миссионерами, он ответил: «Я только выполнил свой долг», — и тут же уехал.
Наступил июнь — на Магелланию резко обрушилась зима. Морозы не были сильными, но вся область продувалась штормовыми шквалистыми ветрами. Исла-Нуэва, как и другие острова архипелага, исчезла под снегом. Жестокие бури сотрясали эти края, и в Пун-та-Аренас, затерянный в своем одиночестве на полуострове Брансуик, больше не заходило ни одно судно. В такое время корабли не осмеливались входить в пролив.
Так пролетели июнь, июль и август. К середине сентября заметно потеплело. Фолклендские каботажники вновь появились в проливах архипелага.
Девятнадцатого сентября у входа в пролив Бигл показался американский пароход. Он поднял на фок-мачте вымпел, запрашивая лоцмана. Оставив на острове Кау-джера и Альга, Карроли взялся провести корабль вдоль чилийского побережья к архипелагу Чонос.
Он отсутствовал с неделю, а когда вернулся обратно, Кау-джер стал, как обычно, расспрашивать друга, как прошло плавание, не было ли каких происшествий.
— Ничего не случилось, — ответил Карроли. — В проливе было тихо, ветер, северо-восточный бриз, благоприятствовал.
— Он держался все время?
— Да.
— Где ты сошел с парохода?
— В проливе Кокберн у крайнего мыса острова Кларенс. Там мы встретились со сторожевым судном, которое шло к Огненной Земле.
— А в открытом море?
— В открытом море было сильное волнение.
Кау-джера, по-видимому, интересовало только то, что могло произойти между Исла-Нуэвой и островом Кларенс. Но о событиях в Старом и Новом Свете, о которых Карроли мог узнать на борту американского судна, Кау-джер ничего не спросил. Все, что происходило вне Магеллании, его не касалось. Он был намеренно глух ко всему, что могло оживить в нем воспоминания о прошлом.
И все же Кау-джер задал Карроли еще несколько вопросов об американском судне.
— Откуда был пароход? — спросил он.
— Из Бостона.
— Куда направлялся?
— К островам Чонос.
На этом расспросы закончились.
Однако Карроли счел своим долгом вновь заговорить о сторожевом судне, которое повстречалось ему в проливе Кокберн. Он сообщил, что, покинув пароход, направил шаланду к проливу Бигл и непрерывно шел вдоль той части южного побережья Огненной Земли, над которой возвышалась гора Сармьенто. Там, в небольшой бухточке, он увидел сторожевое судно, с которого высаживался отряд солдат.
— Что за солдаты? — поинтересовался Кау-джер.
— Чилийцы и аргентинцы.
— Что их привело туда?
— Они сопровождают двух комиссаров, которые объезжают Огненную Землю и соседние острова и уже побывали на полуострове Брансуик.
— Откуда они?
— Из Пунта-Аренаса. Губернатор предоставил в их распоряжение сторожевик.
— Сколько времени они намерены оставаться там?
— Пока не закончат дела.
Получив эту информацию, Кау-джер задумался. Что означало появление комиссаров в этой части Магеллании? Что им здесь нужно? Может быть, это какая-нибудь географическая или гидрографическая экспедиция? Но что исследовать в этих краях после работ капитанов Кинга и Фицроя и тем более капитана Дюмон-Дюрвиля? Может быть, речь шла о более строгой проверке прежних съемок, которую эти комиссары осуществляют в интересах судоходства?..
Тень беспокойства легла на лицо Кау-джера. Не распространится ли съемка на весь архипелаг? Не доберется ли сторожевик до Исла-Нуэвы?..
По правде сказать, его несколько беспокоило, что экспедицию послали чилийское и аргентинское правительства, что достигнуто согласие между двумя республиками по поводу района, на который обе предъявляли права — впрочем, необоснованные.
После короткого разговора с Карроли Кау-джер уединился на вершине холма. Его взгляд охватывал все пространство и был обращен к югу — в направлении последних земель Американского континента близ мыса Горн. И, когда он преодолел их, воображение увлекло его; мысленно он пересек Полярный круг и затерялся в таинственных пустынях Антарктики, ускользающих пока от глаз самых отважных исследователей...
Между тем казалось, что Карроли что-то хочет сказать Кау-дже-ру, потому что, закончив разгрузку «Вель-Кьежа», он направился к холму. Впрочем, индеец вроде бы колебался, а Кау-джер, погруженный в раздумье, не заметил стоявшего внизу индейца. Когда через несколько минут Кау-джер спустился на пляж, он направился к дому, где, по обыкновению, собирался уединиться.
Карроли подошел к нему.
— Кау-джер... — сказал он.
Кау-джер остановился и вопросительно посмотрел на него.
— Мне надо еще кое-что сказать тебе, — промолвил индеец.
— Говори, Карроли.
— Когда я был в лагере комиссаров, один из них, чилиец, спросил меня: «Кто ты?» — «Лоцман», — ответил я. «Лоцман Карроли с Исла-Нуэвы?» — «Да». — «Ах, вот как! Там живет Кау-джер... этот благодетель, о котором идет столько разговоров?..» Я ничего не ответил. К нам подошел другой комиссар и добавил: «Ну что ж, может быть, мы встретимся с этим человеком, и, когда у него спросят, кто он такой, ему придется ответить!»
VI ПУНТА-АРЕНАС
Утром 17 декабря 1880 года сторожевой корабль «Грасьас-а-Дьос», несший на гафеле[231] чилийский флаг, маневрировал у западного побережья Магелланова пролива, чтобы, воспользовавшись началом прилива, войти в порт Пунга-Аренаса.
Сторожевик пришел из бухты Хенте-Гранде, расположенной напротив, на побережье Огненной Земли. Ему потребовалось лишь несколько часов, чтобы пересечь пролив, ширина которого в этом месте не превышала двенадцати лье.
Кораблем командовал лейтенант военно-морского флота. Под своим началом он имел около двадцати человек, включая механика и кочегаров. Кроме того, на борту находился десантный отряд в составе тридцати солдат аргентинской и чилийской милиции, а также два пассажира: комиссар чилийского правительства Идьятре и комиссар провинций Ла-Платы и Аргентинской Республики Эррера.
Оба комиссара получили от своих правительств задание провести демаркационную линию по территории Магеллании, на которую претендовали оба государства. Этот спор, длившийся уже немало лет, все еще не смогли разрешить ко всеобщему удовлетворению.
Надо сказать, что во время этой совместной экспедиции комиссары так и не смогли прийти к соглашению. Чем ближе сторожевик подходил к Пунта-Аренасу, тем более суровыми становились их взгляды и все менее желанными встречи на полуюте[232]. Нетерпеливый Идьятре нервно прохаживался по палубе слева, в то время как возбужденный Эррера вышагивал взад-вперед у противоположного борта. Лейтенант, ходивший туда-сюда по капитанскому мостику, видимо, уже привык к поведению этих господ и не обращал на них внимания. Он руководил маневрами сторожевика, чтобы отдать якорь, как только позволит прилив.
Около четверти одиннадцатого якорь «Грасьас-а-Дьоса» пошел на дно возле самого берега, перед первыми домами Пунга-Аренаса. Правда, грунт здесь держал не лучшим образом, да и защиты от волн не было. В этом отношении Порт Голода, расположенный южнее, на том же берегу пролива, был гораздо предпочтительнее. Суда там были лучше защищены от северных и восточных ветров, да и места для маневрирования хватало. Кроме того, в источниках вдоль реки Женн много превосходной воды, а разгружаться судам очень легко.
Все это побудило в свое время чилийское правительство восстановить пришедшую в упадок колонию, прежний Сьюдад-Реаль-дель-Фелипе, которая стала местом ссылки, и Порт Голода вновь обрел вид поселения. Но так продолжалось недолго. В 1850 году в Вальпараисо вспыхнула революция; одни колонисты высказались за старую власть, другие — за новую, которая поддерживала двух соискателей на пост президента Чили, и в конце концов губернатор Порта Голода был убит. Правительству все-таки удалось подавить бунт в чилийской колонии, но с этого момента начался ее упадок, и больше восстанавливать ее не стали, а выбрали другое место, как раз там, где ныне находится Пунта-Аренас.
Чилийское правительство добивалось главным образом того, чтобы над западным побережьем Магелланова пролива реял флаг его страны, и новый порт (который решено было сделать беспошлинным) стал единственным связующим звеном между двумя океанами. Порт имел большое значение еще и потому, что на смену парусным судам приходили паровые, и навигация стала практически безопасной, несмотря на господство западных ветров. Наконец, окончательное обоснование колонии прекращало всякие претензии Аргентинской Республики, по меньшей мере на полуостров Брансуик, естественное продолжение патагонской территории.
Когда с постановкой на якорь было закончено, оба комиссара, не обменявшись ни единым словом, спустились в шлюпку. Они высадились на узкой земляной насыпи, служившей причалом. Затем господа Эррера и Идьятре, держась на расстоянии друг от друга, поднялись по дороге, поддерживаемой в образцовом состоянии и ведущей к поселку с невысокой церковной колокольней, выступавшей из-за деревьев.
Поселок, а в будущем город, начинался с простой деревушки. Ее главную улицу обрамляли примыкавшие один к другому дома с верандами по всему фасаду. На улице было только два общественных здания: церковь, увенчанная шпилем, который пробивал зелень и рисовался на фоне гор, и губернаторский дворец, представлявший из себя довольно уютную резиденцию. Пройдет еще несколько лет — и счастливый соперник Порта Голода обогатится новыми строениями, его население вырастет, а торговля благодаря связям с Америкой и Европой значительно расширится.
Великолепные естественные пастбища для скота, экспорт которого приносил немалые прибыли, окружали со всех сторон Пунта-Аренас. Все это сулило немалые выгоды. Чилийское правительство рассчитывало на то, что, предоставив Пунта-Аренасу статус свободного порта, сможет предложить купцам лучшие и более дешевые товары, чем Буэнос-Айрес, а значит, торговые суда предпочтут разгружаться и загружаться здесь, а не в портах Аргентинской Республики. Не говоря уже о других льготах Пунта-Аренаса, эти купцы экономили на подвозе товаров и таможенной пошлине, тогда как морской переход не превышал полутора тысяч миль.
Не вызывало никаких сомнений, что жителей Пунта-Аренаса ждало благоденствие. Хотя уже и сейчас жизнь людей изменилась к лучшему. И все это благодаря многочисленным отделениям, основанным английскими и чилийскими торговыми домами, и регулярным морским связям с Фолклендскими островами, соседям Магеллании. Здесь была построена каторжная тюрьма, приносившая государству немалые доходы.
Чилийское и аргентинское правительства отстаивали свои права на территории Патагонии и Магеллании, остававшиеся, как известно, не поделенными между этими государствами. Этот вопрос никак не могли урегулировать, он порождал бесконечные споры. Ввиду этого Огненную Землю и прилегающие к ней архипелаги с полным правом можно было считать независимыми.
Но такое положение, если оно продолжится, грозило вызвать какой-нибудь серьезный конфликт, так как затрагивались политические и торговые интересы разных стран, а потому требовалось решение, которое смогло бы удовлетворить обе стороны. Надо отметить, что существование колонии Пунта-Аренас создавало впечатление преимущественного права Чили на земли Магеллании.
И вот для окончательного урегулирования территориального спора обе республики назначили комиссаров. Медлить было нельзя, поскольку в эти края устремились переселенцы, привлеченные природными богатствами. И потом, ненасытная Англия была недалеко. Со своего Фолклендского архипелага она могла протянуть руки к Магеллании и быстро пересечь морской пролив, отделяющий ее владения от Американского континента. Английские каботажные суда то и дело появлялись в пределах Магелланийского ахипелага, а миссионеры не переставали усиливать свое влияние среди туземцев Огненной Земли.
Именно эти обстоятельства вынудили господ Эрреру и Идьятре отправиться в плавание на сторожевом корабле «Грасьас-а-Дьос», предоставленном чилийским правительством. Два месяца тому назад сторожевик вышел из Пунта-Аренаса, и комиссары добросовестно обследовали все большие и малые острова от мыса Пилар на острове Десоласьон у западного входа в Магелланов пролив до мыса Ванкувер на оконечности острова Эстадос за проливом Ле-Мер, включая последний островок, на котором между Тихим и Атлантическим океанами возвышался мыс Горн. Сторожевым кораблем командовал офицер, прекрасно знавший все проходы и проливы. Сначала комиссары исследовали Патагонию и Огненную Землю, чтобы наметить на этих территориях демаркационную линию. Затем они посетили остальные крупные острова: Кларенс, Десолась-он, Досон, потом острова средней величины: Стюарт, Лондондерри, Наварило, Осте, Гордон, Вулластон — и, наконец, самые маленькие: Гилберт, Эрмите, Греви, Фрейсине, Десит, Горн, не забыв и Исла-Нуэву. Однако в то время, когда они высадились на Исла-Нуэве, Кау-джер, Карроли и Альг отсутствовали, так что ни Эррера, ни Идьятре не смогли познакомиться с таинственным обитателем острова.
К моменту возвращения сторожевика в Пунта-Аренас комиссарам так и не удалось договориться о демаркации границы ни в Патагонии, ни в Магеллании. Они в целом хорошо защищали позиции ожесточившихся одна против другой республик, очень ревнивых к своим правам. В ходе экспедиции то и дело разгорались ожесточенные споры, разыгрывались достойные сожаления сцены. Много раз командир судна своим авторитетом предотвращал рукоприкладство; но на суше не закончится ли конфликт дуэлью этих пылких борцов за интересы своих стран?.. И не приведет ли это к тому, что обе страны — Чили и Аргентина — встанут горой за своих комиссаров, и не вспыхнет ли война из-за Магеллании? Ну, а если в спор между Сантьяго и Буэнос-Айресом по поводу границ вмешается бог войны, то вряд ли в стороне останутся и Европа и Америка.
К счастью, губернатор Пунта-Аренаса господин Агире был человеком здравомыслящим и во всех ситуациях действовал разумно и хладнокровно. Он прекрасно знал эти края, ему была известна суть вопроса и, не прибегая к услугам комиссаров, губернатор напрямую поддерживал связь с президентами Чили и Аргентины.
Узнав, что переговоры не привели ни к каким положительным результатам, и желая утихомирить страсти, он пригласил комиссаров к себе в резиденцию на следующий день после их прибытия. Комиссары приняли приглашение господина Агире.
Губернатор с трудом сдерживал улыбку при виде разъяренных противников, бросающих друг на друга испепеляющие взгляды и готовых пустить в ход кулаки. Уместно напомнить, что оба были испанцами по происхождению и в их жилах текла кровь донов Диего и донов Гомесов.
— Господа, — обратился к ним господин Агире, — я получил от чилийского и аргентинского правительств приказ как можно скорее завершить дело, касающееся демаркации границ. Будьте добры сообщить мне результаты вашей миссии. Мне известно, что вы работали с усердием, и я не сомневаюсь, что мы достигнем...
— С господином Эррерой нет никакой возможности договориться, — прервал губернатора Идьятре.
— Что касается меня, то я отказываюсь иметь дело с господином Идьятре, — отпарировал Эррера.
— Вы позволите мне закончить, господа? — примирительным тоном продолжал губернатор. — Зачем возобновлять дискуссии, которые ни к чему не приводят? И не стоит переходить на личности, когда рассматриваются вопросы государственной важности. Прискорбно, что вы так ненавидите друг друга, но личные пристрастия только тормозят решение проблемы, в срочном урегулировании которой заинтересованы и Чили, и Аргентина.
Комиссары промолчали, а господин Агире продолжал:
— Итак, господа, забудьте на время о личной неприязни, и давайте рассмотрим вопрос, не теряя самообладания. Изложите свои аргументы. На мой взгляд, нам следует обсудить два вопроса: один — о Патагонии, другой — о Магеллании.
— Вопрос о Патагонии! — воскликнул Идьятре. — Для меня, как представителя интересов Чили, такого вопроса не существует. Разве жизнь не решила наш вопрос?
— Конечно, решила, — не пожелал остаться в долгу Эррера. — Но только в пользу Аргентины!
— Господа... — Слово снова взял губернатор, видя, что инициатива ускользает из его рук.
— Но, — резко прервал его Эррера, — посмотрите на карту, и вам сразу же станет ясно, что Патагония — это Аргентина: тот же климат, та же почва и у нее нет никаких других географических границ, кроме границ Американского континента! Чили же — простая прибрежная полоска земли, и от патагонской территории ее отделяют Анды. С географической точки зрения Чили не имеет никакого права переступать через эту горную цепь.
— Вот как! — воскликнул Идьятре. — Вы, сударь, выдвигаете необоснованные требования, противоречащие как здравому смыслу, так и праву! И совершенно недопустимо, чтобы в решении вопроса принимал участие губернатор Пунта-Аренаса, чилиец по национальности!
— Забудем, господа, что я чилиец. — Господин Агире повысил голос. — В споре между двумя вашими странами я, как мне и приказано, занимаю нейтральную позицию. Я знаю, что правительство Буэнос-Айреса всегда рассматривало Патагонию как принадлежащую исключительно Аргентине. Замечу, однако, что Чили владеет на территории Патагонии колонией Пунта-Аренас, и этот факт опровергает подобные притязания. Поэтому, оставляя в стороне доводы, которые оба государства с равным основанием могли бы привести в свою пользу, я считаю, что на патагонской территории необходимо установить демаркационную линию, которая сохранила бы за каждой стороной то, на что она вправе претендовать.
— Никакие уступки в отношении Патагонии недопустимы, — заявил Идьятре.
— Никакие, — подтвердил Эррера.
Оба говорили тоном, не терпящим возражений.
— Однако необходимо, чтобы этот вопрос был решен без промедления, — сказал губернатор. — И он будет решен без вас, если вы будете упорствовать и не пойдете на компромисс.
На столь недвусмысленное заявление господина Агире комиссарам нечего было сказать. Раз они не смогли договориться, то для чего же их посылали в двухмесячную миссию на спорные территории?..
Губернатор продолжал:
— Повторяю, необходимо как можно скорее прийти к соглашению как по первому, так и по второму вопросу, касающемуся раздела Магеллании. Да, влияние наших государств всегда ощущалось на территории Патагонии. Но на Огненной Земле и прилегающих к ней архипелагах индейцы всегда пользовались полной свободой. Можно сказать, что Огненной Землей пока еще не владеет ни Чили, ни Аргентина. Англия, несомненно, жаждет присоединить к себе эту область, соседкой которой она стала с того момента, как Фолкленды стали частью ее колониальной империи. Ее корабли появляются у островов Магеллании, ее купцы наладили торговые связи с рыбниками, ее миссионеры с завидным упорством обхаживают туземное население. Скоро появятся английские фактории на берегах как Магелланова пролива, так и пролива Бигл. Если все останется как прежде, если наши республики не закрепят свои права на эти территории, если земли не будут поделены между нами, а значит, никому не будут принадлежать, хозяева найдутся. И первым, кто приберет их к рукам, будет Соединенное Королевство. Давайте же сообща помешаем Великобритании утвердиться в Южной Америке. Достаточно и того, что у нее уже есть колонии на Антильских островах и доминион в Северной Америке!
Эти мудрые слова полностью соответствовали принципам доктрины Монро[233]. Опасности можно избежать, только провозгласив право собственности на эти южноамериканские земли, только справедливо разделив Патагонию и Магелланию между двумя сопредельными государствами. Но, чтобы добиться такого результата, обе стороны должны прийти к согласию. Но на это надеяться не приходилось.
— Господин губернатор, — перехватил инициативу Эррера, кусая при этом губы. — У вашего превосходительства есть очень простой способ решить данную проблему — простой, естественный и логичный. Но господин Идьятре даже слышать о нем не хочет.
— Что же это за способ? — поинтересовался господин Агире.
— Я предлагаю отдать все территории Патагонии Аргентинской Республике, а все земли Магеллании — Республике Чили.
— Вы только послушайте! — вскричал Идьятре, и его глаза сверкнули гневом. — Пятьсот двадцать тысяч квадратных километров Аргентине и гораздо меньше Чили!
— Оба владения равноценны.
— Неужели?! — едко возразил Идьятре. — Ваш учитель арифметики просто крал ваши деньги.
— Я не потерплю, — прошипел Эррера, — чтобы кто-то учил меня считать.
— Господа! — Губернатор был вынужден встать между комиссарами, дабы избежать драки.
— К тому же, — не унимался Идьятре, — есть обстоятельство, делающее неприемлемым ваше предложение.
— Нет! Такого обстоятельства не существует! — Голос у Эрреры дрожал.
— Еще как существует, сударь! — заявил Идьятре. — Если Патагонию отдать Аргентине, то ей будет принадлежать и полуостров Брансуик. А это значит, что Чили потеряет Пунта-Аренас, быстро-развивающуюся колонию, эту чилийскую, архичилийскую колонию, которая насчитывает уж две тысячи жителей и перед которой открывается великолепное будущее.
— Берите себе ваш полуостров, а если потребуется, то его несложно превратить и в остров, перерезав перешеек, — сказал Эррера, которого не сбил с толку этот в общем-то справедливый довод и у которого на все был готов ответ.
— Господа, господа! — умиротворяюще произнес губернатор. — Прошу вас успокоиться. Оставим все так, как создано природой! С нас достаточно суэцкой и панамской афер![234] К тому же, на мой взгляд, предложение господина Эрреры неприемлемо, даже если полуостров Брансуик отойдет к Чили. Логично и справедливо, чтобы и Чили и Аргентина владели равными долями Патагонии и Магеллании. Это удовлетворит интересы всех.
Вне всякого сомнения, устами его превосходительства говорила сама мудрость. Любое другое решение было бы противоестественно и чревато дальнейшими конфликтами. К достижению такого результата и следовало прилагать усилия.
Но тщетно господин Агире пытался примирить противников, упорно стоявших на своем. Ни тот, ни другой не желали умерить свои притязания. По окончании встречи они, казалось, еще больше возненавидели друг друга, и можно было ожидать, что ссора закончится взрывом.
Очевидно было одно: поскольку оба государства претендовали на независимые территории — Патагонию, с одной стороны, Магелла-нию — с другой, — их интересы должны были учитываться в равной степени. Разумеется, речь шла не о том, чтобы спрашивать у теуэльетов и рыбников, хотят они быть чилийцами или аргентинцами. (Не проводить же, в самом деле, референдум!) Вопрос должен быть решен между двумя республиками. Сможет ли Аргентина перешагнуть через реку Негро, левый берег которой уже принадлежал ей? Удастся ли Чили перебраться через Анды, западный склон которых уже чилийский? Где, наконец, пройдет линия, разграничивающая территории?
К сожалению, господа Эррера и Идьятре не могли урегулировать этот вопрос. Доклады, которые они направят своим правительствам, естественно, не помогут принять правильное решение, и нет сомнения, что государственные мужи двух республик постараются получить сведения от более надежных и более уравновешенных людей.
Господин Агире, кстати, ничего не смог узнать от комиссаров о Кау-джере, оказывавшем влияние на огнеземельцев, якана и другие племена. Им не удалось повидать его ни на Огненной Земле, ни на каком-либо другом острове Магелланийского архипелага. Но, так как Исла-Нуэва, где живет этот человек, несомненно, отойдет к Чили, губернатор намеревался непременно установить личность таинственного «благодетеля».
Короче, из новостей, полученных господином Агире от комиссаров, которых он расспрашивал по отдельности, нельзя было заключить, каким образом добиться всеобщего согласия, как при сложившихся обстоятельствах заложить основы договора, по которому предстояло высказаться парламентам двух государств. Отношения же между господами Эррерой и Идьятре продолжали обостряться. Губернатор пытался склонить их к уступкам — тщетно, это только распаляло их взаимную ненависть. Кончилось же все дуэлью, в которой Идьятре получил пулю в правый бок, а Эррера — в левое плечо. К счастью, извлечь пули оказалось делом куда более легким, чем примирить неуступчивых противников.
После столь неудачных переговоров решением вопроса занялись в Сантьяго и Буэнос-Айресе. Тем временем Соединенное Королевство предприняло несколько угрожающих демаршей: флаг Великобритании все чаще появлялся в проливах Магеллании. И не было никаких гарантий, что однажды его не водрузят на каком-либо острове, а заставить англичан спустить свой флаг — дело не из легких.
Наконец 17 января 1881 года в Буэнос-Айресе чилийский и аргентинский комиссары подписали договор. Конечно, это были не Эррера и не Идьятре, иначе бы воз и поныне был там.
Следует напомнить, что на патагонской территории уже существовала демаркационная линия между Чили и Аргентиной. Она проходила по Андам, разграничивая западный и восточный склоны[235], и прерывалась на пятьдесят втором градусе южной широты.
Итак, вот какое окончательное решение приняли оба правительства.
Начиная с пятьдесят второго градуса разграничительная линия шла в восточном направлении вдоль соответствующей этому градусу параллели до пересечения с семидесятым меридианом (72°20' 21" к западу от Парижского меридиана). От этой точки естественной границей служили вершины холмов Патагонии, идущие параллельно Магелланову проливу до мыса Данджнесс и мыса Вирхенес[236].
Так была поделена Патагония. С Магелланией дело обстояло несколько иначе.
На территории Огненной Земли граница шла по долготе мыса Эспириту-Санто и далее к югу вдоль шестьдесят восьмого меридиана[237] (70°34'21" к западу от Парижского меридиана) до пролива Бигл.
Таким образом, все территории, расположенные к западу, отходили к Чили, все, расположенные к востоку, — к Аргентине.
Что касалось архипелага, находившегося к югу от пролива Бигл, на самом южном островке которого находился мыс Горн, то он полностью становился чилийским, за исключением острова Эстадос, отделенного проливом Ле-Мер от восточной оконечности Огненной Земли, отошедшей к Аргентине.
Статус Магелланова пролива не вызвал никаких споров — пролив оставался нейтральным и открытым для кораблей Старого и Нового Света.
Таков был договор, одобренный и утвержденный обоими парламентами и подписанный президентами обеих южноамериканских республик.
Но если он покончил с ничейностью территории, если он зафиксировал права обоих государств, то Патагония, с одной стороны, и Магеллания — с другой, потеряли свою независимость. Исла-Нуэва теперь принадлежала Чили. Что станет с Кау-джером? Ведь теперь его нога не будет ступать по свободной земле.
VII МЫС ГОРН
О заключении договора на Исла-Нуэве стало известно только 29 января.
За две недели до этого русский корабль, следовавший в Пунта-Аренас, появился на открытом рейде у пролива Бигл и запросил лоцмана. Судя по тому, что судно шло таким курсом в чилийскую колонию, сильный встречный ветер обрушился на него у входа в Магелланов пролив между мысом Вирхенес и мысом Эспириту-Санто. Отгоняемый течением, корабль спустился до пролива Ле-Мер, пройдя который оказался под прикрытием Огненной Земли. Карроли сел на корабль у Исла-Нуэвы, удачно провел его и вернулся обратно. Он-то и привез известие о том, что после раздела все острова к югу от пролива Бигл находятся в юрисдикции чилийского правительства.
Услышав столь неожиданную новость, Кау-джер не смог сдержать негодования. В его глазах закипела ненависть, а рука в угрожающем жесте протянулась к северу. Он не проронил ни слова, но, будучи не в силах совладать с волнением, сделал несколько неуверенных шагов. Казалось, он потерял точку опоры и почва уходит у него из-под ног.
Карроли с сыном даже не пытались вмешаться.
Наконец Кау-джеру удалось собраться. Его лицо, только что сведенное судорогой, вновь обрело спокойное и холодное выражение. Подойдя к Карроли и скрестив на груди руки, он спросил твердым голосом:
— Ты не ошибся?
— Нет, — ответил индеец. — Я узнал эту новость в Пунта-Арена-се от моряков только что прибывшего китобойного судна... У входа в Магелланов пролив на Огненной Земле подняты два флага: один — чилийский — на мысе Орендж, другой — аргентинский — на мысе Эспириту-Санто.
— И все острова к югу от пролива Бигл принадлежат Чили? — задал еще один вопрос Кау-джер.
— Все.
— Даже Исла-Нуэва?
— И Исла-Нуэва.
— Это должно было случиться, — тихо проговорил Кау-джер, но голос выдал его негодование.
Затем он вернулся в дом и заперся в своей комнате.
Теперь, и более решительно, чем когда-либо, следует заняться вопросами: «Кто же этот человек?.. К какой национальности себя причисляет?.. Какие причины, без сомнения очень серьезные, вынудили его покинуть один из обитаемых континентов и похоронить себя в чуждой Магеллании?.. Почему человечество свелось для него к нескольким племенам огнеземельцев, к этим несчастным рыбникам, которым он отдавал всего себя?..»
И почему, когда Магеллания лишилась независимости и стала составной частью Чилийской Республики, этот чисто географический факт так сильно взволновал Кау-джера?.. Почему теперь земля Исла-Нуэвы горела у него под ногами?..
«Это должно было случиться!» — вот последние слова, которые от него услышали.
Можно утверждать, что после 17 января 1881 года, вследствие подписания договора, положение Кау-джера должно было измениться, и, может быть, серьезно. Об этом красноречиво свидетельствовала его реакция на известие, привезенное Карроли. Не исключено, что из-за вполне оправданных опасений он покинет Исла-Нуэву, и даже Магелланию вообще, поскольку здесь уже не будет для него безопасного убежища, где можно закончить свои дни, ни с кем не объясняясь, не раскрывая своего инкогнито.
Ответ на некоторые вопросы даст дальнейшее повествование. Однако любопытство, которое вызывает у читателя modus vivendi[238] человека, пожелавшего жить вне общества и нашедшего пристанище на самом краю обитаемого мира, будет удовлетворено лишь наполовину. Придется отказаться от попыток узнать его имя, личность, происхождение, потому что грядущие события не позволят их раскрыть. Но что касается владевших им идей, то занавес, их прикрывающий, можно приподнять.
Кау-джер принадлежал к той категории непримиримых анархистов, которые доводят свои доктрины до крайностей. Человек большого достоинства, глубоко изучивший как общественные, так и естественные науки, мужественный и деятельный, полный решимости претворить в жизнь свои подрывные теории, он был не первым ученым, который сверзился в бездны социализма, и каждый вспомнит имя какого-нибудь из этих опасных реформаторов.
Совершенно справедливо социализм был определен как «доктрина людей, претендующих ни больше ни меньше как на изменение существующего состояния общества и на его основательное переустройство в соответствии с проектом, новизна которого не исключает и не извиняет насилия».
Такую цель ставил перед собой и Кау-джер. Он хотел достичь ее любыми средствами, даже если для торжества своих идей ему пришлось бы лишиться состояния и пожертвовать жизнью.
Теории социалистов, оставивших неизгладимый след в истории своего времени, хорошо известны.
Сен-Симон[239] требовал отмены привилегий родовой знати, ликвидации института наследования, хотел, чтобы каждый получал вознаграждение в соответствии с результатами своего труда.
Фурье[240] ратовал за создание объединений, «фаланг», в которых все способности использовались бы для достижения общественного блага.
Прудон[241], следуя своему знаменитому принципу отрицания частной собственности, призывал к созданию основанного на взаимопомощи общественного порядка, при котором каждый человек, принявший принципы крайнего индивидуализма, был бы постоянно ограничен только собственной выгодой.
Другие идеологи, более современные, всего лишь поддержали эти идеи коллективизма, подкрепляя их обобществлением средств производства, уничтожением частного капитала, отменой конкуренции, заменой индивидуальной собственности на общественную. И никто из них не хотел считаться с реальной жизнью; их доктрина требовала немедленного и прямолинейного применения; они требовали массовой экспроприации; навязывали всеобъемлющий коммунизм. И этим знаменем Лассалей[242] и Марксов размахивали не только немецкие руки. Таков был Гед[243], вождь анархического коммунизма, призывавший к массовым экспроприациям. И эти опасные мечтатели усердствовали перед замороченными народами во имя конечной формулы: экспроприация буржуев-капиталистов.
Может быть, они разыгрывали непонимание, называя кражей то, что по справедливости должно именоваться накоплением, являющимся основой существования любого общества?..
Следует признать, что некоторые из этих утопистов, из тех, что не старались удовлетворять собственное политическое честолюбие, искренне верили в свои идеи. Они распространяли их пером и словом, никогда не меняли книгу на бомбу, никогда не занимались пропагандой действием. Анархистами они были только в теории, на практике же — никогда.
Именно к таким социалистам принадлежал Кау-джер. Он никогда не скомпрометировал себя анархистским насилием, отметившим конец XIX века. Человек этот был наделен душой непримиримой, необузданной, не переносящей какой-либо власти над собой, не способной повиноваться, не подчиняющейся всем тем законам, которые при несомненном несовершенстве отдельных из них все же необходимы людям, призванным жить сообща.
Вот этой-то необходимости никогда и не хотели признавать анархисты, потому что стремились к уничтожению всяких законов, превозносили теории абсолютного индивидуализма, боролись за ликвидацию общественных связей.
Таких же принципов придерживался и Кау-джер, приехавший неизвестно откуда и ставший добровольным изгнанником. Чувство сострадания и милосердия руководило им, когда он помогал индейцам. В ответ он получил их благодарность и уважение. В его лице как бы объединились святой Венсан де Поль[244] Лассаль, потому что Кау-джер был сама доброта, блуждающая в системах самого продвинутого коллективизма, но он также относился к таким людям, которые, казалось, оправдывали все средства для улучшения общественного порядка.
И точно так же, как он отвергал любую власть людей, Кау-джер отвергал власть Бога. Он был как анархистом, так и атеистом, что, бесспорно, логично. Как мы видели, он прикрывался той формулой, которую бросил с высоты огнеземельской скалы, откуда, казалось, обнимал небо и землю: «Ни Бога, ни властелина!»
В связи с такой неизменной убежденностью можно ли было думать, надеяться, что придет день, когда в душе этого человека произойдет переворот и он признает ложность и в то же время опасность доктрин, абсолютно противоречащих необходимости такого порядка, когда общество зиждется на социальном неравенстве, когда в обществе действует закон естественного отбора, от которого человечество не властно избавиться? А если в этом мире нет абсолютных равенства и справедливости, то существуют ли они в мире ином?
Возможно, решение покинуть родину возникло у него в результате глубокого разочарования. Видя, как социалистическая партия распадается, а бывшие соратники становятся непримиримыми врагами, ему ничего не оставалось делать, как бежать. Может быть, он счел невозможным добиться торжества идей, ставших делом его жизни? Может быть, разуверился в достижении цели, к которой так неуклонно стремился?
Не потому ли, испытав отвращение к обществу себе подобных, ужаснувшись их образу жизни, не изгнанный из Франции, Англии, Германии или Соединенных Штатов, отвергший их так называемую цивилизацию, он поспешил сбросить с плеч груз любой власти и ринулся на поиски земли, где мог почувствовать себя свободным. То, что он не мог найти ни в Европе, ни в Азии, ни, может быть, в Африке или на островах Океании, предложила ему Магеллания, страна у крайних пределов Южной Америки, населенная рассеянными, не связанными между собой племенами.
Он продал свое скромное состояние, тайком покинул Ирландию, место своего последнего пристанища, сел на корабль, идущий к Фолклендским островам, и стал ждать случая, чтобы добраться до какого-нибудь острова Магеллании. Судьба привела его на южный берег Огненной Земли, к индейцам-якана, где он стал охотником и рыболовом. Движимый чувством сострадания и милосердия, он посвятил им всего себя и в ответ получил горячую благодарность.
И вот уже шесть лет, как Кау-джер жил вместе с лоцманом Кар-роли и Альтом. Он мечтал только о том, чтобы ничто не нарушило его уединения в доме друзей, над дверью которого он мог бы написать: «Sollicitae jucunda oblivia vitae»[245].
И вот в 1881 году Чили и Аргентина подписали договор, в результате которого произошел раздел территорий Патагонии и Магелла-нии. По этому договору вся часть Магеллании к югу от пролива Бигл отошла к Чили и весь архипелаг попал под власть губернатора Пун-та-Аренаса, в том числе Исла-Нуэва, где нашел убежище Кау-джер.
Сидя в своей комнате перед небольшим столом, подперев голову рукой, он никак не мог прийти в себя после удара, нанесенного неумолимой судьбой. Так молния поражает до самых корней цветущее дерево!
Наконец он встал, подошел к окну и распахнул его. У подножия холма стояли Карроли и его сын, готовые выполнить любую просьбу или приказание своего друга. Но Кау-джер не позвал их.
Он думал о будущем, которое теперь не сулило спокойной жизни. Он знал, что власти и раньше проявляли интерес к нему, к его отношениям с туземцами, ко всему, что касалось его личности. А уж теперь-то чилийский губернатор не оставит его в покое, примется выспрашивать, кто он такой, откуда прибыл, вынудит Кау-джера раскрыть свое инкогнито, которое тот ставил превыше всего...
Так прошло несколько дней. Кау-джер больше не заговаривал о происшедшем, но он был мрачнее тучи. О чем он думал? О том, чтобы покинуть остров, расстаться с верным другом-индейцем, с юношей, к которому привязался всем сердцем? Но куда идти? Где найти утраченную свободу, без которой не представлял себе жизни? И, даже когда он убежит на последние магелланийские скалы, на сам мыс Горн, ускользнет ли он от чилийских властей?.. Неужели ему придется бежать все дальше и дальше, вплоть до необитаемых антарктических земель?..
Было только начало февраля. Еще пару месяцев продлится теплое время года. Обычно Кау-джер использовал его для того, чтобы побывать в индейских стойбищах, пока зима не сделает непроходимыми пролив Бигл и другие проходы архипелага. Однако на этот раз он, по-видимому, не собирался пускаться в плавание на «Вель-Кьеже». Неоснащенная шаланда была брошена в глубине бухты. В виду острова не показывались корабли, а значит, в лоцманских услугах Карроли никто не нуждался. Да и случись выйти в море, он сделал бы это с неспокойной душой.
Карроли чувствовал, что происходило в душе Кау-джера, как тяжело у него на сердце. И скорее всего он не решился бы оставить друга в таком подавленном состоянии. Он боялся, что по возвращении уже не найдет его.
Седьмого февраля, во второй половине дня, Кау-джер поднялся на вершину холма и устремил взгляд на запад. Он стоял неподвижно, всматриваясь в даль, как бы стараясь разглядеть, не направляется ли к острову чилийский сторожевой корабль. Но ничего внушающего опасения не увидел. Спустившись на пляж, Кау-джер сказал Карроли:
— Подготовь шаланду к завтрашнему дню, к самому раннему часу.
— Поездка займет несколько дней? — спросил индеец.
— Да! — ответил Кау-джер.
Карроли позвал сына и тут же принялся за дело. Чтобы оснастить «Вель-Кьеж» до наступления темноты, в его распоряжении оставалось всего несколько часов. Отец с сыном принесли паруса, снасти, погрузили провизию, которой хватило бы на целую неделю. Не вздумал ли Кау-джер еще раз посетить огнеземельские племена до наступления холодов, или высадиться на аргентинскую часть Огненной Земли, или в последний раз повидаться с рыбниками? Но ни одного вопроса Карроли не задал.
— Альг поедет с нами? — только спросил он.
— Да.
— А собака?
— И Золь тоже.
К вечеру приготовления были закончены. Кроме запаса провизии на шаланду погрузили все необходимое для рыбной ловли и охоты.
На рассвете следующего дня «Вель-Кьеж» снялся с якоря. С востока дул довольно свежий ветер. Сильный накат разбивался у подножия холма, а море покрылось длинными волнами.
Если бы Кау-джер решил подойти к Огненной Земле через пролив Ле-Мер, «Вель-Кьежу» не поздоровилось бы, ибо, по мере того как солнце поднималось над горизонтом, ветер крепчал. Но по его команде шаланда, обогнув крайнюю точку Исла-Нуэвы, взяла курс на остров Наварило, двойная вершина которого смутно вырисовывалась на западе в утренней дымке.
В тот же день, до захода солнца, «Вель-Кьеж» стал на якорь у южной оконечности этого острова, среднего по размеру в Магелла-нийском архипелаге. Для шаланды нашлась спокойная бухточка с весьма обрывистыми берегами.
Карроли с сыном поймали на удочку несколько крупных рыбин и собрали множество съедобных моллюсков — ужин был обеспечен. Можно, конечно, поохотиться на тюленей и других ластоногих, которые резвились на берегу, но что с ними делать, если возвращение домой отложится надолго. Они ничего не знали о планах Кау-дже-ра, а он хранил молчание, погруженный в раздумье, будто его терзала какая-то навязчивая мысль. Он даже не сошел на берег и не прилег отдохнуть на палубный настил. Прислонясь спиной к фок-мачте, он неподвижно простоял до самого утра.
Весь следующий день они провели в бухте. Карроли и Альг занимались приборкой шаланды, пополнением запасов рыбы и моллюсков. Кау-джер тоже сошел на берег, но ни охота, ни рыбалка его не занимали. Возможно, ему хотелось взглянуть — может, в последний раз? — на некоторые уголки острова Наварино, где он неоднократно бывал, как и на соседнем острове Осте. В эту пору на острове было безлюдно, или, лучше сказать, не видно индейских стойбищ — потому что индейцы не селились там на долгое время, — и, кажется, зверобои тоже давно не посещали Наварино.
Кау-джер провел на острове почти весь день, бродя по лугам, под сенью молчаливых лесов. Иногда он поднимался на какой-нибудь холм — внизу оставалась кипень деревьев — и оглядывал открывающиеся перед его взором морские просторы. На юго-востоке в окружении мелких островков виднелся остров Леннокс и обширный залив Нассау, глубоко врезавшийся в остров Осте. И быть может, он думал, что там, вдали, проливы расширяются, архипелаг дробится все больше, а море омывает лишь рифы, для него — беглеца и скитальца — за мысом Горн места не будет...
Вернувшись вечером на борт, Кау-джер поужинал. Он нехотя отвечал на вопросы, которые задавали два самых преданных ему человека, к которым и он привязался всей душой. Временами он поглядывал на них и, казалось, готов был рассказать, почему покинул Исла-Нуэву и отправился в края, где воды Атлантики сливаются с водами Тихого океана.
На следующий день после спокойно проведенной ночи шаланда снялась с якоря, пересекла залив Нассау и направилась к острову Вулластон, ограничивающему залив с юга. В море прилично штормило. Если с запада залив был защищен высокими скалами острова Осте, а на юго-востоке островками Эвуот, то на открытом пространстве между этими островками и Ленноксом его одолевали морские волны. Кау-джер встал за штурвал, а Карроли с Альгом схватили шкоты фока и грота, потому что надо было маневрировать против довольно сильного бриза и брать рифы[246].
Вечером «Вель-Кьеж» встал на якорь у северной оконечности острова Вулластон, вдающейся в залив Нассау.
Внутренние районы этого острова с весьма изрезанными берегами были сложены обширными равнинами и не отличались столь контрастным рельефом, как на островах Осте и Наварино. Мирно текущие речки, окруженные бореальными[247] породами деревьев, луга, покрытые сочными травами, делали его пригодным для разведения скота, чем скорее всего и займется чилийское правительство, следуя примеру Великобритании, создавшей на Фолклендских островах сельскохозяйственные угодья.
Шаланду укрыли от сильного прибоя за мысом, и ее не очень болтало. Кау-джер решил провести ночь в пещере одной из скал, где скопившиеся сухие водоросли могли служить подстилкой. Возможно, спать там ему было спокойнее, чем под настилом «Вель-Кьежа». Карроли же, предчувствуя приближение роковой развязки, не мог сомкнуть глаз. Несколько раз, когда шум моря заглушал его шаги, он выходил на пляж и убеждался, что Кау-джер все еще спит в пещере.
Около трех часов ночи индеец увидел его на берегу и подошел к нему.
— Оставь меня, мой друг, — сказал Кау-джер тихим и печальным голосом. — Я хочу побыть один. Пойди отдохни до рассвета.
Карроли пришлось вернуться на борт, а Кау-джер направился в глубину острова. Впрочем, в одиннадцать он пришел позавтракать, а к пяти вечера вернулся на ужин.
Погода между тем ухудшилась. Бриз, перейдя на северо-восточное направление, свежел, на горизонте сгущались темные тучи. Приближалась буря. Поскольку «Вель-Кьеж» по-прежнему держал курс на юг, приходилось искать проливы, защищенные от ветра. Повернув шаланду на запад, Карроли провел ее между островом Вулластон и островом Бейли и проследовал вдоль западного побережья последнего, с тем чтобы войти в пролив, отделяющий остров Эрмите от острова Хершел.
Собственно говоря, все эти острова составляли архипелаг мыса Горн, включающий главный остров Вулласгон, а также острова Греви, Бейли, Фрейсине, Эрмите, Хершел, Десит, небольшие островки Вуд, Уотермен, Хоп, Хендерсон, Ильдефонсо, Барневелт и последний из них — остров Горн, на гранитной спине которого расположился устрашающий мыс.
Глядя на карту этой части суши, такой неспокойной, разорванной, будто бы при падении она разбилась на тысячи кусочков, нельзя не вспомнить слова Дюмон-Дюрвиля: «При виде этой завораживающей картины хаотично разбросанных кусков земли воображение невольно наталкивает на мысль о мировом катаклизме, мощные силы которого искромсали южную оконечность Америки, придав ей форму архипелага, названного Огненной Землей. Но какой же способ избрала природа, чтобы добиться такого результата, — огонь, воду или простое перемещение полюсов?»
Этот вопрос, поставленный знаменитым французским мореплавателем, так и остался нерешенным — ни географы, ни геологи пока не нашли на него ответа[248].
Но не эта проблема волновала Кау-джера, когда он пробирался на «Вель-Кьеже» к крошечным островкам архипелага, ставшего владением Чилийской Республики. Нет! Ни на минуту нельзя было усомниться, что им владела только решимость покинуть закабаленные земли, что он отказывался ступать по земле, переставшей быть свободной. Но что он предпримет, когда достигнет крайней точки архипелага, когда ступит на мыс Горн, где перед ним откроются просторы безбрежного океана?
И вот после полудня 15 февраля, преодолев серьезные опасности в море, разбушевавшемся под воздействием урагана, шаланда добралась до упомянутой оконечности архипелага. Потребовалась вся ловкость Карроли, его умение выбирать самые безопасные проходы, чтобы не погибнуть в пучине или не разбиться о рифы. Но вряд ли Кау-джер обратил внимание на риск, которому подвергался «Вель-Кьеж». Да и кто знает, окажись он один в такую бурю, не предпочел бы он смерть в месте столкновения двух океанов, у подножия мыса Горн...
Шаланда укрылась в глубине узкой бухты у южной оконечности острова. Карроли и Альг приняли меры, чтобы обезопасить суденышко, занеся якорь-кошку на берег; паруса взяли на гитовы, предполагая, что стоянка будет непродолжительная.
Высаживаясь на берег, Кау-джер даже не заикнулся о своих намерениях. Он отослал увязавшуюся за ним собаку, оставил на берегу индейца с сыном и направился к мысу.
Остров Горн представляет собой хаотическое нагромождение скал, облепленных принесенными течениями стволами деревьев и гигантскими ламинариями[249]. Сотни рифов, макушки которых то прятались в пене прибоя, то выныривали из нее, окружали остров.
Мыс возвышался всего на шестьсот метров над уровнем моря. Это был громадный утес с округлой вершиной, на которую не представляло большого труда подняться с северной стороны по очень пологому склону, напоминающему извилистые склоны Гибралтара. Отличие состояло лишь в том, что на острове Горн отвесная часть скалы была обращена к морю.
Пройдя по берегу семьсот — восемьсот шагов, Кау-джер начал подниматься по тропинке, ведущей к самой высокой точке мыса. Временами восхождение становилось трудным, и Кау-джеру приходилось цепляться за пучки растительности, пробивавшейся из расщелин в скале. Иногда почва осыпалась, и тогда камни, подпрыгивая, катились по откосам вниз.
Что влекло Кау-джера наверх? Желание окинуть взором бескрайние просторы? Но что он мог увидеть, кроме полосы безбрежного океана, которая протянулась более чем на одиннадцать градусов по меридиану, за Южный полярный круг?
По мере того как Кау-джер поднимался, его все сильнее обдавало порывами ветра. Воздух, пропитанный молекулами воды, окутывал его и проникал под одежду, как будто он только что избавился от соседства с мощным вентилятором. И, если бы одежда не была стянута поясом, ее разорвало бы в клочья. Но он не останавливался, продолжал подниматься.
Снизу Карроли и Альг видели все уменьшавшуюся в размерах фигуру. Они понимали, какую упорную борьбу ведет он с порывами ветра. Друзья хотели бы пойти вместе с ним, помочь взобраться на вершину, на которую, возможно, еще не ступала нога человека. Но Кау-джер велел им остаться на берегу.
Это мучительное восхождение длилось не менее двух с половиной часов, и, когда Кау-джер достиг цели, был седьмой час вечера. Он поднялся на вершинный гребень и там, выдерживая напор ветра, стоял неподвижно, устремив взгляд к югу.
На востоке стало темнеть, но противоположную сторону горизонта еще освещали последние лучи солнца. Мимо с ураганной скоростью проносились тучи, разорванные ветром, смешанным с водяной пылью.
Перед глазами Кау-джера простирались необъятные водные дали, гладь которых не нарушал ни один риф, а с этой высоты островки Диего-Рамирес[250] различить было невозможно.
Но что, в конце концов, собирался здесь делать этот столь глубоко взволнованный человек? Может быть, его преследовала с некоторых пор мысль свести счеты с жизнью?.. Возможно, он приказал себе идти вперед, пока не кончится под его ногами земля, которой он больше не хотел, твердо решив найти смерть в волнах, бьющихся о скалы. Еще один шаг — в этих глубоких водах он даже не наткнется на какую-нибудь подводную скалу и тело его станет добычей двух океанов...
Да! Лишенный последнего пристанища на магелланийской земле, он решил поступить именно так.
— Ни Бога, ни властелина! — вскричал он в свой последний час.
Кау-джер уже готов был сделать шаг в пустоту, как вдруг далекая молния разрезала небо и раздался выстрел.
Стреляли с корабля, терпящего бедствие у мыса Горн.
VIII КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Было половина седьмого. На поверхность моря, казалось раздавленного тяжелыми тучами, упала ночная тьма. Произошло это мгновенно, будто солнце внезапно угасло. Его уже не было видно, но гребни бушующих волн освещались непонятно откуда идущим светом.
Юго-восточный ветер, не встречая никаких преград, дул с неудержимой силой. Любому кораблю, который попытался бы обогнуть в ту ночь крайнюю точку Америки, грозила гибель.
И только что прогремевший пушечный выстрел взывал о помощи. Конечно, судно могло пройти между мысом Горн и небольшими островами Диего-Рамирес по разделяющему их широкому проливу, однако, чтобы идти против ветра, оно должно было нести достаточно парусов. Но под шквальными ударами стихии, при ослепляющих вспышках молний, мог ли корабль сохранить столько парусов, сколько необходимо, чтобы удерживать нужный курс? Как сможет он сопротивляться такому буйству стихий, а если это парусник, то не лишится ли он мачт?..
Послышался второй пушечный выстрел. Яркая вспышка, вырвавшаяся из жерла ствола, ударила в глаза, как луч прожектора.
Кау-джер был уже не один на вершине скалы. При первом же выстреле индеец и его сын хорошенько закрепив якорный канат, стали карабкаться по склону, хватаясь за растущие в трещинах пучки трав, чтобы лезть побыстрее, и, проявив столько же энергии, сколько и ловкости, они достигли вершинного плато.
Дождя не было, но, несмотря на высоту, водяная пыль пропитывала воздух, потому что досюда долетали брызги прибоя. Порывы ветра иногда разгоняли туман, и тогда из волн выныривало судно, терпящее кораблекрушение. Это был большой четырехмачтовый парусник; его черный корпус кренился то на один, то на другой борт. Корабль шел с запада, борясь с встречным ветром.
— Ему не обогнуть мыс, — сказал Карроли.
— Скорей всего, — подтвердил Кау-Джер. — Море слишком разбушевалось, и течение сносит его к югу.
— Знает ли он, что земля рядом? Видит ли берег с такого расстояния? — продолжал индеец.
— Он не может увидеть берег в таком мраке, — заметил Кау-джер, — иначе капитан, зная, что ветер сносит его к берегу, взял бы мористее...
— Пожалуй, он этого сделать не в состоянии. Он потерял часть парусов, и, похоже, у него остались лишь марсели[251] на нижнем рифе. Его бросит на скалы, если он не использует рыскание ветра[252].
Но на это рассчитывать не приходилось — ветер рыскал всего на несколько румбов и упорно дул с юга. Судя по всему, никто — ни офицеры, ни матросы — не подозревали, что суша совсем рядом и буря несет их на скалы.
В этот момент, в секундном затишье, разделяющем шквалистые порывы, раздался многократный треск. Если бы судно было ближе, можно было бы подумать, что оно наскочило на рифы.
— Это конец! — вскрикнул Карроли.
Действительно, обе кормовые мачты сломались у самого основания, увлекая за собой снасти. Если команде не удастся поставить штормовые стаксели, корабль останется без кормовых парусов и не сможет ни держаться против ветра, став к нему носом, ни уйти от берега. А, поскольку южный ветер дул с ураганной силой, судьба судна, казалось, была решена, хотя оставалась еще одна возможность спастись — войти в один из проходов справа или слева от мыса.
Снова два пушечных выстрела перекрыли рев бури. На этот раз корабль был не более чем в полутора милях от суши. На какую помощь рассчитывал он в этих широтах? Вероятно, экипаж знал, что судно находится недалеко от мыса Горн, и надеялся заметить его, несмотря на окружающий мрак.
Но, раз с корабля не видят мыс, надо указать его положение, чтобы корабль попытался избежать рифов и, может быть, нашел укрытие в проливах Магеллании со стороны либо острова Хершел, либо острова Эрмите, где ему наверняка будет легче справиться со стихией.
— Огня... огня! — закричал Кау-джер.
— Скорей сюда, — подозвал отец сына.
И оба кинулись собирать на склонах сухие ветки, которыми ощетинились кусты, высокие травы, наметенные ветрами в углубления почвы, водоросли, разбросанные среди скал. Они быстро принесли собранное топливо и сложили на округлой вершине скалы костер.
Между тем прогремели новые выстрелы, дважды или трижды усиленные эхом. И Кау-джер по их отблескам определил, что корабль приблизился к берегу на целую милю.
Было восемь часов вечера. В глубокой тьме свирепствовал ветер, и моря совсем не было видно.
Кау-джер высек огонь — трут загорелся; занялись травинки, и пламя, раздуваемое потоками воздуха, словно мощным вентилятором, охватило всю кучу сушняка.
Меньше чем за минуту огненный столб поднялся над мысом, освещая все ярким светом. Густые клубы дыма понесло на север, а к завываниям бури добавился треск горящих веток, похожий на разрывы патронов, брошенных в костер. Магеллания, погруженная во тьму, разрываемую вспышками огня, поистине оправдывала свое название — Огненная Земля.
Лучшим местом для маяка, безусловно, являлся мыс Горн, примостившийся на стыке двух океанов. И когда-нибудь маяк вознесется над мысом Горн: для безопасного плавания он просто необходим. Свой свет уже посылает маяк, построенный на мысе Ванкувер острова Эстадос, но он очень удален и виден лишь кораблям, плывущим с востока, через Атлантику.
Несомненно, костер, зажженный Кау-джером, уже заметили с борта корабля, терпящего бедствие. Теперь гибнущие понимали, что земля находится не более чем в миле от них, с подветренной стороны, и что буря несет их к берегу. Если капитан днем определял местонахождение корабля, он должен был знать, что находится на траверзе[253] мыса Горн. По-видимому, он попытался его обогнуть, но, гонимый ветром и относимый течениями, не смог уйти в открытое море. Теперь же, когда судно наполовину вышло из строя, спастись оно могло только в одном из проходов, расположенных по обе стороны острова Горн.
Но в любом случае в непроглядной темноте корабль подстерегали страшные опасности. Кау-джер и Карроли с трудом различали судно, только отблески пушечных выстрелов давали им ориентир. И если подходы к отвесному берегу были свободны, то справа и слева от него начиналась полоса рифов. Только тот, кто хорошо знал эти места, мог бы провести корабль и найти ему укрытие за островом. Более того, даже самому опытному лоцману потребовались бы неимоверные усилия и вся его сноровка, чтобы провести судно в темноте, которая рассеется только с рассветом.
Между тем костер продолжал гореть. Карроли и Альг все время поддерживали огонь. Топлива им должно было хватить до утра.
Стоя спиной к костру, Кау-джер пытался определить положение корабля. Он размышлял над тем, как помочь кораблю, как предотвратить его столкновение с рифами и указать ему единственно верный путь. Он уже не думал о том, чтобы покончить счеты с жизнью. Все мысли были направлены на то, как выручить людей, попавших в беду. Когда взгляд Кау-джера падал на индейца и его сына, он видел на их лицах готовность выполнить любое его приказание.
— Скорее на борт! — крикнул он наконец.
Все трое, рискуя жизнью, сбежали по откосу вниз, за считанные минуты достигли пляжа и заняли свои места в шаланде. Якорь выбрали, суденышко вышло из бухты. Альг стал к рулю, Кау-джер и Карроли взялись за весла — ни клочка парусины поднять было невозможно, да и ветер отбросил бы «Вель-Кьеж» к северу.
Главное — выбраться за полосу рифов, с обеих сторон подходивших к подножию мыса; океанские волны разбивались о них с неописуемой яростью. Резкие крики птиц пронизывали напитанный водяной пылью воздух.
Водоворотов, бурливших вокруг рифов, шаланда избежала с трудом, хотя весла были в крепких руках. За рифами бушевало море. Волны обрушивались на суденышко с яростью и грохотом, словно уже натолкнулись на дно, хотя лот показывал глубину в несколько сотен футов. «Вель-Кьеж» сотрясало так, что, казалось, он разваливается; шаланду подбрасывало, кренило то на один, то на другой борт, так что порой весь форштевень — как говорят моряки — выталкивало из воды, а потом суденышко грузно плюхалось обратно.
Тяжеловесные волновые пакеты[254] захлестывали нос, обдавали каскадами брызг настил, прокатывались до кормы. Отяжелевшей под грузом воды шаланде грозила опасность затонуть. Альгу пришлось оставить руль и ковшом вычерпывать воду, иначе она могла заполнить всю не защищенную настилом часть суденышка. Отважный юноша умело справлялся с этой задачей, успевая время от времени выправлять руль. Он привык к трудному ремеслу лоцмана в проливах Магелланийского архипелага.
Между тем шаланда, насколько это было возможно, шла прямо к кораблю, уже были видны его ходовые огни. Впрочем, гонимое шквальным ветром судно с еще большей скоростью приближалось к шаланде. Всего через несколько минут Кау-джер и его спутники оказались у борта корабля.
Они заметили подбрасываемую подобно гигантскому бую черную массу, выделявшуюся на фоне темного моря и темного неба. Две кормовые мачты, удерживаемые бакштагами[255], волочились за кормой, тогда как фок- и грот-мачта описывали дуги в четверть окружности, разрывая тучи водяной пыли. Эти увлекаемые кораблем мачты были очень опасны: вода могла поднять их, бросить на корпус и пробить обшивку.
— Куда смотрит капитан? — не удержался Карроли. — Почему он до сих пор не отделался от этого хвоста? Как он потащит его по проливам?!
Кау-джер ничего не ответил. Скорее всего, подумал он, офицеры и вся команда просто потеряли голову, а может быть, на борту уже и не было капитана.
Конечно, Карроли был прав — прежде всего надо обрубить снасти, которые удерживали упавшие в воду мачты. Но, по-видимому, экипаж охватила паника, и никому это не пришло в голову. И скорее всего, никто уже не командовал судном и никто им не управлял. Ни одного человека не видно на вантах[256], никто не карабкался по выбленкам[257] на две оставшиеся мачты.
А между тем экипаж не мог дольше игнорировать близость земли, до которой осталось всего десять кабельтовых; скоро корабль разнесет вдребезги. Костер, зажженный на вершине мыса Горн, еще отбрасывал языки пламени, вихрившиеся огромными космами под порывистым дыханием бури.
— Нет, что ли, никого на борту? — сказал индеец, как бы отвечая на мысли Кау-джера.
По всей видимости, корабль покинут пассажирами, офицерами, командой. Скорее всего, эти несчастные сели в шлюпки и попали в водовороты, которые делают подступы к мысу Горн опасными, а порой и непреодолимыми. В моменты короткого затишья друзья не слышали ни крика о помощи, ни отчаянного зова. Не превратился ли корабль в огромный плавучий гроб, несущий в своем чреве лишь мертвых и умирающих?
Наконец «Вель-Кьеж» вплотную подошел к кораблю. В тот же момент судно резко повернуло вправо, едва не потопив их, но Карроли поворотом руля помог шаланде проскочить вдоль корпуса корабля, где висели концы кабельтова[258] перлиня[259]. Индеец ловко схватил один из них и быстро привязал его к носу «Вель-Кьежа».
Потом Карроли, Альг и Кау-джер вскарабкались по этому тросу, перелезли через планширь[260] и оказались на палубе судна. Они ошиблись в своем предположении — корабль не был покинут. На нем находились обезумевшие пассажиры. Мужчины, женщины, дети хватались за переборки в коридорах; несчастных, охваченных ужасом, насчитывалось несколько сотен. При такой невыносимой качке было невозможно удержаться на ногах.
В темноте никто не заметил двух мужчин и юношу, которые поднялись на корабль и перелезли через фальшборт[261] около фок-мачты.
Карроли бросился на корму, надеясь найти рулевого на месте.
Но у штурвала никого не было. Лишенный парусов, корабль плыл по воле волн и ветра.
Неужели, нарушив свой долг, капитан и офицеры трусливо покинули судно?
Наконец Кау-джер увидел матроса, пробегавшего мимо него. Он схватил его за руку и спросил по-английски:
— Где капитан?
Матрос даже не обратил внимания, что к нему обращается посторонний, хотя лицо Кау-джера освещали отблески костра на мысе Горн, и только пожал плечами.
— Где капитан? — повторил Кау-джер.
— За бортом. Его и еще десяток матросов утащило с мачтами.
— А старший помощник? — допытывался Кау-джер.
— Старший помощник? — переспросил, немного помолчав, матрос. — На нижней палубе, лежит с перебитыми ногами.
— А лейтенант, боцманы... Где они?
Матрос о них явно ничего не знал.
— Кто же, наконец, командует кораблем? — вскричал Кау-джер.
— Вы! — сказал подошедший Карроли.
— Тогда — к штурвалу! — приказал Кау-джер. — И пошли к проливу!
Они бросились на корму. Кау-джер встал за штурвал и попытался направить судно к западу от мыса Горн.
Что это за корабль? Куда шел? Станет известно позлее. А название и порт приписки молено было прочесть на рулевом колесе при свете принесенного Альтом фонаря: «Джонатан — Сан-Франциско».
Резкие скачки ветра затрудняли маневрирование, корабль почти не слушался руля — парусник дрейфовал на волне. Кау-джер и Кар-роли все же попытались направить его в пролив. Костер на мысе Горн еще вздымался последними языками пламени, но скоро он погаснет...
Через несколько минут корабль достиг пролива между островом Эрмите и островом Горн. Если он минует несколько рифов, выступающих из воды в средней части пролива, ему, возможно, удастся дойти до стоянки, укрытой от ветра и волн. Там судно сможет дождаться рассвета...
Но сначала сделали самое необходимое. Карроли, прихватив нескольких матросов, направился на корму. Никому из них не приходило в голову, что ими командует индеец. Чтобы предотвратить удары сломанных мачт по корпусу корабля, он приказал рубить ванты и бакштаги правого борта. Валено было предотвратить возможность сокрушительного удара; хотя корпус и был железным, мачты могли его пробить.
Когда снасти были обрублены и Карроли убедился, что мачты удаляются от корабля, он занялся «Вель-Кьежем» — подтянул шаланду к корме, чтобы она не билась о борт судна Затем вновь вернулся к рулю.
Около рифов ярость волн возросла. Огромные валы перехлестывали через фальшборт, что еще больше приводило в ужас и смятение пассажиров. Им бы следовало укрыться в надстройке или на нижней палубе, но разве эти несчастные могли внять голосу рассудка! Об этом не стоило и мечтать, а мелсду тем волны уже сбили с ног кое-кого из пассажиров, и они беспомощно катались по палубе от одного борта к другому.
Наконец после нескольких ужасных поворотов, раз за разом подставлявших борта атакам моря, судно обогнуло мыс, слегка задев зону рифов, выступавших из воды западнее скалы, и пошло на север, вдоль побережья острова Горн. Скалы, возвышавшиеся над извилистыми бухточками, в какой-то мере защищали корабль от бешенства урагана. Катастрофы избежали в последний момент. На носу подняли кусок парусины, заменивший кливер[262]. Карроли, стоявший у штурвала, с помощью нескольких моряков и боцмана прилагал все усилия, чтобы удержать корабль в нужном направлении. Боцману он коротко отрекомендовался: «Лоцман!» И тот больше ни о чем не спрашивал.
Но опасность еще не миновала. У северной оконечности острова на парусник вновь обрушатся волны и ветер, несущиеся по проливу между островом Горн и островом Хершел. Обойти это место стороной никак не удастся и укрыться «Джонатану» негде — ни одного заливчика, ни одной бухты, где бы он мог отдать якоря. Кроме того, ветер, который все больше уходил к югу, скоро сделает эту часть архипелага непригодной для корабля. Во всяком случае, Кау-джер надеялся, что благодаря инстинкту и лоцманскому мастерству Карроли, может быть, удастся убежать на запад — при условии, что руль сохранит кое-какую подвижность. Остров Холл может прикрыть судно от ветра, и тогда оно достигнет южного берега острова Эрмите. Это побережье, протянувшееся на дюжину миль, довольно открытое, но все-таки там можно найти убежище, куда не доходят штормовые волны, и там «Джонатан» сможет переждать бурю, даже если она продлится сутки или двое. Когда же море успокоится, Карроли рискнет при попутном ветре пройти между островами Осте и Наварино до пролива Бигл и далее до Пунта-Аренаса, хотя судно почти разваливалось.
Но сколько опасностей встретится на пути к острову Эрмите! Как избежать многочисленных рифов, которыми усеяны эти воды? Как обеспечить маневренность корабля в кромешной тьме, с куском кливера вместо парусов, да и тот может быть сорван ветром в любое мгновение?..
Прошел ужасный час. Скалы острова Горн остались позади, и тогда море взялось за корабль по-настоящему. Он так стремительно кренился то на один борт, то на другой, что одного кливера было недостаточно. Боцман с помощью дюжины матросов попытался поставить на фок-мачте штормовой парус.
Это был штормовой стаксель[263] из толстой парусины, обшитый крепкими ликтросами и уже побывавший в сильных бурях. Самым трудным было подтянуть его через блок к рею[264], на котором сохранились ванты и штаги, потом закрепить и развернуть по ветру.
На эту операцию ушло не менее получаса. Ценой невероятных усилий, под хлопанье парусины, напоминавшее выстрелы, стаксель занял свое место. Конечно, для корабля с таким водоизмещением действие этого куска парусины было едва заметно, однако при сильном ветре сгодился и он. Расстояние в семь-восемь миль, отделяющее остров Горн от острова Эрмите, было пройдено менее чем за час.
Кау-джер и Карроли уже ликовали, полагая, что «Джонатану» удастся обогнуть выступавший к югу мыс и найти за ним укрытие, как вдруг, перекрывая завывания бури, раздался оглушительный треск.
Фок-мачта надломилась в десяти футах от палубы и упала, увлекая за собой часть грот-мачты, снасти которой не выдержали. Стеньги, брамсели и реи рухнули, раздавив ограждение левого борта.
Фок-мачта обрушилась на пассажиров и матросов, послышались душераздирающие крики. В довершение всего «Джонатан» дал такой крен, что едва не опрокинулся, зачерпнув бортом массу воды. Мощный поток хлынул от носа к корме, стекая через шпигаты[265] и пробитый фальшборт. К счастью, снасти порвались, и остатки мачт, смытые волной, не угрожали больше корпусу. Корабль был еще на плаву, хотя больше не слушался руля. «Джонатан» стал игрушкой в руках стихии.
— Мы погибли! — крикнул один из матросов.
— И шлюпок нет! — вторил другой.
В самом деле, шлюпки смыло в море.
— Есть шаланда лоцмана! — подсказал кто-то из команды.
Все бросились на корму, где на буксире за кораблем следовал «Вель-Кьеж».
— Всем оставаться на местах! — раздался голос Кау-джера. Приказ был отдан таким повелительным тоном, что ни боцман, ни матросы не посмели ослушаться.
Оставалось лишь ждать развязки, то есть катастрофы. Если даже кораблю посчастливится миновать остров Эрмите, то течения растущего прилива увлекут его на запад и он все равно разобьется о небольшие острова Санто-Ильдефонсо. Впрочем, на что могло рассчитывать судно без руля и без ветрил в разгневанном Тихом океане?
Час спустя Карроли различил огромную массу. Это был остров Вулластон, вершины которого едва вырисовывались на севере. Но в проходах, где бушевали волны, пригнанные с востока, уже хозяйничал прилив, и Вулластон почти сразу остался по правому борту.
«Джонатан» мог бы пройти между островами Эрмите и Осте, и он уже шел в этом направлении, как вдруг, незадолго до полуночи, удар чудовищной силы сотряс корпус судна. Оно внезапно остановилось и накренилось на левый борт... Американское судно было выброшено на берег возле той оконечности острова Осте, которая носила название Ложный Горн.
IX «ДЖОНАТАН»
Кораблекрушение произошло в ночь с 15 на 16 февраля. За две недели до этого американский клипер[266] «Джонатан» покинул Сан-Франциско и направился из Калифорнии к южной оконечности Африки. При благоприятном ветре и спокойном море быстроходный корабль может покрыть это расстояние за пять недель.
«Джонатан», парусный корабль водоизмещением в две тысячи пятьсот тонн, был оснащен четырьмя мачтами: фок- и грот — с прямыми парусами и бизань- и топсель[267] — с латинскими[268]. Он был построен на судоверфях компании «Шерри энд Форстер» и считался первоклассным судном. Его искусно удлиненный металлический корпус, водоизмещение, набор парусов, механизмы для различных палубных работ давали полную гарантию безопасности в быстротечном плавании.
Кораблем командовал капитан Леккар, превосходный моряк во цвете лет. В его подчинении находились старший помощник Масгрейв, лейтенанты Фарнер и Меддисон, боцман Том Сенд и команда из двадцати семи матросов. Все были американцами.
«Джонатан» уже дважды пересекал Тихий океан с грузами для Австралии и Британской Индии. Рейсы из Калькутты и Сиднея проходили при благоприятных погодных условиях, хотя в Южных морях ему пришлось испытать яростные атаки стихии. Владельцы корабля, господа Блаунт и Фрейри, были довольны результатами плаваний как с мореходной, так и с коммерческой точек зрения.
Что касается последнего рейса, закончившегося катастрофой, то на этот раз «Джонатан» был зафрахтован не для перевозки грузов. Корабль взял на борт девятьсот переселенцев, отправлявшихся в Южную Африку для создания колонии, которую предполагалось образовать в соответствии с договором, заключенным с португальским правительством, согласившимся выделить колонистам участок земли у залива Лагоа в своих южноафриканских владениях.
Большинство переселенцев — жители Северных штатов, среди них было несколько ирландских и немецких семей из числа американизированных европейцев, которыми наводнены Иллинойс и Калифорния. Общество помощи переселенцам города Сан-Франциско обратилось с призывом ко всем, кто желает попытать счастья за пределами Соединенных Штатов, поселиться на обширных плодородных землях, полученных в концессию. Тайная же цель создания колонии — противостоять распространению английского влияния из Капской колонии[269].
Объединить людей столь разных — и по национальной принадлежности, и по традициям — дело непростое. Оно требует строгой дисциплины, которую переселенцы ощутили уже на борту «Джонатана». Четырехмачтовик переоборудовали для перевозки пассажиров — мужчины, женщины и дети смогли удобно разместиться в надстройках и на нижней палубе. Впрочем, переход обещал быть недолгим. В это время года «Джонатан», пройдя вдоль американского побережья, оказался бы посреди южного лета и не должен был подвергнуться — в феврале и марте — ни в Тихом, ни в Атлантическом океанах суровым штормам, свойственным зимнему сезону.
На борту клипера — помимо продовольствия — имелось все, что требуется колонии для обустройства. Запасы муки, консервов, алкогольных напитков были рассчитаны на несколько месяцев. «Джонатан» вез также палатки, сборные домики, простейшую мебель, домашнюю утварь. Общество помощи переселенцам позаботилось о том, чтобы снабдить колонистов сельскохозяйственным инвентарем, саженцами деревьев, семенами зерновых и овощей. Несколько голов свиней, крупного и мелкого рогатого скота были загружены в трюмы. Не забыли и оружие, на случай нападения племен намаква и бушменов[270], ведущих непрерывную войну с другими готтентотскими племенами. Будущее новой колонии было, таким образом, гарантировано на достаточное время. Впрочем, колонистов не собирались предоставлять исключительно самим себе. Предполагалось, что, вернувшись в Сан-Франциско, «Джонатан» возьмет вторую партию колонистов: в Америке немало бедных людей, для которых жизнь на родине слишком тяжела, а порой и невыносима, и они не против попытать счастья в дальних краях.
Рейс начался не очень удачно. Почти сразу после выхода из Сан-Франциско, еще не достигнув широты Сан-Диего, города на юге Калифорнии, «Джонатану» пришлось вступить в борьбу со встречным, юго-западным, ветром. Опасаясь, что судно прибьет к берегу, капитан Леккар принял решение уйти подальше в море. Несколько дней спустя клипер попал в жестокий шторм и был вынужден лечь в дрейф на траверзе мыса Коррьентес в мексиканских широтах.
Переселенцы очень страдали от тесноты. Мучения становились невыносимыми в штормовую погоду, когда выйти на палубу не представлялось возможным. Бурное море, к счастью, не нанесло «Джонатану» никаких серьезных повреждений, и капитан, после того как несколько дней уходил на запад, лег на прежний курс к Галапагосским островам, через которые проходит экватор.
Все шло как обычно: то штили, то штормы. Тяготы путешествия не могли не сказаться на душевном состоянии пассажиров. То тут, то там слышались жалобы, раздавались даже угрозы. Капитан Леккар и его старший помощник Масгрейв должны были принять строгие меры, чтобы предотвратить попытку мятежа. Среди переселенцев объявились люди, склонные к беспорядкам, авантюристы, готовые на любые крайности, что, конечно, не предвещало ничего хорошего для будущей колонии.
Стоит ли удивляться тому, что в столь разношерстном обществе нашлись несколько постоянно борющихся с законами профессиональных революционеров, врагов имущих классов, движущих сил беспорядка, терпеть которых не может ни одна цивилизованная страна. Наиболее опасными среди них были братья Джон и Джек Мерриты, ирландцы по происхождению, члены революционной организации фениев[271], против которой Англия принимала самые суровые меры. Изгнанные из Соединенного Королевства, довольно терпимо относившегося к агитаторам любой национальности, оба брата, одному из которых было сорок, а другому сорок пять лет, присоединились к переселенцам, направлявшимся на «Джонатане» в Южную Африку. С какой целью? Возможно, провоцировать беспорядки, воспользовавшись которыми они могли проводить в жизнь свои идеи. Мерриты были людьми действия. Этим братья и отличались от Кау-джера, убежденного противника всякого насилия.
Анархисты даже не стали дожидаться прибытия клипера в пункт назначения. Среди нескольких сотен пассажиров они нашли людей, которые поддались их влиянию: ведь несчастные и обездоленные легко откликаются на призыв к бунту. Когда же смутьяны попытались нарушить корабельную дисциплину, подавляющее большинство переселенцев их не поддержало. Однако капитану Леккару неоднократно приходилось вмешиваться, чтобы утихомирить подстрекателей.
Между тем «Джонатан», уже изрядно потрепанный бурями, продолжал свое плавание по Тихому океану. К счастью, в этих районах, находящихся между тридцатыми параллелями по обе стороны от экватора, дули пассатные ветры. Без сомнения, в результате суточного движения Солнца, дули они с завидным постоянством и регулярностью с востока на запад[272], никогда при этом не достигая штормовой силы. Клипер мог продолжать свой путь на юг, держась как можно ближе к берегу. Впрочем, ему не надо было долго идти в открытом океане. Он шел то в десяти, то в тридцати милях от американского побережья — от широты Лимы в Перу до широты Вальпараисо в Чили — не слишком торопясь, хотя приходилось постоянно бороться с волнами. 11 февраля он находился в шестистах морских милях от мыса Пилар у западного входа в Магелланов пролив, через который капитан Леккар решил выйти в Атлантику.
Известно, что пароходам плыть Магеллановым проливом легче, чем парусным судам, поскольку парусники должны часто менять направление, следуя изгибам фарватера, а эти маневры лучше выполняют паровые суда. Но когда парусное судно заходит в пролив с запада, природные условия ему благоприятствуют, оно уже покинуло область пассатов, дующих, как уже говорилось, с востока — в Магеллановом проливе попутные ветры дуют с запада на восток, то есть от мыса Пилар к мысу Вирхенес. Следовательно, капитан имел все основания избрать путь, где бриз будет постоянно наполнять паруса клипера.
Чтобы войти в пролив, капитан, достигнув пятьдесят второго градуса южной широты, повел судно вдоль западного побережья острова Аделаида от мыса Исабель до мыса Паркер, миновав опасный архипелаг сэра Джона Нарборо. Мыс Пилар остался бы в таком случае точно на западе, у оконечности острова Десоласьон.
Именно между этими двумя островными участками суши — архипелагом Королевы Аделаиды и островом Десоласьон — находится западный вход в пролив, соединяющий два океана и напоминающий латинскую букву «S».
Но в тот день капитану Леккару не повезло: разразилась страшная буря, на корабль обрушился шквальный ветер, причем он резко сменил направление с западного на северное.
Требовалось срочно убрать верхние паруса, взять на марселях нижний риф и править так, чтобы волна приходилась в скулу[273], избегая бортовой качки.
В ночь с 13 на 14 февраля у команды не было ни минуты передышки. Капитан и штурман не покидали свои посты. Весь день 13-го небо было серое, так что провести обсервацию[274] не удалось; но по счислению[275] можно было предположить, что клипер находился на траверзе пролива.
Однако, поскольку заход в пролив крайне осложнен непогодой, а корабль, проскочив вход, рискует оказаться перед опасным побережьем, действовать надо крайне осторожно. И кто знает, не лучше ли повернуть на запад и выйти в открытое море, чтобы там дождаться окончания бури и установления благоприятных ветров?
«Джонатан», вероятно, вошел бы в пролив, если бы на побережье был хоть один маяк, который помог бы точно определить положение мыса Пилар, потому что между этим мысом и мысом Паркер ширина пролива составляет около тридцати километров. Но на мысе Пилар, как и на мысе Горн, маяка не было. Эта часть побережья совсем не освещена, и, повторяем, надо идти до острова Эстадос, чтобы увидеть первый огонь Атлантики.
Тем не менее нет сомнений, что «Джонатан» достиг входа в пролив, но, если бы сигнальщики на носу и на корме не вели наблюдения за морем, он разбился бы о скалы мыса Пилар. Они вовремя различили во мраке огромный бесформенный массив, поэтому рулевой успел развернуть судно достаточно рано, чтобы его не выбросило на берег.
Правда, в тех условиях, при яростном северном ветре и море, гнавшем волну с противоположного направления, поворот мог не получиться. Клипер находился всего в полукабельтове от утесов, когда перемена курса почувствовалась. Надо было привести руль к ветру и быстро поставить на корме штормовой парус.
Наконец-то разворот удался, и «Джонатан», избежав опасности, взял курс в океан.
Только спустя несколько часов после рассвета капитан Леккар смог определиться. Он установил, что берег находится в семи-восьми милях к востоку, но мыс Пилар остался уже далеко позади. Буря продолжала свирепствовать с прежней силой, а «Джонатан» с уменьшенной парусностью не мог идти против северного ветра. Борясь с волнами, с этими пенными валами, то и дело заливавшими палубу, он каждую минуту мог погибнуть.
И капитану Леккару пришлось изменить свои планы. Ветром, ярость которого все возрастала, клипер был отнесен на юг, дальше залива Отуэй, где рисковал разбиться об островки Уик. После того как корабль прошел мыс Тейт на острове Десоласьон, было невозможно вернуться к мысу Пилар. А потому не оставалось ничего другого, как отказаться идти через Магелланов пролив и двигаться на юг, в обход мыса Горн, к Атлантическому океану.
На совете, в котором приняли участие все офицеры, капитан отдал приказ уйти мористее под взятыми на нижний риф марселями, идя крутым бакштагом[276]. Это было разумно — парусные суда не ходят вдоль этих островов и островков, о которые бешено бьется море и которые защищены сотнями скал. К магелланийскому побережью до пятьдесят шестой параллели лучше не приближаться, а тогда оставить мыс Горн по левому борту, имея справа островки Диего-Рамирес. Возможно, в Атлантике «Джонатан» встретит более благоприятные ветры, которые помчат его к мысу Доброй Надежды.
Конечно, Магелланов пролив более короткий и относительно более легкий для прохождения парусных судов, плывущих с запада на восток. Поэтому капитан Леккар еще раз детально изучил все ходы и выходы в пролив. Его интересовало, можно ли войти в Магелланов пролив, не возвращаясь при этом к мысу Пилар. Лоцман, хорошо знающий архипелаг, — такой, например, как Карроли, — смог бы выполнить столь сложную задачу, он провел бы корабль по проливу Кокберн южнее острова Десоласьон, обогнул бы остров Кларенс либо у его северо-западной, либо юго-восточной оконечности. Затем, не выходя в открытое море, достиг бы мыса Фроуард на полуострове Брансуик. Отсюда «Джонатан» мог бы подняться к северу и, пройдя мимо Пор та Голода, Пунта-Аренаса и через две узкие горловины, вышел бы из пролива в Атлантический океан между мысами Вирхенес и Эспириту-Санто на пятьдесят второй параллели. Это было вполне реально. Но без опытного провожатого было бы опрометчиво пускаться в плавание по лабиринту островов и островков, даже имея очень точные карты, и капитан Леккар поступил правильно, отказавшись от этой возможности. А потому «Джонатан» продолжал спускаться по меридиану, постоянно отклоняясь к юго-востоку, насколько позволяло состояние моря, и держась на расстоянии свыше тридцати миль от островов Стюарт, Гилберт и Лондондерри. После суток очень трудного перехода, 15 февраля, он был на траверзе островков Санто-Ильдефонсо.
К несчастью, бешенство бури еще не утихло, и открытое пространство являло собой арену, где сталкивали свои воды Тихий и Атлантический океаны. Должно быть, капитан Леккар все больше сожалел о том, что не попал в пролив, где он к тому же нашел бы много удобных мест для стоянки. Наступал вечер. Ветер свирепствовал. Бушующее море нещадно трепало судно, приходилось то и дело уменьшать парусность. Ночь с 15 на 16 февраля была жуткой. С обоих побережий Америки по косой налетали шквалы, сталкиваясь между собой у мыса Горн, где клипер боролся с двумя океанами.
К шести часам утра налетел шквал такой силы, что обе бизань-мачты сломались и рухнули на фальшборт. Неверный поворот руля, которого не удалось избежать, — и несколько человек покатились по палубе, а корабль развернуло лагом[277] к волне. Он резко накренился на правый борт, грозя опрокинуться. Показалось даже, что «Джонатан» не сможет выровнять крен, потому что массы воды перекатывались по палубе, не успевая выливаться через шпигаты. Между тем ему удалось выпрямиться, и его марсели, поспешно обнесенные[2 - То есть перемещенные вместе с реем вокруг мачты.]по приказу лейтенанта Фарнера, помогли судну развернуться по волне.
Но произошло непоправимое — волной унесло капитана Леккара. Спасти его не удалось. Двое матросов исчезли вместе с ним. Падающая бизань-мачта смертельно ранила старшего помощника Масгрейва и лейтенанта Меддисона.
Положение было таково: корабль стал неуправляем, капитан пропал, старпом и один из лейтенантов получили смертельные травмы, погибли несколько матросов! Из командиров остались лейтенант Фарнер, молодой офицер двадцати трех лет, старший боцман Том Сэнд и два младших боцмана, а для маневрирования — не больше семнадцати человек! Из пассажиров, отказавшихся оставаться в трюме или в надстройке, многие тоже погибли, а среди обезумевших живых царила паника, прекратить которую было некому.
Внезапно, около семи часов, наступило затишье, и, хотя волнение на море продолжалось, северные ветры внезапно прекратились, словно в атмосфере с той стороны совсем не осталось воздуха. Однако уже через несколько минут порывы ветра возобновились с удвоенной силой, и на этот раз они неслись на несокрушимые массивы американского архипелага с юга.
Беда, которая теперь обрушилась на корабль, привела к тому, что на лишившемся кормовых мачт судне было невозможно поставить паруса, чтобы держать курс и выдержать натиск новой бури, примчавшейся из далеких антарктических просторов. Кроме того, шедшая с севера волна сталкивалась с гонимыми южным ветром валами, так что поверхность моря пришла в полнейший беспорядок. Казалось даже, что с новым усилением бури мрак, и без того кромешный, стал еще беспросветнее.
Корабль несло к берегу, и — в этом теперь не было никаких сомнений — ничто уже не могло изменить ход событий. Но как далеко суша? Лейтенант Фарнер и боцман Том Ленд[278] полагали, что земля почти рядом, милях в десяти. Этой землей была Магеллания, где так много тихих бухт, готовых укрыть «Джонатан». Но кораблю было суждено погибнуть, прежде чем он достигнет спасительного убежища.
Оставшиеся в живых надеялись оттянуть катастрофу до рассвета — при свете дня могли появиться хоть какие-то шансы на спасение. Лейтенант и боцман сняли два последних марселя, оставив корабль без парусов. Но корпус этого крупного четырехмачтовика представлял слишком хорошую цель для ветра и волн, так что корабль приближался к берегу с достаточно высокой скоростью. Судя по всему, он налетит на скалы мыса Горн глубокой ночью.
И тогда — хотя какой помощи можно было здесь ожидать и откуда она могла прийти? — посреди ужасающего рева ветра и волн раздался пушечный выстрел, сигнал бедствия. Кромешную тьму разорвала вспышка пороха, но береговые скалы были достаточно далеко и не ответили на выстрел эхом.
«Джонатан» продолжал дрейфовать к берегу...
Читатель уже знает, что произошло, когда корабль был всего в нескольких милях от берега, когда на вершине скалы был зажжен костер, а Кау-джер, вместо того чтобы покончить жизнь самоубийством, вступил в борьбу со смертью, прилагая ради спасения сотен жертв отчаянные усилия подойти к кораблю на шаланде Карроли, сотни раз рискуя при этом потонуть во взбесившихся волнах.
Известно, как «Вель-Кьежу» удалось пристать к клиперу, как индеец и его сын обрубили тащившиеся за кормой мачты, как двое мужчин и мальчишка бросились на палубу в охваченную ужасом толпу, в то время как капитана смыло, а его главные помощники были смертельно ранены...
Известно, что Карроли по приказу Кау-джера схватил штурвал и, поставив все на карту, повел клипер по проливу у острова Эрми-те, оставив мыс Горн справа...
Известно, наконец, что катастрофы избежать было нельзя, что «Джонатан», сначала уведенный на север, под прикрытие острова Горн, потом снова вышел в бурное море, что на носу поставили штормовой парус, дабы выдерживать курс и привести судно на якорную стоянку у острова Эрмите, что падение грот-мачты и фок-мачты привело к новым жертвам, что клипер, лишившись последних парусов, был предан ярости ветра и моря, а потом выброшен возле той точки острова Осте, которой дали имя Ложного Горна...
Было три часа утра, и первые проблески зари еще не разорвали глубокого мрака. От удара о скалы «Джонатан» завалился на правый борт, а скрежет раздираемого металлического корпуса перекрыл рев бури.
Людей охватила паника: некоторые сами прыгали за борт, других выбросило силой удара. Но тех, кто оказался в воде, волны подхватывали и с яростью кидали на камни.
Уткнувшись в берег, корабль лежал неподвижно. Он сел на дно в полную воду[279]. С началом отлива вода уйдет на восток.
Кау-джеру, лейтенанту Фарнеру и боцману Тому Ленду не без труда удалось успокоить эмигрантов, которых неподвижность «Джонатана» в конце концов убедила в том, что теперь остается только дождаться наступления дня.
X ОСТЕ
Осте — средний по величине остров Магелланийского архипелага. Половину его северного побережья, тянущегося вдоль пятьдесят пятой параллели, омывают воды пролива Бигл. Здесь побережье представляет собой почти прямую линию, довольно неправильную с других сторон. На западе побережье образует почти прямой угол у входа в пролив Дарвина, отделяющий Осте от острова Гордон[280]. С юга вырисовывается узкая бухта, заканчивающаяся мысом Де-Ру, перед которым вечно бушует прибой у рифов острова Уотермен.
Дальше берег становится изрезанным, ощетинивается мысами, защищенными от открытого моря цепью островов: Вуд, Хоп и Хендерсон. На востоке глубоко врезается в сушу залив Нассау, открывающийся между островами Наварино и Вулластон, на юго-востоке в море выступает полуостров Харди, имеющий форму ятагана, острие которого образует мыс Ложный Горн.
Именно сюда был выброшен «Джонатан» — он лежал под углом к берегу: нос — на суше, корма — в воде.
Если судить по картам Кинга и Фицроя, остров Осте протянулся приблизительно на двадцать пять лье вдоль пролива Бигл при ширине (с севера на юг) не более десяти. В эти расчеты не включен полуостров Харди, очень узкий от самого основания; длина его, если измерять по кривизне, составляет около двенадцати лье.
На рассвете сквозь утренний туман, быстро рассеянный последними порывами бури, потерпевшие кораблекрушение увидели отвесные скалы полуострова, рассеченные расщелинами.
Гребень мыса был образован холмом, отвесно обрывавшимся к морю; вершина холма соединялась с другими возвышенностями полуострова, а подножие выстилали покрытые липким ковром бурых водорослей, в том числе фукусовых, черноватые скалы, по большей части заливавшиеся приливом, но открытые при малой воде[281]. Крупными светлыми пятнами среди скал выделялись несколько площадок белесого песка — еще мокрого, обильно усыпанного ракушками: всеми этими теребридами, фиссуреллами, морскими блюдечками, тритониями, турителлами, мактрами, венерками[282], столь частыми на магелланийских пляжах.
Теперь пассажиров трудно было удержать на палубе корабля. Нетрудно себе представить желание потерпевших кораблекрушение поскорее вступить на твердую землю и покинуть судно, неподвижно лежащее на прибрежных камнях.
Все спустились через носовую часть на берег. Человек сто направились в глубину полуострова, в северо-западном направлении, другие, которым не терпелось выяснить ситуацию, попытались взобраться на довольно крутые склоны, высота которых (две сотни футов) позволяла окинуть взглядом более или менее обширную часть острова.
Кау-джер и Карроли предложили лейтенанту Фарнеру и старшему боцману осмотреть место кораблекрушения и убедиться, не сможет ли «Джонатан» с приливом обрести плавучесть. К ним присоединился один из пассажиров — мистер Гарри Родс. Это был мужчина примерно пятидесяти лет; его общественное положение было явно выше, чем у большинства эмигрантов. Жена Родса и его дети, сын и дочь, остались на судне.
Надо сказать, что Кау-джер тщетно пытался помочь старпому Масгрейву и лейтенанту Меддисону. Оба они были мертвы. Из всех офицеров клипера выжил только Джон Фарнер.
Земля, на которой оказались пассажиры «Джонатана», на первый взгляд не произвела на них благоприятного впечатления. Ничего тоскливее этого Ложного Горна нельзя было представить. Если такая иссушенная земля продолжается и дальше, то потерпевшие кораблекрушение не смогут выжить: припасы с «Джонатана» рано или поздно закончатся. К тому же через месяц начнет чувствоваться приближение зимы, довольно ранней на широте Магеллании; если только случай не приведет в эти проливы какой-нибудь корабль, если не поступит никакой помощи из Пунта-Аренаса, придется смириться с мучительной зимовкой на побережье острова Осте.
Именно об этом вели разговор Кау-джер, лейтенант Фарнер, Том Ленд и Гарри Родс.
— В какой части Магеллании потерпел крушение «Джонатан»? — спросил лейтенант.
— На острове Осте, — ответил Кау-джер.
— В Магеллановом проливе? — поинтересовался мистер Родс.
— Нет. В проливе Бигл, отделяющем остров от Огненной Земли...
— Значит, мы от нее недалеко, — сказал боцман. — И если бы наши шлюпки не унесло, мы могли бы добраться до нее...
— Но у нас осталась шаланда, на которой вы добрались до клипера, — заметил лейтенант Фарнер, обращаясь к Кау-джеру.
— Она в хорошем состоянии? — спросил мистер Родс.
— Да, в полном порядке, — ответил Карроли, думая о том, чтобы скорее вернуться на «Вель-Кьеж», где оставались его сын и пес Золь.
— Перевезти на шаланде несколько сотен пассажиров — дело непростое. Это займет много времени, а если погода не улучшится... — сказал Кау-джер. — К тому же придется оставить продовольствие, инструменты...
Не стоит и говорить, что беседа велась на английском языке, на котором Карроли говорил благодаря своему лоцманскому ремеслу. Выслушав предложение покинуть остров, он сказал:
— Вряд ли стоит перебираться на Огненную Землю. Здесь пассажиры ни в чем не будут испытывать недостатка и вполне смогут перезимовать.
— Я тоже придерживаюсь этого мнения, — добавил Кау-джер, — и советую поступить именно так.
Слушая Карроли, Гарри Родс внимательно всматривался в него и понял, что перед ним — индеец.
— А вы кто? — спросил он, опередив лейтенанта Фарнера, который хотел задать тот же вопрос.
— Лоцман Карроли.
— В таком случае, лоцман, позвольте поблагодарить вас от имени пассажиров и экипажа. Вы рисковали ради нас жизнью, и мы обязаны вам своим спасением.
Затем Родс обратился к Кау-джеру:
— С кем имею честь...
— Не имеет значения, — ответил Кау-джер.
— А может быть, мы — соотечественники?
— Я — друг огнеземельцев. Живу в Магеллании уже несколько лет, — уклонился от ответа Кау-джер.
Мистер Родс больше не стал задавать вопросов, понимая, что столкнулся с какой-то тайной, и решил отнестись к ней с уважением, но при этом не преминул выразить Кау-джеру чувство признательности за самоотверженное поведение. Если бы Кау-джер не догадался разжечь костер на вершине мыса, если бы не бросился с друзьями на помощь «Джонатану», если бы Карроли не взял штурвал в свои руки и не провел судно сквозь узкий проход в защищенное место, «Джонатан» разбился бы о скалы острова Горн и погибли бы все, кто на нем находился. А если клипер все-таки выбросило на остров Осте, то это случилось не по вине лоцмана.
Что до погибших — то их, конечно, немало! Но жертвы исчислялись бы сотнями, если бы корабль разбился у мыса Горн.
Отлив продолжался. Лейтенант и его спутники спустились с холма, чтобы осмотреть корпус корабля, почти полностью оказавшийся на обсохших скалах. Гарри Родс присоединился к жене и детям. Кау-джер, желая, видимо, держаться в стороне, направился к оконечности полуострова.
При осмотре «Джонатана» сразу же стало ясно, что корабль ни на что не годен. По всей длине правого борта зияло не менее двадцати пробоин, заделать которые не представлялось никакой возможности, поскольку корпус клипера был не деревянный, а металлический. С мыслью о том, что «Джонатан» с приливом обретет плавучесть, пришлось расстаться. Море не замедлит закончить разрушения.
— Нам остается, не тратя времени даром, браться за спасение груза — перенести его в укрытое место, — сказал Том Ленд. — С приливом вода зальет трюмы с продуктами. И они придут в негодность.
— Да и не только продукты, — поддержал его лейтенант Фарнер. — На острове нам понадобится все: и строительные материалы, и инструменты, и хозяйственная утварь. Кто знает, может быть, придется зимовать здесь.
— В таком случае — за работу, — скомандовал боцман.
Разгрузка «Джонатана» действительно была неотложным делом — первый же шторм неизбежно уничтожит корабль со всем содержимым. Спасти груз — значит обеспечить проживание на этом острове, безо всякой связи с Чили или Аргентиной. А добраться даже до Пунта-Аренаса пока не представлялось возможным, хотя в любом случае надо пытаться связаться с чилийскими властями, чтобы с наступлением весны покинуть эти места.
Лейтенант и боцман возглавили разгрузку судна. Люди разных национальностей — немцы, американцы, ирландцы, — понимая сложность ситуации, энергично принялись за дело. Чего только не было в трюмах клипера: палатки, разборные домики, легко собираемые и удобные в использовании, строительные материалы под склады. Рабочих рук хватало, и дело спорилось.
К тому же весть о кораблекрушении быстро распространилась по всей Магеллании. В надежде подзаработать с соседних островов и с Огненной Земли прибывали огнеземельцы, рыбники. Эти миролюбивые и мягкие по характеру туземцы не представляли опасности, не то что воинственные патагонцы, любители поживиться за чужой счет.
Скоро работа по подготовке к зимовке была успешно закончена. Лейтенанту Фарнеру, поддержанному мистером Родсом и несколькими переселенцами, пользовавшимся у сограждан уважением, удалось установить строгую дисциплину, ничем не отличающуюся от корабельной. Недалеко до трагедии, когда среди людей разных национальностей возникают распри и они отказываются подчиняться какой-либо власти.
А опасаться неповиновения, бунта Гарри Родс и те колонисты, которые его поддерживали, имели основания. Еще не стерлись из их памяти события, которые произошли на «Джонатане» во время перехода через Тихий океан: попытка мятежа, подстрекательские действия братьев Джона и Джека Мерритов, сумевших подчинить своему влиянию кое-кого из колонистов, и решительные меры, принятые блаженной памяти капитаном Леккаром, который был вынужден изолировать этих зачинщиков бунта — и не раз, — запрещая им всякое общение с пассажирами. И не существовало никакой гарантии, что они не рискнут воспользоваться обстоятельствами и не попытаются вновь поднять мятеж.
Поначалу поведение братьев Меррит не вызывало подозрений — анархисты понимали, что за ними наблюдают. Впрочем, им было позволено покинуть место зимовки и увести своих сторонников в любую другую точку острова, предъявив права на часть груза. Бунтовщики этого не сделали. Вместе с другими пассажирами они под руководством лейтенанта и боцмана разгружали корабль. Но это не означало, что во время долгих месяцев зимовки они не внесут смуты в души переселенцев.
Правда, никто не собирался основывать колонию на острове Осте. Здесь оказались не эмигранты, прибывшие на место назначения, а люди, потерпевшие кораблекрушение, спасение которых могло произойти не раньше, чем через несколько месяцев; единственной заботой этих несчастных стало обеспечение своего существования во время зимы.
Впрочем, люди эти находились в гораздо лучших условиях, чем те, кого судьба забрасывает на клочок суши, ни названия, ни местоположения которого потерпевшие не знают, например, на один из уединенных тихоокеанских островков вдали от посещаемых морских путей.
Нет, катастрофа произошла в Магелланийском архипелаге, на полуострове Харди острова Осте, нанесенного на карты, хорошо известного Кау-джеру и лоцману Карроли, в той части архипелага, которая принадлежала теперь чилийскому правительству, не более чем в сотне лье от Пунта-Аренаса, столицы чилийской Магеллании. Про кораблекрушение скоро узнают, и, как только позволит погода, за ними пришлют корабль — либо из какого-нибудь южноамериканского порта, либо из Калифорнии, из Сан-Франциско, откуда вышел несколько недель назад «Джонатан».
К тому же для обустройства жилищ все было под рукой, продовольствия также хватало. И если бы не суровый климат, жизнь этих людей ничем не отличалась бы от той, которая ждала их в первые месяцы пребывания на африканской земле.
Спустя три недели после кораблекрушения (а разгрузили корабль дней за восемь), 17 марта, на полуострове Харди был разбит лагерь, и приход зимы уже не так пугал переселенцев.
Само собой разумеется, что прилегающая к лагерю местность была тщательно обследована. Если унылый — вплоть до безжизненных скал Ложного Горна — вид полуострова Харди глаз не радовал, то совсем не так выглядели зеленеющие холмы на северо-западе. Со скалами, покрытыми бурыми морскими водорослями, с лощинами, поросшими вереском, соседствовали обширные луга, настоящие девственные пастбища, обрамлявшие лесистые холмы у подножия гор Сентри-Боксиз, являвшихся остовом полуострова. Все заросло дороникумом с желтыми цветами, голубыми и фиолетовыми солончаковыми астрами, метровым крестовником, кальцеоляриями, вьющимся ракитником, анцистром с крупными плодами, костром, ковылем, бедренцом. Кончались одни пастбища — начинались другие, с роскошными мягкими травами, на которых могли бы прокормиться сотни голов скота. И в самом деле, крупный и мелкий рогатый скот с борта «Джонатана» вволю наедался этими травами.
Как-то раз мистер Родс и несколько переселенцев решили осмотреть окрестности и прошагали дюжину миль в северо-западном направлении. Гидом был Кау-джер. Они дошли до залива Буршье на западном побережье, до заливов Орендж и Скочуэлл и даже до полуострова между бухтой Текеника и заливом Понсонби, который впоследствии назовут именем Пастера. Горы на этом полуострове были покрыты вечными снегами.
Путешественники не переставали удивляться и восхищаться увиденным. Богатые пастбища свидетельствовали о плодородной почве, которую насыщали влагой многочисленные ручейки, впадающие в небольшую речку с чистой, прозрачной водой, стекающую с холмов, расположенных в центральной части полуострова. Леса, окаймлявшие бескрайние луга, состояли в основном из стройного нотофагуса, крепко цеплявшегося корнями за торфянистую почву. Подлесок почти полностью отсутствовал, а его место иногда занимали ветвистые мхи. В лесных зарослях можно было встретить немало дрими-сов, достигавших у основания двух метров в обхвате, барбарисы с чрезвычайно прочной древесиной и особый, похожий на кипарис вид хвойных высотой в тридцать — сорок футов.
Под зелеными сводами резвились полчища пернатых — тинаму[283] шести видов, одни величиной с перепела, другие — с фазана, певчие и черные дрозды; этих птиц можно бы было назвать полевыми. Побережье изобиловало водоплавающими: гусями, утками, бакланами, чайками. Нанду, гуанако и вигони оживляли луговые просторы.
Лагерь разбили в полумиле от места кораблекрушения. Здесь протекала речка с тенистыми берегами, вбиравшая в себя множество ручьев и впадавшая в небольшую бухту, которая в случае необходимости могла служить гаванью, так как была закрыта от ветра грядой холмов, поднимавшихся на высоту более шестисот метров.
Кау-джер и Карроли, указавшие переселенцам это место, успокаивали их и говорили, что холодный сезон, продолжающийся за пятьдесят второй параллелью с апреля по октябрь, не столь страшен, как может показаться. Сильных морозов, обычных для полярных областей, здесь не бывает, а при снежном покрове, который держится в течение нескольких месяцев, холод переносится легко.
Конечно, несчастье причинило жестокие страдания пассажирам «Джонатана». Они в это время должны были находиться посередине Атлантики, приближаться к мысу Доброй Надежды, а вместо этого надолго застряли на одном из островов Магелланийского архипелага. Но, в сущности, помимо скорби о погибших при кораблекрушении им грозила всего-то задержка на несколько месяцев.
Мистер Родс, который часто вел беседы с Кау-джером, его жена, серьезная и благоразумная женщина, и их дети — восемнадцатилетний сын Эдуард и пятнадцатилетняя дочь Кларри — питали к Кау-джеру добрые чувства, хотя и не находили объяснения его образу жизни. Кау-джер также благожелательно относился к семье, почитаемой многими другими колонистами. Вне всякого сомнения, мистеру Родсу была уготована роль миротворца.
Тем не менее Кау-джер держался, по обыкновению, замкнуто, хотя и не отказывал никому в советах, за которыми к нему обращались и которым следовали. Никаких отношений с ним не поддерживали только братья Меррит и еще несколько колонистов, не подозревавшие, что он также был противником любой власти, любого социального порядка. Но теперь, когда Кау-джер вернулся к жизни, чтобы помочь людям, попавшим в беду, продолжит ли он свой путь к мысу Горн или останется на земле ставшей чилийской?
Лагерь у Яканы (так назывался водный поток на Осте) приобретал все более жилой вид, зато корабль с каждым приливом все больше разрушался. Палатки и домики возвели на левом берегу реки, и достаточно было пройти вверх по течению всего полмили, чтобы добраться до лугов, занимавших восточную часть острова. В склады, установленные под густой кроной высоких нотофагусов, перенесли все продукты питания, которые были предназначены для колонии в устье реки Оранжевой. Построили курятники и свинарник, для коров, коз и овец на пастбищах отгородили загоны.
Волею судеб люди разных национальностей оказались в трудных условиях. Их жизнь зависела от многого, в частности от дисциплины, без которой могло произойти что угодно. И вряд ли роль блюстителя порядка подходила молодому лейтенанту. Если бы капитан Леккар или хотя бы старший помощник Масгрейв остались в живых, им, возможно, и удалось бы сохранить порядок среди переживших кораблекрушение, как они поддерживали его среди пассажиров. Но старшие офицеры погибли, а из оставшихся в живых никто, казалось, не был предназначен для командования другими. Кроме того, по-прежнему следовало опасаться, как бы братья Меррит не пробудили в людях недоброе, не вызвали беспорядки вместо послушания!
Впрочем, чилийское правительство, без сомнения, захочет вмешаться. Ведь остров принадлежит Чили, и к кому же, если не к властям этой страны, обращаться за помощью потерпевшим кораблекрушение? Постановили поэтому отправить Карроли с сыном в Пунто-Аренас, с тем чтобы поставить в известность его превосходительство господина Агире.
Сопровождать лоцмана вызвался мистер Родс. Действительно, американцу Родсу более пристало вести переговоры с представителями чилийского правительства, чем индейцу. Джон и Джек Мерриты поначалу воспротивились этой поездке. Они сочли, что такой демарш отдаст переселенцев во власть чилийцам. Однако их удалось переубедить. Кау-джер, к которому обратились за советом, поддержал принятое решение, хотя сам намеревался покинуть остров до прибытия полицейских чиновников из Пунта-Аренаса.
Простившись с семьей, мистер Родс 20 марта присоединился к Карроли. «Вель-Кьеж», обогнув оконечность полуострова Харди, пересек залив Нассау, вошел в узкий проход Магрей между островами Осте и Наварило, затем в пролив Бигл и взял курс на запад к острову Кларенс, чтобы выйти в Магелланов пролив. Предполагалось, что «Вель-Кьеж» вернется через три недели, то есть до начала зимы, которая затруднит, а то и сделает невозможным плавание по узким проливам архипелага.
За время отсутствия мистера Родса и Карроли жизнь в лагере наладилась. Только братья Меррит и несколько их приспешников демонстративно отделились от переселенцев, но беспорядков они не устраивали.
Девятого апреля, во второй половине дня, шаланда появилась на горизонте. Как только она пристала, мистер Родс спрыгнул на берег и оказался в объятиях родных и друзей.
В Пунта-Аренасе он виделся с господином Агире, который уже знал о кораблекрушении «Джонатана». Чилийское правительство решило помочь переселенцам, но в данный момент не было ни одного корабля, который мог бы доставить такое количество людей в Вальпараисо или какой-нибудь другой южноамериканский порт. К тому же положение потерпевших кораблекрушение не было безвыходным: колонисты имели годовой запас продовольствия и крышу над головой. Самым лучшим, следовательно, было смириться и остаться на несколько месяцев на острове Осте. Губернатор обещал не забывать о зимовщиках и в случае необходимости поддержания порядка выслать сторожевой корабль из Пунта-Аренаса. Таков был результат поездки мистера Родса. Колонисты могли рассчитывать на добрую волю чилийского правительства, гарантировавшего им спокойную жизнь в ожидании корабля для репатриации. Значит, не стоит бояться зимы, которая вскоре укутает снегом Магелланийский архипелаг.
XI ЗИМОВКА
Зима заявила о своем приходе сильными атмосферными бурями в первых числах апреля, но не застала врасплох пассажиров «Джонатана», ставших временными колонистами на острове Осте и устроившихся так, чтобы им не докучали ни порывы ветра, ни холод. Большинство колонистов жили в тщательно закрывавшихся домах. В них сложили печки, а дрова заготовляли в соседних лесах. Таким образом люди защищались от холодов, впрочем, в Магеллании очень незначительных.
До наступления холодов какая-то часть переселенцев — не более сотни — еще предпочитала жить на корабле — в надстройке и трюмах, хотя они стали мало подходящими для этой цели. Но два или три пришедших с юга шторма нагнали через проливы воду, и она обрушилась на полуостров Харди. Корпус клипера, и так уже сильно поврежденный, получал одну пробоину за другой. Дни его были сочтены. Оставаться на нем стало небезопасно, и люди заняли свободные палатки, которые ни в чем не уступали вигвамам огнеземельцев. Все, что хоть как-то могло пригодиться в хозяйстве, сняли с судна и перенесли в лагерь.
Свою шаланду Карроли укрыл в небольшой скалистой бухточке недалеко от устья Яканы. Морские волны, разбиваясь о рифы, не доходили до «Вель-Кьежа», и друзья обосновались на нем, потихоньку готовясь к отплытию, дату которого еще не назначили.
После юго-западного шторма бури прекратились. Импровизированная деревня, раскинувшаяся на левом берегу реки, за холмом, почти не пострадала: ни домишкам, ни палаткам не был страшен даже самый сильный ветер. Однако, когда температура понизилась, мороз дал о себе знать.
Кау-джер пытался успокоить людей, рассказывая им о погодных условиях края, о том, что зима здесь не такая долгая и суровая, как в Канаде, Ирландии или северных районах Соединенных Штатов, откуда родом большинство колонистов, и что климат в Магеллании напоминает климат южных областей Африки. Беседы эти часто велись в семье Родса, которая все больше привязывалась к Кау-джеру. Как же она будет сожалеть, когда наступит день расставания! Стоит ли говорить, что мистер Родс был хорошо воспитанным человеком, здравомыслящим, глубоко верующим, как и вся его семья, которая до отъезда проживала в Мэдисоне, в штате Висконсин. Решение покинуть родину он принял, когда дела его пошли из рук вон плохо. Попытать счастья мистер Родс хотел не столько ради себя, сколько ради детей. Миссис Родс, женщина серьезная и волевая, поддержала мужа и была готова разделить с ним тяжелую жизнь эмигрантов. Они покинули Мэдисон вместе с детьми, которых обожали и которые отвечали им тем же. В колонии эта семья завоевала, можно сказать, всеобщую симпатию, и со временем ее влияние будет постоянно возрастать.
Домик Родсов стоял на правом берегу реки среди двух десятков других; ухоженное пространство между ними и берегом реки образовывало маленькую площадь. Этот прообраз деревни затеняли нотофагусы и березы[284]. Домик представлял собой четыре дощатые стены с крышей, выданные Обществом помощи переселенцам. Обустройством занимались сами колонисты — расставляли кой-какую мебель, кровати, хозяйственную утварь.
У Родсов Кау-джер проводил все свободное время, остававшееся от прогулок вместе с мистером Родсом и другими колонистами в различные части острова. С наступлением ночи он возвращался на шаланду, где его ждали Карроли с сыном, в любую минуту готовые к отплытию.
Да, но куда плыть? Вопрос для Кау-джера непростой. Вернуться на Исла-Нуэву? Но он покинул остров навсегда. И как можно забыть те мысли, которые обуревали его на пути к мысу Горн? Его внутренняя тревога выражалась в том, что он часто говорил о скором отъезде. Как-то мистер Родс сказал ему:
— Вы стали другом нашей семьи. Почему вы хотите покинуть нас? Почему бы вам не остаться с нами на время зимовки?
Кау-джер промолчал.
— Дождитесь хотя бы прибытия корабля. Мысль о скором расставании просто невыносима, — вступила в разговор миссис Родс.
— Вы спасли нам жизнь, — добавил Марк[285].
— О, останьтесь, пожалуйста, господин Кау-джер! — взмолилась Кларри.
Кау-джер решительно покачал головой.
— Я не могу этого сделать. Я должен уехать как можно скорее. Да, как можно скорее...
— Чтобы вернуться на Исла-Нуэву? — спросил мистер Родс. — И там охотиться, ловить рыбу, продавать шкуры. Но этим вы можете заниматься и здесь... Что же вам мешает провести эту зиму с нами?..
На все уговоры Кау-джер продолжал давать уклончивые ответы, а то ссылался на Карроли: якобы индеец и его сын не могут оставить жилище на Исла-Нуэве. Там они выбрали место для поселения, там Кау-джер решил разделить их одинокое существование. К тому же этот остров наилучшим образом подходит для Карроли с его ремеслом лоцмана. Оттуда капитаны, намеревающиеся пройти проливом Бигл, вызывают его, поднимая белый флаг, обшитый голубой каймой. Если Карроли оставит свой пост на Исла-Нуэве, корабли будут искать другие пути.
— Но корабли не заходят зимой в эти края и с марта по октябрь работы для лоцмана нет. Навигация прекращается по меньшей мере месяцев на пять, и можно вернуться на остров только к концу марта, — не уступал мистер Родс.
Кау-джер продолжал под благовидными предлогами отнекиваться, и у гостеприимных хозяев появлялось ощущение, что этот человек скрывает какую-то тайну.
— А почему индеец с сыном не могут вернуться одни?
— Нет, — ответил Кау-джер. — Я не хотел бы расставаться с ними... Нашей дружбе уже много лет, и для него это будет таким же ударом, как и для меня.
— Тогда пусть он останется здесь, — сказала миссис Родс. — И перестаньте думать об отъезде. Вы видите, как вы нам нужны. Здесь много женщин, детей, которые нуждаются в лечении, и им требуется ваша помощь. Пришла зима, и кто знает, что она принесет.
— Зима вам не страшна, миссис Родс. Эти края я хорошо знаю и уверяю, что даже в июле, в самый разгар зимы, сильных морозов тут не бывает. У вас на родине северный ветер дует из покрытых льдом заполярных областей... Здесь же южный ветер преодолевает незамерзающие океанские просторы...
Не одна семья Родс вела с Кау-джером подобные разговоры. С просьбой остаться к нему обращались многие. Во всяком случае, те, кто понимал, насколько необходимо его присутствие в поселке и насколько нелегко будет им без его самоотверженности и доброты. Да к тому же в его распоряжении оказались все медикаменты, спасенные с погибшего корабля, и как хорошо он сумеет ими распорядиться!
Да! Человеколюбие требовало остаться на острове Осте... Кау-джер это понимал, и в душе его, вероятно, шла борьба. Но никто из уговаривавших его остаться людей даже не подозревал, что со дня на день он ждет прибытия полицейских чиновников из Пунта-Аренаса. Ему было прекрасно известно, сколь нежелательно губернатору его присутствие в Магеллании. Если его увидят среди потерпевших крушение, то обязательно допросят, как уже собирались сделать на Исла-Нуэве. А ведь он бежал из Магеллании, утратившей независимость по договору 1881 года, только для того, чтобы сохранить свою тайну.
Но время шло, а он не уезжал, полагая, что всегда успеет это сделать: как только на горизонте появится сторожевик из Пунта-Аренаса или корабль, посланный за пассажирами «Джонатана», они с Карроли поднимут паруса.
Каждое утро Кау-джер поднимался на вершину холма, и никто не догадывался, почему он так внимательно вглядывается в морскую даль.
Но в это время года вряд ли найдется капитан, который отважится пуститься в плавание по проливам архипелага. Снежные бури невиданной силы проносятся над морем, а плавающие льдины практически не позволяют пользоваться проливами.
Заканчивался май, сильные холода так и не наступили. Кау-джер больше не говорил о своем отъезде, и мистер и миссис Родс перестали задавать ему вопросы. Ведь он с ними, и это главное! Шаланда стояла в бухте, а Кау-джер продолжал оказывать помощь тем, кто в ней нуждался. Он стал благодетелем потерпевших кораблекрушение, как раньше был таковым для индейцев.
Он не только оказывал помощь, но и давал советы, и эти рекомендации человека, хорошо знавшего район, его климат и ресурсы, были очень полезны для зимовавших на острове Осте.
Так проходили короткие зимние дни и долгие ночи, и надо признаться, что здоровье обитателей этого маленького мира было вполне хорошим. Заболевания, конечно, случались, но заботы Кау-дже-ра побеждали их. Бывали и смертные случаи, но погибали малолетние дети, организм которых вряд ли сопротивлялся бы лучше в южноафриканском климате.
В целом, можно было считать счастьем, что пассажиры «Джонатана» не были выброшены на остров Осте в разгар зимы! Насколько бы отличались в этом случае их впечатления! Вместо зеленеющих равнин, пышных летних лесов, залитого солнцем неба их бы встретили серые туманы, укрывающие высокие холмы, массивы заиндевевших деревьев, листья которых свешивались бы подобно серебряным языкам, огромный снежный ковер, под которым исчезли бы береговой пригорок, пляж и берега реки Яканы, все палатки, склады и домики. Поселок потерпевших кораблекрушение стал бы похож на деревушку в сибирской глуши.
Люди благодарили судьбу, что стихия не выбросила клипер на западе архипелага—на острова Кларенс, или Десоласьон, или на Землю Вильгельма, открытые тихоокеанским бурям, а тем более на длинный полуостров с горой Сармьенто на западе Огненной Земли, превращающуюся зимой в Ледяную Землю! Горы здесь значительно более высокие, чем на острове Осте, а их вершины не расстаются с туманами, которые в теплую половину года еще и орошают горные склоны влагой. Верхние части гор покрыты ослепительно сверкающими вечными льдами. Неописуемый хаос царит в этих горах: купола, пики, зубцы, причудливо выветренные отроги — это последние поднятия Андийской Кордильеры, умирающей на самой оконечности Нового Света!
Да, обе половины Магелланийского архипелага сильно различаются между собой. Природа явно отдала предпочтение восточной части Магелланийского архипелага, то есть Огненной Земле и прилегающим к ней островам. Стало быть, договор 1881 года справедливо разделил архипелаг между претендовавшими на него государствами. Но почему же этот раздел лишил острова независимости?..
Надо заметить: из того, что архипелаг страдает от зимних холодов, что бури налетают на острова с чрезвычайной яростью, вершины покрыты льдом, а прибрежные равнины исчезают под снегом, вовсе не следует, что животных здесь нет. В лесах постоянно находят себе приют, и в большом количестве, жвачные животные, страусы, гуанако, вигони, лисы. Над лугами летают горные гуси, мелкие куропатки, бекасы и кулики. На побережье в изобилии водятся чайки со съедобным мясом, кулики-сороки с желтыми лапами и красным клювом и крупные морские птицы — альбатросы. Киты заплывают даже в проливы, а песчаные пляжи облюбованы морскими волками. Среди скал, в гуще водорослей, обитает множество трески, миног, крупных ракообразных, и даже в водах Яканы живут мелкие галаксии[286].
Охота и рыбная ловля позволили переселенцам экономно расходовать продовольственные запасы «Джонатана» и питаться свежей и здоровой пищей. Многие путешественники, побывавшие в этих краях, отмечали высокие вкусовые и питательные качества огнеземельской и патагонской дичи. Что до ирландцев и американцев, а их было вместе человек пятьдесят, то они — под руководством Карроли — находили удовольствие в охоте на тюленей. А отсюда следует, что, хотя остров Осте и был необитаем, его можно было заселить и он обеспечил бы пропитание нескольким тысячам жителей.
Самым холодным месяцем выдался июль, но температура в ясную погоду ниже минус семи градусов по Цельсию не опускалась. У побережья образовалась ледяная кромка. Замерзшая Якана позволила переходить по льду из одной части лагеря в другую. Разумеется, Магелланов пролив, отделяющий Патагонию от Огненной Земли, оставался свободным ото льда, как, впрочем, и пролив Бигл, так что в случае необходимости можно было быстро установить сообщение между Пунта-Аренасом и полуостровом Харди.
На остров Осте наведывались туземцы с Огненной Земли (они рыбачили в заливе Нассау). На северном берегу полуострова Харди рыбаки разбили временную стоянку. Между переселенцами и индейцами-рыбниками установились самые добрые отношения. А Кау-джер встретил старых знакомых, в основном тех, кого ему приходилось лечить. Мистер Родс был поражен, с каким благоговением аборигены относятся к Кау-джеру.
— Теперь я понимаю, почему вы хотите вернуться. Вы для них Бог! — сказал он как-то Кау-джеру.
— Разве надо быть Богом, чтобы делать добро? — удивился Кау-джер. — Достаточно оставаться человеком.
Мистер Родс, для которого вера в милосердного и справедливого Бога была стержнем жизни, огорчился, увидев в Кау-джере безбожника, материалиста, но обсуждать это не стал, а лишь добавил:
— Пусть будет так, коль скоро имя Божье режет вам слух. Но, когда Магеллания была свободна, только от вас зависело, быть ли ее повелителем.
— Народы, пусть самые дикие, не нуждаются ни в Боге, ни в господине. К тому же хозяин у них объявился, — сказал Кау-джер и тихо, так, чтобы его не услышал мистер Родс, добавил: — И я вынужден их покинуть. Я не могу здесь остаться.
В начале октября пахнуло весной. Снегопады сменились дождями, насыщая почву влагой. Склоны холмов запестрели полосками зелени; нотофагусы освободили свои ветки из-под белого савана; начали раскрываться почки, а у вечнозеленых деревьев появились молодые побеги. Начался ледоход, и реки быстро освобождались ото льда. Очистилось от ледяного покрова и устье Яканы. Выцветший, прошлогодний вереск шелестел от порывов налетавшего бриза. Стволы деревьев покрылись мхами и лишайниками; на песчаных пляжах засверкали ракушки, в изобилии отложенные волнами; в воде, у подножия скал, ожили оцепеневшие от холода ламинарии, пошли в рост фукусовые и прочие бурые водоросли. Под живительными лучами солнца природа окрасилась в нежные цвета, а воздух наполнился благоуханием.
Правда, еще случались ветреные дни и море обрушивало на берег волны, но чувствовалось, что период жестоких бурь закончился и наступает время летнего покоя.
В один из таких дней семья Родс отмечала приход тепла, надеясь скоро покинуть остров. День выдался тихий, небо было чистое, ярко светило солнце. Температура поднялась до девяти градусов выше нуля. До обеда и после него поселенцы гуляли вдоль пляжа, у подножия холма или по берегам Яканы, подставляя лица солнечным лучам и морскому бризу.
После завтрака Кау-джер присоединился к своим друзьям, которые отправились на прогулку. На ялике, чудом уцелевшем во время кораблекрушения, они пересекли речку. На том берегу заметили нескольких «молотильщиков», охотившихся на ползавших по пляжу, забиравшихся на скалы или спавших у их подножия тюленей.
Кау-джер казался более задумчивым, чем обычно. Почти все время он молчал, думая, видимо, о том времени, когда ему придется расстаться с почтенной семьей, которая пробудила в нем столь естественный для людей инстинкт общения. А потому его не могла не огорчать мысль о разлуке с честным и мужественным человеком, его женой, тонкой и обаятельной женщиной, олицетворяющей добродетель, с милыми детьми — Марком и Кларри, — к которым он успел привязаться. Горечь расставания испытывала и семья Родс. Какое счастье, если бы Кау-джер согласился поехать вместе с ними в Африку, помог организовать там колонию! Все любили бы его, уважали, ценили его способности, как это было здесь, на острове Осте. Но мистер Родс понимал, что без серьезных причин Кау-джер не мог порвать с обществом, и разгадка этого странного и таинственного существования все еще ускользала от него.
— Вот и зиме конец, — сказала как-то миссис Родс. — Природа была к нам милостива.
— И надо признать, — поддержал ее муж, обращаясь к Кау-дже-ру, — что ваши прогнозы оправдались. Мне кажется, не один из нас испытывает грусть, думая, что скоро придется покинуть Осте.
— Так зачем же покидать его? — воскликнул Марк. — Давайте создадим колонию здесь.
— Ну-ну! — улыбнулся сыну мистер Родс. — А как же наша колония на реке Оранжевой, затраты Общества помощи переселенцам... концессия, данная португальским правительством?
— Раз есть обязательства перед португальским правительством, — заговорил наконец Кау-джер с легкой иронией в голосе, — их надо выполнять. Здесь, кстати, свое, чилийское, правительство, и одно стоит другого.
— Вот если бы на полгода раньше... — начал говорить Гарри Родс, но Кау-джер перебил его.
— Если бы вы приехали сюда на полгода раньше, вы высадились бы на свободной земле. Теперь же дьявольский договор лишил ее независимости.
И Кау-джер, скрестив руки на груди и вскинув голову, устремил взгляд на запад, как будто ожидал, что вот-вот из пролива Дарвина покажется чилийский сторожевик.
Братья Меррит со своими сторонниками — группой переселенцев примерно из тридцати человек, — прогуливавшиеся в это время по острову, держали себя крайне вызывающе. Эти люди никогда не скрывали враждебных чувств по отношению к мистеру Родсу — они не могли понять, почему он пользуется всеобщим уважением. К Кау-джеру братья тоже не испытывали симпатии, но его роли в жизни колонии отрицать не могли. Ни для Родса, ни для Кау-джера это не было секретом.
— Я с удовольствием оставил бы их здесь, — сказал мистер Родс, глядя на них. — Ничего хорошего ждать от этих ребят не приходится. В новой колонии в Африке они еще устроят беспорядки. Они не хотят признавать никакой власти и вечно грезят о бунте, дабы привести в действие свои мерзкие доктрины!.. Будто бы порядок и власть не нужны любому обществу, любой нации, большой или малой, при каком бы режиме она ни жила!
Кау-джер ничего не ответил — то ли был углублен в свои мысли, то ли не расслышал, то ли не счел нужным высказать свое мнение по этому вопросу.
Надо сказать, что в течение всей зимы анархисты, а было их человек сто, держались особняком и никак не нарушали размеренную жизнь поселенцев. Происходило это потому, что они считали свое пребывание на острове Осте временным. Однако у мистера Родса были подозрения, что, если корабль — в силу каких-либо обстоятельств — не придет за ними до конца лета, на острове возможны беспорядки и даже мятеж, которые придется подавлять, как это произошло на борту «Джонатана». Он гнал от себя тревожные мысли, уверенный в том, что пребывание на острове не должно быть длительным. По мнению оптимистов, оно закончится очень скоро, ведь американское Общество помощи переселенцам в курсе происходящих событий. А это значит, что оно зафрахтует корабль, который перевезет переселенцев в Африку. Если этот вариант отпадает, то за ними наверняка будет послан какой-нибудь чилийский или аргентинский пароход, который доставит их в Вальпараисо или Буэнос-Айрес.
Дни шли, и ожидание рождало легкое беспокойство. Растительность между тем возрождалась с чрезвычайной силой. Богатейшими пастбищами могли бы воспользоваться тысячи травоядных. От зимних снегов осталось всего несколько сугробов в затененных местах, но и эти последние сугробы скоро растают. Охотники и рыболовы занялись любимым делом. Одни уходили в луга и леса за гуанако, вигонями, страусами и даже за ягуарами и пумами, другие отправлялись на побережье за рыбой и ластоногими. Карроли, опытный охотник на тюленей, занялся заготовкой меха, который он предполагал продать по возвращении на Исла-Нуэву, если, конечно, Кау-джер пожелает туда вернуться.
Наступила вторая половина октября. Кроме каботажных шхун с Мальвинских островов, не приспособленных для перевозки большого количества людей, ни один корабль не появился на горизонте. Губернатор еще не выслал из Пунта-Аренаса сторожевик, несмотря на обещание, которое он дал мистеру Родсу, когда тот несколько месяцев назад посетил столицу чилийской Магеллании.
Переселенцы начали волноваться. Конечно, на острове Осте они ни в чем не нуждались — запасов продуктов хватило бы еще на несколько месяцев. Но ведь они не добрались до места назначения и не испытывали никакого желания провести на острове еще одну зиму. А потому решили направить делегацию в Пунта-Аренас к губернатору. Гарри Родс попросил Кау-джера предоставить в его распоряжение «Вель-Кьеж».
Разумеется, эта просьба пришлась не по душе Кау-джеру, который намеревался вернуться на Исла-Нуэву. Плавание шаланды заняло бы не меньше трех недель, а значит, настолько же пришлось бы отложить отъезд. А что, если сторожевой корабль придет в отсутствие «Вель-Кьежа»? Тогда не избежать встречи с представителями чилийских властей.
Но, несмотря на все эти соображения, Кау-джер не отказал в просьбе Родсу. Отплытие назначили на следующий день, на 16 октября. И на этот раз мистер Родс собрался в путь, а сопровождать его должен был лейтенант Фарнер, собиравшийся потребовать немедленной репатриации остатков экипажа «Джонатана». Однако вечером того же дня все изменилось коренным образом.
В сумерках, как обычно, Кау-джер поднялся на вершину холма, наблюдая за акваторией к западу от Ложного Горна, в направлении острова Хендерсон. Солнце склонялось к горизонту, по волнистой поверхности моря бежала длинная, сверкающая полоска. Внезапно взгляд Кау-джера приковала едва заметная точка, отдаленная от острова на восемь-девять миль. Лицо его помрачнело. Убедившись, что не ошибся, Кау-джер проговорил:
— Это сторожевик, вне всякого сомнения.
Он остался на вершине холма, дожидаясь захода солнца. Да, это был чилийский сторожевой корабль, искавший удобный подход к острову.
Настала ночь: скорее всего до рассвета судно не подойдет к берегу — в темноте, без лоцмана никто не рискнет искать место стоянки.
Какое-то время он стоял неподвижно, с тяжелым сердцем, с тревогой в душе. Потом медленно спустился с холма.
Известие о прибытии корабля вызвало всеобщий восторг. И даже если это другой корабль и он не сможет забрать пассажиров с потерпевшего крушение «Джонатана», то, по крайней мере, связь с губернатором Пунта-Аренаса будет установлена.
Весь вечер мистер Родс и Кау-джер проговорили о случившемся. Все шло как нельзя лучше — пребывание переселенцев на острове подходило к концу. Лишь одно огорчало Родса: лицо друга показалось ему особенно печальным. В девять часов Кау-джер простился с друзьями: нежно обнял детей и крепко пожал руку мистеру и миссис Родс.
Наутро шаланда исчезла со стоянки в глубине маленькой бухточки; напрасно ее пытались отыскать взглядом и на взморье.
XII НОВАЯ КОЛОНИЯ
Мистер Родс узнал об уходе «Вель-Кьежа» одним из первых. Вероятно, он огорчился; опечалилась не только его семья — весь этот маленький эмигрантский мирок, успевший за девять месяцев оценить преданность Кау-джера. Эта новость стала для них событием не меньшим, чем появление у острова сторожевого корабля.
Да, Кау-джер расстался с ними. Исчез вместе с Карроли и его сыном. Куда они направились? На Исла-Нуэву? Чтобы снова жить в уединении, прерываемом поездками к индейским племенам, и не думать о возвращении на остров Осте? А зачем ему возвращаться на полуостров Харди?.. Разве поселение на берегах реки Яканы не временное и не будет покинуто?.. Разве поселенцы не будут перевезены чилийским кораблем в Вальпараисо или Буэнос-Айрес или отправлены пароходом Общества помощи переселенцам в Африку?
Такие вопросы рождались у обитателей острова. Им было понятно, если бы Кау-джер уехал в день отплытия переселенцев. Но так?! Ни с кем не попрощавшись, даже с мистером Родсом и его семьей?!
Столь внезапно не прерывают дружеские связи, искренние, многократно подтвержденные... Уезжать без прощания — непростительно... Наконец, почему такая спешка, напоминающая бегство?.. И не прибытие ли чилийского сторожевого корабля тому причиной? Можно было поверить в любое из этих предположений, учитывая тайну, окружавшую жизнь этого человека, даже национальность которого осталась неизвестной.
В восемь утра сторожевик бросил якорь на расстоянии трех кабельтовых от мыса Ложный Горн, и командир корабля тут же сошел на берег.
По договору от 17 января 1881 года западная и южная части Магеллании отошли к Чили, и чилийское правительство, воспользовавшись кораблекрушением «Джонатана» и присутствием на острове Осте нескольких сотен переселенцев, решило показать себя рачительным и заботливым хозяином.
В сложившейся обстановке Аргентина ни на что не могла претендовать, кроме как на отошедшие к ней территории Патагонии и Огненной Земли, а также и на остров Эстадос, расположенный по другую сторону пролива Ле-Мер. Чили в своих новых владениях обладало полной свободой действовать в собственных интересах. При этом правительство понимало, что стать хозяином части некогда единого архипелага — это всего полдела. Главное — суметь воспользоваться природными богатствами, как минеральными, так и растительными, развить торговлю и промышленность, обжить и обустроить незаселенные земли. И примером такой политики на западном побережье Магелланова пролива стал Пунта-Аренас. Осознавая ежегодный рост его колониального значения, Чилийская Республика могла бы продолжить эту практику, содействуя иммиграции на перешедшие под ее управление острова Магелланийского архипелага, чтобы использовать природные богатства этого района, до тех пор предоставленного одним только жалким индейским племенам.
И вот у берегов острова Осте, расположенного в самой гуще лабиринта южных проливов, потерпел крушение крупный корабль, который вез около тысячи переселенцев в Африку, где португальское правительство предоставило им концессии на участок земли. В результате катастрофы более ста американских, ирландских, немецких семей — мужчины, женщины, дети — нашли на острове убежище. И если в переполненных городах Соединенных Штатов они были лишними, то почему бы здесь, в далеких заморских краях, им не попытать счастья?
Чилийское правительство с полным правом отнеслось к кораблекрушению как к посланной свыше удаче, не воспользоваться которой было бы просто глупо. А потому людей решили не забирать с острова, а превратить в колонистов. Капитан сторожевика отправился с поручением: предложить переселенцам рассматривать остров Осте как земельную собственность, от которой чилийское правительство отказывается в их пользу.
Более ловкий ход трудно придумать. Отдавая переселенцам остров Осте в их собственность, правительство рассчитывало привлечь эмигрантов и на другие острова — Кларенс, Досон, Наварило, Эрмите, при этом сохраняя над ними свою юрисдикцию. Если новая колония будет процветать (а это казалось вполне вероятным), то все сомнения отпадут и архипелаг начнет активно развиваться.
К тому же надо заметить, что Пунта-Аренасу как свободному порту, избавленному от таможенных процедур и пошлин, уже негласно открытому для судов с двух континентов, предстоит великое будущее. Такая политика обеспечивала чилийскому правительству полное господство в Магеллановом проливе (хотя и признанном по договору нейтральным), поскольку его берега принадлежали Чили. Что же касается острова Осте, то его в Сантьяго решили не только освободить от налогов, но и передать переселенцам в собственность, предоставив полную автономию и исключив из числа своих владений. И тогда остров Осте становился единственным уголком Магел-лании, сохранившим независимость.
С подобным аргентинское правительство согласиться, конечно, не могло. Пойти на это — означало потерять часть Огненной Земли. А кроме малоплодородного и заброшенного острова Эсгадос, Аргентине по договору 1881 года не принадлежал ни один другой остров. Чили же владело всем Магелланийским архипелагом к югу от пролива Бигл и к западу от Магелланова пролива.
Теперь все зависело от решения переселенцев. Что предпочтут они: быть концессионерами в Африке или владельцами острова в Магеллании? И ответ надо было дать как можно скорее. Чилийское правительство наделило капитана корабля всеми полномочиями. Оно приказало ему оставаться на острове две недели, а затем покинуть его, независимо от того, будет договор подписан или нет. Если ответ будет положительным, переселенцы немедленно обретут статус владельцев острова Осте и смогут поднять над ним любой флаг, какой им только вздумается. В случае отрицательного ответа правительство сообщит, когда и какой корабль будет отправлен на остров, чтобы перевезти потерпевших крушение. Само собой разумеется, что сторожевик водоизмещением всего в двести тонн не справится с этой задачей. Что же касается американского корабля из Сан-Франциско, откуда должна была прийти помощь, то он прибудет не скоро, и переселенцам придется провести на острове еще несколько недель.
Столь неожиданное предложение привело переселенцев в чрезвычайное замешательство. Два дня оно обсуждалось в каждой семье. Но никому даже в голову не пришло обсудить его сообща. Все это казалось настолько невероятным, что многие вообще не приняли предложение всерьез. Наиболее дотошные приходили к капитану корабля за дополнительными разъяснениями. Они хотели еще раз убедиться в достоверности его полномочий, лично услышать от него, что независимость острова гарантируется самим правительством Чилийской Республики.
Капитан всячески убеждал интересовавшихся дать свое согласие. Он объяснял причины, побудившие правительство пойти на такой шаг, говорил, что оно очень заинтересовано создать в Магелланий-ском архипелаге новые поселения колонистов, наподобие процветающего Пунта-Аренаса.
Официальная дарственная была уже заготовлена, и оставалось только поставить под ней подписи.
— Чьи подписи должны быть на дарственной? — поинтересовался мистер Родс.
— Уполномоченных, которых изберет общее собрание переселенцев, — отвечал капитан.
Он живо рисовал будущее колонии: поселенцы сами организуют свою жизнь, решают, избирать ли им главу острова, сами выбирают подходящий для нее государственный строй. При этом без всякого вмешательства со стороны правительства Чилийской Республики.
Судьба поставила людей перед выбором. Кто они были? В основном американцы, а также немцы, канадцы, ирландцы, и все — бедняки, вынужденные покинуть родину. Общество помощи переселенцам приобрело земельную концессию в африканских владениях Португалии, но всего лишь на оговоренный срок и без права передачи земли в собственность переселенцам. Но, поскольку каждый думал о себе, их не очень волновало, где пустить корни. Главное — обеспечить семью всем необходимым.
Пассажиры «Джонатана» прожили на острове целую зиму и убедились, что морозы здесь вполне сносные, а летние месяцы щедры дарами, которых, пожалуй, не найдешь и на более близкой к экватору широте. В Британской Колумбии, Доминионе[287], северных районах Соединенных Штатов зимы гораздо суровее и продолжительнее, растительность не восхищает ни разнообразием, ни ранним развитием.
Само собой разумеется, эмигранты решили положиться на тех, кто выделялся своим социальным положением, образованием, умом. И вот главы семейств пришли посоветоваться с теми, кому полностью доверяли: с мистером Родсом и дюжиной наиболее влиятельных его товарищей. То и дело проводились собрания; вопрос изучали в различных аспектах. Обсуждали все «за» и «против».
Большое сожаление у всех вызывало отсутствие Кау-джера, покинувшего остров именно в это время! Никто другой не смог бы подсказать лучшего решения. Скорее всего он посоветовал бы принять предложение чилийского правительства, тем более что речь шла об обеспечении независимости одного из одиннадцати крупных островов Магелланийского архипелага. Мистер Родс не сомневался в этом. И к голосу Кау-джера прислушались бы.
В конце концов, после долгих обсуждений, стало ясно, что основная масса поселенцев склонна принять предложения чилийского правительства. В их числе был и мистер Родс. Он и его сторонники привели веские доводы в пользу такого решения. Новая колония будет их собственным владением, тогда как в заливе Лагоа они должны подчиняться португальским властям, не говоря уже о соседстве англичан из Капской колонии, населения Оранжевого Свободного государства и республики в Претории[288], а также риске, которому подвергнет колонию опасное соседство со страной кафров[289]. Конечно, обо всем этом они знали и раньше, до заключения договора с Обществом помощи, но тогда выбирать не приходилось. Сейчас же представилась возможность основать колонию в лучших условиях, на острове Осте, где они уже прожили восемь месяцев. К тому же не надо пускаться в дальнее плавание. Да и сколько пройдет времени, прежде чем придет корабль, который отвезет их в залив Лагоа?.. А может быть, если судно задержится с прибытием, им придется пережидать в каком-либо чилийском или аргентинском порту, чтобы избежать второй зимовки?.. Нельзя также упускать из виду, что колонисты смогут рассчитывать на поддержку чилийского правительства, а между островом Осте и Пунта-Аренасом установится регулярное сообщение. На берегах Магелланова пролива и в других местах архипелага возникнут фактории. С развитием рыболовства расширится торговля с Фолклендскими островами. Несомненно, в скором времени Аргентина обратит внимание на территории Огненной Земли, омываемые проливом Бигл, и там появятся поселения[290], которые будут конкурировать с Пунта-Аренасом, и у Огненной Земли, подобно полуострову Брансуик, будет своя столица.
Доводы были весомы, и все высказались за положительный ответ капитану сторожевика. Впрочем, влияние мистера Родса и нескольких его друзей было решающим.
Надо сказать, что братья Меррит и их сторонники одними из первых приняли предложение чилийского правительства. Вероятно, у них были свои мотивы. Может быть, они хотели остаться на независимом острове, чтобы проводить в жизнь свои идеи: обобществить собственность, привить поселенцам дух коллективизма, а там и анархизма, создать идейный центр, куда устремятся вольнодумцы, отвергающие законы и порядок, люди, которых изгоняют цивилизованные нации? Какое будущее!
Время, отведенное для принятия решения, истекало. Капитан сторожевого корабля поторапливал переселенцев, напоминая, что 29 октября он снимется с якоря и остров останется во владении Чилийской Республики.
Общее собрание было назначено на 26 октября, и было решено, что в голосовании могут принять участие все взрослые мужчины — триста двадцать семь человек.
Подсчет голосов показал, что подавляющее большинство — двести девяносто пять колонистов — высказались за предложение чилийского правительства. За колонию в заливе Лагоа проголосовали всего тридцать два человека, но и они потом присоединились к мнению большинства.
В тот же день под договором поставили свои подписи капитан корабля, представлявший Чилийскую Республику, мистер Родс, а также девять уполномоченных, будущих жителей независимого острова Осте.
На следующий день сторожевой корабль покинул место стоянки у берегов полуострова Харди, взяв на борт лейтенанта Фарнера и команду «Джонатана». Боцман Том Ленд захотел остаться на острове в качестве колониста. Его просьба была удовлетворена, так как он проявил себя энергичным, внушающим доверие человеком и мистер Родс высоко ценил его деловые качества.
Новые хозяева острова, называвшиеся теперь остельцами, тут же приступили к налаживанию жизни колонии. Но, поскольку они принадлежали к людям разных национальностей, очень трудно было слить в одно целое не поддающиеся исправлению темпераменты. Всем известно, что в больших государствах, таких, например, как Соединенные Штаты Америки или Канада, стирание национальных отличий происходит с большим трудом, так что в одном государстве, даже в одном городе, американцы остаются американцами, немцы — немцами, англичане — англичанами, и невозможно предсказать, когда это слияние произойдет... Если оно вообще когда-нибудь произойдет...
Приходилось, стало быть, опасаться, что в этих условиях организация колонии потребует много терпения, многих усилий, а главное — большой смелости и решительности.
И тут возникал вопрос: в чьи же руки передать неоспоримую власть, чтобы не потерпеть неудачи, чтобы не затормозить процесс с самого начала?.. Комитету или одному человеку?..
Мистер Родс пользовался среди колонистов большим уважением. Он обладал всеми качествами лидера, был прекрасно воспитан, гораздо более образован, чем большинство переселенцев, его отличали ум, здравомыслие, безупречная личная жизнь. Все это говорило в его пользу, и он вполне мог бы стать единоличным руководителем. Но он хорошо понимал, что ему придется иметь дело с непримиримым меньшинством, грубым, крикливым, готовым на все, вплоть до мятежа, и что ему одному с ними не справиться, несмотря на всю его энергию.
Не оставалось ничего другого, как избрать комитет, в который вошли бы наиболее достойные, а возглавить его мог мистер Родс. Члены же комитета должны были послужить общему делу, в трудных ситуациях принимая на себя коллективную ответственность.
Обсудив этот вопрос с некоторыми из своих друзей, мистер Родс обратился к поселенцам:
— В концессии близ залива Лагоа у нас не было бы таких трудностей. Колония непосредственно подчинена Португалии, и все проблемы решал бы португальский губернатор.
— Может быть, стоит обратиться к чилийскому правительству с просьбой прислать на остров губернатора, как в Пунта-Аренасе? — предложил кто-то из колонистов.
— В таком случае, — ответил мистер Родс, — остров окажется под властью Чили и мы потеряем независимость. А ведь именно желание жить на своей земле, не принадлежать никому побудило нас принять сделанное нам предложение. И, если у нас хватит здравого смысла наладить жизнь на острове, мы сохраним независимость.
Произнося эти слова, мистер Родс прекрасно оценивал ситуацию. Главное сейчас — организовать жизнь. Спешно было созвано общее собрание, которое утвердило комитет в составе четырех человек — по одному от американцев, немцев, канадцев и ирландцев. Возглавил комитет мистер Родс. Среди эмигрантов преобладали американцы, и казалось естественным, что эта нация будет главной.
Прежде всего предстояло решить вопрос о земле. Площадь острова Осте составляла не менее двухсот квадратных лье[291], пахотной земли, лесов и пастбищ хватило бы на вдвое и даже втрое большее число колонистов. Следовательно, можно было согласиться с тем, что каждая семья возьмет столько земли, сколько ей требуется. И сельскохозяйственного инвентаря, и семян, и саженцев хватало — все это вовремя и в большом количестве перенесли с «Джонатана». У большинства эмигрантов был навык к деревенской работе. Они занимались ею на родине, займутся и в новой стране. Вначале, конечно, домашнего скота на всех не хватит, но мало-помалу, сделав предварительный заказ, его можно будет купить в Патагонии, где домашних животных, особенно лошадей, насчитывалось многие тысячи голов, или привезти из аргентинской пампы, с равнин Огненной Земли и даже с Фолклендских островов, славящихся многочисленными отарами овец.
Надо сказать, что самые плодородные земли находились не возле побережья полуострова Харди и реки Яканы, а в глубине острова, и переселенцам предстояло освоить их, продвигаясь на запад, к мысу Ру, и на северо-восток, где великолепные луга прилегали к глубоко врезавшимся в сушу бухточкам залива Нассау. Разумеется, колонисты охотно сгруппируются в различных местах и станут собственниками тамошних земель, но не будут ли они объединяться по национальностям — американцы с американцами, канадцы с канадцами, немцы с немцами, ирландцы с ирландцами — и достанет ли у комитета сил навязать смешение народов, очень важное для будущего остельской колонии?..
Мистеру Родсу и его коллегам пришлось немало потрудиться над распределением снятого с «Джонатана» груза, не допуская грабежей; все надо было поделить справедливо, с учетом потребностей каждой семьи. Прежде всего нельзя было позволить растащить продукты питания, которых должно хватить еще на несколько месяцев, пока колонисты не получат свой собственный урожай.
Комитет делал все возможное, чтобы не нарушить прав каждого остельца. Однако кое-кто требовал непомерно много — кто муки, кто мясных консервов, а кто алкогольных напитков, а потому не исключались нападения на склады и их разграбление. Наконец приняли решение, одобренное всеми, несмотря на протесты братьев Меррит да их банды (по-другому этих людей назвать нельзя), согласно которому все продукты должны храниться на складах полуострова Харди; они будут выдаваться по мере надобности как тем, кто остался в лагере на реке Якане, ставшем центром колонии, так и тем, кто отважится перебраться в отдаленные места острова.
При разделе земли каждый брал тот участок, который его больше устраивал. Кто-то намеревался заняться земледелием, кто-то хотел стать владельцем лесных угодий, богатых строевым лесом и древесиной для топлива, если только на острове Осте не найдут угольные залежи — так же как на полуострове Брансуик, в окрестностях Пунта-Аренаса. Наконец, значительное число эмигрантов добивались пастбищ, чтобы заняться скотоводством.
Возникали, конечно, спорные вопросы, особенно когда это касалось земель по берегам Яканы, неподалеку от формирующегося поселения. Но больше всего хлопот доставляли братья Меррит, которые саботировали решения комитета, проповедуя коллективное владение всей собственностью. Они выступали против дележа земли, требуя, чтобы земля обрабатывалась сообща, а если кто-то работал вне общины, то члены ее имели право отнять плоды труда индивидуалиста и разделить между собой.
Понятно, что подобные доктрины, поддерживаемые самыми неистовыми, вынудили комитет действовать чрезвычайно энергично. Решено было прибегнуть к силе, чтобы подавить беспорядки в зародыше. Меры эти были направлены против тех немцев и ирландцев, кто был самым ярым сторонником анархии, — двадцати семей, насчитывающих вместе чуть больше полугоры сотен человек, которые полностью подпали под влияние Мерритов.
От исхода этого противостояния зависело будущее острова Осте. Победит тот, кто не испугается крайних мер, будь то партия порядка, наиболее многочисленная, или сторонники вседозволенности. Братья Меррит вовсе не стремились законным образом завладеть той частью груза и материалов, на которую имели право, и переселиться в другую часть острова, чтобы жить там, как им нравится. Нет! Будучи настоящими паразитами, они хотели обосноваться в зарождающемся поселении, заставить остальных признать их главенство и стать в конце концов хозяевами острова, хотя на словах они были против каких-либо повелителей.
Мистер Родс и его друзья решили сопротивляться, отразить силу силой. Отказываясь от этого омерзительного общественного строя, они решили, что лучше уж обратиться к чилийскому правительству с предложением аннулировать независимость Осте или покинуть остров навсегда и больше туда не возвращаться.
Возможно, лишь один человек в столь опасный час, когда от слов переходят к делу, мог бы оказаться полезным. Этого человека все смогли оценить, потому что видели его в деле. Братья Меррит не отрицали, что в вопросах теории они близки с ним; в этом человеке они чувствовали душу, бунтующую против всякой власти...
Этим человеком был Кау-джер. Но что с ним сталось? После исчезновения шаланды никаких вестей от него не приходило. В самом ли деле он направился к Исла-Нуэве, чтобы вместе с Карроли поселиться там на прежнем месте? И кстати, согласился бы он вмешаться? И каким образом?.. Разве Кау-джер не остался верен тем же радикальным идеям, которым посвятил всю свою жизнь?..
Но его здесь нет, и неизвестно, появится ли он снова...
Тем временем конфликт обострялся, и ежечасно можно было ждать, что противоборствующие стороны набросятся друг на друга. Мистеру Родсу и его друзьям из комитета оставалось лишь уповать на появление у острова чилийского корабля. Прошло два месяца со дня ухода сторожевика, и чилийское правительство, по запросу губернатора Пунта-Аренаса, должно было бы побеспокоиться и послать на остров Осте судно с домашним скотом, в котором ощущалась большая нужда...
Наступила самая середина лета — 13 декабря. Никто из колонистов не сомневался, что до конца теплого сезона корабль бросит якорь в устье реки Яканы.
Но в этот день на западе заметили не корабль, а шаланду, пришедшую с востока и обогнувшую Ложный Горн. В ней сразу же признали «Вель-Кьеж». Его вел Карроли, тогда как Альг возился со шкотами...
Но был ли с ними Кау-джер?..
XIII ГЛАВА ОСТРОВА ОСТЕ
Как мы помним, приблизительно за два месяца до этого дня Кау-джер, заметив на горизонте приближение чилийского сторожевого корабля, не попрощавшись ни с мистером Родсом, ни с его семьей, к которым он был искренне привязан, покинул остров Осте. Куда лежал его путь? Знал ли он это сам? Всю ночь Карроли с сыном стояли у штурвала. Пользуясь легким западным бризом, лавируя между рифов, они вели шаланду на север, в сторону Исла-Нуэвы.
Значит, Кау-джер решил вернуться в покинутое в середине февраля жилище? Значит, он намерен возобновить свои благотворительные поездки по племенам огнеземельцев?..
Нет! Разве мог Кау-джер забыть о договоре между Чили и Аргентиной? И разве сейчас, как бы далеко он ни убежал, хоть до крайних пределов Магеллании, он отыщет остров, островок, да даже скалу, которые бы не принадлежали одной из двух республик?.. В какой бы точке архипелага он ни поставил свою ногу, ему не избежать нежеланных законов. И если, как он полагал, губернатор Пун-та-Аренаса заинтересуется его персоной, попытается раскрыть секреты его прошлого, не будут ли агенты разыскивать, преследовать его, гнаться за ним по пятам? Пусть он доберется до крайней точки, до мыса Горн... и что тогда?.. Впрочем, разве положение не изменилось?.. Разве за несколько недель, проведенных на острове Осте после спасения плывших на «Джонатане», его сердце, прежде глухое к любому проявлению человеческих чувств, не раскрылось, разве не почувствовал он снова связь с миром, с человечеством?.. С семьей Родс и с несколькими другими людьми?..
Спустя месяц после отплытия с острова Осте «Вель-Кьеж» бросил якорь в небольшой бухточке на Исла-Нуэве. Кау-джер не очень хотел, чтобы знали о его прибытии. Но, продвигаясь вдоль северного берега пролива Бигл, он не мог отказаться от посещения нескольких поселений на Огненной Земле. Да и как было отклонить приглашения индейцев, челноки которых оказались на пути «Вель-Кьежа» ?..
Эти бедные рыбники были так счастливы еще раз увидеть своего благодетеля... И потом, кое-где женщины и дети нуждались в его помощи...
Однако — и это вызывало в душе Кау-джера боль, смешанную с гневом, — на побережье то тут, то там развевались аргентинские флаги. Правительство Буэнос-Айреса уже успело вступить в свои права. А на южных островах Магеллании, соответственно, реяли чилийские флаги.
Но нельзя передать то чувство, которое охватило его при виде красно-белого полотнища, развевающегося над Исла-Нуэвой! Это означало, что чилийские власти уже наведывались сюда, заглянули и в его жилище, он нашел дверь открытой!.. А если бы он был на месте, его бы задержали и подвергли допросу, а поскольку отвечать он не стал бы, отправили в Пунта-Аренас...
Нет! Этому не бывать! Он покинет Исла-Нуэву! И снова мысль о смерти посетила Кау-джера; это ведь всего лишь вечный сон, отдых, которого ему не могла дать жизнь!.. На этот раз он не отправится на мыс Горн — к чему забираться так далеко?.. Море там такое же, как и у Исла-Нуэвы. В один прекрасный день он исчезнет, но прежде бросит в морскую пучину ненавистный флаг. И Карро-ли будет тщетно искать Кау-джера по всему острову.
Кау-джер принял окончательное решение. Ни Карроли, ни его сын ни о чем не подозревали. Прошло две недели, Кау-джер не спешил осуществить свой замысел. Возможно, что-то держало его на земле.
Но судьба распорядилась по-своему — 3 декабря до него дошла весть, изменившая его намерения.
Из стойбища валла на пироге приплыл за помощью индеец, который и рассказал о событиях на острове Осте, о предложении чилийского правительства, принятом эмигрантами, и о том, что остров, единственный в архипелаге, снова стал независимым.
— А ты не ошибаешься? — спросил Кау-джер.
— Нет, об этом нам рассказал отец Атанас, — ответил индеец.
— Когда?
— Третьего дня.
— А от кого узнал он?
— От аргентинских чиновников, посетивших миссию.
Индеец отвечал так убедительно, что сомневаться в достоверности его рассказа не приходилось.
Эти слова прозвучали для Кау-джера как призыв к жизни. Ему показалось, что его легкие наполняются свежим воздухом, а спина распрямляется.
Он тут же предложил Карроли покинуть жилище на Исла-Нуэве, захватив все имущество, и перебраться на остров Осте, где он может стать лоцманом новой колонии, в великолепном будущем которой Кау-джер не сомневался; его предложение было немедленно принято. К этому времени шкуры диких животных были уже проданы, и шаланда вполне могла вместить весь их скарб. На сборы ушло три дня. Попрощавшись с валла, они направили «Вель-Кьеж» в пролив Бигл, миновали остров Наварино и 13 декабря бросили якорь у острова Осте.
Колонисты, собравшиеся на песчаном берегу, приветствовали Кау-джера громким «ура». Он, конечно, догадывался, что к нему здесь относятся хорошо, но к столь бурному проявлению радости не был готов.
Сойдя на берег, он оказался в объятиях мистера Родса и его семьи.
— Осте независим? — тут же спросил он.
В ответ на его слова раздались радостные крики и возгласы.
Он крепко обнял мистера Родса, расцеловал его детей и через несколько минут уже был в доме друзей.
Ни от кого не ускользнуло, что эта встреча приятна ему — с его лица, обычно печального, не сходила улыбка.
— Наконец-то я могу быть с вами, — сказал он. — Моя жизнь теперь принадлежит вам.
И в его голосе, казалось, звучало удовлетворение уставшего от долгой и мучительной дороги человека, который наконец-то добрался до цели и теперь может отдохнуть...
— Мы очень рады видеть вас, друг мой, — ответил ему мистер Родс. — Мы уж не надеялись на ваше возвращение. Боюсь только, что вы слишком поздно прибыли сюда!
В его словах звучало столько горечи и отчаяния, что Кау-джер услышал в них душевное волнение и почувствовал близость реальной опасности.
В этот момент в доме появились два члена комитета остельской колонии — мистер О’Нарк и мистер Брокс.
— Мой друг, — с дрожью в голосе заговорил мистер Родс, — Бог, в которого вы не верите, послал вас сюда ради нашего спасения! В колонии назревает бунт. Возможно, нам придется обратиться к чилийскому правительству с предложением забрать остров назад...
— Забрать остров! — ужаснулся Кау-джер.
Он гордо выпрямился, в глазах его сверкали молнии, а ноги с такой силой топтали почву, словно Кау-джер пытался укорениться в этой земле.
— Друг мой, после вашего отплытия произошли важные события, — продолжал мистер Родс. — Правительство Чили предложило нам стать собственниками острова при условии, что мы станем колонистами. Почти единодушно мы приняли это предложение и отказались от концессии в Африке...
— Превосходно! — прервал Родса Кау-джер, не в состоянии сдержать кипевших в нем чувств. — В заливе Лагоа вы находились бы в подчинении у португальских властей. Здесь же, на независимой территории, каждый из вас сам себе хозяин...
— Послушайте, Кау-джер, — заговорил один из членов комитета. — Острову как раз нужен хозяин... Человек, который имел бы право, мандат, чтобы заставить других повиноваться...
— Властелин! — повторил Кау-джер слово, которое возмущало все его существо.
— Если хотите — глава острова, — вмешался мистер Родс. — Человек, облеченный достаточной властью, чтобы управлять нашей колонией, чтобы на законном основании воздавать каждому по делам его, чтобы заставить признавать закон тех, кто не хочет этого делать добровольно, иными словами, управлять от имени всех на благо всех.
Кау-джер молча слушал, опустив голову.
— Сейчас же, — продолжал мистер Родс, — на острове царят смятение, волнение, беспорядок. Того и гляди, продовольственные запасы будут разграблены, а анархисты придут к власти. Все это ведет к катастрофе.
— Вы слышите шум? — обратилась к Кау-джеру миссис Родс.
Снаружи раздавались возгласы, отнюдь не напоминавшие те, которые звучали по прибытии «Вель-Кьежа».
Похоже, Кау-джер ничего не слышал. Он был погружен в свои мысли. Рушились его надежды. А его мечты об обобществлении производительных сил[292], о совместном пользовании природными богатствами, жизни, посвященной труду, но без пут, без цепей, без вмешательства какой-либо власти, не смогут осуществиться. Неужели он так и не претворит в жизнь дорогие его сердцу идеи и неужели только силой можно исправить сложившееся на острове положение?
А положение было критическим: комитет, призванный организовать жизнь на острове, оказался бессилен перед анархистами, а меньшинство пыталось навязать свою волю большинству. Кау-джер узнал от мистера Родса, что ситуация день ото дня ухудшается, приближаясь к неминуемой катастрофе. Ему рассказали о поведении братьев Меррит, а также тех ирландцев и немцев, кто следовал за ними. Они хотели, подняв знамя солидарности, установить на острове режим самый тиранический изо всех возможных... Они отказывались подчиняться постановлениям комитета, подстрекали своих сторонников к грабежу складов, присвоению материалов, расселению по острову — возможно, для того, чтобы изгнать колонистов, отважившихся не подчиниться их власти, — к захвату складов; грозили лишить земли и даже изгнать с острова тех, кто оказывал им сопротивление. И в устах мистера Родса беспрестанно звучало как проклятие слово «анархия».
Но нашло ли это слово хоть какой-то отклик в душе Кау-джера, после того как ему разъяснили всю опасность создавшегося положения? Поколебались ли его давнишние убеждения? Появилась ли брешь в его воззрениях, столь непримиримых до сих пор, столь не поддающихся лечению в отношении требований социального государства, столь непоколебимых, вопреки очевидности, к сущности явления, появилась ли брешь, через которую проникли бы более практичные, более мудрые идеи?..
Как бы там ни было, — возможно, именно потому, что в нем происходила борьба высших сил, — Кау-джер оставался неподвижным; он отвернулся, чувствуя, что привлекает внимание, и, несмотря на то, что он угрюмо молчал, в его поведении ощущалось что-то бунтарское...
Мистер Родс взял его за руку, миссис Родс и дети придвинулись почти вплотную. За ними подошли господа О’Нарк и Броке.
— Нет, мой дорогой друг! — заговорил мистер Родс. — Ничего нельзя добиться в обществе, где каждый действует по своему усмотрению, повинуясь своим фантазиям и капризам. Без высшего руководства невозможно создать что-либо прочное, окончательное. Прежде всего нужны мыслящая голова и твердая рука. Без этого — мы погибли. В ином случае нам останется отдать остров в руки разрушителей, которые выгонят нас отсюда, а кончат тем, что перегрызут друг другу глотки, как это бывает при всех революционных потрясениях.
Мистеру Родсу и его сподвижникам было известно, каких политических взглядов придерживался Кау-джер. Они знали его мечты о новом обществе, где люди не подчинены ни Богу, ни человеку. Знали они, несомненно, и то, что он не из тех сектантов, кто готов захватить власть с помощью насилия, утвердить ее огнем и мечом. Но сможет ли он пойти против своих убеждений?
— Когда человек вынужден работать на всех, — продолжал мистер Родс, — работа становится для него невыносимой. Он тут же попадает в зависимость от лодырей и негодяев. Коммунизм был бы возможен только в том случае, если бы все люди исповедовали одни и те же идеи, имели одинаковые вкусы и желания, не отличались по уму, физической и духовной силе. Но человечество состоит из не похожих друг на друга личностей. Именно поэтому коммунизм неизбежно ведет к анархии.
Кау-джер сидел в углу комнаты, обхватив голову руками, опустив плечи, как будто на него все еще давил непомерный груз. О чем он думал? Собирался ли отвечать мистеру Родсу и что он мог ответить?.. Осознавал ли он, каким потрясениям уже подвергается остров Осте?.. Предвидел ли он недалекую катастрофу, передачу острова в руки Мерритов и их банды, чилийскую интервенцию в целях изгнания этих отверженных, потерю независимости и восстановление чилийского суверенитета?..
И что же тогда станет с Кау-джером, который верил, что нашел надежное убежище на этом, единственном независимом клочке суши на всем Магелланийском архипелаге? Снова почва ускользает из-под ног, и, когда колонисты сбегут в свою концессию в заливе Лагоа, куда отправится Кау-джер?..
Тем временем крики усилились: с одной стороны — крики исступления, с другой — крики ужаса. Мятежники приближались. Над поселком нависла угроза. Долг требовал от мистера Родса и его коллег выйти из дома, который уже окружили перепуганные и зовущие на помощь переселенцы.
— Пойдемте, — обратился Гарри Родс к членам комитета. — Наше место там.
Он направился к двери, но у порога обернулся и бросил взгляд в сторону Кау-джера.
Как только мистер Родс приоткрыл дверь, а его сын, О’Нарк и Броке собрались последовать за ним, смертельно испуганные нарастающим шумом, миссис Родс с дочерью бросились на колени перед Кау-джером. Взяв его за руки и умоляюще глядя в лицо, они закричали:
— Вы... только вы можете спасти нас!
А мог ли он спасти их, а вместе с ними — все население острова, которому угрожала банда анархистов?.. Комитет оказался бессильным, так удастся ли что-то сделать ему, Кау-джеру, опиравшемуся единственно на свою популярность? Здесь требовался вождь, смелость которого была бы сравнима с его волей. Обладал ли он такими качествами? И должен ли посвятить себя делу общего спасения, и сможет ли отказаться от этого мандата по завершении своей миссии или когда его вынудят на то обстоятельства?..
— Кау-джер! — раздался крик мистера Родса. — От имени всех честных переселенцев, для которых ни мои коллеги, ни я ничего не смогут сделать, я объявляю вас главой острова Осте.
Толпа, в основном женщины и дети, еще ближе подошла к дому мистера Родса.
Все громче раздавались крики: «К складам, к складам!» Братья Меррит во главе двухсот мятежников ворвались в поселок и теперь двигались к складам. Призывы «К складам!» раздавались из толпы от тех, кто собирался склады атаковать, а не защищать.
Вооружившись ружьями, Гарри Родс, О’Нарк и Броке решили присоединиться к защитникам складов, чтобы предотвратить их разграбление.
Многие в испуге бежали к подножию холма, другие пытались укрыться в маленькой бухточке, где стояла на якоре шаланда с Кар-роли и его сыном на борту.
На секунду задержавшись на пороге своего дома, мистер Родс крикнул:
— Кау-джер!
Кау-джер резко встал, высоко вскинул голову, к его щекам прихлынула кровь, глаза заблестели. Он сделал несколько шагов, но, не дойдя до порога, остановился.
Сквозь проем двери он увидел испуганных женщин и детей, бежавших в разные стороны, сгрудившуюся вокруг складов сотню защитников общественного добра, которое надо было отстоять во что бы то ни стало. По левому берегу Асаны на расстоянии менее двухсот шагов двигалась орущая банда во главе с Джоном и Джеком Мерритами. Большинство мятежников потрясало оружием.
— Ура! Да здравствует Джек Меррит! — вопили они.
Не услышав ответа Кау-джера, мистер Родс с О’Нарком и Брок-сом поспешили к складам, где их ждали товарищи.
Однако мятежники изменили направление своего движения. Они решили захватить эту группу, заставить мистера Родса отказаться от возложенных на него полномочий, а одного из братьев провозгласить единоличным правителем острова. Именно этим обстоятельством были вызваны здравицы в честь Джека Меррита!
Братья Меррит подошли почти вплотную к мистеру Родсу и его коллегам.
— Что вам угодно? — спросил мистер Родс.
— Мы требуем вашей отставки и отставки других членов комитета, — ответил Джон Меррит.
— Мы не согласны.
Эти слова Родса вызвали свист и улюлюканье бандитов. Сторонники Родса и мятежники стали сближаться. Ружья были взведены, револьверы сжаты в руках. Выстрелы могли раздаться в любую минуту.
Анархисты не переставали орать:
— Да здравствует Джек Меррит! Ура!
Джек, более горячий, чем его брат, отличался атлетическим сложением, чрезвычайной силой и способностью на самые отчаянные поступки. Он вполне подходил на роль главаря шайки отпетых негодяев.
Он дал знак, и дюжина его сотоварищей направились к мистеру Родсу и его друзьям. Раз у них нет желания отказаться от полномочий добровольно, найдутся другие способы сделать их сговорчивыми.
Вокруг мистера Родса сомкнулось кольцо колонистов, готовых к решительным действиям. Стычка вот-вот должна была начаться. Стоило прозвучать одному выстрелу, и за ним последуют десятки других.
В этот момент раздался зычный голос, заглушивший рокот толпы:
— Всем опустить оружие!
На пороге дома Родсов стоял Кау-джер. Он двинулся вперед, и все невольно расступились перед ним, освобождая путь. Высокого роста, статного сложения, он вызывал симпатию и уважение.
Только этот человек был способен овладеть ситуацией, обуздать зарвавшихся мятежников, отвергнуть их наглые требования, не допустить кровавого столкновения.
Один его вид остудил пыл самых крикливых, даже братья Меррит отступили на несколько шагов.
— Кау-джер, — прокатилось по рядам, и сотни голосов в едином порыве подхватили:
— Кау-джер! Кау-джер!
Рядом с ним, как из-под земли, выросли Карроли и Альг, оба с карабинами в руках, готовые отдать жизнь за Кау-джера, если ему будет угрожать опасность...
Мистер Родс и его коллеги расступились, и Кау-джер занял место в их рядах.
— Чего вы хотите? — обратился он к мятежникам, ровным, но твердым голосом, не выдававшим никаких эмоций.
— Мы требуем отставки комитета, — ответил Джон Меррит. — У нас есть своя кандидатура!..
— Кто же это?
— Мой брат Джек Меррит! Он сумеет организовать жизнь на острове так, как мы того хотим.
— Да здравствует Джек Меррит! — закричали мятежники сначала не очень уверенно, а затем все громче и яростнее.
Кау-джер сделал шаг вперед, и все притихли.
— Здесь все должны подчиняться комитету, и никому другому!
— Нет! — закричал Джек Меррит, скорее человек действия, чем говорун, и двинулся в сторону мистера Родса.
— Еще один шаг, и... — ровным голосом сказал Кау-джер и, выхватив у стоящего рядом Карроли карабин, приложил дуло к виску Джона.
С обеих сторон щелкнули затворы. Неужели появление Кау-дже-ра лишь отсрочило кровопролитие?
И тут слово взял мистер Родс. Жестом руки он попросил тишины.
— Желание тех, кто требует нашей отставки, комитет удовлетворить не может. Но с согласия всех его членов я объявляю о добровольной передаче своих полномочий человеку, который имеет больше прав быть нашим руководителем и которого вся Магеллания уже давно именует благодетелем.
В воздухе прогремело громкое «ура», поддержанное даже мятежниками.
— Да здравствует Кау-джер! Ура! — в этом крике звучали радость и горячая признательность людей.
Кау-джер поднял руку, и тут же установилась тишина.
— Вы действительно хотите, чтобы я стал во главе острова?
— Да! — хором ответили мистер Родс и его коллеги, протягивая руки к Кау-джеру.
— Да! — повторило огромное большинство колонистов.
— Будь по-вашему, — ответил Кау-джер.
Вот при каких обстоятельствах он стал главой острова Осте, спасая колонию и обеспечивая ее независимость!
XIV ШЕСТЬ ЛЕТ БЛАГОДЕНСТВИЯ
Со времени только что описанных событий прошло шесть лет. Плавания вокруг острова Осте теперь не представляли трудностей, мореходы избавились от прежних опасностей. Любое судно могло свободно передвигаться от мыса к мысу, будь то в проливе Бигл или в проливе Дарвина, и даже напрямик, через архипелаг мыса Горн достигать оконечности полуострова Харди, на котором пылал теперь огонь, бросая отсветы в морские просторы, — не тот огонь, который разжигают рыбники в своих огнеземельских стойбищах, а настоящий портовый маяк, посылающий сигнал кораблям, лавирующим между рифами темными зимними ночами.
У входа в бухту, куда впадали воды Яканы, были возведены волнорезы, а защищенные от разгула стихии гавани позволяли кораблям, совершавшим дальние рейсы, спокойно разгружаться и загружаться. Здесь постепенно вырос настоящий порт, чему способствовали торговые отношения между островом Осте, Чили и Аргентиной. Посещали остров и корабли из Старого и Нового Света.
За портом раскинулся большой поселок, расположенный по обоим берегам реки, которые соединялись деревянным мостом. Там проложили симметричные улицы, пересекавшиеся, по американской моде, под прямым углом, застроенные деревянными или каменными домами, с двориками перед ними и садами позади построек. На городских площадях, обсаженных красивыми деревьями, в основном нотофагусами и некоторыми вечнозелеными видами, возвышались здания муниципальных служб и резиденция главы острова, предназначенная для общественных церемоний. У подножия холма, над цветущими кронами, вознесся шпиль церкви.
В 1882—1883 годах остров Осте посетила группа французских ученых, прибывшая на корабле «Ля-Романш». Цель экспедиции: наблюдение прохождения Венеры[293]. Она обосновалась в бухте Орендж. Общение с остельцами оставило у путешественников самые лучшие воспоминания.
Если бы какой-нибудь мореплаватель сбился с курса и не смог точно определить свое местоположение, он мог подумать, что находится на траверзе Пушта-Аренаса, у полуострова Брансуик, что западные ветры занесли его в Магелланов пролив. Его взору предстал бы небольшой город под названием Либерия, столица острова Осте, отданного шесть лет назад чилийским правительством в собственность пассажирам «Джонатана», разбившегося во время кораблекрушения.
Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы возвести здесь город, обработать землю, наладить жизнь. И все это благодаря энергии, уму, деловитости человека, которого остельцы избрали своим руководителем, то есть Кау-джера. Он спас остров не только от захвата мятежниками, но и от властей Чили.
И по-прежнему никто о нем ничего не знал, но никому не приходило в голову задать вопрос о его прошлом. Известно было лишь, что когда-то, очень давно, Кау-джер избрал для себя отшельническую жизнь в Магелланийском архипелаге, обосновался на Исла-Нуэве, где подружился с лоцманом Карроли, и посвятил всего себя служению бедным аборигенам Магеллании. Мистер Родс склонялся к тому, что Кау-джер в силу цельности своей натуры и беззаветной преданности своим идеалам просто никогда не мог покориться какой-либо власти. Как мы уже знаем, мистер Родс не ошибался.
Но никто из пассажиров «Джонатана» не забыл, что своим спасением они обязаны Кау-джеру. Это он в самый разгар бури зажег огонь на вершине мыса Горн, это он рисковал жизнью, чтобы привести к берегу потерявшее управление судно, которое волны гнали на скалы, это он привез лоцмана, единственного человека, который мог темной ночью провести корабль по опасным проливам под прикрытие острова Осте.
Нет! Из памяти людей не изгладились оказанные Кау-джером услуги, и именно поэтому в день, когда мистер Родс и его коллеги из комитета сложили свои обязанности, значительное большинство колонистов высказались в пользу своего спасителя. Не только приверженцы порядка встретили его имя единодушным одобрением, но и некоторое количество сторонников Мерритов отделились от своего клана.
Таково было влияние этого человека. Казалось, от него исходит какая-то магическая сила. И надо отдать должное мистеру Родсу, его проницательности и здравому смыслу, подсказавшим ему, что единственным человеком, который сможет навести порядок и организовать жизнь колонии, был Кау-джер.
Однако стоило ли верить, что в голове Кау-джера произошел невероятный переворот, обесценивший его прежние идеи, что он вернулся к нормальному пониманию обязанностей, предписанных человечеству природой?..
Как известно, он шел от одного разочарования к другому. Всего несколько месяцев назад он считал, что ему нет места на земле, что он не найдет убежища ни в одном уголке мира. Когда весь архипелаг был отдан государству, готовому установить там жесткий режим, он уже видел себя изгнанным из Магеллании, где надеялся окончить свои дни, он словно почувствовал жало в груди...
Правда, едва услышав, что остров Осте сохранил независимость, Кау-джер поспешил покинуть ставший чилийским островок и присоединиться к маленькому мирку колонистов с намерением поселиться среди них.
Он боялся, что организационные работы сильно продвинулись, а то и вообще завершились и что он прибудет слишком поздно, чтобы повлиять на них и дать колонистам ту абсолютную, не омраченную даже тенью власти свободу, на которую — как он думал — каждое человеческое существо имеет право.
А когда шаланда высадила его на берег, Кау-джер нашел на полуострове Харди полнейший беспорядок: честным людям угрожали преступники, вовсю бушевал мятеж, бунтовщики готовились к грабежам, вот-вот землю острова Осте должна была залить кровь...
И тут его назначили вождем — единоличным хозяином острова, способным установить порядок... и он принял пост главы острова.
В тот же день мистер Родс, поблагодарив Кау-джера, сказал:
— Мой друг, вы уберегли нас от многих несчастий, самое страшное из которых — наше бегство с острова!.. Вы сохранили нашу независимость. Это Бог послал вас к нам!
Разумеется, этот человек, отрицавший всякие божественные силы, не мог согласиться стать проводником воли Всевышнего. Однако он не решился открыто высказать свое мнение и удовлетворился следующим ответом:
— Я дал согласие только наладить жизнь колонии. И я приложу все силы, чтобы довести дело до конца. После этого сложу с себя все полномочия. Надеюсь, я докажу вам, что на земле есть по крайней мере одно место, где человеку не нужен властелин!..
— Руководитель — не властелин, мой друг, — возразил мистер Родс, — и я не сомневаюсь, что вы это докажете. Но общество не может существовать без верховной власти, как бы она ни называлась. И она должна быть сильной.
— Во всяком случае, — ответил Кау-джер, — эта власть должна самоустраниться, как только отношения между людьми будут урегулированы и каждому существу будет дана полная независимость.
— Хорошо, друг мой. Сейчас вся власть принадлежит вам, и я не сомневаюсь, что вы используете ее для общего блага. А теперь пора браться за работу, и постарайтесь с самого начала обеспечить — пусть даже с применением силы — будущее нашей колонии!.. И вашей, поскольку вы уже стали гражданином острова Осте!
Кау-джер с жаром принялся за работу. Он с благодарностью принимал помощь мистера Родса и комитета, хотя комитет и был распущен, а его полномочия переданы одному Кау-джеру.
Прежде всего надо было покончить с беспорядками, обеспечить безопасность людей и сохранность их имущества, не допустить разграбления запасов продовольствия, которые принадлежали всей колонии. Но, пока существовала угроза мятежа, пока братья Меррит пользовались поддержкой целой группы анархистов, пока эти анархисты сильны, рассчитывать на спокойную жизнь не приходилось. Значит, против врагов всего общества надо действовать энергично и беспощадно.
С того дня, когда Кау-джера выбрали главой остельской колонии, Джон и Джек Мерриты видели в нем лишь человека, назначенного одолеть их, противника их антиобщественных доктрин, начальника, которого надо сбросить любой ценой и любыми способами. Возможно, они подозревали, что Кау-джер до каких-то пор разделял их взгляды, по крайней мере чисто теоретически; может быть, надеялись, что новый глава острова воплотит в жизнь идеи анархизма. Но очень скоро они убедились, что просчитались.
После перехода власти к Кау-джеру у братьев осталось не более пятидесяти сторонников, готовых идти за своими предводителями до конца, — в основном немецкие последователи Карла Маркса или готовые на все ирландские фении. Они находились в меньшинстве, и это их сдерживало. В их же интересах анархистам лучше было отделиться от остальных поселенцев, и, возможно, в другой части острова Кау-джер позволил бы им претворять в жизнь свои утопии, которые вскоре ввергли бы раскольников в нищету и привели к краху. Но, ослепленные своими ложными идеями, они предпочли вооруженную борьбу и уже на следующий день с ружьями в руках направились к продовольственным складам.
Кау-джер, собрав вокруг себя всех добропорядочных людей, быстро и практически без кровопролития подавил мятеж. Кое-кто из бунтовщиков был взят под стражу, в том числе и Мерриты.
Видя, как решительно действует Кау-джер, большинство бандитов отказались от дальнейшего участия в бесчинствах, будучи всего лишь рядовыми анархистами, оставшимися теперь без вожака.
Как поступить с Джеком и Джоном Мерритами, у Кау-джера не было ни малейших сомнений. Мысль о том, чтобы организовать какое-то подобие трибунала с выборными судьями, посадить виновных на скамью подсудимых, вынести, а потом и привести приговор в исполнение, он отбросил сразу же. Что будут говорить в свою защиту братья, Кау-джер знал. Они заведут речь о свободе человека, о праве каждого признавать или не признавать власть. Они станут утверждать, что на свободной земле ни один закон не может быть применен к тем, кто его не принимает, что они отказываются признавать диктатуру одного человека, навязанную всей остельской колонии!..
Именно такие идеи исповедовал и сам Кау-джер. И вот теперь, взяв на себя груз ответственности за судьбы людей, он, может быть, осознал всю их несправедливость и суетность.
Когда мистер Родс обратился к нему с предложением созвать суд из колонистов, Кау-джер ответил тоном, не требующим возражений:
— Не думаю, что это надо делать, поскольку у нас нет ни законов, по которым можно бы было организовать суд, ни самих судей, готовых вершить правосудие. Однако эти бунтовщики должны быть наказаны и без судебного разбирательства, что послужит уроком тем, кто захочет пойти по их следам. Надо изгнать их с острова, и пусть никогда больше их нога не ступит на эту землю!..
— Я с вами полностью согласен. Надеюсь, вас поддержит вся колония, — ответил мистер Родс.
— Шаланда доставит их в Пунта-Аренас, а оттуда они вольны отправиться на все четыре стороны.
Это было первое решение, принятое Кау-джером в качестве главы острова. Протесты братьев Меррит и пяти-шести их сообщников, арестованных вместе с ними, не возымели на Кау-джера никакого действия — скорейшее установление порядка на острове требовало самых решительных мер.
Однако для отправки главарей банды в Пунта-Аренас «Вель-Кьеж» не потребовался. Три дня спустя у берегов острова отдал якорь пришедший из Вальпараисо корабль, который привез необходимые строительные материалы и сотни голов скота. Чилийское правительство, заинтересованное в успехе этой попытки колонизации территории, обещало поселенцам помочь, устранив финансовые трудности. Прибывший корабль подтвердил серьезность правительственных намерений. После разгрузки судно отправилось в обратный рейс, взяв на борт изгнанных с острова мятежников.
С этого дня на острове воцарились мир и спокойствие. Жизнь понемногу налаживалась, и во всем чувствовалась твердая рука Кау-джера. Ему всячески помогали мистер Родс и еще несколько колонистов, посвятивших себя новому делу. Ценнейшую помощь оказывал боцман «Джонатана» Том Ленд, решивший в свое время остаться на острове. В том, что касается дисциплины, разницы между кораблем и колонией для него, человека смышленого и энергичного, не было, потому что капитан и глава острова — первые после Бога.
Прежде всего Кау-джер осмотрел остров. Как мы уже знаем, его центральная часть была занята плодородными землями, которые с первого же года могли давать отличные урожаи. С севера полуостров Харди был окаймлен цепью холмов, заросших густым лесом и служивших естественной преградой на пути злых ветров и масс очень холодного воздуха.
Плодородные почвы справедливо распределили между всеми поселенцами и отдали им в личную собственность. Не было и мысли об организации коллективных землевладений. Каждая семья владела своей долей, и продукты труда семьи принадлежали только ей; сообщество не могло на них претендовать.
— Видите ли, Кау-джер, — рассуждал Том Ленд, когда они в очередной раз делали обход побережья от Ложного Горна до мыса Ру, — если я откладываю заработанные деньги, то не для того, чтобы мой сосед, проевший свои, еще бы и выпил за мой счет! То, что я заработал, и то, что я сэкономил, должно принадлежать мне, иначе я брошу работать и пойду побираться. Те, кто со мной не согласны, ничего не понимают в практичности и справедливости; таких, по-моему, надо запирать в трюме!
После раздела территорий между Магелланией и Патагонией республики по-разному подошли к обустройству своих земель. Аргентинские чиновники, плохо знавшие эти края, отдавали в концессию огромные участки, раскинувшиеся на десять-двенадцать лье; когда же речь шла о лесах, где на один гектар приходилось до четырех тысяч стволов, легко вообразить, сколько надо было времени на их разработку, чтобы производить по двести тысяч кубических футов древесины в год. Пахотные земли и пастбища, слишком щедро разбазаренные, требовали привлечения огромного количества рабочей силы и инвентаря. Но и это еще не все. Буэнос-Айрес поставил аргентинских колонистов в невыгодное финансовое положение: сначала товар необходимо было привезти на таможню, которая находилась в полутора тысячах миль от Магеллании, и только после этого составлялась таможенная декларация. Времени на это уходило очень много — корабль возвращался домой лишь спустя полгода. При этом надо было платить пошлины за каждый день хранения груза в порту! Вот и получилось, что — как говорили экономисты — Буэнос-Айресу иметь дело с Огненной Землей было столь же трудно, как с Китаем и Японией.
Совсем по-другому действовало чилийское правительство. Все началось, как мы знаем, с образования города Пунта-Аренас, порт которого был объявлен свободным. Из разных стран потянулись сюда корабли с наилучшими товарами. Даже товары из аргентинской Магеллании стекались в Пунта-Аренас, где английские и чилийские торговые дома открыли свои процветающие филиалы.
Все это Кау-джер хорошо знал. Странствуя по островам Магеллании, он видел, что все ее товары — продукты сельского хозяйства, охоты, рыболовства — отправлялись на продажу не в Буэнос-Айрес, а в Пунта-Аренас. Следуя примеру Чили, остельцы наделили свое поселение статусом открытого порта, что дало ему возможность развиваться, а затем стать городом, который получил название Либерия.
Можно только поражаться, что Аргентинская Республика, выстроившая на Огненной Земле, почти напротив острова Осте, по другую сторону пролива Бита город Ушуая, не воспользовалась опытом чилийского правительства. По сравнению с Пунта-Аренасом и Либерией Ушуая влачила жалкое существование, чему способствовали ограничения, мешавшие развитию торговли, а также высокие таможенные пошлины, препоны, чинимые золотодобытчикам, безнаказанная контрабанда, пресечь которую на побережье протяженностью в семьсот километров, аргентинские власти были просто не в состоянии.
События, происходившие на Осте, независимость, дарованная острову чилийским правительством, непрерывное процветание колонии под твердым управлением Кау-джера — все это привлекало внимание промышленников и коммерсантов. Сюда стали прибывать новые колонисты, которым весьма либерально, на льготных условиях, предоставляли землю. Очень скоро стало известно, что леса на острове богаты породами, дающими древесину более высокого качества, чем в Европе; промышленники стали получать прибыль в пятнадцать-двадцать процентов, что вызвало строительство лесопилен и заметно активизировало выгодную отрасль. Находились люди, которые покупали землю под сельскохозяйственные угодья по тысяче пиастров за квадратное лье, и вскоре поголовье скота на островных пастбищах достигло нескольких тысяч.
Население быстро увеличивалось. К нескольким сотням переживших кораблекрушение «Джонатана» прибавилось почти столько же эмигрантов с запада Соединенных Штатов, из Чили и Аргентины. Через два года после провозглашения независимости Либерия насчитывала две тысячи душ, а на всем острове проживало уже около трех тысяч жителей.
Естественно, в Либерии часто играли свадьбы. Все гражданские акты регистрировались в мэрии, которая приютила под своей крышей различные административные учреждения, в том числе и службу безопасности, во главе которой Кау-джер поставил боцмана Тома Ленда. И лучшей кандидатуры на этот пост просто не было.
Среди свадеб, отмеченных с относительной пышностью, надо назвать торжества Марка и Кларри Родс. Молодой человек женился на дочери весьма преуспевающего владельца лесопильни, а девушка вышла замуж за молодого врача из Сан-Франциско, который приехал в Либерию по приглашению самого Кау-джера. Другие брачные союзы скрепили связи между главными семействами островитян.
Во время летнего сезона порт Либерии принимал множество кораблей. Каботажные суда не только заходили в Либерию, но и обслуживали возникшие на побережье фактории и конторы, в частности в окрестностях мыса Ру и и на северном побережье, омываемом проливом Бигл. Большинство кораблей приходило с Фолклендских островов, торговля с которыми расширялась из года в год.
Прибывали не только английские корабли, приписанные к атлантическим владениям британской короны. Парусники и пароходы шли из Вальпараисо, Буэнос-Айреса, Монтевидео, Рио-де-Жанейро, и во всех проливчиках, соседствующих с заливом Нассау и проливом Дарвина, полоскались по ветру норвежские, датские и американские флаги.
Мореплаватели были в основном рыбаками; издавна в этих краях им постоянно везло. Само собой разумеется, рыболовство строго регламентировалось запретами Кау-джера. В самом деле, нельзя же было допустить, чтобы чрезмерные уловы привели в короткий срок к уничтожению или исчезновению морских животных, с такой охотой появляющихся у этих берегов. Не только привлеченные на остров Осте туземцы (якана, рыбники или огнеземельцы) рьяно занимались этим ремеслом; в проходах и заливах Магеллании можно было видеть профессиональных зверобоев, людей разного происхождения, авантюристов всех мастей, безродный сброд, с которыми Том Ленд не смог бы справиться, если бы не взялся за дело по-военному решительно. Впрочем, теперь-то охотники оказались в лучших, чем прежде, условиях. Исчезли скудно снаряженные экспедиции, когда люди часто оказывались на каком-либо необитаемом острове или гибли от измождения и невзгод. Теперь они могли сбывать свою добычу, не ожидая долгие месяцы прибытия судна, которое, случалось, и не приходило. Впрочем, способ убийства мирных ластоногих ничуть не изменился. Нет ничего проще, как «наносить удары палкой» — salir a dar ипа paliza, как говорят испанцы, потому что иного оружия против этих несчастных животных не употребляют.
Помимо охоты на морских волков процветал китобойный промысел, который был исключительно прибыльным делом. За сезон в водах архипелага добывали до тысячи китовых туш. Суда, переоборудованные в китобойцев, бороздили воды по соседству с островом Осте, зная, что в порту Либерии им предоставят те же льготы, что и в Пунта-Аренасе. Развивалась, наконец, еще одна ветвь промысла: миллиарды моллюсков всевозможных видов покрывали песчаные пляжи. В числе других стоит упомянуть съедобных миид[294] превосходного качества; такое огромное количество этих моллюсков просто трудно себе представить. Корабли набивали ими полные трюмы и продавали в южноамериканских городах по пять пиастров за килограмм. Небольшие бухточки острова Осте славились огромными крабами-сентойя, живущими среди морских водорослей. Двух таких крабов вполне хватало, чтобы мужчина с очень хорошим аппетитом мог прокормиться целый день. Помимо крабов в изобилии водились омары, лангусты, мидии. Все это перерабатывалось на заводах, а консервы отправлялись за океан.
Разумеется, остельская колония сразу же привлекла к себе внимание миссионеров. Их немало обосновалось на Огненной Земле, и принадлежали они к миссии Аллена Гордона[295], пользовавшегося большим уважением среди местного населения. К слову сказать, индейцы Магелланийского архипелага жадно впитывали религиозные наставления и весьма прилежно посещали школу и церковь.
Миссии Аллена Гордона, возглавлял которую монсиньор Лоуренс, пришлось немало потрудиться, чтобы привлечь туземцев в лоно своей Церкви; проповеди велись на языке индейцев, а избранные отрывки из Библии, переведенные на ягон, щедро распространялись в виде книжек. И никто бы не стал удивляться, если бы англиканские миссионеры выдумали для огнеземельцев особенный ад — морозильный. Поскольку эти бедные люди считали холод своим самым страшным врагом, огонь традиционного ада не испугал бы их.
Каковы бы ни были взгляды Кау-джера на религию, он надлежащим образом принимал пасторов, которых привозили катера миссии. Разрешил миссионерам устроить церковь на одной из площадей Либерии и школы, куда семьи протестантов могли посылать своих детей.
Но были на острове верующие и других конфессий, в частности ирландские, канадские и даже американские католики. Значит, нужны были и католические миссионеры. Тогда обратились в магелланийские миссии, и они охотно откликнулись на призыв, так же как и многие сестры из общины[296] святой Анны, приехавшие ухаживать за больными. Первыми прибыли в Либерию отцы Атанас и Северин, с которыми Кау-джер последний раз встречался в одном из становищ валла на Огненной Земле. Отношений со святыми отцами он всегда избегал, но считал их честными и мужественными людьми, добросовестными и усердными пастырями, достойными представлять великую религию; они с большим успехом боролись с несколько коммерческим прозелетизмом[297] протестантских миссионеров.
На второй год существования Либерии католики обзавелись школой, ни в чем не уступающей протестантской, а также церковью, которая высилась на правом берегу Яканы. Ее архитектурный стиль, несколько свободный, но тем не менее не нарушающий традиций, не имел ничего общего с тяжеловесной строгостью обычного храма.
Между верующими разных конфессий царили согласие и добрые отношения. Ничто не нарушало спокойной жизни колонии, существованию которой в самом начале угрожали враги какого-либо общественного порядка.
Между островом Осте и чилийским правительством сложились прекрасные отношения. С каждым годом чилийские власти все больше убеждались в правильности своего решения, которое принималось с дальним прицелом: они справедливо надеялись извлечь в будущем всяческие выгоды. Аргентина же, проводившая политику, осужденную лучшими мировыми экономистами, не могла ждать каких-либо ощутимых результатов, о чем свидетельствовало плачевное состояние ее колонии в Ушуае.
Узнав о провозглашении таинственного Кау-джера главой острова Осте, чилийское правительство поначалу забеспокоилось. Его пребывание в Магелланийском архипелаге оно с полным правом расценивало как подозрительное, а потому не скрывало своего недовольства. Однако теперь, когда остров стал независимой территорией, власти не имели права задержать Кау-джера, чтобы выяснить его происхождение и мотивы пребывания на острове. Был ли он человеком, просто-напросто не способным выносить ярмо какой-либо власти, взбунтовался ли он когда-то против всех законов человеческого общежития, был ли изгоняем изо всех стран с любым правящим режимом, подчиненных справедливым и необходимым законам, — его образ жизни позволял принять любую из этих гипотез. Останься он на Исла-Нуэве, ему бы не уйти от чилийской полиции. Но после усмирения мятежников и восстановления спокойствия, по мере успешного развития торговли и роста благосостояния остельцев, чилийские власти на все смотрели сквозь пальцы, а потому между главой острова Осте и губернатором Пунта-Аренаса трений не возникало.
Благодаря удачному местоположению между проливом Дарвина и заливом Нассау капитаны торговых судов стали отдавать предпочтение порту Либерии, где заход и стоянка были удобнее, чем в порту Пунта-Аренаса, перегруженном к тому же паровыми судами.
События и перемены, происшедшие на острове, сыграли большую роль в жизни Карроли. Он стал главным лоцманом острова, и многочисленные корабли, идущие на Пунта-Аренас или направлявшиеся в фактории, расположенные на других островах архипелага, неизменно обращались к его услугам. О том, чтобы расстаться с Кау-джером, не могло быть и речи, и он по-прежнему плавал на верном «Вель-Кьеже». Помогал ему сын, женившийся на канадской девушке. Они были ему так же преданны, как и во времена их бытности на Исла-Нуэве.
Так прошло шесть лет. Успехам остельцев можно было позавидовать. Под управлением Кау-джера остров превратился в образцовую колонию. Либерия щедро делилась опытом, и на острове выросли три поселка: на мысе Ру, в глубине залива Нассау и в самой крайней точке пролива Дарвина, напротив острова Гордон. Они, разумеется, подчинялись столице, и Кау-джер наведывался туда либо морем, либо по дорогам, проложенным сквозь леса и прерии.
Именно в это время, в ноябре 1887 года, Либерию впервые посетил губернатор Пунта-Аренаса, господин Агире. Процветающая колония поразила его. Он удивлялся всему: рациональному использованию природных богатств, единению людей разных национальностей, порядку, счастью и достатку в каждой семье. Понять губернатора можно: наконец-то он встретил человека, который не только не думал о славе, но был удовлетворен малым. Не скрывая восхищения, губернатор Пунта-Аренаса воскликнул:
— Остельская колония — творение ваших рук, господин управляющий, и правительство Чили счастливо, что предоставило вам возможность совершить это чудо!
— Этот остров попал под чилийское господство лишь в силу договора тысяча восемьсот восемьдесят первого года, — соизволил ответить Кау-Джер. — Возвращение острову его независимости — всего лишь акт справедливости.
От господина Агире не ускользнул смысл сказанного: Кау-джер не считал, что восстановление справедливости дает чилийскому правительству право претендовать на какую-либо признательность. Не желая вступать в дискуссию, губернатор изменил тему разговора.
— Во всяком случае, — сказал он, — я не думаю, что пассажиры «Джонатана» сожалеют об африканской концессии в заливе Лагоа.
— В самом деле, господин губернатор. Там бы они подчинялись португальцам, здесь же они не зависят ни от кого.
— Стало быть, все к лучшему?..
— Пожалуй, что так, — ответил Кау-джер.
— Мы надеемся, — продолжал господин Агире, — на дальнейшее развитие добрых отношений между Чили и островом Осте.
— Мы тоже на это надеемся, — сказал Кау-джер и добавил: — Возможно, Чилийская Республика, учтя результаты эксперимента, примененного к Осте, предоставит независимость и другим островам Магелланийского архипелага?..
Господин Агире не мог удержаться от улыбки, но ничего не ответил — вопрос не входил в его компетенцию.
При разговоре присутствовали Гарри Родс, О’Нарк и Броке. Мистер Родс хорошо понимал, что дальше развивать эту тему не стоит, и заговорил о другом, обратив внимание губернатора на положение, сложившееся в аргентинской колонии Ушуая.
— Как видите, здесь процветание, там упадок. Жесткая политика Аргентины отпугивает переселенцев, корабли обходят стороной порт, в котором не предлагают необходимых для торговли льгот, и, несмотря на усилия губернатора, Ушуая ничуть не прогрессирует...
— Не могу с вами не согласиться, — ответил господин Агире. — Чилийское правительство действовало в отношении Пунта-Аренаса совершенно иначе. Оно, хотя и не предоставило колонии полной независимости, наделило ее многими привилегиями, что обеспечило будущее Пунта-Аренаса.
Разумеется, мистер Родс не мог не признать верности сделанного замечания, но для Кау-джера это были пустые слова. Он заговорил о другом — о проекте, который не мог быть осуществлен без согласия чилийского правительства.
— Господин губернатор, — сказал он, — я хочу обратиться к правительству Чили с просьбой отдать нам в полную собственность один из крошечных островков архипелага. По сути дела, это груда бесплодных камней.
— Что же это за островок? — поинтересовался господин Агире.
— Это островок, на котором возвышается мыс Горн.
— Зачем же он понадобился вам?
— Мы хотим поставить на нем маяк, в котором нуждается южная оконечность континента. Он принесет пользу не только кораблям, идущим к острову Осте или к проливам, разделяющим острова Наварило, Вулластон, Эрмите, Десоласьон, но и судам, огибающим мыс Горн при переходе из Атлантического океана в Тихий.
Господа Родс, О’Нарк и Броке, знавшие о проекте Кау-джера, поддержали его и подчеркнули необходимость сооружения маяка, ведь, миновав маяк на острове Эстадос, корабли не встречают больше ни одного подобного сооружения на островах вдоль чилийского побережья, что сильно затрудняет навигацию.
Господин Агире, конечно, не мог не признать глубокой обоснованности этого предложения. К тому же он знал, что различные государства неоднократно выражали пожелание, чтобы у мыса Горн был сооружен маяк.
— Как я понимаю, остельская колония готова построить этот маяк?..
— Да, господин губернатор, — ответил Кау-джер.
— За свой счет?..
— За свой счет, но при формальном условии, что чилийское правительство отдаст нам этот островок в полную собственность.
К сожалению, господин Агире не располагал соответствующими полномочиями, но он пообещал передать это предложение президенту Чилийской Республики, который, если сочтет нужным, поставит вопрос перед парламентом.
Поднимаясь на борт сторожевого корабля, готового взять курс на Пунта-Аренас, господин Агире еще раз выразил восхищение всем увиденным и заверил, что его правительство высоко ценит достижения остельской колонии, которая вносит огромный вклад в развитие чилийских владений в Магеллании.
Три недели спустя Кау-джер получил официальное уведомление, что вопрос о передаче острова Горн остельской колонии был рассмотрен чилийским парламентом и после всестороннего обсуждения решен положительно.
Оставалось составить акт передачи острова и скрепить его подписями президента республики и главы острова Осте, при этом, естественно, оговорив обязательства, которые берут на себя остельцы.
Договор между Чили и островом Осте был подписан 15 декабря 1887 года.
Кау-джер решил немедленно приступить к осуществлению проекта, не желая упускать время. Работы намечалось начать еще до конца лета. По его расчетам, на строительство маяка должно было уйти два года.
XV БЕСПОРЯДКИ
Лето подходило к концу. Погода стояла прекрасная, и никогда еще колония не собирала такого богатого урожая. Во внутренних районах острова вступили в строй новые лесопильни; одни приводились в движение паром, другие работали на электрической энергии, получаемой на водопадах многочисленных притоков реки Якана. Развитие рыбного промысла и строительство консервных фабрик позволили увеличить морские перевозки, и грузооборот либерийского порта вырос до трех тысяч семисот семидесяти пяти тонн.
С наступлением зимы работы по строительству маяка, где уже готовились помещения для электрогенераторов, пришлось приостановить. Островок Горн находился в сорока километрах от полуострова Харди, и доставлять материалы для строительства можно было только морем, через пролив у острова Эрмите, изобиловавший мелкими островками и подводными камнями, сильно затруднявшими плавание.
Больше всего хлопот зима доставила фермерам-скотоводам. К этому времени на острове насчитывалось пять тысяч голов скота. Поскольку вольное содержание животных на покрытых снегом пастбищах невозможно, пришлось позаботиться о кормах и строительстве скотных дворов. Потребовались немалые усилия, чтобы сберечь скот, и, надо сказать, больших потерь фермеры не понесли.
Ветры достигали порой ураганной силы, но сильных морозов не было, и даже в июле столбик термометра никогда не опускался за отметку десять градусов ниже нуля.
В столице и двух других поселках остельцы жили в уюте, всеобщий достаток обеспечил его каждой семье. Ни нищеты, ни преступности остров не знал. Ничто не угрожало ни людям, ни их собственности. Если и возникали какие-то споры, то они без труда и всегда справедливо разрешались Кау-джером и административным комитетом, работавшим под его руководством.
Казалось, ничто не могло изменить спокойную и размеренную жизнь остельцев, как вдруг в конце августа по острову пронеслось известие, которое, учитывая человеческую алчность, таило в себе катастрофические последствия: на северо-западе острова было обнаружено месторождение золота.
На Кау-джера это известие произвело гнетущее впечатление, и, чем больше он думал о нем, тем больше ему становилось не по себе. Он инстинктивно почувствовал приближение беды. В тот же день он пригласил к себе в резиденцию мистера Родса, чтобы обсудить эту весть.
Здравый смысл подсказывал им, что ничего, кроме неприятностей, это открытие колонии не принесет.
— Когда мы завершили начатое дело и пришло время пожинать плоды своего труда, — сказал Кау-джер, — случай, проклятый случай посеял среди наших колонистов семена беспорядков и краха... Да, краха, потому что открытие золота всегда оставляет за собой одни руины!
— Я полностью разделяю вашу тревогу, мой друг, — ответил мистер Родс. — Мне сдается, что наши остельцы не смогут устоять перед этим пагубным соблазном. Кто знает, не оставят ли фермеры свои поля, а рабочие — фабрики и лесопилки и не ринутся ли все на россыпи?
— Золото, золото! Жажда золота![298] — повторял Кау-джер. — Более страшного проклятья для нашей колонии не придумаешь!..
— К несчастью, — ответил мистер Родс, — не в наших силах предотвратить его.
— Нет, мой дорогой Родс. С этой эпидемией можно бороться, остановить ее и истребить!.. Я знаю, что против золотой лихорадки лекарств не придумано, она разрушает любое организованное общество. Разве можно в этом сомневаться после всего того, что случилось в золотоносных районах Старого и Нового Света — в Австралии, Калифорнии, на юге Африки?.. Люди в одночасье перестали заниматься полезным трудом, колонисты бросили на произвол судьбы поля и города, целые семьи покинули насиженные места. Всех потянуло к месторождениям золота. И у большинства старателей золото, добытое в схватке с такой алчностью, рассыпалось — как всегда бывает с легко доставшимся богатством — по мерзким безумствам, и эти горемыки закончили жизнь в нищете!
В словах, которые Кау-джер произносил с такой болью, чувствовалось беспокойство за судьбу колонии.
— Но угроза острову, — продолжал он, — исходит не только от остельцев. Сюда ринутся всевозможные авантюристы, проходимцы, все отбросы общества, которые посеют смуту, не поступятся ничем ради того, чтобы вырвать из чрева земли проклятый металл! Они нахлынут со всего мира и как лавина все сметут на своем пути! Разве заслужили мы такую участь?
— Разве у нас больше нет надежд? — спросил мистер Родс. — Если эту новость не предавать огласке, то мы убережемся от наплыва иностранцев. Не так ли?..
— Нет! — ответил Кау-джер. — Уже слишком поздно, чтобы предотвратить зло! Вы не представляете, с какой скоростью распространяются слухи об открытии месторождений золота! Можно подумать, что ветры разносят эту заразу, слишком часто поражающую даже самых стойких и самых мудрых! Это ужасно! Если бы я мог найти место, чтобы скрыться и не видеть этого величайшего позора, я тотчас покинул бы этот несчастный остров, который был мне так дорог.
— Вы хотите покинуть нас? — Мистер Родс схватил Кау-джера за руку, будто он хотел сейчас же выполнить свое намерение. — Дезертировать со своего поста в момент опасности?
Кау-джер промолчал. Казалось почти невероятным, чтобы этот энергичный и уверенный в себе человек был так потрясен. Опасности он не преувеличивал — остров ждали тяжелые испытания. Но Кау-джер уже овладел собой. Нет, он не уедет! Он сделает все, чтобы по мере возможности противостоять злу. От мимолетной слабости не осталось и следа — он вскинул голову, и впервые как бы сами собой из его уст вырвались слова:
— Бог нам поможет!..
Открытие было сделано 25 августа, и вот при каких обстоятельствах. Около семи утра Марк Родс и еще несколько колонистов отправились на охоту и удалились километров на двадцать от Либерии. Вышли они к подножию холмов в северо-западной части полуострова Харди. Лесистая местность, еще не тронутая человеком, служила убежищем для хищных зверей, обитающих на острове, нескольких пар пум и ягуаров, наносивших большой урон овечьим отарам. Прочесав лес и убив двух пум, охотники оказались на опушке.
Там они увидели крупного ягуара, который, почувствовав опасность, бросился вверх по склону холма. Через лес к Якане здесь сбегал стремительный ручеек. Почва под ногами охотников была влажной, вязкой, сплошь заросшей травой.
Марк Родс, заметив животное, выстрелил. Пуля попала хищнику в левый бок, но рана оказалась несмертельной, и ягуар, рыча не столько от боли, сколько от гнева, сделал прыжок в сторону ручья и исчез из виду.
В этот момент раздался второй выстрел. Пуля задела камень у подножия поднимавшегося над болотом холма, обдав охотников осколками.
Колонисты бросились бы в погоню за раненым зверем, если бы один из осколков не оцарапал Марка. Он поднял его и вгляделся.
На руке юноши лежал кусок кварца с характерными прожилками. Невооруженным глазом можно было различить золотистые вкрапления.
Да, это оно — золото! Земля острова Осте таила в себе драгоценный металл! Кусок камня свидетельствовал об этом. Впрочем, стоило ли удивляться? Разве содержащие драгоценный металл жилы не обнаружены на полуострове Брансуик, около Пунта-Аренаса, и на Огненной Земле, в Патагонии и Магеллании?.. Разве не моют золото по всем этим территориям старатели, присасываясь к земле словно клещи?.. Наконец, разве не протянулась от Аляски до мыса Горн золотая цепь, обогащающая становой хребет обеих Америк, и разве за четыре столетия не добыли оттуда золота на сорок пять миллиардов франков?..
Марк Родс, конечно, понимал всю важность этого открытия; он хотел бы сохранить его в тайне, рассказав о находке лишь своему отцу, который поставил бы в известность Кау-джера. Но не один Марк был посвящен в тайну. Его спутники тоже рассмотрели задевший молодого Родса кусок, подобрали и другие осколки, содержавшие крупинки золота.
Значит, рассчитывать на сохранение тайны было нечего, и в тот же день весь остров узнал, что его жителям не стоит завидовать населению других островов архипелага. Казалось, кто-то просыпал порох, и одной искры достаточно, чтобы воспламененная огненная дорожка протянулась к Либерии и другим поселениям.
Остельцам стоило задуматься. Наверняка золото залегает не только в болотистой местности у подножия холма, омываемого ручьем. Вполне возможно, новые поиски приведут к обнаружению новых месторождений. Колонистов на эти поиски не хватит, и люди, собравшиеся со всех уголков Магеллании, будут рыть и перекалывать земли, которые до того были привлекательны лишь для фермеров. Пришельцы набросятся на колонию — все эти авантюристы, деклассированные элементы, которые забыли свои имена и свое происхождение, а отличают друг друга только по кличкам! Они будут искать новые участки, вступят в борьбу с колонистами и постараются изгнать их с острова, станут бросаться на собственных товарищей, всегда готовые обирать и волтузить друг друга! И сможет ли милиция острова, если предположить, что она не будет дезорганизована, смогут ли люди Тома Ленда обезвредить эти орды злодеев?..
Приток Яканы, около которого обнаружили золото, тут же получил название Золотого ручья, Голден-Крик, и именно сюда хлынули самые алчные из жителей Либерии, которых не смогли остановить усилия Кау-джера и его друзей. Многие сотни колонистов бросили свои дома, оставили заводы, покинули поля, прервали начатые дела и устремились к месторождениям. Там, в кварцевых породах, они открыли богатые жилы.
Кау-джер и его совет оказались бы плохими правителями, если бы не попытались урегулировать добычу и сохранить порядок. Они даже подумывали передать добытое золото в общую собственность, использовать его на благо колонии, равномерно разделив среди всех островитян. Но с первых же дней их перестали слушать. Каждый соглашался работать лишь для себя самого, надеясь напасть на хорошо заполненный «карман»[299], найти дорогостоящий самородок, отрыть состояние ударом кайла, а мудрых советов никто не хотел слушать.
К тому же разработка залежей не представляла особых трудностей. Достаточно было отколоть кайлом кусок породы, раздробить его и тщательно собрать крупицы благородного металла. Не требовала больших усилий добыча драгоценного металла и на болоте, примыкавшем к Золотому ручью. Новоявленные золотоискатели отгораживали участки, а медленно текущая болотная вода вымывала из жижи крупицы золота.
Известно, что золотоносные территории чаще всего сложены глинистым грунтом, оставленным четвертичными[300] ледниками, промытым водой и задержанным, как фильтром, почвой. Потом сильные ливни переотложили этот грунт, смешав его с обломками кварца, обкатанными водными потоками[301]. Достаточно иметь под рукой простой лоток, зачерпнуть им ил и промыть его. Именно с помощью такого примитивного способа колонист намывал в день золота на 150—500 франков.
У Золотого ручья пласт ила уходил на глубину пяти футов, и с поверхности в тридцать-сорок квадратных футов[302] можно было выбрать от девяти до десяти лотков вместимостью кубический фут[303] каждый. Редко случалось, чтобы после промывки такого лотка в нем не оставалось нескольких крупиц золота или крохотных самородков.
Они были чуть крупнее песчинок, так что делянки, размер которых указан выше, не могли принести двадцать миллионов франков, что порой случалось в других золотоносных районах.
Не стоит и говорить, что делянки у Золотого ручья давали такую добычу только в начале разработок. Но вскоре, совсем рядом, колонисты обнаружили новые месторождения, более значительные. И дурман в головах колонистов день ото дня сгущался. Ослепляющая страсть выгнала на делянки почти все население Либерии: мужчин, женщин, детей. Некоторые обогащались, открыв в трещинах породы один из тех «карманов», где накапливаются приносимые ливневыми потоками самородки. Надежда не покидала даже тех, кто целыми днями вылезал из кожи, но ничего не мог найти. Однако люди стекались сюда, и не только из столицы, но и из других поселений, оставляя конторы, места рыбалки, береговые заводишки. В Либерии скоро осталось не больше сотни колонистов, верных домашнему очагу, семье, своему делу, сильно страдавшему в создавшейся ситуации. Казалось, золото наделено какой-то магнетической силой, которой не может сопротивляться человеческий разум.
Кау-джер не позволял себе расслабляться даже на мгновение. Он действовал с прежней решимостью и энергией, и тем не менее друзья не могли не заметить, что он испытывает глубокий упадок духа. Иначе и быть не могло. Его питала одна страсть — забота о благе людей. Ради этого он жил, ради этого он пожертвовал всем. И в то время, когда он снова связал себя столькими нитями с людьми, когда он после столь долгого разрыва вернулся в человеческое общество, жизнь снова повернулась к Кау-джеру всеми своими изъянами, пороками и позорными сторонами! Дело, которому он посвятил жизнь, рушилось. Созданная им колония разваливалась, потому что случаю было угодно рассыпать несколько крупиц золота в куске породы!
Наблюдая рост непреодолимого отвращения в душе Кау-джера, мистер Родс попытался его утешить:
— Долго это не продлится. Месторождения истощатся, и люди вернутся к прежней жизни.
— Боюсь, что будет уже поздно, — мрачно ответил Кау-джер.
Все меры, принимаемые им и его друзьями, были бесполезны. Не больше преуспели католические и англиканские миссионеры. Тщетны были усилия отца Атанаса и отца Северина, а также пасторов миссии Аллена Гордона. Напрасно они молились в храмах против золотого безумия, против достойной сожаления алчности, которая приведет к неминуемому разочарованию в будущем! Никто их не слушал, и вскоре ни молитвы, ни проповеди уже никого не привлекали.
И, как ни горько признаться, из всех жителей острова не поддались золотой лихорадке только индейцы. Их одних не охватило неистовство вожделения, за иго этим униженным огнеземельцам надо воздать честь и хвалу. Они не оставили свои фермы и рыбные промыслы и, невзирая ни на что, продолжали трудиться. От золотой лихорадки индейцев уберегли их честное естество и проповеди миссионеров. К тому же они не разучились слушать Кау-джера, своего благодетеля; индейцы не забыли, что сделал для них Кау-джер, и большинство аборигенов остались ему верны, так же как Альг и Карроли.
Если бы открытие золота ограничилось месторождениями у Золотого ручья, возможно, делянки и в самом деле истощились бы; тогда колонисты, в большинстве своем разочарованные, вернулись бы к прежним занятиям на полях и в городах. Однако на юго-западе острова в окрестностях мыса Ру, были обнаружены новые золотоносные жилы, не менее богатые, но более удобные для разработки. К мысу Ру хлынули тысячи старателей, почти не позаботившихся о поддержании своего существования. У этого мыса алчные люди, отчаянно боровшиеся за овладение делянкой, жили почти без крыши над головой, подвергались непогодам в богатый бурями теплый сезон, дышали воздухом болот, нездоровые грязи которых они потревожили, и очень скоро на старателей обрушились болезни и нищета. К сожалению, золотоносных участков для всех не хватало. И тут началась борьба за прииски.
Золотоискателей становилось все больше и больше, немалую долю составляли иностранцы. Как только в порт Либерии заходил корабль, экипаж тут же покидал судно и устремлялся на прииски. Капитанов никто не слушал, а офицеры, как правило, были в числе первых, подавая дурной пример матросам. К уже перемешавшемуся населению острова Осте добавились моряки всех национальностей: англичане, датчане, норвежцы, американцы, немцы; многие из этих авантюристов не останавливались перед насилием, и единственным законом для них было физическое превосходство. Только что им теперь было делать в Либерии? Корабли, посланные за строительным лесом, скотом, зерном, шкурами животных, больше не находили грузов. Складские запасы были исчерпаны в первую же неделю золотой лихорадки. Запасы продовольствия подходили к концу, и будущее остельцев не могло не вызывать тревоги у Кау-джера. Чтобы избежать голода, потребовалось его решительное вмешательство — он приостановил вывоз зерна и консервов с острова. Но если ему удалось предотвратить голод, то как остановить растущую нищету, он не представлял.
К концу января беспорядки приняли ужасающие размеры. На приисках копошились в грязи не только колонисты и сбежавшие с кораблей матросы, но и золотоискатели с различных островов Магелланийского архипелага, а также из Патагонии. Нетрудно представить себе масштабы этого нашествия! Разве не образуют самую богатую рудную жилу в мире эти Кордильеры, протянувшиеся от далекой Аляски, через Соединенные Штаты, Мексику, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили и Аргентину, до последних отрогов мыса Горн?[304] Разве не истощены они усилиями стольких поколений?[305] Слухи разрастались, разжигали воображение в Старом и Новом Свете, и вот уже весь остров Осте стали считать одним огромным «карманом», золотым островом, на котором сосредоточены самые большие богатства американской горной системы. Стоит ли удивляться, если вся чернь, которая в свое время опустошала Калифорнию, Австралию, Южную Африку, а несколько лет спустя будет готовиться к штурму аляскинского Клондайка[306], заполонит небольшой магелланийский остров!
И тогда чилийское правительство, отдавшее остров в собственность пассажирам «Джонатана», может быть, пожалеет о своем поступке! Получая от губернатора Пунта-Аренаса исчерпывающую информацию о положении на острове, оно не питало никаких иллюзий: на остель-ских месторождениях больше людей разорится, чем обогатится!
По подсчетам Кау-джера, на острове к концу января насчитывалось не менее двадцати тысяч чужестранцев. При таком наплыве разношерстной публики конфликты неизбежны. Дело уже доходило до вооруженных столкновений при дележе участков на приисках. А что будет завтра, когда голод заставит делить последний кусок хлеба?
Том Ленд и Карроли, не считавшиеся ни с усталостью, ни с опасностями, держали Кау-джера в курсе всех последних событий. Да и он сам не щадил себя. Он отправился на мыс Ру, друзья сопровождали его. Вместе с ним были также англиканские пасторы и католические священники. Желая помешать насилию, Кау-джер бросился в самую гущу этого человеческого сброда. Бесполезно! Пришельцы не знали его, да и колонисты уже не хотели признавать. Вмешательство Кау-джера едва не закончилось для него трагически. Его оттолкнули, посыпались угрозы, и глава острова чуть не заплатил жизнью за попытку исполнить свой долг.
Кау-джер вернулся в Либерию в отчаянии. Его мутило от омерзительной сцены, разыгравшейся у него на глазах. И в его окружении стали обсуждать возможность покинуть остров Осте.
Но, дойдя до этой крайности, Гарри Родс, Броке, О’Нарк и другие предложили обратиться за помощью к чилийскому правительству: милиция Тома Ленда, сильно уменьшившаяся в результате дезертирств, уже не в состоянии была навести порядок, и, возможно, это был последний шанс спасти положение.
— Чилийское правительство не может не пойти нам навстречу, — заметил мистер Родс. — Оно заинтересовано в установлении порядка.
— Вы хотите обратиться за помощью к другой стране? — вскипел Кау-джер.
— Достаточно одному военному кораблю из Пунта-Аренаса пройти вдоль берега, — вставил слово мистер Броке, — и все эти безумцы разбегутся.
— Пусть Карроли отправится в Пунта-Аренас, — предложил мистер О’Нарк, — и через две недели...
— Нет! — сказал Кау-джер твердым голосом. — Мы сами собственными руками, построили здесь город, наладили жизнь, а значит, спасем себя сами.
Перед железной волей этого человека можно было только преклоняться.
Кау-джер остался на своем посту, хотя и не мог в данных условиях действовать как правитель. Так, может быть, стоило вернуться к благотворительной деятельности, чтобы с помощью молодого врача, зятя мистера Родса, заняться больными, число которых росло с каждым днем?
В самом деле, остров Осте оказался во власти эпидемии, вызванной нищетой и всякого рода злоупотреблениями. Неустанное рвение и наилучший из возможных уход помогли сохранить жизнь очень большому числу больных (а к тому времени золотоискателей на острове было уже больше двадцати тысяч), хотя несколько сотен спасти не удалось.
В конце марта ажиотаж вокруг золота пошел как будто на убыль. Месторождения истощились. Разбогатела, и то случайно, лишь небольшая часть поселенцев. Зато сколько же разорилось, подорвало здоровье и обрекло себя на нищенское существование! А большая часть найденного золота разлетелась, как это роковым образом случается, по игорным домам да низкопробным притонам, в которых крики игроков смешивались с револьверными выстрелами. И если Либерия была избавлена от подобных сцен, то в двух других поселениях они были слишком частыми.
Всего на приисках полуострова Харди и мыса Ру удалось добыть драгоценного металла на сумму в три миллиона франков, тогда как по соседству с заливом Нассау прииски оказались настолько бедными, что их тут же забросили. В сущности, колонисты ничего не получили — практически все золото оказалось в руках европейских, а главным образом американских авантюристов.
Увидев, что золотой поток иссяк, весь этот разношерстный сброд покинул Осте, оставив после себя разорение. Терзаемые голодом, преследуемые нуждой, потерявшие своих близких, остельцы вернулись в Либерию, где они нашли помощь и поддержку и, главное, неутомимую заботу, которую Кау-джер не раз выказывал во время этих страшных испытаний.
Сможет ли колония оправиться от полученного удара? Восстановит ли после глубокого душевного упадка свою былую энергию Кау-джер, будет ли его рука такой могучей, чтобы приступить к новой реорганизации?.. Да и захочет ли он?.. В самом деле, его друзья могли опасаться, что после стольких разочарований, после столкновения лицом к лицу со всеми людскими пороками Кау-джер захочет покинуть остров Осте.
Между тем восстановление колонии было благородной задачей, достойной великого духа. Однажды Кау-джер уже спас остров от крайностей анархии. Не попытается ли он снова взяться за дело и работать на благо бывшей в значительной степени его созданием колонии, которую он привел к процветанию!..
Прошло несколько дней, а намерения Кау-джера все еще оставались неясными. Когда он не запирался дома, не желая ни с кем общаться, то отправлялся блуждать в одиночестве по холмам полуострова Харди, и там, остановившись на краю обрыва, устремлял, как когда-то, взгляд на юг и застывал в неподвижности на несколько часов!..
Кто знает, не уносился ли он мыслью к оконечности континента, к мысу Горн, к той скале, для которой он добился независимости?.. Разве не там находится убежище, куда Карроли отвезет его, чтобы снова начать уединенную жизнь, как на Исла-Нуэве?..
Тем временем Либерия постепенно оживала. Открывались дома. Мистер Родс и его друзья изо всех сил старались поднять дух колонистов, поддержать их материально, наставить на верный путь посреди всеобщего разорения. Можно было подумать, что страшный циклон опустошил остров или на головы жителей обрушился метеорит. Надо сказать, однако, что повторения подобных испытаний не стоило опасаться. Земля была опустошена, хорошенько очищена от всего золота, что она хранила. Ее перерыли до самого чрева. Что от нее требовалось сейчас? Возродить леса, травы, злаки... дать пропитание всем существам, живущим на ней и благодаря ей, а не кускам того металла, открытие которого стало причиной стольких несчастий!..
Наконец после долгих дней молчания, когда Кау-джер был недоступен даже друзьям и соратникам, он пригласил их в свою резиденцию и сказал спокойным, твердым, полным прежней энергии голосом:
— За дело!
XVI МАЯК НА МЫСЕ ГОРН
Приближалась зима. Как перенесут ее после стольких испытаний жители острова, часть которых еще оставалась во внутренних районах, где им грозил голод? Чужестранные же старатели давно уехали: им на острове больше нечего было брать.
И если они увезли только золото, то, может быть, не стоит об этом сожалеть, потому что страна становится богатой не от золоторудных месторождений, а от плодородия почв, развития торговли и промышленности, а этого-то и не хватает золотоносным районам. Разве до открытия россыпей у Золотого ручья колония не наслаждалась завидным процветанием и разве ее нынешнее состояние не гарантирует будущего?..
Но на нее обрушилась беда. Были покинуты заводы, места рыболовства, лесные разработки, но не только это; чтобы довершить описание масштабов несчастья, надо упомянуть, что земледельцы забросили свои поля, многие домашние животные, лишенные ухода, погибли на пастбищах, земля осталась невозделанной и следующий сельскохозяйственный сезон был безвозвратно потерян.
Прежде всего надо было избежать голода в то время, когда зима покроет снегом и льдом весь Магелланийский архипелаг. В Либерии, как и в других поселках — у мыса Ру и в заливе Нассау, — не хватало топлива. Значит, надо было защитить их не только от голода, но и от холода.
Третьего апреля Кау-джер собрал в резиденции совещание.
— Спасти колонию, — сказал он присутствующим, — можно только ценой самоотверженных усилий и при том условии, что каждый возьмет на себя часть общей ноши и безропотно ее понесет. Рассчитывать мы можем только на себя, но прежде всего мы должны четко представлять, чем мы располагаем.
— Мы этим займемся, — ответил мистер Родс. — Надеюсь, что между нами и колонистами не возникнет никаких разногласий. Они слишком много страдали и бедствовали, чтобы не понять: необходимо безо всяких препирательств и протестов подчиниться вашей воле. Мы просим вас действовать жестко, ваши приказы не должны обсуждаться. Вы должны всех привести к повиновению. Мы полностью доверяем вам, знаем вашу решительность и практическую сметку. Известно, что вы лишены каких-либо личных амбиций. Вы ни за что не пойдете другим путем, кроме как по дороге долга, и мы последуем по ней за вами...
— И если вам потребуется неограниченная власть, берите ее не колеблясь! — добавил мистер Броке.
Кау-джер хорошо понимал, что требуется колонии в ее современном состоянии. Обстоятельства, и в самом деле тяжелые, вынуждали действовать по-хозяйски... по-диктаторски (да, это верное слово!), и таким диктатором — Кау-джер это знал — мог быть только он!
И в этот момент внимание друзей привлек мистер О’Нарк:
— Вы помните, когда беспорядки были в самом разгаре, когда ни людей, ни их имущество нельзя было обезопасить, когда мы подвергались насилию со стороны иностранцев, опасных как своей численностью, так и своей наглостью, мы подумывали призвать на помощь Чили...
— И я тому решительно воспротивился, — воскликнул Кау-джер. — На мой взгляд, это грозило независимости острова. Никогда я не соглашусь пожертвовать даже самой малой ее частичкой!..
— В тот момент мы поддержали вас, — ответил мистер Родс. — Мы и сейчас выступаем за свободную колонию, и если над островом взовьется чилийский флаг, мы тут же покинем его.
— Остров должен принадлежать колонистам. Но, — продолжал О’Нарк, — не отказываясь от своих прав на остров...
— К чему вы клоните? — перебил Кау-джер.
— Я клоню к тому, что, если чилийское правительство предложит свои услуги не для наведения порядка, а для оказания помощи, мы, я думаю, должны принять ее, а возможно, и обратиться за ней сами.
— Против этого я возражать не стану, — ответил Кау-джер, — но при том условии, что эти сношения с Чилийской Республикой никоим образом не дадут ей повод предъявить свои права на остров...
— С этим мы вполне согласны. Нельзя допустить установления над островом протектората, — подтвердил мистер Родс.
— Над островом будет развеваться только наш флаг, — провозгласил Кау-джер, — и я не потерплю, чтобы он опустился перед кем-либо! Да здравствует независимый остров Осте!
С этого дня он стал неограниченным правителем острова, и против этого не возразила ни одна живая душа. Кау-джер, и в мыслях не допускавший абсолютную власть одного человека над другим, стал диктатором, призванным возродить разрушенное.
Впрочем, колонисты поняли, что сложившаяся ситуация требовала твердой руки.
Кау-джер начал с того, что узнал, чем располагала каждая семья и каков запас продуктов на острове. Стало очевидно, что придется ввести нормированное распределение продовольствия — без каких-либо привилегий. Эта мера будет действовать до тех пор, пока не привезут достаточно зерна, чтобы его хватило до будущего урожая.
Задача, вставшая перед Кау-джером, была не из легких: прокормить три тысячи человек, тогда как скота практически не осталось, а муки набралось всего несколько сотен центнеров.
Поначалу нормированное распределение, такое необходимое, вызвало несколько попыток взбунтоваться. Необходимость отдать оставшееся в общий фонд не была осознана некоторыми семействами. Но эти меры были необходимы, и к тому же приказы Кау-дже-ра следовало исполнять беспрекословно. Кау-джер реорганизовал остельскую милицию, но во главе оставил верного Тома Ленда, который занялся преследованием отказывавшихся делиться своим добром ради общего блага. Короче, после нескольких случаев применения крутых мер Кау-джер, поддержанный большинством, сломил последнее сопротивление. Он также организовал отряды для обеспечения столицы и двух других селений топливом.
Отсутствие достаточного количества топлива беспокоило администрацию поселка. К концу апреля холода усилились, но температура не опускалась ниже нормальной. Однако остельцы очень страдали от сырости, вызванной обильными дождями и мокрым снегом. Но в лесах хватало необходимых на зиму дров, и работа, после того как деревья были срублены, сводилась к тому, чтобы их распилить и доставить в селения.
Часть жителей по распоряжению Кау-джера искала разбежавшийся по острову скот. И скоро удалось собрать на фермах от пятисот до шестисот животных, большая часть которых должна была пойти на пропитание колонистов.
Как и было решено, Кау-джер обратился к чилийскому и аргентинскому правительствам, а также к властям Фолклендских островов с просьбой о поставках семян для посева, а также племенных животных для восстановления коровьих стад и овечьих отар, для которых в сентябре освободятся из-под снега пастбища. Кау-джер учел и то, что еще в течение трех-четырех месяцев проливы Магел-ланийского архипелага будут недоступными для каботажного плавания и колонии в это время придется жить на собственных скудных запасах, а потому надо было прибегнуть к распределению. Частный интерес должен был отступить перед интересом всего общества.
В июле зима все-таки показала свой суровый нрав. Но благодаря тому, что дровами запаслись впрок, с морозами справились без особого труда. Несмотря на стужу, Кау-джер ни на минуту не прерывал своей деятельности — он продолжал восстанавливать нормальную жизнь на острове. Он хотел все видеть своими глазами, а точнее будет сказать: все сделать своими руками. Он постоянно был среди людей: разъезжал по поселкам, отправлялся во внутренние районы острова, посещал на побережье конторы и фактории, консервные заводы и рыбные промыслы. У него было такое ощущение, что он живет той прежней жизнью, когда мотался по Огненной Земле, от одного индейского племени к другому, посещая десятки стойбищ туземцев, когда приобрел свое доброе имя и заслужил почетное прозвище благодетеля. С возрастом он не утратил ни выносливости, ни активности, и популярность, которой он пользовался среди индейских племен, возродилась на острове Осте.
Было бы несправедливо не отметить ту помощь, которую ему бескорыстно оказывали друзья. Они сопровождали его повсюду, не обращая внимания на усталость, справляясь со всеми его поручениями. Впрочем, когда зять мистера Родса исполнял свой профессиональный долг в Либерии, именно Кау-джер пользовал его больных в поселках и хуторах.
Не отступал ни на шаг от Кау-джера и Карроли, который в зимний период был свободен от своих обязанностей лоцмана. Вряд ли можно было найти более верного друга. Альг, занимаясь охотой и рыбной ловлей, все оставшееся время находился при своей молодой жене, только что родившей ребенка.
Наконец пришел октябрь, и зима отступила. Лучи солнца растопили снежный покров архипелага, и тогда с Фолклендов и из Чили к острову потянулись корабли. Склады вновь наполнились продуктами, и угроза голода наконец-то миновала.
— Самое время! — сказал Кау-джер Гарри Родсу. — Еще бы месяц, и наши запасы кончились! Хлеба у нас не осталось бы уже к концу недели! Ну, а теперь бояться нечего...
— Благодаря вам, мой друг, — ответил мистер Родс, — благодаря вашему умелому руководству, предусмотрительному и энергичному, и вы не отвергнете свидетельства нашей признательности...
— Признательности? — перебил его Кау-джер. — Это вам должна быть признательна вся колония за вашу самоотверженную работу. Но лучшая награда — сознание выполненного долга.
— Согласен, — продолжал мистер Родс, который, без сомнения, намеревался высказать до конца свою мысль, считая момент подходящим. — Но еще, мой друг, мы должны возблагодарить Бога за то, что он пересек наши пути, и за спасение «Джонатана», и за спасение нашего острова...
— Бога?.. — тихо проговорил Кау-джер и невольно поднял глаза к небу.
С приходом тепла ожили заводы, наладилась торговля, на полях и фермах появились люди. Либерия вновь обрела облик многолюдного города. Пульс жизни забился с прежней силой. В порт все чаще заходили корабли, и уже не надо было бояться дезертирства экипажей. Благодаря какому-то счастливому обстоятельству охота на китов была особенно успешной в магелланийских водах, в том числе и в соседних с островом Осте проливах. Американские и норвежские китобои наводнили порт Либерии. Теперь сотни колонистов могли неплохо заработать на производстве рыбьего жира. Склады наполнились товарами: одни из них шли на экспорт, другие на нужды самих островитян.
Заводы, лесопильни, консервные фабрики снова работали на полную мощность. Вдвое увеличилась добыча морских волков. Несколько сотен индейцев-рыбников, страдавших от притеснений аргентинских властей, покинули Огненную Землю и навсегда разбили свои шатры на остельском побережье. Кроме того, Общество помощи переселенцам направило на остров новых колонистов, главным образом выходцев из Канады и северных районов Соединенных Штатов, и вскоре население Осте выросло втрое.
Незаметно пролетели два года, и благодаря правлению Кау-джера от потрясений, вызванных открытием золоторудных месторождений, не осталось и следа. Значимость колонии определялась денежным оборотом в несколько миллионов пиастров. У северного входа в залив Нассау вырос второй порт, омываемый водами пролива Бигл, по которому можно было удобно попасть в Магелланов пролив. Торговые отношения с Пунта-Аренасом становились все оживленнее, и этот товарообмен обогащал обе столицы. Негоцианты, возможно, столь же охотно торговали бы и с Ушуаей, если бы эта аргентинская колония ради собственного процветания решилась предоставить существенные льготы.
Многие остельские торговые дома обзавелись каботажными судами, которые ходили и на восток, к Фолклендам, и на запад, до островов у тихоокеанского побережья Чили. Они собирали товары по всему побережью: не только в поселениях возле залива Нассау и у мыса Ру, но также и в тех, что были основаны у входа в пролив Дарвина и в проходе, отделяющем Осте от острова Гордон. Последняя перепись уточнила, что население колонии достигло пяти миллионов человек и шестую часть жителей составляли индейцы.
В конце 1890 года колония приобрела у чилийского правительства пароход водоизмещением в триста тонн, построенный на верфях Вальпараисо. Его назвали «Якана». Пароход обеспечивал связь колонии с факториями Магелланийского архипелага. Кау-джер пользовался им для посещения наиболее удаленных мест побережья острова Осте, но никогда его нога не ступала на землю, отошедшую по договору 1881 года одной из двух южноамериканских республик.
Работы, предпринятые на мысе Горн, были завершены. В самый разгар лета на его крайней точке вознеслась пятидесятифутовая башня маяка с фонарем, расположенным на высоте шестисот метров над уровнем моря. У подножия мыса расположились помещения для динамо-машин, вырабатывающих электроэнергию, а также помещения для строителей и склады всего необходимого для работы первоклассного маяка.
Было решено, что открытие маяка станет торжеством, которое надолго сохранят в памяти колонисты. Разумеется, все присутствовать на нем не смогут, потому что регулярного сообщения между островами Осте и Горн не было. Стало быть, приедут только те, кто занимает видное положение в обществе. Кау-джер разослал соответствующие приглашения. Открытие было назначено на 15 января 1891 года. Пароход «Якана» заберет приглашенных членов правительственного совета, их семьи. Не забудут и Карроли с Альгом, которых по праву относили к выдающимся жителям Осте. Само собой разумеется, что сопровождать пароход смогут портовые катера и остальные суда, которым доступен такой переход.
В назначенный день, около одиннадцати часов, «Якана» с сотней пассажиров и пассажирок на борту покинула порт Либерии и пошла вдоль полуострова Харди, сопровождаемая дюжиной суденышек. Погода благоприятствовала путешествию: дул легкий норд-ост. Путь был недолгий — от полуострова Харди до крайней точки архипелага расстояние не превышало десяти морских лье[307]. Флотилия, защищенная от ветров гористыми берегами, прошла свой путь без приключений и задержек. «Якане» не пришлось даже убавлять ход, и остальные суденышки все время видели остельский флаг, развевавшийся на гафеле. Пароход обогнул полуостров Харди, взял курс на северную оконечность острова Эрмите и, оставив его справа по борту, вошел в пролив, открывавший путь в бескрайние морские просторы. К острову Горн флотилия подошла к трем часам пополудни. «Якана» отдала якорь в той самой бухте, откуда «Вель-Кьеж» когда-то отправился на помощь тонущему «Джонатану». Суденышки, следовавшие за пароходом, закрепили свои якоря на берегу.
Около ста пятидесяти человек во главе с Кау-джером высадились на песчаном пляже, обрамленном черноватыми рифами, усеянном сверкающими ракушками и плавно поднимавшемся к подножию мыса. У маяка, устраняя последние недоделки, суетились рабочие, с которыми Карроли познакомился еще в те времена, когда до покупки «Яканы» привозил сюда Кау-джера на своей шаланде.
Ступив на берег, Кау-джер пошел по тропинке, бежавшей вверх по склону каменистого холма. Его друзья поняли, что ему хочется побыть одному, и остались внизу. Мистер Родс с семейством, господа Брокс и О’Нарк с домочадцами, все прочие приглашенные занялись под руководством служителей маяка осмотром пристроек.
Между тем Кау-джер медленно, не поворачивая головы, поднимался. Он был сосредоточен и погружен в думы, как и десять лет назад, когда, покинув Исла-Нуэву, искал убежища на краю континента.
Дойдя до вершины, он на мгновение остановился, потом сделал еще двадцать шагов, отделявших его от гребня, и замер.
Он вспомнил все: студенческую юность, зрелость, до предела заполненную борьбой за свои идеи, презрение к человечеству, разрыв с обществом себе подобных, жизнь среди индейцев Магелланийского архипелага, отшельничество на Исла-Нуэве, спокойные годы рядом с Карроли, потом — договор, изгнавший его из убежища, прибытие на мыс Горн, кораблекрушение «Джонатана» и, наконец, пребывание на острове Осте.
А сколько изменений произошло в душе Кау-джера, с тех пор как он поступился давнишними теориями и посвятил себя организации новой колонии! Может быть, он все еще остается тем человеком, все мировоззрение которого сводится к одной отвратительной формуле: «Ни Бога, ни властелина!..»
Нет! Здесь, на этой скале, с губ его в каком-то невыразимом порыве, пронзившем всю его душу, сорвалось:
— Боже!
Кау-джер опустил глаза. Он стоял на площадке, у края которой были сложены камни, извлеченные из котлована при возведении фундамента маяка.
Один из камней привлек его пристальное внимание. Он лежал ближе всех к краю, и стоило лишь слегка толкнуть его ногой, чтобы низвергнуть в морскую бездну.
Кау-джер подошел ближе. Глаза его гневно сверкали, лицо исказила гримаса презрения...
В камне, не замеченном рабочими, пересеченном посверкивающими жилками, было золото, возможно, целое состояние. И вот оно лежало здесь, забытое всеми подобно простому валуну. Значит, исполинская горная цепь Нового Света протянула свои золотоносные ответвления до самого мыса Горн, и в чреве этой скалы скрывался драгоценный металл.
Перед мысленным взором Кау-джера пронеслись все несчастья, обрушившиеся на остров Осте после открытия месторождения у Золотого ручья: нашествие авантюристов из всех частей света, голод, нищета, разруха...
Он сделал еще один шаг к самородку и, слегка толкнув его носком сапога, проговорил:
— Будь ты проклят, презренный кусок металла! И как жаль, что вместе с тобой я не могу утопить в морской пучине все пороки человечества!
Камень покатился вниз, подпрыгивая и сверкая под лучами солнца. И вот он исчез в морской пучине у подножия мыса.
Кау-джер повернулся к собравшимся внизу участникам торжества, приветственно помахал им рукой, и они поспешили к нему на вершину скалы.
В этот день на заходе солнца маяк зажегся в первый раз. Башня его представляла собой ажурную железную конструкцию, тем не менее не пропускавшую ветер; решетчатая мачта, в которой находился фонарь, поднялась на пятьдесят футов над вершинным плато, а значит, на тысячу восемьсот футов над уровнем моря.
Кау-джер с друзьями, а также все приглашенные на церемонию открытия расположились вокруг башни. Слово взял мистер Родс и, обращаясь к Кау-джеру, в нескольких переполненных чувством благодарности фразах выразил от имени всех остельцев признательность тому, кто столько сделал для колонии. Он вспомнил о тех, кто десять лет назад оказался в этих краях, когда буря выбросила на берег потерявший управление «Джонатан»; он вспомнил все, что случилось на острове Осте, когда колония, не менее неуправляемая, чем поврежденный корабль, чуть не погибла сначала под ударами анархии, а потом от нашествия чужеземцев.
И тогда красноречивые слова мистера Родса были прерваны послышавшимися со всех сторон криками:
— Да здравствует Кау-джер!.. Да здравствует Кау-джер!..
А он ответил только тем, что поднял руку к небу.
Приветственные крики, в которых чувствовался весь пыл патриотизма, раздались с новой силой, когда остельский флаг, развернувшийся в порывах бриза, поднялся на верхушку маяка.
Часам к пяти все спустились на пляж, и каждый принял участие в банкете, устроенном в пристройке, в большом зале, и там зазвучали пылкие здравицы в честь Кау-джера и тосты за процветание колонии.
Торжественный обед закончился примерно к семи часам, и тогда все снова собрались на вершине скалы, не желая пропустить момент, когда первый пучок световых лучей уйдет в окружающее пространство.
Небо поражало чистотой, и стихающий бриз не шевелил в синеве ни единым облачком. Все находились в состоянии особого подъема, установилось глубокое молчание. Взгляды присутствующих устремились на восток, где огромный сектор небосвода уже потемнел, тогда как запад все еще багровел. Ни одного паруса не было видно в морском просторе, ни одного дымка по периметру — сплошная водяная пустыня.
Вот уже лучистое светило коснулось горизонта. Растянутое рефракцией, оно вскоре превратилось в полусферу; потом осталась только огненная кайма, которая готовилась вот-вот исчезнуть в море. И тогда в небо вырвался ярко светящийся зеленый луч, цвет которого был дополнительным к исчезнувшему красному.
И в этот момент поданный снизу электрический ток разрядился дугой между электродами фонаря, и яркие лучи, пройдя сквозь чечевицеобразные стекла, устремились во все стороны света.
Впервые над водами Магелланийского архипелага засиял маяк. Это знаменательное событие две пушки «Яканы» приветствовали выстрелами, сопровождавшимися многократным «ура» зрителей.
Отныне корабль, прибывающий с востока, простившись с огнями на острове Эстадос[308], перед тем как подойти к сигналам в чилийских водах, увидит свет маяка на мысе Горн, маяка, возведенного колонистами острова Осте в месте встречи Атлантики с Тихим океаном.
Послесловие
ВЕРНУТЬСЯ К ПОДЛИННОМУ
Когда Жюль Верн скончался, в его архиве остались рукописи пяти готовых романов. Единственный сын и наследник писателя Мишель Верн попытался заинтересовать ими Л.-Ж. Этцеля-младшего, но многолетнему издателю верновских произведений последние сочинения прославленного автора не понравились. Он нашел их растянутыми, не соответствующими изменившимся вкусам публики и поэтому предложил Мишелю кое-что переделать, а именно: ввести побольше диалогов, уменьшить количество описаний, сократить слишком внушительное число географических, исторических, биологических сведений, которыми привык щедро насыщать свои книги мэтр Жюль (к тому же часть этих сведений уже утратила актуальность), — одним словом, оживить романы, сделать их более динамичными, а следовательно, более привлекательными для читателя нового века. Сын послушался совета издателя и засел за переделку отцовских произведений. Руководило им — как подозревали уже тогда и как стало абсолютно ясно сегодня — отнюдь не бескорыстное стремление представить миру последние творения гения. Внимательные читатели, критики, коллеги-литераторы сразу же поняли, что в отцовские романы сын внес немало изменений. Но коснулись ли они только способа изложения материала или же, напротив, затронули основные сюжетные линии? Точного ответа долгие годы не было. Но вот в начале 1990-х годов стал известен контракт, подписанный в декабре 1905 года Этцелем-младшим и Мишелем на подготовку к изданию «неопубликованных произведений Жюля Верна», в котором прямо говорится о том, что сын и наследник великого писателя берет на себя труд «пересмотреть и исправить» оставшиеся после отца рукописи, но, если по каким-то причинам он не сможет это сделать, Луи-Жюль Этцель будет вправе опубликовать оригинальную рукопись[309].
Все пять романов, о которых идет речь, увидели свет в 1906—1910 годах, причем, как это вошло в обыкновение, книжному изданию предшествовали журнальные публикации.
Через семь десятилетий у потомков знаменитого писателя были приобретены машинописные рукописи его последних романов. Их изучением занялся Пьеро Гондоло делла Рива, крупнейший в то время специалист по творчеству Ж. Верна и один из руководителей Верновского общества. Простое сличение рукописного и печатного текста позволило установить, что изменения, внесенные Мишелем, весьма значительны. Поменялся не только сюжет, но сам дух произведений. Иногда — как в случае с «Прекрасным желтым Дунаем» — из-под пера сына выходили совершенно другие романы. И тогда Мишель не придерживался даже их первоначального названия. Так появились на свет «Дунайский лоцман» и «Кораблекрушение “Джонатана”» (см. т. XX наст. собр. соч.).
Вернемся, однако, к верновским оригиналам. Идея сочинить роман о самой длинной реке Западной Европы зародилась у писателя давно — может быть, еще тогда, когда он создавал книги о путешествиях по Амазонке (1880) и Ориноко (1894), а может, и раньше — в те далекие дни начала 1860-х годов, когда в журнале «Вокруг света» («Le Tour du Monde») он зачитывался превосходными описаниями дунайского маршрута французского историка, а впоследствии и политического деятеля Виктора Дюрюи. Яркий текст журнальных публикаций сопровождался не менее привлекательными иллюстрациями, выполненными спутником Дюрюи — художником Д. Лансе-ло. У Жюля даже зародилось желание повторить увлекательный маршрут или, по крайней мере, посетить одну из придунайских стран. Ему самому не удалось осуществить эту мечту, но на склоне лет в первый день XX века Верн вместо себя отправляет на Дунай своих литературных героев. Напомню читателю, что всего за полтора года до этого сюжет одного из верновских романов («Тайна Вильгельма Шторица») уже разворачивался в маленьком придунайском городке.
На этот раз местом действия стала вся великая река — от истоков до устья. Без преувеличения, Дунай можно считать главным героем романа. Писатель тщательно следит за изменением характера реки по мере продвижения к устью, сообщает интересные гидрологические, геоморфологические, биологические подробности, иногда изощренно описывает нравы речных обитателей, не забывая, конечно, остановить внимание читателя на исторических и архитектурных особенностях подунайских поселений, на облике и характере прибрежных жителей. Ко всему еще опытным моряцким глазом он оценивает навигационные маневры дунайских лоцманов. Для не слишком загруженного информацией читателя начала XX века книжка Ж. Верна вполне могла стать превосходным путеводителем по реке. Правда, сам автор сдвигает действие романа назад, поближе ко времени написания очерков Дюрюи, отчего путешествие Ильи Круша окутывается легкой историко-романтической дымкой.
По ходу повествования Жюль Верн то отпускает ехидные замечания о стремлении баварских архитекторов посоперничатъ с древними греками, то рассуждает о поведении и привычках речных рыб, то «вкусно» описывает налитки и яства придунайских народов. Он не упускает случая показать в невыгодном свете слишком самоуверенных полицейских, обращает внимание на несовершенство правосудия (больная после дела Дрейфуса для Франции тема). Но оптимист-герой стоически переносит все неприятности и — вместе с автором — свято верит в конечное торжество справедливости. Весь роман пронизан любовью и верой в жизнь. Это особенно удивительно, если учесть, что его автор — больной семидесятилетний старик. «Прекрасный желтый Дунай» прямо-таки сочится живым французским юмором, а открывается он раблезианским описанием пирушки рыболовов. И как же тонко иронизирует писатель над милой человеческой слабостью — ужением рыбы, с какой «важностью» объявляет он это занятие самым мудрым и достойным из всех наших праздных увлечений!
Сам заголовок романа — своего рода опровержение названия прославленного штраусовского вальса. С точки зрения естествоиспытателя, прекрасный Дунай не голубой, а желтый, хотя, конечно, Верн не очень-то упрекает в «ошибке» композитора, который предпочел действительности фантазию.
Читателю, разумеется, бросился в глаза еще один предмет вер-новской иронии: Круш, сплавляясь по Дунаю, ловит и... продает рыбу прибрежным жителям! Причем не только в крупных городах, но и в маленьких селениях! А как автор восхищается придумкой контрабандистов, устроивших на барже двойное дно, чтобы обмануть полицейских и таможенников! Нет, Верн не становится на сторону преступников, но и не отказывает себе в удовольствии мягко подтрунить над власть предержащими.
Можно отметить и еще один аспект романа. После ареста Круша в Будапеште образуются две партии сторонников и противников узника — «крушисты» и «антикрушисты». Они то кажутся непримиримыми врагами, то с легкостью переходят из одного лагеря в другой. Так Верн подсмеивается над своими соотечественниками, разделившимися в связи с громким процессом Дрейфуса на «дрейфу-саров» и «антидрейфусаров», причем, когда заказной (как сказали бы сейчас) характер дела выяснился и неправедный вердикт суда отменили, многие из «антидрейфусаров» стали рьяно защищать еще недавно ненавидимого ими человека.
Одним словом, «Дунай» был легкой книгой, писательским отдыхом от других, более сложных, более драматичных, необыкновенных путешествий. На его создание ушло всего 88 дней.
Когда роман был окончен, Ж. Верн не стал спешить с его опубликованием. И на то имелись определенные причины. Мастер все никак не мог пристроить другое свое детище — «Шторица», многие страницы которого вызывали категорическое неприятие Этцеля-младшего. Писателю пришлось править рукопись по желанию издателя и, соответственно, придерживать «Прекрасный желтый Дунай». При жизни он так и не нашел времени отправить роман в Париж.
Мишель, получив «добро» на переделку неопубликованных отцовских произведений, сначала занялся «Золотым вулканом» (книга вышла в 1906 г.), а потом поторопился издать собственное сочинение — «Агентство Томпсон и К°» (1907). В том же, 1907 году, дошла очередь до «Прекрасного желтого Дуная». Сохранив основную идею отца — спуск по Дунаю победителя соревнования рыболовов, — Мишель пишет совершенно иное произведение. И прежний роман настроения, роман восхищения великой рекой превращается в этакий пустячок по типу входивших тогда в моду полицейских романов Марселя Леблана об Арсене Дюпене. Сочинения отца и сына сравнивать нельзя — это просто-напросто разные произведения. Разумеется, Мишель поступил бы честнее, прямо объявив об этом читателям. Только кто стал бы покупать роман так и не составившего себе имени отпрыска великого писателя?
Впрочем, в те годы отношение к наследию даже очень известных авторов было совершенно не таким, как сегодня. Ну а если учесть, что сам Верн-старший неоднократно сетовал, что за его романами не признают никаких литературных достоинств, то будет понятным, почему никто из собратьев по писательскому цеху не забил тревогу, догадавшись, что поздние творения умершего гранда «чуть-чуть» подправил его наследник. Вероятнее всего, такое вмешательство профессионалы пера сочли вполне естественным.
Только в конце века оценка творчества Жюля Верна на родине, да и во многих других странах изменилась. Писателю, которого долгие годы держали исключительно в «детских классиках», наконец перестали отказывать в литературном мастерстве.
Его последние романы в их подлинном виде переведены на английский, немецкий, польский и другие языки. В нашем издании они стали доступны и русскому читателю. Теперь любители приключенческого жанра смогут насладиться полетом не стесненной ничьими узами творческой фантазии великого Ж. Верна.
Ограниченным тиражом «Прекрасный желтый Дунай» впервые был издан Обществом Жюля Верна в 1988 году. Первое массовое издание увидело свет в 1997 году в Канаде. В апреле 2000 года в Париже издательством «Аршипель» осуществлена, и тоже массовым тиражом, публикация верновской рукописи, заново просмотренной и отредактированной. Именно этот вариант и был взят для русского перевода.
Второй из романов, представленных в этом томе — «В Магеллании», — Верн начал писать 17 октября 1897 года. Сначала он назывался «Огненная Земля», и, видимо, место действия ограничивалось этим крупнейшим островом у южной оконечности обеих Америк. Именно поэтому в первых главах уделено так много внимания описанию природы, нравам обитателей острова и истории плаваний европейцев в Магеллановом проливе и окрестных водах. Только в процессе работы у Верна появилась идея перенести действие на другие острова. Соответственно изменилось и заглавие: «На Краю Света». Роман создавался в течение полугода и был закончен 11 апреля 1898 года. Обычно Верн писал быстрее: на создание «Великолепной Ориноко» (1894), «Воздушной деревни» (1896), «Россказней Жана-Мари Кабидулена» (1899) и «Братьев Кип» (1898) потребовалось всего по три месяца, «Лицом к знамени» (1894 — 1895) — четыре с половиной, на «Кловиса Дардантора» (1895) — четыре, «Невидимой невесты» (1898) — два!.. Столь длительную работу можно объяснить и обострением хронических болезней, и общим угнетенным состоянием писателя после смерти любимого брата Поля (27 августа 1897 г.). Да, в это время он пишет необычно медленно: на «Завещание чудака» в 1897 году уходит шесть с половиной месяцев, на «Вторую родину» (1896-1897) — девять. Роман о Магеллании (окончательное название он получил в 1901 году, после того как был завершен «Маяк на Краю Света», где этот пресловутый «край» оказался как нельзя кстати) требовал особого подхода. Кажется, впервые в своих приключенческих произведениях Верн так ясно выразил собственное политическое кредо. При этом, излагая его, он старался не отпугнуть читателя слишком скучной в юном возрасте материей — не забудем: книга писалась в первую очередь для молодежи.
В основу сюжета положена история исчезновения в 1891 году где-то в море, возле берегов Южной Америки, австрийского эрцгерцога Йоханна. Оставив императорскую семью после самоубийства эрцгерцога Рудольфа в 1889 году, отказавшись от титула и связанного с ним высокого положения в обществе, приняв простецкую фамилию Орт, европейский аристократ отправился в плавание на легком парусном судне, и дальнейшую его судьбу навек сокрыли океанские волны.
Жюль Верн был знаком с братом пропавшего принца, эрцгерцогом Луи-Сальватором Тосканским, племянником императора Франца-Иосифа. Сиятельная особа посетила знаменитого литератора в 1884 году в Венеции. Эрцгерцог подарил ему собственное сочинение о Балеарских островах, заслужившее высокую оценку мастера пера: годы спустя Верн весьма лестно отозвался о нем в «Кловисе Дарданторе»: «Эта работа — воистину несравненная по изяществу исполнения, по географической, этнической, статистической, художественной ценности»[310]. Прославленный автор долгие годы состоял в переписке с монаршим отпрыском и информацию о разрыве Йоханна с семьей получил, что называется, из первых рук, хотя австрийский двор долго скрывал дерзкий поступок эрцгерцога, отказавшегося от наследных прав и променявшего блеск венских дворцов на жизнь среди единомышленников, посвятивших себя служению анархистскому идеалу. Об истинных причинах разрыва эрцгерцога с габсбургским семейством австрийское общество узнало уже после смерти автора «Магеллании»[311]
Неординарные поступки всегда привлекали внимание Верна-старшего. К тому же таинственный уход от цивилизации европейского аристократа чем-то напомнил судьбу капитана Немо. В одном из предыдущих романов — «Лицом к знамени» — Жюль уже обыгрывал эту тайну. Одним из героев книги стал тогда граф Артигас-Карраж. Из первой половины этой фамилии, написанной по-французски, перестановкой букв получается слово «Австрия» (вспомним любовь Верна к головоломкам!). Другую же половину легко свести к прозвищу героя романа «В Магеллании» Кау-джера[312]. Эта же половина присутствует во второй части названия шаланды, на которой порой плавает отшельник, — «Вель-Кьеж». Знаменателен этот ряд: Карраж (во французском написании в конце присутствует еще нечитающаяся буква «е») — Джер — Кьеж. В нем легко отыскать (в последнем случае — с перестановкой) латинские буквы «J» и «Е», начинающие французское имя Жан (Jean), равнозначное немецкому Йоханн.
На этом, однако, аллюзии кончаются. Писатель не раскрывает тайны своего героя. Мишель Верн, не поняв намерений отца, напротив, напрямую говорит о принадлежности Кау-джера к одному из правящих домов Европы. Впрочем, в 1908 году, когда Мишель усердно переписывал «Магелланию», и тем более в 1909-м, когда «Кораблекрушение “Джонатана”» увидело свет, анархистские воззрения Йоханна, приведшие его к разрыву с правящим в Австрии домом, перестали быть тайной.
Непосредственными источниками Ж. Верна при работе над «Магелланией» были две статьи, опубликованные с промежутком в четверть века журналом «Le Tour du Monde». Автором первой из них являлся чилиец Виктор де Рочас, который в 1861 году представил на страницах журнала «Дневник путешествия по Магелланову проливу». Другую написал французский ученый доктор Яд, руководивший научной экспедицией на судне «Романш». Кстати, упоминание об этом плавании есть в романе. Статья Яда «Год на мысе Горн» появилась в журнале в 1885 году.
Из упомянутых статей писатель почерпнул все фактические данные о географии архипелага, о его растительном и животном мире, сведения об условиях плавания в лабиринте островов и проливов, о быте туземного населения. Иногда он дословно переносил в свой текст описания путешественников.
Из этих же текстов взято и французское название Исла-Нуэвы. Лишний раз подчеркнем любовь писателя к словесным играм: на языке галлов остров называется Новым (Neuve), что с перестановкой слогов и заменой одной буквы легко сводится к фамилии автора — Верн. Кстати, фамилия индейца-лоцмана сначала звучала иначе: Каррон, что фонетически созвучно с Хароном — зловещим персонажем эллинской мифологии, перевозчиком душ через реку, отделявшую солнечный мир живых от печального царства мертвых...
Роман о Магеллании начинается так же, как и множество других произведений Ж. Верна: географическими описаниями, историческими экскурсами, вплетающимися в сюжетную канву. Но очень скоро автор переходит к иной, глубоко волнующей его теме: индивидуум и власть. Как раз в это время отношения амьенского муниципального советника Верна с новым мэром города Альфонсом Фике, мягко говоря, не складывались. В одном из своих стихотворений писатель назвал городского голову «ужасным господином Фике» и «вьючным животным». Но с властью мэра даже он, народный избранник, человек всемирно известный, пользовавшийся огромным авторитетом в самых разных кругах, коротко знакомый с несколькими отпрысками правящих династий Европы, ничего не мог поделать. Что же говорить о простых смертных! Не оттого ли готов покончить жизнь самоубийством Кау-джер? Нет, сам Верн и в мыслях не допускал для себя подобного исхода, но к иллюзиям демократии совершенно охладел.
Здесь надо остановиться на политической позиции писателя. Еще совсем недавно его изображали противником всяческого господства одного человека над другим, борцом «за счастье угнетенных народов», верным другом и единомышленником парижских коммунаров, сторонником всеобщего социального равенства и даже скрытым революционером. На самом деле ничего подобного не было. Да, Жюль Верн выступал и против колониального порабощения европейцами коренных жителей заморских земель, и против несправедливого буржуазного общества, и против всех и всяческих форм насилия и подавления одного человека другим, но делал это с позиций христианской морали, последовательно придерживаясь постулатов евангельского учения.
Известно, что Верн не любил внешних проявлений религиозности и крайне редко переступал порог католического храма. Но это не говорит об абсолютном атеизме писателя. Вера, крепко угнездившаяся в нем еще во время обучения в монастырском пансионе, нет-нет да и прорывалась в его произведениях, например в финальных эпизодах романа «В Магеллании». Ссылки на высшее существо, на Бога, на Божий Промысел довольно часты в ранних рукописях писателя. Однако Пьер-Жюль Этцель категорически возражал против любых нематериалистических пассажей в «Необыкновенных приключениях» и нещадно изгонял их из верновских романов. Журналист Луи Вёйо свидетельствовал, что издатель всякую ссылку на Бога заменял словами «случай» или, на худой конец, «провидение»[313]. После смерти Этцеля-старшего Верну удалось в значительной степени избавиться от «диктатуры материализма». На страницах его поздних произведений находится место и чудесному, и даже сверхъестественному.
В старости знаменитого литератора все чаще посещают мысли о вечном. Размышляют на эту тему и его герои. В романе о Кау-джере подобные мысли, правда, остаются за рамками текста, но можно с уверенностью предположить, что они не чужды главному герою. Знаменательно, что благодетель индейцев сторонится миссионеров различных конфессий, тогда как глава острова Осте заботится о строительстве не только католического храма, но и протестантской церкви.
В юности Верн стал свидетелем, нет, не самой революции, а ее разрушительных последствий, когда поселился в Париже, в районе, сильно пострадавшем при усмирении Июньского восстания 1848 года. О своих впечатлениях он написал отцу: «Я прошелся по местам, связанным с мятежом... увидел дома, изрешеченные пулями и продырявленные ядрами. На всем протяжении этих улиц — следы снарядов, которые в полете задевали и рушили балконы, вывески, карнизы; зрелище ужасное, и при виде его особенно непонятна необходимость уличных сражений!»[314]
Отсюда уже недалеко до утверждения позднего Верна, вложенного в уста Кау-джера: «...порядок и власть нужны любому общественному сословию, любой нации, большой или малой, при каком бы режиме она ни жила!» Думается, к этой мысли должна была подтолкнуть автора вся его жизнь. Не забудем, что вырос он в благополучной буржуазной семье, где уважение к порядку и закону впитывалось с молоком матери и считалось главным достоинством гражданина. Сын преуспевающего адвоката и наследницы немалых капиталов, сколоченных оборотистыми нантскими коммерсантами в золотую пору работорговли, должен был по желанию отца ступить на поприще юриста. Потом, после нескольких лет неустроенной богемной жизни, он женился на богатой вдове Онорине Морель и стал процветающим писателем.
Задумывались ли поклонники «скрытого революционера» Верна хотя бы над таким, например, фактом: писатель не раз обращался к теме борьбы народов за независимость, когда же ему довелось окунуться в революционное прошлое своей родины, он написал не «Девяносто третий год» и не «Марсельцев», а повесть «Граф де Шантелен», где резко осуждаются и революционный террор, и экстремистские вожаки черни, и любые попытки добиться справедливости с помощью оружия.
Да и независимость ко времени создания «Магеллании» сводится для писателя к понятию личной свободы, что хорошо заметно в развитии образа Кау-джера. Видный ученый-ориенталист и политический деятель Жан Шено в одной из своих книг о Ж. Верне говорит о его тайном желании «нонконформистской независимости»[315], то есть независимого положения в обществе, которое нельзя путать со стремлением к революционным преобразованиям самого общества.
Революция 1848 года, разумеется, должна была оставить след в душе двадцатилетнего юноши, но вскоре после прибытия в Париж Верн записался в клуб студентов, отнюдь не сочувствующих левым экстремистам, да и позднее называл себя сторонником Тьера и его соратников, то есть поборником стабильности и порядка[316]. В 1851 году, осуждая переворот Луи-Наполеона, Жюль причислил себя к умеренным консерваторам[317].
Да, он дружил с ученым-анархистом Элизе Реклю, возможно, был лично знаком даже с М. А. Бакуниным, но в дни Парижской коммуны послал письмо П.-Ж. Этцелю, в котором ратовал за энергичные меры против восставших[318].
Обычно свидетельством радикальных взглядов Жюля Верна считают его избрание муниципальным советником Амьена по «красному» списку социалистов. Включение маститого писателя в этот список скандализировало его друзей и близких, но сам он спокойно отвечал, что просто-напросто хотел принести пользу любимому городу и рассматривает пост советника как чисто административный. При этом свою политическую ориентацию он не меняет: «Единственное мое намерение — стать полезным, добиться кое-каких городских реформ. Зачем же смешивать политику с административными вопросами? <...> В социологии я склоняюсь к порядку; что касается политики, то вот мои устремления: создать при современном правительстве разумную, уравновешенную партию, благожелательную к людям, искусству, жизни, уважающую правосудие и высокие идеалы»[319].
По приведенным высказываниям становится ясно, что Ж. Верн не мог не осуждать революционного разрушения установившегося порядка. Даже там, где этот порядок явно несовершенен, как, например, на просторах Британской Индии, его нельзя взорвать, разрушить разом, его надо постепенно — и обязательно законным путем! — преобразовывать. Резкое разрушение ведет к хаосу, насилию, страданиям всех без исключения, кто вовлечен в конфликт. Писатель показывает это, скажем, в «Паровом доме».
В «магелланийском» романе автор тоже настаивает на том, что абсолютного равенства, полной справедливости в человеческом обществе быть не может, а потому идеи коллективизма, обобществления средств производства, уничтожения частного капитала, отмены конкуренции, установления общественной собственности — опасные иллюзии. Он сурово осуждает тех, кто не хочет считаться с реальной жизнью, кто поднимает на щит экстремистские социальные доктрины, кто навязывает «всеобъемлющий коммунизм».
При этом Верн отделяет идеалистов, теоретиков анархо-социалистического движения, для которых конечная формула осуществима лишь в процессе более или менее длительного развития общества, от сравнительно небольшой группы экстремистов-практиков, призывавших к немедленным — и в том числе насильственным! — действиям. Именно осуждению террористического анархизма и посвящена значительная часть романа «В Магеллании». Читатель сам разберется, насколько актуальны сегодня взгляды убежденного «певца прогресса». Стоит лишь напомнить, что осуждение экономического строя, основанного на общественном владении средствами производства, сделано Верном a priori, когда еще нигде в мире не были известны результаты подобного эксперимента. И это липший раз доказывает силу футурологических прогнозов писателя. Очень многие из них, например сделанные в не опубликованном при жизни автора романе «Париж в XX веке», подтвердились. Выходит, П.-Ж. Этцель совершенно напрасно отказался иметь дело с Верном-футуро-логом. Популярнейший автор приключенческих и фантастических романов не зря привлекал внимание общества к наиболее тревожным тенденциям, проявившимся в некоторых цивилизованных странах в конце XIX века. Увы, он так и не был услышан.
Но Ж. Верн не строил иллюзий и относительно современного ему буржуазного общества. Дух безудержной наживы вызывал отвращение в душе писателя. Самым ярким и самым жутким проявлением этой жажды он считал погоню за золотом, хищническую разработку открываемых золоторудных месторождений, пресловутую «золотую лихорадку». Осуждение «золотого безумия» типично для многих произведений позднего Верна. В сентябре 1899 года — марте 1900 года он вплотную занялся этой темой, посвятив ей целый роман — «Золотой вулкан». В «Магеллании» писатель лишь слегка коснулся «золотой» темы. Но и этого хватило, чтобы показать, сколько зла и разрушений приносит сила, «которой не в состоянии сопротивляться человеческий разум». Символичен эпизод, когда Кау-джер сталкивает золотой самородок с вершины мыса Горн в океанскую пучину. В этом поступке воплотилось все презрение творческой личности к холодному металлу, превращающему человека в алчного зверя, лишенного всего разумного, благородного, духовного...
Роман «В Магеллании» был полностью закончен 11 апреля 1898 года[320], за семь лет до смерти и за пять лет до того дня (9 июля 1903 г.), когда писатель навсегда оставил перо. Рукопись была готова к публикации. Оставались мелкие доделки: сверка имен персонажей, вставка различных географических данных (расстояний, площадей, числа жителей) и т. п. Маститый автор почти никогда не утруждал себя подобными мелочами. Раньше он доверял право вносить подобные дополнения П.-Ж. Этцелю, а после смерти уважаемого издателя — его сыну Этцелю-младшему. Но отправлять рукопись в Париж писатель почему-то не спешил. «Магеллания» так и пролежала в его письменном столе в Амьене.
При переделке этому роману повезло больше, чем «дунайскому». Мишель в целом сохранил сюжет, хотя и навыдумывал много курьезного и несуразного (например, нападение патагонцев на колонию). Развитие получила главным образом авантюрная линия произведения. В книгу включаются новые персонажи, дописываются целые главы. Роман распухает в объеме. Сын занимается тем, чего никогда не делал отец: тщательно расписывает организацию нового государства и основные этапы его функционирования, перипетии политической борьбы. Получается некая фантазия в стиле куперовско-го «Кратера». При этом в тексте остается, пусть и в смягченном виде, критика анархистских и социалистических теорий. Но если у Верна-старшего главным в изобличении социальных утопий является слово, то Верн-младший старается опровергнуть негодные принципы показом результата их последовательного применения.
Кто-то, наверное, выдвинет предположение, что переделка «Магеллании» выполнена под влиянием каких-то идей мэтра, не зафиксированных на бумаге, но не раз излагавшихся устно. Ведь должен же был муниципальный советник высказываться в семейном кругу об интересовавших его общественных течениях. Но вот в чем честно признался Мишель в интервью Эмилю Берру, опубликованному 3 апреля 1905 года в «Фигаро»: «Что касается содержания оставшихся после отца произведений, то я пока ничего не могу вам сказать — я с ними еще не ознакомился»[321]. Хотя бы из одной этой обмолвки вытекает, что Жюль Верн не делился с сыном своими творческими планами, не раскрывал содержания новых романов, не читал каких-либо отрывков, не советовался по каким-либо литературным вопросам[322].
Поэтому, как и в случае с другими «посмертными» сочинениями, изменения отцовского текста «Магеллании» сделаны Мишелем по собственной инициативе. Км же придумано и новое название — «Кораблекрушение “Джонатана”». Под таким заголовком роман появился в 1909 году в «Журналь де деба», а в конце года вышел отдельным изданием у Этцеля-младшего.
История публикации этой подлинной верновской рукописи во многом схожа с историей «Прекрасного желтого Дуная». В 1987 году Обществом Жюля Верна был выпущен ограниченный тираж не испорченной правкой «Магеллании», а девять лет спустя канадское издательство Алэна Станке подарило уже широкому кругу читателей возможность общения с истинным текстом Жюля Верна. Повторение этой оригинальной версии вышло в 1998 году в парижском «Аршипеле». Именно с нее и выполнен первый русский перевод неизвестного романа известнейшего романиста.
А. МОСКВИН
Примечания
1
Рак — то же, что арак, алкогольный напиток, изготавливается кроме риса и из сахарного тростника.
(обратно)2
Тафия — тростниковая водка с пенкой и с большим количеством сахарного сиропа.
(обратно)3
Ратафия — ликер из водки, сахара, ароматических веществ и фруктовых соков (в данном случае — черносмородинового).
(обратно)4
Кюрасао — ликер из водки, сахара и коры горьких апельсинов (бигарад), растущих на тропическом острове Кюрасао у побережья Южной Америки.
(обратно)5
Речь идет о знаменитой водке «Гольдвассер» («Золотой воде»), при изготовлении которой использовались тонкие золотые пластинки; считалось, что водка, настаиваясь на золоте, приобретает целебные качества.
(обратно)6
Эликсир Гаруса — напиток, составленный в 1755 году аптекарем Гарусом, который в легкое алкогольное питье добавлял корицу и шафран; напиток использовался как тонизирующее средство.
(обратно)7
«Киршвассер» («Вишневая вода», нем.) — крепкая швейцарская водка, при изготовлении которой употребляется настой из молотых вишневых косточек.
(обратно)8
Ошибка или шутка: зеленым Эрином называют Ирландию, а не Шотландию.
(обратно)9
Умбра (Umbra krameri) — рыба из семейства дошковых, красно-бурой окраски, с темными пятнами на голове и на боках; подвид, обитающий в бассейнах Дуная и Днестра, достигает длины 12 см и веса 27 г; русское и украинское население этих мест называет рыбу «евдошкой» или «авдошкой».
(обратно)10
Семейство камбаловых объединяет морских рыб. Многие виды, правда, заходят в пресные воды, но только в приустьевые участки рек. Вряд ли морская рыба могла зайти так далеко вверх по реке. Во всяком случае, если подобное и произошло, то речь может идти об отдельном экземпляре, а не о массовом явлении, и уж конечно черноморская камбала, или калкан, не могла стать объектом лова в верховьях Дуная.
(обратно)11
Игрища, проводившиеся в июньские иды (то есть в середине этого месяца) рыбаками с Тибра.
(обратно)12
Длина Дуная, по современным источникам, определяется в 2850 км. Очевидно, автор имеет в виду общую протяженность обоих берегов реки.
(обратно)13
Автор приурочил действие своей книги к самому началу 60-х годов XIX века, когда еще не существовало единого Румынского государства. Молдаванами он, следовательно, называет жителей княжества Молдова, валахами — княжества Валахия, составивших уже в конце XIX века единый румынский народ; бессарабами — современных молдаван; баденцы, вюртембержцы, баварцы — этнические группы немецкого народа.
(обратно)14
Рац-Бече. — Название города выдумано автором. Напомним, что в романе «Тайна Вильгельма Шторица» городок на юге Венгрии (также придуманный Ж. Верном), в котором разворачивалось основное действие романа, назывался Рагз.
(обратно)15
По современным определениям, приблизительные координаты истоков Дуная следующие: южный исток, Бреге, — 48°06' с. ш., 8° 14' в. д.; северный исток, Бригах, — 48°24’ с. ш., 8° 18’ в. д.
(обратно)16
Шварцвальд — горный массив на юго-западе Германии; если говорить более точно, то Дунай зарождается в его отрогах.
(обратно)17
Лье — старинная французская мера длины; в данном случае речь идет о так называемом километрическом лье, равном 4 км (географическое лье равняется 4,44 км).
(обратно)18
Донау — немецкое название Дуная. Река Бреге начинается в нескольких километрах к с.-с.-з. от городка Фуртванген; Бригах берет начало примерно в 40 км к с.-с.-в., близ города Фройденштадта. Именно ко второму истоку относится указание о высотной отметке местности.
(обратно)19
Бессарабия. — В 1812 году эта область стала частью Российской империи, однако после Крымской войны, по Парижскому миру 1856 года, ее юг был присоединен к румынскому княжеству Молдова и никакой автономии не имел. В 1878 году эта территория была возвращена России. Кстати, именно по приведенному перечню стран можно уточнить действие романа. Автор, как помнит читатель, не назвал конкретной даты. Между тем в январе 1862 года произошло политическое объединение Молдовы и Валахии в единое Румынское княжество. Следовательно, действие романа должно происходить в 1860 или 1861 году. Отметим также, что в это время Болгария была турецкой областью и никаких прав самоуправления не имела, а значит, как и Бессарабия, не могла участвовать в каких-либо международных комиссиях.
(обратно)20
Если к немецким фамилиям автор сохраняет относительное почтение, то для персонажей других национальностей Верн придумывает совершенно неподходящие фамилии. Так, венгр, председатель «Дунайской удочки», носит чисто румынскую фамилию; другой венгр, член Международной комиссии, — немецкую. Тот же случай с венгром — главным героем романа. Фамилией Тич а автор наделяет сначала болгарина, а теперь валаха (румына). Фамилию болгарского представителя заменяет уменьшительное имя (чаще всего — женское). Именем является и фамилия серба. Что же до фамилии бессарабца, то скорее всего это — искаженное Хочим, польское название турецкой крепости Хотин.
(обратно)21
Господарь — титул правителей княжеств Молдова и Валахия в XIV—XIX веках.
(обратно)22
Стефановичи. — Жюль Верн имеет в виду сербскую королевскую династию Неманичей, правившую страной в ХII—XIV веках. Ее основал в 1159 году великий жупан Стефан Неманя, и многие сербские короли впоследствии носили имя Стефан.
(обратно)23
Бранковичи — последняя династия средневековой Сербии, потомки воеводы Младена (сер. XTV в.) и его сына Брайко. Впрочем, многие сербские историки считают ее побочной ветвью Неманичей.
(обратно)24
Церины. — Видимо, автор имеет в виду род Црноевичей, правивший в области Зета 40 лет после покорения остальной Сербии турецким султаном Мехмедом П (1459). Но Зета, расположенная между Скадарским озером и Адриатическим морем, является частью другого славянского государства на Балканах — Черногории.
(обратно)25
Обреновичи — сербская княжеская (с 1882 г. — королевская) династия, правившая страной с перерывом (1842—1852) с 1815 по 1903 год.
(обратно)26
Пешт — часть современного Будапешта, расположенная на левом берегу Дуная. В 1848—1873 годы был политической столицей Венгрии. В 1873 году произошло объединение городов Буда, Пепгг и Обуда в единый город, получивший название Будапешт.
(обратно)27
Гирло — рукав дунайской дельты; в настоящее время основными являются Килийское, Сулинское и Георгиевское гирла.
(обратно)28
Московитский — российский, поскольку Россию в Западной Европе часто синонимично называли Московией.
(обратно)29
Оттоманский — турецкий; официально турецкое многонациональное государство называлось Османской (или Оттоманской) империей.
(обратно)30
В черновиках Верна сохранилась первоначальная фамилия героя — Дрогонофф, совершенно не похожая на венгерскую. Видимо, поэтому она была изменена. Французские издатели считают, что автор соотносит фамилию героя с речным драконом, побежденным св. Георгием (о чем упоминается в книге). Гораздо логичнее возвести ее к представителю одной из армейских «специальностей» — к драгуну.
(обратно)31
Крейцер (нем. Kreuzer) — здесь: мелкая немецкая монета, шестидесятая часть гульдена (см. ниже).
(обратно)32
Флорин — название золотой монеты, которую стали чеканить в ХIII веке во Флорентийской республике. На аверсе этой монеты был изображен герб Флоренции — лилия, откуда и возникло название, которое с итальянского переводится как «цветок». Позднее подобные монеты стали чеканиться в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Австрии, Венгрии. У немцев золотой флорин стал называться гульденам. В описываемое время в государствах южной Германии гульден равнялся 60 крейцерам (см. выше), а в Австрии (1857 г.) — 100 крейцерам.
(обратно)33
Этот самостоятельный населенный пункт носит название Ной Ульм (Новый Ульм)
(обратно)34
Чичероне (итал) — проводник
(обратно)35
Мюнстер (нем.) — старый готический собор. Жюль Верн употребляет это слово скорее в смысле «шпиля собора».
(обратно)36
Это составляет 103 м, тогда как шпиль Страсбургского собора, бывшего до XIX века самым высоким в Европе, вздымается на 142 м. Однако впоследствии западная башня Ульмского собора была достроена до высоты 162 м.
(обратно)37
Дюрюи Виктор (1811—1894) — французский историк и политический деятель; помогал Наполеону III писать «Жизнь Цезаря», в благодарность за это французский монарх назначил его в 1863 году министром народного образования, на этом посту Дюрюи пробыл до 1869 года, успев провести несколько реформаторских декретов и основать ряд учебных заведений, в том числе Высшую практическую школу в Париже. Уйдя в отставку, занялся сочинением исторических трудов. Главная его работа — «История римлян» (1879—1885), за нее он удостоился избрания во Французскую академию (1884) — знак высшего отличия для литераторов Франции. Этот почетный литературный орган не следует путать с Парижской академией наук. Ж. Верн упоминает здесь путевые очерки Дюрюи о путешествии от Парижа до Бухареста, которые появились в 1860 году в журнале «Tour de Monde».
(обратно)38
Сирлин (или Сюрлин) Старший Иорг (ок. 1425—1491) — немецкий скульптор, резчик по камню и дереву. Фонтан «Садок», о котором идет речь, сооружен в 1482 году.
(обратно)39
Егер (нем) — охотник.
(обратно)40
Туаз — старинная французская мера длины, равная 1,949 м.
(обратно)41
Гезандтенштрассе (нем.) — улица Послов.
(обратно)42
Даже в наши дни Наб впадает в Дунай несколько выше Регенсбурга.
(обратно)43
Донжон — главная башня средневекового замка.
(обратно)44
Турн и Таксис — немецкий дворянский род, итальянский по происхождению; сначала его представители жили в Милане и Бергамо, потом перебрались в испанские Нидерланды и Германию; в 1624 году получили графское, а в 1686-м — княжеское достоинство; в XIX веке получили княжество Бухау (1803) и Кротошин (1819); главной резиденцией рода стал Регенсбург. В 1899 году глава рода получил право на герцогский титул Вёрт и Донаупггауф (в Баварии).
(обратно)45
«Дампфшифсхоф» (нем.) — «Пароходная гостиница».
(обратно)46
Удивительно, но те же инициалы мы обнаруживаем у человека в маске (Уильяма Дж. Гиппербона) из романа «Завещание чудака», написанного Ж. Верном в 1897 году.
(обратно)47
Никопол — болгарский город на Нижнем Дунае.
(обратно)48
Имеется в виду афоризм Паскаля: «Реки — это движущиеся дороги...»
(обратно)49
Прессбург — немецкое название Братиславы.
(обратно)50
Асафетида — то же, что и камедесмола, затвердевший на воздухе сок корней ферулы вонючей.
(обратно)51
Ромервальд — одна из частей горного массива Баварский Лес, тянущегося по левому берегу Рейна.
(обратно)52
Сальваторберг (нем) — гора Спасителя.
(обратно)53
Парфенон — главный храм Афинского акрополя. Здесь речь идет о мемориале Валхалла, воздвигнутом по желанию баварского короля Людвига I в честь героев Германии. Автором проекта был знаменитый в то время немецкий архитектор Франц Карл Лео фон Кленце (1784—1846). Он решил мемориал в виде древнегреческого храма дорического ордера. Валхалла была построена в 1830—1842 годах. Фон Кленце был известен и работами в России. Он не раз приезжал в нашу страну. В 1839 году Николай I поручил фон Кленце проект нового здания Эрмитажа, которое и было построено по его чертежам.
(обратно)54
Аттика — область в средней Греции, где расположены Афины.
(обратно)55
Неточность: Изар впадает в Дунай справа.
(обратно)56
Ретийские Альпы. — Еще одна неточность; упомянутая горная система располагается в Швейцарии и Западной Австрии, тогда как к Дунаю подходит справа горный хребет Иннфиртель.
(обратно)57
Автор несколько неточен. Ильц течет с Шумавы, пограничного горного массива между Богемией (как в XIX в. часто называли Чехию иностранцы) и Германией, но с западных, баварских, склонов.
(обратно)58
Батава-Кастра (также — Батавикум) — римский военный лагерь и поселение при нем на месте нынешнего Храмового холма Пассау. В этом лагере располагалась Девятая батавская когорта, давшая имя поселению.
(обратно)59
Тритон — в греческой мифологии морское божество, сын бога морской стихии Посейдона и владычицы морей Амфитриты.
(обратно)60
Наяды — в греческой мифологии нимфы рек, ручьев и озер.
(обратно)61
Поэтический сборник Виктора Гюго, вышедший в 1829 году.
(обратно)62
Строчка из стихотворения «Дунай во гневе».
(обратно)63
Мария-Терезия (1717—1780) — австрийская императрица; была также монархом составных частей тогдашней Австрийской империи: венгерской (с 1740 г.) и богемской (с 1743 г.) королевой.
(обратно)64
Морская сажень (фатом; брасс) — морская мера длины; английский фатом равен 183 см; французский брасс — 166 см.
(обратно)65
Цепь Норийских Альп удалена от Дуная более чем на 150 км и в значительной степени закрыта более близкими горными хребтами, и прежде всего — Низким Тауэрном.
(обратно)66
Моравия — восточная часть современной Чехии.
(обратно)67
Гран — австрийское название венгерского города Эстергома, образованное от впадающей здесь слева в Дунай реки Грон (слов. Нгоп).
(обратно)68
Правильное название города: Клостернойбург.
(обратно)69
Каленберг (Лысая гора) — вершина на правом берегу Дуная, непосредственно к северу от Вены; высота ее — 484 м.
(обратно)70
В описываемое время Словакия, на территории которой расположена упоминаемая автором горная система, входила в состав Венгерского королевства.
(обратно)71
Мы сохраняем авторский вариант написания венгерской столицы, поскольку в описываемое время Буда и Пешт были различными городами.
(обратно)72
Собор Св. Стефана (нем. Штефансдом) — главный храм австрийской столицы с башней (Штеффель) высотой 136 м; построен в XI—XV веках.
(обратно)73
Церковь Св. Петра — одна из старейших в Вене; первоначально была построена в романском стиле, но позднее неоднократно перестраивалась.
(обратно)74
Церковь Св. Карла (нем. Карлскирхе) — церковь Св. Карла Борромея, построенная в 1716 — 1722 годах под руководством архитектора И.- Б. Фишера фон Эрлаха.
(обратно)75
Пратер, Аугартен, Фольксгартен — венские парки.
(обратно)76
Эсслинг — деревушка на левом берегу Дуная, напротив Вены. Сюда в начале мая 1809 года эрцгерцог Карл, спасаясь от Наполеона, переправил австрийскую армию. 21 и 22 мая французские корпуса маршалов Ланна и Массена атаковали неприятели и нанесли австрийцам тяжелое поражение. Австрийцы потеряли около 27 тыс. человек, французы — несколько больше 10 тыс. Однако Карлу удалось отвести остатки армии к востоку, к деревушке Ваграм. На острове Лобау расположил свою ставку Наполеон. Отсюда 5 июля французский император двинул армию в новое сражение, вошедшее в историю как битва при Ваграме. Австрийцы опять были разбиты, потеряв убитыми и ранеными около 37 тыс. человек. Тяжелые потери понесли и французы, что в конечном счете заставило их отказаться от продолжения кампании и начать мирные переговоры.
(обратно)77
Мадьярский — венгерский (самоназвание венгров — мадьяры).
(обратно)78
Марх — немецкое название реки Морава.
(обратно)79
Это не совсем так: Лайте впадает не в Дунай, а в реку Рабу (нем. Раб), приток Дуная.
(обратно)80
После захвата турками Буды (1541) столица Венгерского королевства была перенесена в Братиславу. Позднее этот город стал местом заседаний венгерского парламента. В середине XIX века венгры перенесли столицу в Пешт.
(обратно)81
Коморн. — Современное название этого города-крепости — Комаром.
(обратно)82
Рааб — немецкое название города Дьёр, расположенного у впадения реки Рабы в правый рукав Дуная.
(обратно)83
Комитат (венг. медьё) — основная единица административно-территориального деления Венгрии.
(обратно)84
Характерная для Верна ошибка, которая повторяется и в «Тайне Вильгельма Шторица». Токай — местность, где выращивается знаменитая лоза, а не сорт винограда.
(обратно)85
Примас — старший по рангу священнослужитель Католической церкви в какой-либо стране. В Венгрии этот титул закреплен за архиепископом Эстергомским.
(обратно)86
Вайцен — немецкое название венгерского города Вац.
(обратно)87
Буда была основана еще римлянами (Аквинкум); в XIV веке стала столицей Венгрии. Однако верно, что турки оказали заметное влияние на облик этого города. Следы турецкого пребывания сохранились здесь до сих пор.
(обратно)88
Землин — другое название сербского города Земуна, расположенного на левом берегу реки Савы.
(обратно)89
Верн пишет про знаменитый пешеходный Цепной мост (венг. Ланцхид) над Дунаем (длиной 380 м. и шириной 15,7 м.), сооруженный в 1830-1849 годах по проекту английского инженера У.- Т. Кларка английским же мостостроителем А. Кларком.
(обратно)90
Увеличивается по дороге (лат.). Это выражение употребляется по отношению к реке.
(обратно)91
Пуста (венг.) — степь.
(обратно)92
Имеется в виду, в частности, Шандор Петёфи, «мадьярский Беранже», как его называли во Франции.
(обратно)93
Нойзац — немецкое название сербского города Нови-Сад.
(обратно)94
Петервардейн — немецкое название сербского городка Петроварадин, расположенного напротив Нови-Сада, на другом берегу Дуная.
(обратно)95
Константинополь — распространенное в прошлом в Западной Европе название Стамбула.
(обратно)96
Адрианополь — старинное греческое название города Эдирне, находящегося в европейской части Турции.
(обратно)97
Одного взгляда на карту достаточно, чтобы убедиться в ошибочности этого утверждения. Направление своего русла Дунай меняет гораздо раньше, после Вуковара.
(обратно)98
Викарный епископ — епископ без епархии.
(обратно)99
Правильнее — Карловацкая митрополия — автономная церковная область, объединявшая православных сербов на территории Воеводины, Хорватии и Славонии. Основал ее в 1690 году сербский патриарх Арсение Ш Црноевич; центр митрополии сначала находился в монастыре Крушедол, а потому она называлась Крушедолской. В 1713 году центр был перенесен в придунайское селение Сремске-Карловце и митрополия получила свое окончательное название. До 1766 года она признавала власть Печской патриархии; с ликвидацией последней стала полностью самостоятельной. Руководил ею архиепископ и одновременно митрополит Сремске-карловацкий (Верн, естественно, не смог найти правильного названия этих православных церковных чинов). Но в 1848 году во главе митрополии встал патриарх. Первым патриархом Сремске-карловацким стал Иосиф Раячич (1785—1861). Так что, учитывая замечание, сделанное выше о времени действия романа, Илья Круш миновал Сремске-Карловце именно при этом патриархе. Митрополия была ликвидирована в 1920 году, а ее епархии отданы Сербской Православной Церкви.
(обратно)100
Военная граница —название восходит к XVIII веку, когда вдоль венгеро-турецкой границы были устроены военизированные поселения, несколько напоминающие наши казачьи. Жители этих поселений, преимущественно крестьяне, получали землю и личную свободу в обмен на обязанность принимать активное участие в охране границы и отражении неприятеля, если тот решится вторгнуться в пределы Австрийской империи. Эта область упоминается и в романе «Тайна Вильгельма Шторица».
(обратно)101
Хуньяди Янош (ок. 1407—1456) — венгерский военачальник и государственный деятель, в 1446-1452 годах — регент Венгерского королевства; с 1440 года успешно воевал с турками, а в 1456 году нанес им чувствительное поражение в Белградской битве.
(обратно)102
Судя по содержанию, Верн пропустил один день: должно быть 20 июня.
(обратно)103
В «Путешествии из Парижа в Бухарест» (1860) господина Дюрюи, продолженным его спутником господином Лансело, можно прочитать, что Белград, «став свободным портом, превратится в скором времени в восточный Гамбург. Но, чтобы это предназначение реализовалось, необходимо одно предварительное условие: изгнание турок». В настоящее время это уже решенный вопрос. (Примеч. авт.)
(обратно)104
Виктор Гюго в стихотворении «Дунай во гневе» писал:
Эй! Турчанка! Христианин! Землин! Београд! Что с вами? Ни на миг, свидетель Небо, Глаз сомкнуть нельзя: тотчас Насылает гул ревнивый Београд, Землин гневливый! (обратно)105
Речь идет о городе-крепости Смедерево, сильнейшего в то время на Дунае. Он был столицей сербского средневекового государства — деспотицы. Взятие Смедерева турками знаменовало конец сербской национальной государственности.
(обратно)106
Эту Мораву, сербскую, не следует путать с одноименной чешской рекой, впадающей в Дунай слева и упоминавшейся ранее.
(обратно)107
Железная дорога сейчас не доходит до этого городка, первого румынского населенного пункта на Дунае; она заканчивается в двух десятках километрах севернее, в сербском селении Бела-Црква.
(обратно)108
Голубац — в средние века Голубац был одной из важнейших дунайских крепостей. За право владения ею в XV веке шли жестокие бои между сербами и турками. Стены позднейшей крепости (турецкой) сохранились до наших дней. Верн несколько изменил название крепости: Колумбац (Columbacz).
(обратно)109
Казан — третье сверху ущелье Железных Ворот; подразделяется на Большой и Малый Казан.
(обратно)110
Сербское название этого памятника — Траянова плоча.
(обратно)111
Джюрджево — очевидная описка автора; румынское селение называется Гура-Вець.
(обратно)112
Филордин — описка автора; болгарское селение называется Флорентин.
(обратно)113
Раково — видимо, автор имел в виду селение Кошава.
(обратно)114
Этот остров (его современное название Летя) разделяет Килийское и Сулинское гирла.
(обратно)115
Современное (румынское) название этой реки — Олт.
(обратно)116
Разумеется, речь идет о православном болгарском архиепископе.
(обратно)117
Рущук — так называлась крепость, построенная в XVI веке турками на месте древнеримской крепости и порта Сексагинта-Присга. Возле крепости со временем возник крупный город. Современное название этого болгарского города — Русе.
(обратно)118
Османская империя в административном отношении делилась сначала на вилайеты (которые можно сравнить с генерал-губернаторствами в царской России), санджаки (округа), казы (аналогичные русским уездам) и нахии (общины). Как видим, провинциям тут нет места. Вилайет, в котором был расположен Рущук, назывался Дунайским. В Силистре же располагался центр округа (санджака).
(обратно)119
У Верна говорится о вилайете (хотя это турецкое слово приведено в неправильном написании), но центр Дунайского вилайета, как уже сказано, находился в Рущуке; Силисгра же была окружным городом (центром санджака, или — в арабской терминологии — лива), что и отражено в переводе.
(обратно)120
Кюстендже — турецкое название румынского порта Констанца.
(обратно)121
Бузеб — турецкое название реки Бузэу, но Верн опять здесь ошибается: Бузэу впадает не в Дунай, а в его левый приток Серет.
(обратно)122
Галац расположен несколько севернее устья Серета; с востока город ограничивает обширный лиман, соединяющийся с Дунаем; Прут впадает в Дунай в десятке километров восточнее Галаца.
(обратно)123
Ллойд (правильно: Ллойдз, англ. Lloyd’s) — страховое общество под особым государственным надзором с местопребыванием в Лондоне и конторами, разбросанными по всему миру. Названо по имени Эдуарда Ллойда, владельца маленького лондонского кафе, облюбованного страховыми агентами. С 1696 года начал издаваться периодический бюллетень «Lloyd’s News», в котором печаталась информация о внешней торговле и судоходстве. Имя Ллойда входит в названия различных судоходных компаний. В данном случае имеется в виду «Дунайский Ллойд».
(обратно)124
Кабельтов — мера расстояний на море, десятая часть морской мили, или 185,2 м.
(обратно)125
Узел — мера скорости морских судов, одна морская миля в час.
(обратно)126
Бар — изогнутая в форме полумесяца песчаная гряда, выпуклая в сторону моря, образующаяся в устьях рек в результате падения скорости речной струи и отложения взвешенного осадочного материала, влекомого рекой.
(обратно)127
Гуанако — парнокопытное животное рода лам семейства верблюдовых; длина тела 120—175 см, прежде было широко распространено к западу от водораздельного хребта Анд, однако в настоящее время почти полностью истреблено человеком и встречается только в высокогорных районах.
(обратно)128
Ситники (Juncus) — род многолетних или однолетних травянистых растений с невзрачными цветками; относится к семейству ситниковых. В мире существует свыше 250 видов ситников, распространенных в умеренных и холодных областях, преимущественно в Южном полушарии. Растут по берегам водоемов, болотистым лугам и прочим сырым местам.
(обратно)129
Напомним читателю, что испанцы называли тиграми всех крупных американских кошек, особенно пятнистых и полосатых; чаще всего это название относилось к ягуару.
(обратно)130
Ягуар (Felis onxa) никогда не спускался южнее 40° ю. ш. (север Аргентины). В Патагонии в XIX веке был широко распространен другой хищник семейства кошачьих — пума (Felis concolus). В том числе пумы обитали и на Огненной Земле, причем здесь встречались очень крупные для этого вида экземпляры — весом до 110 кг.
(обратно)131
Фут — англо-американская мера длины, равен 30,48 см.
(обратно)132
Нанду — американские страусы; особый отряд нелетающих птиц; в настоящее время сохранились только в глухих местах.
(обратно)133
Вигонь — парнокопытное животное рода лам семейства верблюдовых; длина тела около 150 см; некогда обычное для андийских высокогорий животное; в наши дни в результате хищнического истребления его ареал заметно сократился; внесено в Красную книгу исчезающих животных. Сейчас гораздо чаще употребляется испанское название этого животного — викунья.
(обратно)134
Упоминающиеся в романе индейские племена (валла, рыбники, каноэ) относятся к народу ягана (см. далее).
(обратно)135
Пиктон — остров у восточного выхода из пролива Бигл; расположен в 14 км северо-западнее острова Исла-Нуэва.
(обратно)136
Ошибка автора. Регион, в котором происходит действие романа, расположен на широте, аналогичной широте Москвы в Северном полушарии, а поэтому солнце здесь заходит за горизонт в любое время года.
(обратно)137
Пиастр — так называли испанскую и мексиканскую монету в Европе. Первоначально испанцы в Новом Свете монеты не чеканили. В обращении находились слитки драгоценных металлов в форме тонкой пластинки. От итальянского названия этой валюты (piastra d’argento — «серебряная пластинка») и произошло слово «пиастр».
(обратно)138
Пампа (правильнее — пампасы) — равнинные области Южной Америки с преобладанием травянистой растительности.
(обратно)139
Орографический — здесь: синоним слова «горный».
(обратно)140
Голенастые птицы — береговые птицы, один из семи отрядов птиц в классификации животного мира, разработанной французским биологом Ж.- Б. Ламарком. К концу XIX века эта классификация уже устарела, появились более современные научные системы, однако Ж. Верн не отказывался от выученных в детстве понятий до конца своих дней.
(обратно)141
Фукусовые водоросли — род бурых морских водорослей, состоящих из плоской, ветвящейся пластинки длиной до 1 м.
(обратно)142
Морские волки — название этих морских млекопитающих перешло во французский язык из испанского, где lobo de таг означает просто тюленя. Крик этих животных напоминает волчий вой (кстати, так же и по той же причине на севере Франции называют другой вид тюленей). Есть у испанцев и видовые названия: lobo de los pelos, lobo fino, lobo de Magallanes. Какой конкретно вид ластоногих имел в виду Ж. Верн, сказать трудно. Поскольку в тексте не раз упоминается об интенсивной охоте на «волков», речь может идти о представителях двух различных семейств: ушастых тюленей (Otariidae) и настоящих тюленей (Phocidae).
(обратно)143
«Молотильщики». — Для обозначения охотников на ластоногих Верн изобретает особое слово, не отмеченное в словарях французского языка: louvier; оно восходит к глаголу louveter, что означает «подвергать шерсть воздействию щипальной машины или разбивать палками перед операцией чесания», существительному, обозначающему эту операцию (louvetage), или обозначению лица, выполняющего подобную обработку шерсти (louveteur); по мнению романиста, действия такого работника напоминают поведение охотника на ластоногих, которых в те времена на всех широтах забивали ударами палок; одновременно писатель намекает на фонетическую связь со словами louveterie (охота на волков) и старинным louvetier (егермейстер, занимавшийся в феодальные времена организацией господской охоты на серых хищников).
(обратно)144
Лапчатоногие (уст.) — водоплавающие птицы, один из семи отрядов птиц по классификации Ж.-Б. Ламарка.
(обратно)145
Форштевень — вертикальная или наклонная балка набора судна, замыкающая его носовую оконечность; является продолжением киля, связывая последний с набором палуб.
(обратно)146
Такелаж — совокупность судовых снастей (стальных и растительных тросов, цепей и проч.) для крепления рангоута, управления парусами, а также для грузоподъемных работ, подъема и спуска флагов и сигналов. Однако здесь автором, видимо, подразумевается и парусное вооружение. Такелаж делится на стоячий, или неподвижный (ванты, штаг и проч.), и бегучий, то есть подвижный (фалы, шкоты и проч.).
(обратно)147
Сардинщицы — специфические плоскодонные суда, используемые рыбаками Бретани для прибрежного лова рыбы, главным образом сардин. Такой тип рыбачьих суденышек нередко появляется в произведениях Верна. Наиболее близки к ним отечественные черноморские шаланды.
(обратно)148
Штаг — снасть стоячего такелажа, расположенная в диаметральной плоскости судна и поддерживающая с носа мачту или стеньгу.
(обратно)149
Очевидно, речь идет о треугольном парусе, перерезанном на две части. В случае надобности верх паруса обносится вперед и служит кливером, косым треугольным парусом, устанавливаемым впереди фок-мачты.
(обратно)150
Кабельтов — см. примеч. на с. 137.
(обратно)151
Привести руль к ветру — развернуть судно по ветру.
(обратно)152
Кошка — четырехлапый якорь небольшого размера и веса.
(обратно)153
Взять паруса на гитовы — подтянуть паруса к мачтам (или реям) особыми снастями — гитовами.
(обратно)154
Ликтрос — пеньковый, несмоленый, трехпрядный трос, которым обшивают кромки парусов.
(обратно)155
Автор использует слово pingouin, которое во французском языке обозначает бескрылую гагарку, нелетающую птицу, до середины XIX века изредка встречавшуюся на арктических островах и северных побережьях Европы. К концу века она была уничтожена. Сведений о распространении этого вида в Южном полушарии нет. Возможно, Верн все же имел в виду пингвинов (фр. le mane hot), колонии которых распространены по океанскому побережью архипелага.
(обратно)156
Нотофагус — вид деревьев из семейства буковых (настоящих буков в Южном полушарии нет). В Чили и на Огненной Земле распространены два вида этого растения: вечнозеленый березовидный нотофагус (Nothofagus betuloides) и южный нотофагус (Nothofagus antarctic), ежегодно меняющий листву.
(обратно)157
Винтерии — в дальнейшем автор называет эти деревья дримисами. Дримис (Drymis winteri) — дерево из семейства магнолиевых, открытое английским путешественником XVI века. У. Уинтером. Кора этого дерева обладает тонизирующими и стимулирующими свойствами; ее используют также при изготовлении противоцинготных средств.
(обратно)158
Шалаши были основным жильем индейцев-ягана. Шалаши строили на каркасе из веток (Ж. Верн называет их «кольями»), придавая им коническую или куполообразную форму; остов перекрывали дерном, травой, водорослями, листьями. При перекочевке каркас оставался на месте и мог служить другим семьям.
(обратно)159
Методистская церковь — одна из протестантских Церквей, довольно близкая традиционному учению католицизма. В 1729 году в английском городе Оксфорде было создано студенческое братство для изучения Библии, совместных молитв и добрых дел. За свой спокойный, правильный, методистский образ жизни члены братства были прозваны «методистами». Впоследствии кроме университетских методистов возникло еще несколько групп, отличавшихся от оксфордцев отношением к некоторым вопросам веры и участию в общественной жизни. Во второй половине XVIII века это религиозное течение оформилось как самостоятельная Церковь. Между методистами и господствующей в Великобритании Англиканской церковью разногласий в вопросах веры практически нет.
(обратно)160
Уэслианский — от фамилии Джона Уэсли (1705—1791), основателя методистского движения.
(обратно)161
Автор имеет в виду Фолклендские острова (см. примеч. 1 на с. 164).
(обратно)162
Каботажное плавание — рейс корабля между портами одного государства или одного морского бассейна.
(обратно)163
Шкала Фаренгейта — температурная шкала, разработанная немецким физиком Габриелем Дэниелем Фаренгейтом (1686—1736), работавшим в Голландии и Великобритании. Фаренгейт, между прочим, является изобретателем термометров: спиртового (1709) и ртутного (1714). Один градус шкалы Фаренгейта равен 1/180 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосферном давлении. Точка кипения воды в этой шкале соответствует температуре 212°, а точка таяния льда (0° по Цельсию) — отметке 32°. Нуль шкалы Фаренгейта соответствует температуре — 17,77° по шкале Цельсия.
(обратно)164
Земля Короля Вильгельма — так первоначально называлась территория, позднее разделенная на остров Риеско и полуостров Муньос-Гамеро.
(обратно)165
Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьен Сезар (1790—1842) — французский мореплаватель и ученый-гидрограф. Участвовал в одной из первых научных морских экспедиций — гидрографической съемке Эгейского и Черного морей (1819—1820); совершил несколько кругосветных плаваний: в 1822—1825 годах на корвете «Кокий», в 1826—1829 годах на корвете «Астролябия» (эта экспедиция была снаряжена для выяснения судьбы знаменитого французского мореплавателя Жана Франсуа Лаперуза), в 1837— 1840 годах в Тихий океан и к берегам Антарктиды. 21 января 1840 года Дюмон-Дюрвиль высадился на берег ледового континента на открытой им Земле Адели. Погиб в железнодорожной катастрофе.
(обратно)166
Фолклендские острова были открыты в 1592 году Джоном Девисом. В 1594 году возле их северного побережья плавал Ричард Хокинз. Свое нынешнее название архипелаг получил в 1690 году от капитана Джона Стронга. В 1764 году французский капитан Луи-Антуан де Бугенвиль основал первое поселение на Восточном Фолкленде, но через два года, под давлением испанцев, французы ушли, а испанцы захватили и британскую часть, что чуть не привело к войне. В 1771 году Великобритания снова заняла «свою» часть, основав колонию Порт-Эгмонт, которая, однако, просуществовала всего 3 года, после чего англичане покинули Фолкленды. В 1829 году свои права на архипелаг предъявила Аргентина (как наследница Испании), в 1831 году на островах было основано поселение под флагом США. И только в 1833 году Великобритания официально объявила Фолклендские острова своей колонией. В 1843 году на архипелаге появилась гражданская администрация.
(обратно)167
В настоящее время северным, входным, мысом в Магелланов пролив считается мыс Данджнесс (52°23' ю. ш., 68°25' з. д.), расположенный юго-западнее мыса Вирхенес (52°22' ю. ш., 68°20' з. д.).
(обратно)168
Русское название этого сужения — пролив Первый; альтернативно употребляется транскрипция испанского названия: Примера-Ангосгура.
(обратно)169
Странно, что Жюль Верн незнаком, по-видимому, с дневником участника первой кругосветки Антонио Пигафетты, изданным в 1837 году в испанском и в 1874 году в английском переводе. Французская версия, представляющая собой краткое изложение дневника, известна с XVI века. Автор излагает историю открытия Магелланова пролива с неточностями. На разведку были посланы два корабля («Сан-Антоньо» и «Консепсьон»); налетевший штормовой ветер чуть не погубил их; несмотря на шторм, экипажам судов удалось-таки отыскать проход. Вслед за ними и вся эскадра прошла пролив Первый, выйдя в бухту Сан-Фелипе. После пролива Второго Магеллан снова послал эти же корабли на разведку, но приказ выполнила только команда «Сан-Антоньо». К вечеру этот корабль соединился с эскадрой, но ночью командование судном принял португалец Иштебан Гомиш, королевский кормчий. Он-то и уговорил экипаж дезертировать. «Сан-Антоньо» тайком оставил эскадру и вернулся в Европу. Гомишу даже удалось доказать целесообразность своих действий. Дневник А. Пигафетты переведен на русский язык.
(обратно)170
Это неверно. Магеллан назвал патагонцев «людьми с огромными ногами», потому что их нижние конечности были обернуты в солому для защиты от холода.
(обратно)171
Снова неточность автора. Столь рано испанцев на территории современного Чили еще не было. Только в 1534 году испанский король Карл I разделил тихоокеанское побережье Южной Америки на четыре крупные провинции: одна из них охватывала перуанскую территорию (ею управлял Ф. Писарро), три других — чилийскую. Центральной чилийской провинцией «правил» дуэньо (господин) Педро де Мендоса (Ж. Верн именует его Хорхе). Первые испанские отряды, которыми командовал Вальдивия, появились на севере Чили в 1540 году. Через 13 лет мощное восстание индейской народности арауканов надолго остановило продвижение испанцев на юг.
(обратно)172
Целью экспедиции 1525 году было завоевание Молуккских островов. В ее составе было 6 кораблей. Официально экспедицией руководил командор ордена Св. Иоанна Гарсия Хофре де Лоайса. Хуан Себастьян де Элькано (ок. 1476—1526), мореплаватель, первый обошедший вокруг света, отправился в плаванье королевским кормчим и капитаном корабля «Санкти-Спиритус». В октябре корабль Элькано разлучился с эскадрой и самостоятельно шел к Магелланову проливу. Некоторые испанские историки утверждают, что этой осенью Элькано открыл мыс Горн, почти за столетие до голландцев. 24 января 1526 года у входа в Магелланов пролив эскадра воссоединилась, и Элькано пересел на флагманский корабль «Санта-Мария-де-ла-Виктория». На преодоление пролива ушел 51 день, то есть немногим меньше двух месяцев. В дальнейшем Элькано оставался на «Санта-Марии», на борту которой умер от цинги 4 августа 1526 года, когда корабль находился недалеко от азиатских архипелагов.
(обратно)173
Камарго в Магеллановом проливе потерял только один корабль.
(обратно)174
Жюль Верн называет Дрейка не Фрэнсисом, а Франсуа.
(обратно)175
Очевидная ошибка автора. В 1540 году Дрейка еще не было на свете; Елизавета I правила с 1558 года, а в кругосветное плавание Дрейк ушел в 1577 году Магелланов пролив он преодолел в 1578 году.
(обратно)176
Педро Сармьенто де Гамбоа был испанцем. Даты рождения и смерти неизвестны, хотя человек этот был во многих отношениях замечателен. Удачливый конкистадор и мореплаватель, он пробовал свои силы в литературе. Широкую известность получила его «История инков», а отчеты о морских экспедициях, составленные в форме писем к королю, содержат немало ценных сведений о природе Южной Америки и жителях этого континента. Сармьенто в числе прочих заслуг принадлежит и честь открытия носящего его имя южного выхода из Магелланова пролива (1589). К южной оконечности Америки он прибыл в 1583 году в качестве губернатора провинций Пролива. Последние сведения о Сармьенто де Гамбоа относятся к началу 1592 года.
(обратно)177
Это поселение назвали Номбре-де-Хесус (Имя Христово).
(обратно)178
Ж. Верн переделывает название города на французский лад. Оригинальное название звучало так: Сьюдад-де-Дон-Фелипе (Город Короля Филиппа).
(обратно)179
Это название дал английский мореплаватель Т. Кавендиш.
(обратно)180
Так автор называет Кавендиша. Кавендиш Томас (1560—1592) — английский пират; Магелланов пролив преодолел 6 января — 24 февраля 1587 года. В 1592 году снова попытался пройти проливом, но, встретив сильные противные ветры и течения, 15 мая повернул назад и вскоре умер в Атлантическом океане. Проходя мимо Сьюдад-де-Дон-Фе-липе, увидел на берегу 10 испанских мужчин и 3 женщин. Один из встреченных испанцев, Томе Эрнандес, был взят на борт пиратского корабля, а потом высажен в чилийском порту Кинтеро. Кавендиш назвал поселение Голодным городом, потому что увидел там множество трупов.
(обратно)181
Южное море — официальное название Тихого океана в XVI—XVIII веках. Именно так назвал его Васко Нуньес де Бальбоа, первым из европейцев увидевший его воды, после того как в 1513 году пересек Панамский перешеек. Испанец шел в субмеридиональном направлении (с севера на юг), и за его спиной осталось Северное море (оно же — Карибское или Атлантическое).
(обратно)182
Хокинз Ричард (ок. 1560—1622)—английский мореплаватель и путешественник, сын знаменитого Джона Хокинза, начинавшего жизненный путь работорговцем, а прославившегося руководством обороной Англии от испанской «Непобедимой армады» и умелым командованием в ряде других военно-морских операций. Ричард начинал, подобно отцу, с торговли африканскими неграми; в 1593 году организовал экспедицию через Магелланов пролив на Молуккские острова и в Ост-Индию, однако по пути, в бухте Вальпараисо, его корабли захватили испанцы. Ричарда судили и приговорили к смертной казни, которая впоследствии была заменена крупным выкупом. В 1602 году он вернулся в Англию разоренным, но вскоре стал членом парламента (1604 г.), а потом получил хорошо оплачиваемый пост королевского советника. В конце жизни написал книгу «Наблюдения, сделанные во время путешествия в Южное море», которая вышла в год смерти автора. В 1621 году ему было поручено покончить с берберийскими пиратами в Средиземном море, но с этой задачей он не сумел справиться.
(обратно)183
Как уже было сказано, Фолклендские острова были открыты в 1592 году Джоном Девисом. Ричард Хокинз посетил северное побережье архипелага в 1594 году.
(обратно)184
Симон де Кордес не мог вернуться в Европу в 1600 году, поскольку — как указывают голландские энциклопедии — умер в 1599 году.
(обратно)185
Норт Оливир ван (1558/9—1627) — голландский мореплаватель, руководитель первой голландской кругосветной экспедиции (1598—1601).
(обратно)186
Спильберген Иорис ван (1568—1620) — голландский мореплаватель,бороздивший прибрежные воды Западной Африки, Цейлона, Индии, Бразилии. В 1614—1617 годах совершил кругосветное плавание. В рукописи явное несоответствие. Судя по следующему абзацу, события, описанные ниже, относятся к 1617 году, а следовательно, Спильберген шел Магеллановым проливом из Тихого океана в Атлантику.
(обратно)187
Ле-Мер Якоб (1585—1616) — голландский купец и мореплаватель, погиб в море. Схоутен Виллем Корнелисзон (1580—1625) — голландский мореплаватель, погиб в море у острова Мадагаскар.
(обратно)188
Гарсия де Нодаль Бартоломе (1575 — ?) — испанский мореплаватель; до плавания в Южную Америку около 30 лет воевал с английским флотом; экспедиция длилась с 27 сентября 1618 года по 9 июля 1619 года; в ней участвовали два корабля; вторым судном командовал его брат, Гонсало де Нодаль; описание путешествия опубликовано в 1621 году. В испанских источниках пролив Ле-Мер называется Сан-Висенте.
(обратно)189
Нарборо (Нарбро) Джон (1640—1688) — английский мореплаватель, адмирал.
(обратно)190
Здесь Ж. Верн слишком сурово судит о своем соотечественнике. Жан Батист де Женн в 1695 году основал торговую компанию для колонизации Магелланова пролива. Именно с этой целью он и отправился в Южную Америку. Колонию, однако, организовать не удалось, Женн вернулся в Европу, выпустил книгу «Сообщение о путешествии в 1695—1697 годах к берегам Африки, Магелланова пролива, Бразилии, Кайенны и Антильских островов эскадры под командованием де Женна», а потом отправился губернатором на один из Ангильских островов (Сен-Кристоф), здесь его гарнизон был атакован англичанами. Де Женна окружили, и он вынужден был капитулировать; умер в неволе, в Портсмуте, в 1704 году.
(обратно)191
Коммодор — в английском флоте так назывался командир соединения кораблей, не имеющий адмиральского звания.
(обратно)192
Байрон Джон (1723—1786) — английский мореплаватель, дед великого поэта. Руководил экспедицией, исследовавшей южную часть Тихого океана. В 1768 году опубликовал изобилующую живописными подробностями работу о кораблекрушениях у берегов Южной Америки, которую гениальный внук впоследствии использовал при сочинении поэмы «Дон-Жуан». В 1769 году был назначен губернатором британской колонии Ньюфаундленд.
(обратно)193
Уоллис Самьюэл (1728—1795) — английский мореплаватель, в 1766—1768 годах совершил кругосветное плавание.
(обратно)194
Флейта — небольшое военное трехмачтовое транспортное судно.
(обратно)195
Шлюп — одномачтовое парусное судно.
(обратно)196
Речь идет не об Уоллисе, а о капитане Кинге Филипе Паркере (1793—1856) — английском мореплавателе, контр-адмирале, который вел гидрографическую съемку западного побережья Австралии и берегов Южной Америки (1825). В 1831 году он выпустил книгу «Наставления мореплавателям, направляющимся к восточным и западным берегам Патагонии».
(обратно)197
Фицрой Роберт (1805—1865) — английский мореплаватель, вице-адмирал; вел гидрографические, гидрологические и метеорологические исследования; в 1828—1836 годах был командиром корабля «Бигл», на котором совершил кругосветное плавание (в качестве штатного натуралиста в плавании принял участие Чарлз Дарвин); описание этого путешествия содержится в книге, выпущенной в 1839 году (вместе с Ч. Дарвином — прославленное «Путешествие натуралиста на корабле “Бигл”...»); в 1843—1845 годах был губернатором Новой Зеландии, а с 1854 года стал шефом британской метеослужбы.
(обратно)198
Дримис Винтера (Drymis Winteri) ранее назван Ж. Верном винтерией.
(обратно)199
Речь на самом деле идет о научной дисциплине, которую во времена позднего Верна, да и полвека спустя, называли физической океанографией.
(обратно)200
Пателла — научное название семейства улиток, в просторечье именуемых морскими блюдечками (блюдцами). Здесь, видимо, речь идет об обыкновенном блюдце (Patella vulgaris), ординарном для Атлантики виде.
(обратно)201
Мурексы — род тропических и субтропических брюхоногих моллюсков, также называемых багрянками и пурпуринами, потому что в древности из шипов, которыми усеяны их раковины, добывали пурпурную краску. Видимо, сюда же можно причислить и «единорога», включенного автором в текущий список даров моря.
(обратно)202
Фиссуреллы — улитки из семейства Fissurellidae с овальной раковиной; во Франции их называют также «ухо святого Петра».
(обратно)203
Высота 818 м. над уровнем моря.
(обратно)204
Высота 767 м. над уровнем моря.
(обратно)205
Автор имеет в виду горный массив Виктория с высшей точкой 921 м над уровнем моря.
(обратно)206
Несколько раньше, как читатель мог заметить, это же действие автор приписывает капитану Жан-Батисту де Женну.
(обратно)207
Как известно, мыс Доброй Надежды открывшие его португальцы первоначально назвали мысом Бурь.
(обратно)208
Перечисленные географические объекты находятся на восточном и южном побережьях Огненной Земли.
(обратно)209
Ее вершина находится на высоте 2300 м. над уровнем моря.
(обратно)210
Якана — авторское написание названия индейского народа. В наши дни принято писать ягана. Сами себя индейцы называют «ямана» («люди»). Предки яганов издавна населяли южную часть Огненной Земли и соседние острова вдоль пролива Б игл. Они занимались охотой на морских млекопитающих, птиц, реже — на гуанако, а также рыболовством, сбором моллюсков и съедобных водорослей. На своих утлых суденышках добирались до мыса Горн, где обнаружены следы их поселений, датируемые концом пятого тысячелетия до н. э. Одевались яганы в накидки из шкур. Еще в первой половине XIX века яганов насчитывалось около 3 тыс. человек. Сейчас их осталось менее сотни (на острове Наварино и в городе Ушуая), да и эти не являются чистокровными яганами.
(обратно)211
Фолкленды начали заселяться с 1764 года. Здесь речь идет преимущественно о поселенцах, перебравшихся на острова во время недолгого аргентинского суверенитета над архипелагом.
(обратно)212
Ливингстон Давид (1813—1873) — шотландский миссионер, выдающийся исследователь Африки.
(обратно)213
Стэнли Генри Мортон (наст имя и фамилия Джон Роулендс, 1841—1904) — американский журналист, исследователь Африки, несколько раз пересек экваториальные районы этого континента из конца в конец, в 1880-е годы стал активным пособником бельгийской колониальной администрации при захвате огромных территорий в бассейне реки Конго Последний аспект его деятельности всегда вызывал осуждение Ж Верна
(обратно)214
Нансен Фритьоф (1861—1930) — выдающийся норвежский путешественник, исследователь Арктики и морей Мирового океана, общественный деятель (был комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных и одним из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1921 году, инициатором создания «нансеновских паспортов» — временных удостоверений личности, выдававшихся беженцам из разных стран), лауреат Нобелевской премии мира (1922).
(обратно)215
Мизантропия — человеконенавистничество.
(обратно)216
В русской картографической номенклатуре — пролив Второй, в испанской — Сегун-да-Ангосгура.
(обратно)217
Техуэльче. — Ж. Верн называет этот народ теуэлъеты в соответствии с современной ему картой окрестностей Магелланова пролива. Техуэльче (они же тэуэльче, мапу-че) часто называют просто патагонцами. Именно с ними, точнее с южной группой этого народа (инакен), столкнулись Магеллан и его спутники. Традиционно техуэльче занимались охотой и собирательством. В начале XVIII века освоились с привезенными испанцами лошадьми и перешли к конной охоте. Сейчас занимаются главным образом скотоводством, мужчины также выделывают кожу для сбруи, женщины прядут овечью и козью шерсть. Традиционная одежда — накидки из шкур, которые носят мехом внутрь; традиционные жилища — ветровые заслоны из шкур гуанако. На протяжении XIX века техуэльче понесли большие потери в войнах сначала с арауканами, а впоследствии — с аргентинцами, так что в наши дни их численность не превышает одной тысячи человек.
(обратно)218
В рукописи указывается 1877 год, но развитие сюжета требует изменения даты. (Примеч. фр. издателя.)
(обратно)219
Ушая. — Мы сохраняем авторское написание топонима. Правильное название города — Ушуая.
(обратно)220
Теллурический — связанный с глубинами Земли.
(обратно)221
Теребриды — семейство брюхоногих моллюсков из отряда стеноглоссных.
(обратно)222
Мактры — двустворчатые моллюски из семейства мактрид.
(обратно)223
Тритония — моллюск из отряда голожаберных.
(обратно)224
Акр — мера площади в англо-американской системе мер; равен 0,4 га, или примерно 4 тыс. кв. м.
(обратно)225
Азорелла — род травянистых растений из семейства зонтичных; эти жизнелюбивые растения характеризуются необычайной приспособляемостью к суровым климатическим условиям высокогорных районов Чилийских и Перуанских Анд; отличаются поразительным многообразием форм и цвета.
(обратно)226
Лорантус (ремнецветник) — род невысоких, зеленых, полупаразитных кустарников, а не деревьев.
(обратно)227
Касик — индейский вождь в племенах Мексики и Центральной Америки.
(обратно)228
Скорее всего, говоря о краснобородках, автор имел в виду один из видов барбунов. Во всяком случае, в оригинале речь идет о султанке, или обыкновенном барбуне, рыбе, весьма распространенной в европейских морях.
(обратно)229
Возможно, речь идет о малой корюшке, встречающейся в американских прибрежных водах.
(обратно)230
Первоначально Ж. Верн написал следующий текст: «Не была ли привязанность к Карроли и его сыну целительной для Кау-джера, не восстановило ли благодаря ей это уязвленное сердце порванную связь с человечеством?» (Примеч. фр. издателя.)
(обратно)231
Гафель — наклонное рангоутное дерево, укрепляемое нижним концом к мачте судна для привязывания верхней кромки косого паруса.
(обратно)232
Полуют — надстройка в кормовой части корабля; в отличие от юта, до бортов не доходит.
(обратно)233
Доктрина Монро — декларация принципов внешней политики США, изложенная в послании президента Джеймса Монро Конгрессу от 2 декабря 1823 года. В этом послании, в частности, провозглашен принцип невмешательства европейских держаё в дела государств Западного полушария. Доктрина получила широкую известность по сжатому афористическому изложению ее содержания: «Америка — для американцев».
(обратно)234
Намек на финансовые скандалы, связанные со строительством Суэцкого и Панамского каналов. Ко времени написания романа строительство Панамского канала было прекращено, после того как рухнула созданная аферистами французская компания, на средства которой должны были прорыть канал.
(обратно)235
Фактическая граница шла по восточным предгорьям Патагонских Альп, водораздельного Андийского хребта.
(обратно)236
См. координаты этих мысов в примеч. к гл. III.
(обратно)237
На самом деле граница идет несколько западнее: 68°40' з. д. от Гринвичского меридиана.
(обратно)238
Образ жизни (лат.).
(обратно)239
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский мыслитель, социалист-утопист. Движущими силами истории считал прогресс научных знаний, морали и религии. В грядущем обществе предполагал объединение пролетариата и буржуазии в единый класс «индустриалов». В этом обществе будут обязательными общественно-полезный труд, распределение по способностям, научное планирование хозяйства. Целью своих стремлений объявлял освобождение рабочего класса, которое должно произойти через повсеместное утверждение «новой религии», построенной на постулате «все люди — братья».
(обратно)240
Фурье Франсуа Мари Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист. Первичной ячейкой нового общества считал «фалангу», сочетающую промышленное и сельскохозяйственное производство. Учил, что в будущем обществе труд станет удовольствием и потребностью, а противоречия между трудом умственным и физическим исчезнут; при этом сохранятся частная собственность и классы. Новое общество Фурье полагал возможным построить путем мирной пропаганды социалистических идей.
(обратно)241
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Сначала пропагандировал мирное переустройство общества путем реформы кредита и обращения. В частности, предлагал предоставлять мелким производителям даровые кредиты для организации эквивалентного обмена продуктами труда. После революции 1848 года выдвинул теорию ликвидации государства, в котором видел первопричину всех социальных несправедливостей.
(обратно)242
Лассаль Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист, адвокат, деятель немецкого рабочего движения; организатор и первый руководитель Всеобщего германского рабочего союза (1863 г.). Рассматривал всеобщее избирательное право как универсальное политическое средство освобождения труда от власти эксплуататоров.
(обратно)243
Гед Жюль (наст, имя и фамилия Матьё Базиль; 1845—1922) — крупный деятель французского и международного рабочего движения, один из основателей французской Рабочей партии, один из лидеров II Интернационала; активно поддерживал Парижскую коммуну, за что был приговорен к пяти годам тюремного заключения, однако успел бежать за границу. В эмиграции (1871—1876 г.г.) исповедовал анархические взгляды, но в дальнейшем, став убежденным последователем К. Маркса, вел непримиримую борьбу с анархизмом.
(обратно)244
Св. Венсан де Поль (1581—1660) — сын пастуха; после обучения у католических монахов и в Тулузском университете стал священником (1600 г.). Во время морского путешествия был захвачен пиратами, несколько лет провел в тунисском плену, бежал, добрался до Рима, где ему доверили дипломатическую миссию к Генриху IV. Был исповедником королевы Маргариты Наваррской. С 1617 года занимался благотворительной деятельностью, инициатор создания Общества священников-миссионеров (1625 г.), которых позднее, по месту размещения в монастыре Св. Лазаря, стали называть «лазаристами»; занимался организацией женских общин милосердия; основывал детские приюты, больницы для бедных, семинарии, странноприимные дома. Канонизирован в 1737 году.
(обратно)245
«Приятно забвение суетной жизни» (лат.).
(обратно)246
Брать рифы — уменьшать площадь парусов с помощью специальных устройств или приспособлений; самое простое из них — ряды отверстий (риф-гатов), расположенных параллельно рею, сквозь которые пропущены специальные снасти (риф-сезни).
(обратно)247
Бореальный — северный.
(обратно)248
Тектоническое строение южной оконечности Американского континента и в самом деле очень сложное. Здесь сочленяются Патагонская платформа (с востока) и Патагонские Альпы (с запада). Платформа занимает северную часть Огненной Земли. По более южным районам проходят вулканические пояса, причем средняя часть Огненной Земли и север полуострова Брансуик заняты отложениями, излившимися на поверхность Земли несколько десятков миллионов лет назад. Запад и юг Магеллании слагают вулканические породы, возраст которых исчисляется несколькими сотнями миллионов лет. Как полагают геологи, формирование современного рельефа региона произошло под воздействием движения на запад тектонической плиты Скоша, вклинившейся между более крупными — Антарктической и Южноамериканской — плитами.
(обратно)249
Ламинарии — род бурых морских водорослей, состоящих из ствола и пластины шириной около 0,5 м и длиной до 25 м. Встречаются преимущественно в морях умеренного и арктического поясов. Некоторые виды съедобны и известны под названием «морская капуста».
(обратно)250
Диего-Рамирес — группа мелких океанических островков, географически принадлежащих Южной Америке. Координаты центра архипелага: 56°30' ю. ш., 68°44' з. д. Ж. Верн, по своему обыкновению, не указал в черновой рукописи расстояния до этих скал от материка. От полуострова Харди их отделяет около 100 км, от мыса Горн — около 110 км.
(обратно)251
Марсель — прямой четырехугольный парус на парусных судах, второй снизу.
(обратно)252
Рыскание ветра — уход ветра то в одну сторону, то в другую от среднего направления.
(обратно)253
Траверз — направление, перпендикулярное курсу корабля (или его диаметральной плоскости).
(обратно)254
Волновой пакет — здесь: группа отдельных (элементарных) волн.
(обратно)255
Бакштаг — здесь: снасть стоячего такелажа, протягиваемая для поддержки с боков мачт, шлюпбалок и т. д.
(обратно)256
Вайты — снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков мачты и их продолжения (стеньги, брам-стеньги).
(обратно)257
Выбленки — поперечные смоляные тросы, вплетенные в ванты, чтобы облегчить подъем на мачту.
(обратно)258
Кабельтов — здесь: трос толщиной 15—30 см.
(обратно)259
Перлинь — корабельный трос (или канат) толщиной 102—152 мм (по длине окружности), свитый из трех отдельных трехпрядных тросов.
(обратно)260
Планширь — деревянный брус с закругленной верхней частью, устанавливаемый поверх стального фальшборта или над леерным ограждением.
(обратно)261
Фальшборт — продолжение борта над верхней палубой судна, служащее ограждением палубы.
(обратно)262
Кливер — косой треугольный парус, устанавливаемый впереди фок-мачты.
(обратно)263
Стаксель - косой парус, который ставится перед фок-мачтой либо — как в данном случае — между мачтами.
(обратно)264
Рей — горизонтальное рангоутное дерево, подвешенное за середину к мачте или стеньге и служащее для привязывания к нему прямых парусов.
(обратно)265
Шпигаты — отверстия в палубе для удаления забортной воды.
(обратно)266
Клипер — быстроходное парусное (впоследствии парусно-паровое) судно, отличавшееся заостренными обводами, особой стройностью корпуса и повышенной парусностью.
(обратно)267
Бизань — нижний косой парус, поднимаемый на бизань-мачте (ближайшей к корме судна). Топсель — рейковый парус, поднимавшийся (в данном случае) над косым гафельным; на больших судах ставился над бизанью.
(обратно)268
Латинские паруса — косые (чаще всего треугольные) паруса.
(обратно)269
Капская колония — основана в 1652 году на крайнем юге Африканского континента голландской Осг-Индской компанией; в 1796 году англичане захватили эти земли, но в 1802 году вынуждены были вернуть их голландцам; снова заняты британцами в 1806 году. Венский конгресс 1814—1815 годов оставил колонию за Великобританией. До конца века англичане значительно расширили территорию колонии. В 1910 году колония вошла во вновь образованный Южно-Африканский Союз как Капская провинция.
(обратно)270
Нам аква. — Автор имеет в виду народ нама, крупнейшую этническую общность из группы южноафриканских народов кой-коин (по-старому — готтентотов). Основными отличиями этих народов считаются невысокий рост и светлая (цвета подсыхающей листвы) кожа. Говорят на языках так называемой койсанской группы, характеризующихся обилием специфических, щелкающих, звуков. Традиционное занятие — скотоводство. Страна обитания нама называлась европейцами Намакваленд. Бушмены — общее название группы народов, живущих на юго-востоке Африки и входящих в так называемую экваториальную расу. Характеризуются очень низким ростом, более светлой, чем у других негроидов, кожей, узким носом, довольно плоским лицом и обширными отложениями жира на ягодицах. Иногда бушмены считаются особой человеческой расой.
(обратно)271
Фении (от ирл. fiann — легендарная военная дружина древних ирландцев) — ирландские буржуазные революционеры-республиканцы второй половины XIX — начала XX века, члены тайной организации «Ирландское революционное братство», основанной в 1858 году и имевшей свои подразделения в Великобритании, а также в среде заокеанской ирландской эмиграции. Основной своей целью фении считали создание независимой республиканской Ирландии путем тайно подготовленного вооруженного восстания. В своей деятельности отдавали предпочтение заговорщической тактике.
(обратно)272
Здесь автор несколько своеобразно излагает элементы общей циркуляции атмосферы, уже достаточно хорошо изученной к концу XIX века. Пассатные ветры возникают из-за постоянной разности давлений между областью барического максимума (тридцатые параллели обоих полушарий) и областью минимума давления в приэкваториальной зоне. В результате суточного вращения Земли тело (а в данном случае — воздушный поток) при движении по меридиану отклоняется вправо по направлению движения (закон Кориолиса), то есть в Северном полушарии дует северо-восточный пассат, в Южном — юго-восточный. Правда, вблизи экватора пассатные ветры, как и указывает автор, принимают восточное направление.
(обратно)273
Скула — здесь: плавный переход корпуса корабля от бортов к носовой или кормовой оконечности.
(обратно)274
Обсервация — инструментальное определение высоты того или иного небесного светила; при помощи обсервации устанавливается широта места наблюдения.
(обратно)275
Счисление — вычисление текущего положения судна от известных координат, выполняемое по времени, курсу и скорости корабля с учетом влияния ветра и течений.
(обратно)276
Бакштаг — здесь: направление ветра относительно диаметральной плоскости судна (или его киля) под углом больше 90°, но меньше 180°. Крутым бакштаг называется в тех случаях, когда ветер дует под углом больше 112° относительно киля судна.
(обратно)277
Развернуло лагом — то есть поставило корабль так, что фронт подходящей волны ударял в борт судна.
(обратно)278
Том Сэнд получает отныне новое имя — Том Ленд.
(обратно)279
Полная вода — наивысшее положение уровня моря во время прилива.
(обратно)280
На самом деле пролив Дарвина отделяет остров Чэр от островов Дарвин и Томсон, тогда как упоминаемый в этом месте пролив носит название Саут-Вест-Арм.
(обратно)281
Малая вода — самое низкое положение уровня моря при отливе.
(обратно)282
Венерка — старинное название моллюска вида Venus, самого распространенного представителя отряда пластинчатожаберных моллюсков.
(обратно)283
Тинаму (Rhynchotus rufescens) — похожая на куропатку птица средней величины из отряда тинамуобразных (скрытохвостых); птицы этого отряда обитают в лесах, кустарниковых чащах и степях Южной и Центральной Америки, забираясь на высоту до 4 км над уровнем океана.
(обратно)284
Трудно сказать, какое дерево имел в виду автор. Березы распространены только в Северном полушарии.
(обратно)285
Жюль Верн меняет имя сына мистера Родса.
(обратно)286
Галаксия (Galaxia) — рыба из отряда сельдеобразных, обитающая в пресных холодных водах Южного полушария; напоминает нашего гольца или лишенную чешуи щуку.
(обратно)287
Доминион — самоуправляемая колония Великобритании. Здесь речь идет о Канаде, которая 1 июля 1867 года первой в Британской империи получила этот статус. Стоит упомянуть, что Британская Колумбия, упоминаемая автором как отдельная административная территория, в 1871 году была присоединена к Доминиону.
(обратно)288
Речь идет о бурской республике Трансвааль.
(обратно)289
Кафры (от араб. «кяфир» — «неверный») — так арабы называли населявших Восточную и Юго-Восточную Африку негров-банту, в своем большинстве язычников.
(обратно)290
Это действительно произошло, и сейчас на берегу пролива Бигл существует аргентинское поселение — Ушуая. (Примеч. авт.)
(обратно)291
Не менее 3200 кв. км.
(обратно)292
Вероятно, автор все-таки имел в виду средства производства.
(обратно)293
Прохождение Венеры — прохождение планеты Венера в виде черного пятнышка перед диском Солнца. Это довольно редкое астрономическое явление служит прекрасным средством для определения параллакса Солнца, по которому можно вычислить расстояние от Земли до Солнца. Последнее по времени прохождение Венеры было 6 декабря 1882 года, ближайшие будут 8 июня 2004 года и 6 июня 2012 года.
(обратно)294
Мииды (Myidae) — семейство двустворчатых моллюсков отряда венерид.
(обратно)295
Капитан Аллен Гардинер, умерший в 1850 году на юге Огненной Земли, был одним из основателей протестантской миссии в этих краях.
(обратно)296
Община (фр. la confrerie) — здесь: объединение в милосердных целях набожных людей, покровителем которого объявлялся тот или иной святой. Члены этого объединения обычно ухаживали за больными в госпиталях, помогали немощным в различных жизненных ситуациях, нередко были спутниками (спутницами) миссионеров, распространявших христианскую веру в далеких от цивилизации краях. В общину сестер милосердия могли входить как духовные, так и светские лица.
(обратно)297
Прозелитизм — здесь: стремление завербовать как можно большее количество новообращенных (прозелитов) в протестантское вероисповедание.
(обратно)298
Жажда золота — оборот, типичный для позднего Верна, любившего посмеяться над этим людским пороком. В сущности, выражение «проклятая жажда золота» является цитатой из «Энеиды» римского поэта Публия Вергилия Марона (III, 5657: «Аun sacra fames»).
(обратно)299
«Карман» — небольшое, вытянутое по вертикали углубление во вмещающей горной породе, заполненное кусками руды.
(обратно)300
Четвертичный — относящийся к четвертичному периоду (антропогену), новейшему отрезку человеческой истории, начавшемуся около 2 млн. лет назад.
(обратно)301
Ж. Верн имеет в виду так называемые экзогенные золоторудные месторождения. В этом типе скоплений благородного металла окатанные и полуокатанные зерна и чешуйки золота, иногда сросшиеся с кварцем, встречаются в песке и глинистом материале, содержащем валуны, гальку и щебень различных пород. Иногда россыпные месторождения образуются в зоне проседания какой-либо тектонической структуры. Примерами таких месторождений является Янакоча в Перу, а также небольшое месторождение без названия, расположенное на юго-восточном побережье Кубы. Совсем необязательна приуроченность месторождений такого типа к заболоченным районам.
(обратно)302
2,8—3,7 кв. м.
(обратно)303
0,028 куб. м.
(обратно)304
Золоторудных месторождений на Американском континенте к югу от 40° ю. ш. не открыто, да и самые южные из чилийских месторождений (Андакольо, Эль-Чивато) представлены не россыпными мономинеральными месторождениями, а примесями золота в медных и свинцовых рудах. На Огненной Земле действительно имеются золоторудные месторождения, но золото в них встречается вместе с минералами серебра. Месторождения эти не разрабатываются по причине скудости запасов благородных металлов и низкого (для россыпных месторождений) качества золота. Эти месторождения обнаружены в аргентинской части острова. Золотоносность чилийской части архипелага пока никакими находками не подтверждена.
(обратно)305
Тревога писателя необоснованна. Правда, в далекие времена добывали преимущественно россыпное золото. Доля россыпей в золотодобывающей промышленности еще в середине XIX века составляла 88%, но уже к концу века она сократилась до 56%. Человечество перешло к массовой разработке коренных месторождений самого благородного из металлов. По подсчетам специалистов, за все время существования человечества к середине XIX века было добыто около 17,5 тыс. тонн золота, тогда как за последующие 150 лет — около 100 тыс. тонн, и пока еще недра планеты содержат очень большие запасы этого металла.
(обратно)306
Клондайк — один из притоков реки Юкона. Золото в бассейне Клондайка было открыто 17 августа 1896 года, но главные золотоносные участки входили в состав канадской территории Юкон, в пограничных с Аляской районах. Клондайк за всю историю разработок дал чуть больше 300 тонн золота. Основные месторождения этого металла на Аляске расположены в районе Голд-Крик (совр. Джуно), на полуострове Сьюард (на побережье Берингова моря, возле Нома) и в бассейне реки Тананы. Из этих месторождений к концу XX века добыто около 950 тонн золота. Злоключения клондайских золотоискателей привлекали многих литераторов. Описывал их и Ж. Верн (см. роман «Золотой вулкан» в т. 17 наст. собр. соч.).
(обратно)307
Морское лье равно 5,55 км, то есть соответствует британской морской лиге, равной трем морским милям.
(обратно)308
Об этом маяке Ж. Верн писал в романе «Маяк на Краю Света» (см. т. 17 наст. собр. соч.).
(обратно)309
См.: Dumas О. Voyage a travers Jules Veme. Montreal: Les Editions intemationales Alain Stanke, 2000. P. 227.
(обратно)310
Цит. по: Lamy М. Jules Verne, тШё et initiateur. Р.: Payot, 1994. Р. 124.
(обратно)311
См.: Ibid.
(обратно)312
См.: Dumas О. «Еп Magellanie», le testament politique de Jules Verne // Verne J. En Magellanie. P.: L’Archipel, 1998. P. 8.
(обратно)313
См.: Dumas О. Voyage... Р. 214.
(обратно)314
Цит. по: Dumas О. Jules Verne. Lyon: La Manufacture, 1988. P. 242.
(обратно)315
См.: Chesneaux J. Jules Veme. Un regard sur le monde. P.: Bayard, 2001. P. 14.
(обратно)316
См.: Allote de la Fuye M. Jules Veme, sa vie, son oeuvre. P.: Hachette, 1966. P. 27.
(обратно)317
См.: Ibid. P. 32.
(обратно)318
См.: Chesneaux J. Op. cit P. 24.
(обратно)319
Цит. no: Allote de la Fuye M. Op. cit P. 181—182.
(обратно)320
См.: Dumas О. Voyage... Р. 196.
(обратно)321
См.: Ibid. Р. 224.
(обратно)322
См.: Ibid. Р. 225.
(обратно)

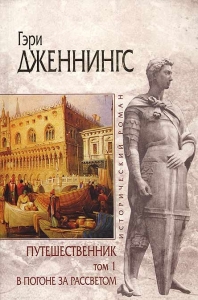


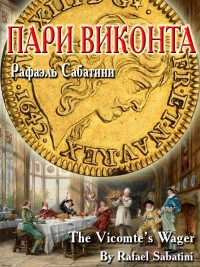


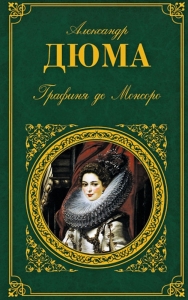
Комментарии к книге «Прекрасный желтый Дунай. В Магеллании», Жюль Верн
Всего 0 комментариев