Я грустью измеряю жизнь Александр Иванов
Корректор Сергей Ким
Дизайнер обложки Мария Ведищева
© Александр Иванов, 2019
© Мария Ведищева, дизайн обложки, 2019
ISBN 978-5-4496-4495-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо предисловия
Вокруг так много клоунов, что становится грустно.
Из газетЯ психотерапевт. Средствами своей души я помогаю своим пациентам, средствами своего творчества я помогаю своей душе. И если я начал печататься, то я стал открытым для общества, и это стало ещё одной темой для духовных уроков.
Меня могут некоторые упрекнуть, что в моём творчестве много грустно-печального или, как говорит сейчас современная молодёжь, депрессушного. А вы почитайте А. С. Пушкина, сколько у него депрессушного: прощание с природой, унылым уголком, друзьями, жизнью… и голос мой не будет боле слышен…
Может быть, поэт как раз и канализировал депрессию через свои стихи. Я не хочу становиться даже в дальний ряд с Александром Сергеевичем — Боже упаси! — но, может быть, и у меня приблизительно такой случай. Кстати, а вы много ли слышали веселых романсов? Возможно, что и грустно-печальное интерферирует, как говорят физики, в печально-светлое.
Грустно-печальное не может обойтись без темы смерти и одиночества. По поводу смерти у меня есть библейская парафраза: смерть — это мерило жизни, а если у нас не будет мерила, чем мы жизнь померяем?
Принятие смерти и, как для людей моего возраста, предопределение смерти с представлением страданий близких при наступлении оной — это тоже тема духовных уроков для обеих сторон. Без знания этого никуда не деться. Вспомним Екклесиаста: «…живые знают, что умрут, мёртвые ничего не знают».
Про одиночество коротко, одной строкой. Одиночество для многих всегда, почти всю жизнь — проблема номер один.
Аристотель писал о катарсисе — очищении через трагедию. Может быть, через грустно-печальное очищается не только пишущий, но и читающий. И напоследок:
…Пока, мой друг, пока, Сниму с души оковы, И кланяясь слегка, Вернусь в свои покои. АвторСтихи
Я грустью измеряю жизнь…
В груди сосало что-то Тянущаяся тоска, Одиночество постылое Или грусть застылую. Эй, прохожий С ухмыляющейся рожей! Дай понять, Как память унять! Я грустью измеряю жизнь, Что не имел и не давал, Люди идут всё мимо, А я спросить хочу: — Как жить душе без грима? Эй, кто-нибудь! Скажите что-нибудь! Идущие, стоящие, Быть как простым и настоящим? Я грустью измеряю жизнь, Не нужно никому её итожить, Такой я жизнемер, и что же?Вечер. Закат
Вечер. Закат. Всё оцепенело, Прощаясь с светилом. Блики заката играют На слюдянистых крыльях стрекоз, Тени деревьев уходят вглубь, Прощаясь с прошлым. Дым от костра подымается К небу светлым столбом.Ты так прекрасна
Ты так прекрасна, юное дитя, Вобрав в себя всю прелесть, Ты стала новой формой бытия, Соединив всё сразу — юность, зрелость. К тебе душой и телом я тянусь, Но останавливает что-то, Нельзя сказать, что я боюсь, Но наблюдает внутри меня кто-то. А впрочем, так живи, А жизнь моя пойдёт округой, И ты фигурою своей особокруглой Во мне желаний не буди. Пусть они тихо засыпают, У каждого своя судьба, Снежинкою надежда тает, Ей в небо не вернуться никогда. Я тихо сяду у камина, В огонь уткну свой длинный нос, А жизнь идет всё мимо, мимо, И я больной и старый пёс. А что осталось? Пренебрегать усталостью, И наперекор судьбе В последний миг махнуть рукой тебе.В сочельник
Я с сомнением вышел из дома, Без ритма скрипит снежный наст, Я как будто не вышел из комы, И чудится мне чей-то глас. Деревья снегом небрежно побелены, Вокруг стоит тишина, Внутрь на меня нацеленно Идут неслышные слова. Они не оттуда, где звёздная кучность, Где эфир стремительно туг, И не оттуда, где чёрные тучи Рождают сонмище пьяных вьюг. Вот сумерки, снег, дорога, И кажется, у начала дорог Дом мой стоит бело-строгий — До основания в стужу продрог. И от этого простуженного дома, Наперекор стеклянной стуже, Из окна тёплый свет пошёл истомой, Зная, что он кому-то нужен. И звоном напоминалась стужа, Земли обнажилась краса, Вдруг я из ниоткуда Услышал простые слова: «Если идёшь, человече, То куда ты идёшь? Ведь в суетном своём веке Без дома своего пропадёшь».Вот, кажется, сейчас…
Вот, кажется, сейчас, вот что-то будет, Накроет нас бушующий вал И что-то сбудет, Разрушит мифы дня, Перевернёт сознанье, И на обломках знанья Появятся иные имена, Но нет, всё это было, было, И истина, как сивая кобыла, Всё брешет до утра, А впрочем, друг, пора, пора, Покоя сердце не просит, Но нас неумолимо сносит В ближайший омут забытья, Где тайны, как сомы большие, бродят, Но не поймаем их ни ты, ни я.Любовь до гроба и выше
Я, наверное, скоро умру, В путь далёкий пора готовить торбу. Что я с собой возьму? Только то, что не натрёт горба. Светлую радость, кому помог, Надежду близких во всём, что смог, Души своей продвиженье И, может быть, воскрешенье. Я знаю, что буду светиться там, Но не будет хватать мне света, Там на земле без ответа Будет лучшая из Прекрасных Дам. Поэтому, Господи, я прошу, Когда будет заканчиваться её жизни круг, Следами путаными, как в порошу, Дай телеграмму ей: «Не спеши, ждёт тебя твой супруг». Там в звёздной тиши, Где мороз пробежит по исчезающей коже, Напоследок дайте мне прокричать: — Я люблю её, Боже!Staccato! РЭП
Кот к стене отвернулся, Видимо, жизнь идёт не так, А кто-либо знает правильной жизни такт? Припев: Так-то, так-то бьёт staccato, Прибежали чилдринята — Тата! Тата! Нам не надо moderato! Мы меняемся в жизни, Жизнь меняется так и так, И если тебя разлюбили — полный крах. Так-то, так-то бьёт staccato, Прибежали чилдринята — Тата! Тата! Нам не надо moderato! Если тебе показалось — Жизни твоей наступил крах, Это не значит, что понесли твой прах. Так-то, так-то бьёт staccato, Прибежали чилдринята — Тата! Тата! Нам не надо moderato! Живые не знают правильный такт, Мёртвые ничего не знают, Просто лежат вот так. Так-то, так-то бьёт staccato, Прибежали чилдринята — Тата! Тата! Нам не надо moderato! В наших душах мерзлота, Может быть, мелодия не та? А вокруг-то красота, красота. Так-то, так-то бьёт staccato, Прибежали чилдринята — Тата! Тата! Нам не надо moderato! Тра-та-та, тра-та-та, Вот мелодия та, Тра-та-та, тра-та-та, Мы возьмём с собой кота.Походя
Всё! Словно пистолет плюнул пулей в воду, И сразу в полотнище времен вонзился миг, Как будто непонятное мне измененье Вуду Раскрыло горла моего неизмеримый крик. Последних мыслей всплеск, как блики мозга, И тело стучит, как брошенный пятак, А в сущности, и жить уж невозможно, Но тело не хочет признать это никак. Я против этого, пропади оно пропадом, Чтобы тело цеплялось за жизни кромку. Я бы хотел, как бы это сказать… походя В измеренье другое перейти без ломки.Когда-нибудь…
Когда-нибудь в осенний тёплый вечер Мы, может, встретимся с тобой, Непроизвольно вздрогнут плечи, В работе сердца вдруг возникнет сбой. В душе раздастся хор, Обрушатся воспоминанья, И под дирижёрской палочкой в одно касанье Сойдут снега с высоких гор. Наверное, сказать мне легче, Что будто я тебя любил, Но, в сущности, в один весенний вечер Мой ангел образ твой сотворил. И было то сотворенье мне уроком, Чтоб дать, потом отнять, Чтоб с жизнью я определился сроком И знал, что мне ещё страдать. Когда-нибудь окончится печальная страда, Страданья листьями осенними опахнут, Былые увлечения окажутся обманом, Не будет лишь обманом надпись на могиле: «Никогда».Крымск
Крымск! Словно чуждое рыло Из смеси горя и ила, Мирную жизнь разрушило вдрызг. Дети, старики и животные, Сможете ли подать ноту вы, Если погибли и не можете поднять головы? Кому подать, кому понять? Ездят, летают, лезут в души без мыла, А собственные души бескрылы. Прилетели, погундели, вроде бы при деле. Горе над Крымском, никто его не рассеет. Горе стоит над всей Рассеей. Окстись, Россия, воспрянь от сна, Ведь сколько было крымских уроков И сколько будешь ты терпеть уродов, Стремящихся к власти без конца?А в сущности, и не было любви… Романс
А в сущности, и не было любви, Был лишь момент проникновенья, Когда казалось, что мгновенье Остановилось навсегда. Ещё впивались жадно губы, Но жар полуденный остужен, И жизни круг мой сужен До обручального кольца. Проходит невозвратно жизнь, Уходят в Лету грёзы, Невидимые миру слёзы Напоминают о былом. Стоит осенняя пора, Идут дожди воспоминаний, И исполненья всех желаний Теперь не будут никогда.Угадайка
Вот что было, Или сказка, или былька, Ехал Ванька кудай-то На кобылке Угадайке. И спросили Ваньку: — Ты кудай-то? И ответила лошадка: — Угадай-ка. Что ни спросят Ваньку, Угадайка, как встанька, Ржёт поперёд Ваньки: — Угадай-ка! Вроде бы кобылка, А сама лукавка, Что у ней в башке? Угадай-ка!Свидание
Я пока в сырой могиле лежу, И представьте, мне не так уж и холодно, Я не прошёл между жизнью и смертью межу, И самое главное, что мне не голодно. Мимо меня люди идут, Между нами в основном бомжи, Они, собственно, никого не ждут, А я жду жену свою, Боже мой! Вот к моей могиле подходит она, Грустная, печально-заплаканная, Чувства её не испиты до дна, А я в нетерпенье, как в алканье. Мысленно говорю ей: «Печаль оставь, Я здесь у себя дома, Главное, скажи, как воды состав, И ловит ли кто большого сома?» Она сквозь слёзы: «Юра поймал сома, Но больших, чем ты ловил, никто не ловит, Я видела сама, И никто не прекословит. Ты лучше скажи, как там тебе, Одиноко, земля не давит ли? Ты нынче привиделся мне во сне, Будто скатерть какую-то мы расстилали. Разостлать вроде разостлали, Гости собрались уж все, А ты рукой мне машешь вдали, Я лишь, мол, только во сне. Собака Машка по тебе скучает, Грустную песню воем вьёт, А потом выть перестанет, Ляжет на перекрёстке и просто ждёт. Хотела сказать — береги себя, Да уж некуда, Мне же жить без тебя Негода». Климат вокруг меня становится суше, Глуше к могиле шаги жены моей, Только у нас на одной шестой суши Могут быть чувства сильней.Альтер-буки
Из отверстия рта полились звуки, И дикий вопль превращался в альтер-буки. Альтер-буки пространство дырявили, Доходили до самого космоса И своими лохматыми космами Вселенной загадок дыр явили.Очи
Между мауровой ночью И рассветом сусальным Вышли вдруг Очи, И спросили их: — А вы ничего не видали? — А мы ничего не видали, Мы спали, мы спали. — А как же дальние дали? — А мы их подальше послали.Бубен
Память пустыня разводит, Ударяя в бубен, Кто-то вечно с кем-то будет, А кого забудут. Бум! Бум! Стучится бубен В мысль пустынную, Что-то будет, что-то будет, Будет с жизнью иное. Дует ветер, ветер дует, Покрасневшая луна, Мыслей чувств вьюном закружит Неспокойная душа. Скоро в дело, скоро в поле, В неизвестность пулей я, Что же так застужена Покрасневшая луна. Через реки, буераки В неизвестность пулей я, И мне непонятно, Где враги, а где друзья. И лечу я в непонятье, Только слышу бубен я, И бубнит он внятно: Пулей поле пролететь нельзя.Лилла
Закрыта моя душа, И нет у неё прихода, Хотя сейчас такое время года, Что только жить поспешай. Солнце пространство живым светом залило, Морзянит о радостной вести капель, Космическая игра Лилла Входит в животворящую купель. Фибры души моей открылись, И смысл жизни открылся тотчас, Когда на меня разом с неба спустились Грустный мой час рождения и смерти весёлый час.«Порвалась связь времён…»
Быть может, неловко и нескромно, Но обращаюсь к вам, живущим после: — Оставьте записи мои в последующие годы, И может быть, замкнётся связи имён. Вот вам начало — образовалась связь времён, Меня уж нет, но в то же время в нём. Привет, привет вам, правнучка иль правнук, Пишу вам на закате своего дня, А вы, любя и никого не проклиная, Продолжите стихотворенье за меня… Прошло уж много лет, минуло лихолетье, И вновь образовалась связь времён, И неизвестно, кто, кто в нём? Превед, превед, далёкий прадед, Жизнь пьяная, как проститутка, шла, Ты извини, что рифма шалая, Но всё же до тебя дошла. Прости, прости, далёкий прадед, Наверное, ты шалунишкой был, И в той ли ты семье свой след оставил? И внуков тех ли ты благословил? Тогда не делали анализ ДНК, Сомнения порой решал лишь пистолет, В наследственности сплошная мутота, Но был же след, был след! Я тоже след хотел оставить, И быть хотел как captain Grey, Не получилось, прадед, я просто гей, И в родословной пора точку ставить. Как у Шекспира — порвалась связь времён, История была, но нет уроков, Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки.Осень, листья…
Осень, листья, зябь на лужах, Пожелтевшая река, Никому ты здесь не нужен, Не придёт никто издалека. Холодно. К дверям стремятся кошки, Лишь бы дров хватило как-нибудь, Что-то на душе мне тошно, Не пора ли мне в последний путь? Затоплю я раньше печку, Тепло комнатные сумерки насытит, На душе мне станет легче, Мелкий дождь на крышу сыплет, сыплет. Мелкий дождь на крышу сыплет, Унося тревогу, И готов я, Боже, в дальнюю дорогу.Феномен
Вот феномен, когда к окну чужому Прижались горестные плечи, И череда противоречий Водоразделом возникла вдруг. Там за окном все за столом, Жизнь настоящая — тепло, светло, Снаружи темнота и стужа, А здесь ты никому не нужен. Уходишь осторожно от окна, Хотя тепла тебе не перепало, Но появился шанс, не малость, Увидеть будущее у неизвестного окна.Крокодила с человеческим лицом и ослиными ушами
Я соскабливаю копоть веков, И в удивлении у меня вспархивают веки: — Как это мы жили без духовных оков? Неужели мы недочеловеки? Широко шагая, заглатываем жизнь на шару, Неуёмным поедом её выедим, А надо — крокодилом проползём по земле-шару, Но никогда не вымрем мы. И по Земле пошла человеко-крокодила, И, раскачиваясь пошло, Она ещё пока далеко не ходила, Жирные её бока. Эта человеко-крокодила росла, росла, Смрадом дыша и всё руша, И не заметила она, Что её уши стали как у осла. Конец истории этой прост, Крокодила, став удугой, Вцепилась в Землю-шар по кругу И с жадным взором вперилась в свой шевелящийся хвост. Увидел это Бог со своего крыльца: — Ну не может быть она такою дурой? Но крокодила, не почуяв своего конца, Начала заглатывать свой хвост с натугой.Осенний долго длится век
Осиную песню поёт вечер, По листьям, как по опавшим дням, иду, И опускаются ко мне на плечи Века мои, и я под тяжестью бреду. Что жизнь так безвозвратно тянется, Словно вода льётся из клейкой лейки? Запутанным узором вяжутся Фантазии, идущие ремейком. Я в мелодию воспоминаний вслушиваюсь, Как внюхивается в запахи пёс, И кажется, меня недослушали, Или я чего не донёс? Осиной песней льётся осень, По листьям, как по опавшим дням, иду, К какой-то необъятной цели я всё бреду. Иль я в бреду? Бреду в бреду. А может, мне всё это снится, И рыжей осени ресницы, Порфировый её убор, Её неясный, но светлый уговор.Пространство било…
Пространство било ознобною лихорадкою, Просачивались в пространство беззвучия плоскости, Нахально зияла чёрная дыра, И вдруг, вопреки заскорузлой косности, Родилась и зазвучала сверхновая звезда. Звук звезды был пронзительно светел, И Бог над ней был до шепота трепетен.Я душу свою раскрыл…
Я душу свою раскрыл, чтоб В душу проникла с неба Хотя б одна нота, Но сверху голос идёт: «Квота!» Как невеста ждёт жениха, Спешно чертоги свои готовит, Так и я будто бы впопыхах Пытаюсь стихи свои моторить. Подталкиваю их вперёд: — Ну давайте же, заводитесь! А они: — Ход заглох, сдох ход, Не сердитесь. Я тыкаюсь, как кутёнок, В титьку Жизни хочу попасть, Но чувствую я отстранённо — Будет ночь, когда мне не спать. И тогда откроются все границы, Смоются гримы ночи и дня, И я, даже не будучи принцем, Буду играть роль короля.Чу!
Чувства настороженные, как птицы, Из пересеченья взглядов, глаз Должны бы перелиться В звучащий под сурдинкою экстаз. И муки мук глухонемого С закрытою печатью на устах, Познавшего и испытавшего так много, В мечтах сказать бы только: «Ах!» Ах! Вошел в иное измененье И ахнулся об пересеченье времён косяк, У них, у женщин, другое измеренье, И чувства у них в ветвях. Не спрашивай. Что я тебе отвечу? Задуло ветром мои свечи, Ты видишь, уже вечер, И смерть крадётся. Чу!Улица… Фонарь… Аптека
Март. Начинаю рифмовать. Весна… шампанское… кровать. И это дело всегда канало, И не нужна мне рябь канала. Начнём сначала. Улица… путана, Всегда как тайна, и нежданна, Круговерть от века, И мне пора в аптеку. Всё повторится вновь, Пока играет кровь И будем цепь у человека, Улица… фонарь… путана и аптека.Разрушилась мечта…
Разрушилась мечта, вернее, Не мечта, а представленье, Когда казалось, что мгновенье Вновь повернёт всё навсегда. Пришла сырая явь, Беззубая, с вычурной причёской, С мышлением, вычёркивающим «Я», Упёртым, косным. «Я», собственно, и нет И жизни прошлой тоже, В мозгах разрозненный букет Чувств глупых и ничтожных.Снег безмолвия, забвенья… Реверберация
Снег безмолвия, забвенья, Буду слушать я тебя, Оборвались звенья, А забыть нельзя. По нехоженому насту Мне заказан путь, Впереди ненастье, Некуда свернуть. Снег всё сыпет, сыпет, Прошлого следы покроет, Только память это не засыплет, Будет биться под покровом. Весна шалая наступит, Бросит зелень на луга, Память, баба в ступе, Не унимется никак. Будет нюхать, будет летать, След не может взять, И не знает — скоро лето, Всю траву в стога стягать. И стоят стога сторожевые, Смотрят, что нельзя, Память как бы строгая Прячет, ищет самое себя.Никто не знает…
Никто не знает, как писать стихи, Проси — не проси Богородицу. Это будто порыв стихии Или просто как котята родятся. Здесь есть какое-то чудо, И ты как будто и ни к чему. Ритм и слова берутся откуда? И сам обращаешься ты к кому? Я понял, что пишу для себя, Не нужен мне нудный критик, И, ткань стихов своих теребя, Я сам для себя аналитик. Когда догорит мой костёр в темноте, Седая зола и угли осядут, Стихи мои в забытье Кольцами дыма на землю лягут.Между нами… Романс
Между нами стена высокая, Которую мы построили сами. Между нами открытая дверь, В которую мы стучим кулаками. Между нами пощады нет, И каждый считает раны. Между нами прощенья нет, И один другому кажется странным. Между нами большие леса, В которых заблудиться можно. Между нами нейтральная полоса, Которую перейти невозможно. Прямые параллельные линии Сольются где-то в беспечности. Две наши грешные души Соприкоснутся в вечности.Бессонница
Я нехотя ложусь в свою постель И знаю — придёт моя «поклонница», И точно — словно из стен Классною дамой выходит Бессонница. У изголовья кровати она становится, И как только начинаю засыпать, Вот эта самая сухая Бессонница Сквозь зубы цедит: «Не спать. Не спать!» Я в адовой муке мечусь И спрашиваю: «Какая тебе награда?» Она, в голосе не изменившись ничуть, Мне отвечает: «Так надо. Так надо». Я вспомнил: чтобы врага победить, Надо из него сделать друга, И дабы это в жизнь претворить, Позвал её: «Слушай, иди сюда, подруга!» Мы в бешеной скачке неслись Навстречу красной заре экстаза, И когда наши тела её прошли, Я восхищенно воскликнул: «Какая баба!» Утром проснулся — она рядом лежит И уже ничем не беспокоится. Видимо, я её «бес» лишил, И стала она томною «сонницей».Рассвет
Самое чистое время — рассветное, Когда ещё не проснулась река. В воздухе висит что-то Заветное, И тихо внемлют ему берега. Солнце красным лес мазнуло, И не стало той Заповедности. Рыба сонно в реке плеснулась И разбила зеркало Ветхозаветное.Дома-корабли
В ночи дома застыли, как корабли, Навечно якоря свои опустили И, чувствуя прочность земли, Окна свои засветили. Но вот они про якоря забыли И, не шелохнув и пяди земли, Вверх плавно поплыли, Как воздушные корабли. Люди в домах окна раскрыли И, видя планету свою отстранённо, Ещё больше её полюбили, Пронзительно и откровенно. Так и плывут они в домах всё выше, Вот уже миновала нейтральная полоса, Из раскрытых окон слышны Их перламутровые голоса.«Зачем ты меня ударил?»
Когда Христа били в доме Каифы, И был он в терновом наряде, Юношу спросил он, родом с Коринфа: «Зачем ты меня ударил?» Может, Христос не говорил этих слов, Вопрос этот был во взгляде, Юношу потряс он до самых основ: «Зачем ты меня ударил?» Этот юноша потом праведно жил, Помня учителя, который был рядом, За вопрос всю жизнь его благодарил: «Зачем ты меня ударил?» Христос более чем заповеди нёс, Если мог выразить взглядом Тот сокровенный вопрос: «Зачем ты меня ударил?»Ангел
Ты положила голову ко мне на колени, Я тихо глажу твои мягкие волосы, Сколько в этом доверия, сколько неги, Мы молчим с тобой в два голоса. Кажется, ангел к нам опустился, Крыльями нас прикрыл, Наверное, хочет с нами проститься, Но не хватает ему для этого сил. Он знает, что в его небесной волости, Где нет, кажется, никакой и нужды, Никому не погладит он волосы, И, в сущности, никому он не нужен. Я тихо глажу твои мягкие волосы, Ангел уже улетел, Поднимаясь над земною порослью, Грустный взмах крыльев его прошумел.Гора
По горе взбирался вверх, И вдруг увидел в нише — Прикованный стоит человек Из разряда погибших. Губы и руки его дрожали, И он уже совсем сник, И люди не знали, Что делать с ним. Я с горы сбегаю, Кричу: «Решенье примите!» — Какое? — «Я знаю! Отпустите его, отпустите! Оботрите с него пот и кровь, В душу его загляните, Дайте ему шанс жить вновь, Отпустите его, отпустите!»Грачи
Стая грачей на дерево опустилась, Как нерешительные руки пианиста, Вечернее небо их хриплый крик преобразило И отпустило печально чистым. Этот звук ещё долго носился Грустным эхом над лесом. Потом у реки опустился, Окончив свой путь небесный. Грачи этот звук услыхали И удивились очень, Вдруг неожиданно добрыми стали И пожелали друг другу спокойной ночи.Глазами, полными любви…
Смотреть глазами, полными любви, На всех и на себя — как это трудно, Когда твердят занудно, Что о любви не говори. Покрыта, мол, душа твоя коростой, И что не может выдать она чистых звуков, А как всё в жизни просто, Когда мы скажем фразу: «Ну-ка!» За этим «Ну-ка!» произойдёт разлука, Все вины гирями провесят на меня, Затем беззубая старуха по имени Разруха Придёт, шепча проклятья про себя. Я эти наваждения отрину, И никогда я не «пойду на вы». И Бог посмотрит на меня без укоризны Глазами, полными любви.Мечта
Жизнь моя неприкаянная, Видимо, так сложилась судьба, Морда у меня всегда в окалинах — Габаритами не прошла. Габаритами не прошла никак В эту жизнь несусветную, Наверное, живу не так, Осталась только мечта заветная. Осталась только мечта заветная — Будто люблю я всех, И люди ко мне приветливы, И не разделяем мы их на тех и не тех. И не разделяем мы их на тех и не тех, Потому что всех нам жалко, И тогда под радостный смех Вытащили из душ своих жало. Вытащили из душ своих жало, И нам истина жизни открылась, Словно подняли мы старое покрывало, И дитё прекрасное нам явилось. И дитё прекрасное нам явилось, И сразу умолкли другие звуки, И сквозь лепет его проявилось, Что никогда не будет разлуки. Что никогда не будет разлуки, Что нет разделенья на «ты» и «я»: Если ты ко мне простираешь руки, Значит, я не могу без тебя.Совсем не жаль и не обидно…
Совсем не жаль и не обидно, Что жить бы по-другому мог. Наверное, сверху видно, Что в жизни что-то смог. Я бы прожил ещё лет сто В моём ближайшем поколенье, Но память-судья сядет за стол И вынесет вердикт забвенья. Солнце жизни моей заходит, Я знаю, что это приму. Смерть где-то близко ходит И игриво кричит: «Ау!» Но пусть подождёт «косая», Пока кубок любви допью И, бумаги пером касаясь, Душу свою изолью.Голый король
Король правит у нас долго, короля одевают в одежды светлые и поливают его елеем не еле-еле, а у народа тернистый путь, на пути его много печали и боли, но тут мальчик провозгласил: — А король-то голый! И на лице короля в телевизоре в предновогоднюю ночь присобачил ему усы и получилось точь-в-точь.Зеркало
В зеркало глядя, старым себя не вижу, вот смотрит вроде взрослый дядя, вполне приличный и не старый по виду, а когда на фотографии или ловишь отражение своё случайно, становишься старым, как ни странно. Видимо, душа ещё не состарилась, накладывает прежний портрет на новый, и хотя эта защита белыми нитками шита, но выходит теперешний портрет обновлённым.Овраги, враги, баррикады
Страна раскололась, как грецкий орех, Но половинки не стали равными, Пропаганда включила красный цвет, И люди стали разными, Пропаганда расползается ядом, И эта чума не миновала наш дом. Прошлое, настоящее видится в разночтении, Ранее близкие становятся чуть ли врагами, Господи! Какими оврагами нас развели в предпочтениях. По разные стороны оврага стоим, кричим, Криками хотим добить супостата, Внизу весёлый ручей журчит, Но мы не видим, злоба подпитывает свой достаток. А если баррикады появятся вместо оврага, И власть, себя сохраняя, будет только и рада. Скомандует: «Там враги, и по ним пли!» Тогда раздадутся стоны и вопли. Господи! Помилосердствуй и охрани Россию, Не допусти, чтобы тело её распалось, Чтоб не разъединились сочленения её.Лоскуты
Ах, осколки, убийственно вас сколько! И прекратите вы полёт во сколько? Я иду, траву сминая, Вот такой высокий, А в душе моей басы: — Лет тебе уж сколько? Мебель к стенкам жалась, Жизнь жила и не тужила, Ну а мне всё это не в жилу, Мебель только жалко. Я надеюсь, что это не избитое? А впрочем, били и меня. Мы в светлом дне О чём-то светлом грезим. И когда кульбитом перевернётся жизнь, Голосом хочу сказать обыкновенным: — А ты за жизнь не держись, Всё это временно. Из дома выхожу большой, великий, И главное, чтоб никого не задавить. Тогда заплакали вы, Но было поздно, я вещи уложил. От холода не защитила простыня, И я простыл, Сказала простыня: — Прости. Круче и крепче, чем крепость, Казался блистающий бюст. Не говори, что встретились случайно, А я скажу, что тихое молчанье, Тянущееся из года в год, Готовило и этот ход. Когда уж волчьей страсти не унять, Овечки кажутся врагами. Господи, кто тут был? Был ли Илия? И когда в эту жизнь входил, Был ли я? Говорят, что я недоношенный, А меня к хорошей жизни несли? Я со своими стихами Как неспокойный покойник под льдом, Медленно проплыву под вами, А вы в проруби оттолкнёте меня багром. Ты ко мне прислонилась Большим печальным задом. Вы помогли мне, небеса, И облаками я обласкан. Напрягая души жилы, В время всматриваюсь я, Есть во мне большие силы, Но зачем готовится по мене кутья? Когда никто не приходит, Капля дождя в ладонь стучит. А линия одна — марьяж, И песнь душевная, и жалобы, и слёзы, Когда всё, кажется, серьёзно, И чувства все бегут в всеиспепеляющий раж. Память у меня хорошая, Ещё помню, что я забыл. Вот, собственно, вся жизнь, И в ожиданье счастья ушли годы, В окно и дверь стучат все непогоды… Лодку движут вёсла, Человека — крылья… Закружило меня в водоворот: — На каком вокзале я? Где у вас переход? — Перехода нет — последняя станция. Туда ли дует ветер, Где заканчивается чувств глубина, Где в подвенечный вечер Открывается бездны мгла? Тихо и незаметно пролетают ангелы мимо, Когда братия празднества отмечает пышно. Истина не в пещере Платоновой, Жизнь в круговерти кружевной. Вот идёшь по аллее платановой, А истина в окошке суженном. Когда взошёл на пьедестал, Себе дороже вдвое стал. Если ты прав, Не доказывай свою правоту, А если не прав, Против ветра не дуй. Жизнь ромбами стелется И так, и так, А из-за поворота целится Зигзаг, зигзаг. Ничего не желать, не иметь, Крыльями эфирными взмахивать. Я сижу у реки, грустно мне, Не нужны мне предсказанья кукушки, В вечерней нарастающей мгле Слышатся томные стоны лягушек. Тысячи лет ты будешь своей, В архетипах Акимы многим явишься. Внутри меня что-то зреет, Как облако в небе иль яблоко в саду. Сдаётся мне, что сейчас Я возьму главный приз, А на аукционе кричат: — Продано! И откуда-то снизу противный визг: — Помирать уже подано! Я каждый миг как камень кладу в брусчатку, Чтобы выровнять Душу свою по вертикали. Вопрос «Есть Бог или нет?» Висит над людьми как крест, А я, не отнекиваясь, По-солдатски отвечу: — Есть! На перроне стою один, Ветер сбивает меня с пути. Пространство, настоянное на звёздах, Обняло Землю, и встрепенулась атмосфера, И ожила Земля. Вот и всё, наступил жизни край, Осталось только пройти немного, Может быть, через эту дорогу, И сразу отверзнется рай. Бывают в жизни такие минуты, Когда радость расплавляет грудь… Волны стихают в сознании, Свободном от мыслей и грёз, Душа, как ровное пламя свечи В доме, где не гуляет ветер. Дождь идёт тихо, задумчиво, Терции звучат монотонно. Заснули уставшие плечи, И голова упала, как камень В какую-то тёмную глубь. Я тебя согреваю мыслями, А не только руками, Словами своими белобрысыми, Неуклюжими, как камень. Ветер пробежал свободы, Вокруг всё круша, Ах, хорошо! И жизнь хороша! Бог сделал всё прекрасным, Но отчего болит душа? Мы по краю неба пройдём, Светлые, поднебесные, И тогда, равнобесные, До себя снизойдём. И старость нужно принимать, Как нищий корку. Распластанные ветви деревьев В воздухе ищут спасенье, И звучит в этом древнее: «Освобожденье! Освобожденье!» Она появилась в проломе дня С грустным изгибом тела. Ветер пал под натиском ночи, Ночь темна, но рассвет уже точит Заботы нового дня. Я, наверное, никому не нужен, День полотна скручивает в вечер, И в предстоящей той вечности Будет та же глухая стужа. И кажется, сейчас забывается То, что, может, и не было. Она такая чистая и ничего не читала, Только Солнце и Небо за Господа почитала. Я перед иконой не молюсь И не прошу продлить мне жизни… Нет, кто что ни говори, Есть женщины — одно блаженство, А может быть, и совершенство, Но голос тайный говорит мне: — Зри! Всё запуржило, запорожило, На полустанке осталась одна. А вы, мысли, идите, идите, Я вас тоже немного знаю. В сущности, я злодей, Рыло бы мордой прикрыть. Какие могут быть дела, Когда в фате деревья? Я в мелодию трепетно вслушиваюсь Чувств былых, почти позабытых. Я погружен в сиянье утра, Она идёт со мной. Когда с гармонией сверяясь, Отбросишь тварной жизни хлам… Ты вспомни обо мне, Когда тебе ничем я не обязан. На самом деле не безделье, Работа подспудная идёт, И в подсознательном хотенье, Упрямо линию свою ведёт. Надеюсь я, стихи мои, О бедные! Пойдут по миру. Любовь обман, она лишь кажет свет, А тени прячет. Перед лицом товарищей своих Торжественно смеясь: — Ха! Ха! Пылинки на солнце танцуют, В мажорном аккорде сливаясь… Природа снегом себя припудрила, Солнцем румяна себе навела И вся стоит без огреха, В небо нацелены стройные ноги ореха. Жизнь не вечна — это точно, Бьют часы и ударом точным Ставят точку… и… Один, совсем один в огромном коллективе, Но слава Богу, ещё не в сливе. Я выйду взаутренье, взарьеве, Красному солнцу в лицо смеясь. Знаю, от чувств не отбиться, И рвут они плоть, как рыкающий зверь. События где-то гремят громом, И вдруг в самой неестественности Реальность вошла абы как — комом. Я смерти не боюсь никак, Много её раз репетировал. И звёзд раскрываются миры, И ритмы неизвестные, как рифы, Бьют, волнами резвясь, И канули, сметаясь, алгоритмы. О добром деле раздумывать позорно, Так вытолкнула мысль нас из себя. Крест наш — серп и молот. Молотом били по голове — осознанию, Серпом пониже — по наследственному провисанию. Вот и конец, любезный мой читатель, Если есть чему-нибудь конец. Стоит печальная страда, ветер снег раскачивает кадилом, пришла пора уж в никуда идти степенно и уныло. Ассоциации пробегают быстро, как искомые вагонов номера. Чем выше власть, тем сильней обсирают мозги, а дальше… а дальше не видно ни зги. Успехи у тех, а у нас утехи, право, разбирает смех, вот такие потехи. Лет мне уже немало, правда, их я не считаю, если выбросит на скалы, только лишь оскалюсь.Проза
Про Ефима Гавриловича, Настурцию и всё остальное Сказка
Назвали его Ефимом Гавриловичем. Хотели вначале назвать Егором, да имя это набило в то время всем оскомину на зубах. Да что имя, иное и отчество так подкузьмит, что носителю его неудобно и откликаться.
Итак, Ефим Гаврилович — 129. Вы спросите, почему 129? Да потому, что это был трамвай ЕГ-129. Иногда водители, в основном девчата, называли его ласково Ефимушкой, чему он особенно не воспрепятствовал, а ежели когда и погладят его, он против ничего не имел, а даже наоборот.
Вот тут-то и вопрос: может ли трамвай что-либо иметь или чувствовать? Ведь у него, как говорится, Души нет, он как бы предмет неодушевлённый. Вот взять хотя бы какого-нибудь человека, зайца там или кошку, к примеру. В них с рождения, а может, и раньше Душа помещена самим Богом, они существа одушевлённые. Другое дело Трамвай, даже если он и ЕГ-129.
Вот здесь, оказывается, и содержится хитрая закавыка. Дело в том, что если одушевлённое существо обращается душевно к существу неодушевлённому, то последнее само в свою очередь становится одушевлённым. Впрочем, это рассуждение уже Ефима Гавриловича. А он очень любит порассуждать.
Часто Ефимушка перевозит людей умных и читающих, соответственно, умные книги и ведущих умные разговоры. И вот всё это он мотает, мотает на свои индукционные катушки.
Запустил как-то в себя Ефимушка пассажиров, помог им утрястись и в хорошем настроении катит себе по рельсам. Дорога у него прямая, приятно светит солнышко, и он рассуждает себе: «А всё-таки это здорово, я качусь по одним и тем же рельсам, по одному и тому же маршруту, и для меня как будто ничего нового. Я знаю, что за каждым поворотом, за каждым углом и домом, и это будет и завтра, и послезавтра, и так далее, и так далее — всё время… Стоп, машина, а что я сейчас делаю?» — спросил себя Ефимушка. И сам же себе ответил: «Я качусь по рельсам вот в это самое время, — продолжил, рассуждая в некой задумчивости, — я качусь по времени и пространству, в коем нет начала, ибо оно начинается с каждого момента снова и снова и так до…» Трамвай даже оторопело затормозил — и кстати! — потому что какой-то Пёс-лохматей пытался пересечь рельсы, — «…и так до бесконечности и до бессмертия в моём собственном представлении».
И такое возникло у Ефима Гавриловича ощущение прикосновения к тайне, к сокровенному, что оно наполнило его, переполнило и вылилось в трамвайных радостных сигналах: «Тр-тр-тр!»
Утихомирившись, он снова продолжил свои рассуждения: «Я качусь по рельсам в пространстве-времени, позади остаются дома, люди — это как бы прошлое для меня. Но они же живут и продолжают жить сами по себе в своей настоящей жизни. И впереди ещё только будут для меня остановки, дома, люди, но они уже существуют в своём настоящем. И я сейчас и, наверное, всю жизнь существую и буду существовать только в своём настоящем, только оно актуально…»
«Так, так, — в задумчивости постучал по стыкам рельс Трамвай, — актуально, а если неактуально или, лучше сказать, не более чем актуально? Значит, значит, есть только единый поток, есть только всегда, всегда. Нет прошлого, нет настоящего, нет будущего, есть только всегда, всегда, всегда!»
Все последующие дни Ефим Гаврилович жил под впечатлением этого «всегда», и вся его жизнь, каждый миг её стал наполненным и осмысленным.
Но через несколько дней ощущение наполненности стало тускнеть, а вскоре как бы и вовсе исчезло. Всё казалось хорошо: Трамвай шёл по своему пути, перевозил людей, и по-прежнему водители иногда гладили и называли «Ефимушкой». Всё было, но что-то стало как бы потерянным или, ещё лучше сказать, ненайденным, и это рождало неопределённость и подобие тоски.
И вот однажды, хорошее слово «однажды», около одной из последних остановок, уже в самом пригороде, Ефимушка увидел около палисадника необычные какие-то цветы. Они были небольшого роста, жёлто-оранжевые головки-колокольчики с удлинёнными кончиками, покачивались на ветру и казались яркими, чистыми, словно вымытыми. «Вот оно!» — только и подумал Ефим, и генератор его вздрогнул. Он даже не задал себе обычный в этих случаях вопрос: «Как это я раньше их не видел?» Всё это мелочи, всё это не имело значения, он чувствовал, что приближается к чему-то большому и значительному в своей жизни.
Когда Ефим отъезжал от остановки, ему показалось в боковых зеркалах, что головки-колокольчики повернулись ему вслед, и это было для него знаком. Он с нетерпением сделал круг и на этой остановке, весь подобравшись, с некоторой робостью представился:
— ЕГ-129, если угодно, Ефим Гаврилович.
— Настурция, — просто ответили цветы.
— Что, Вас Турция обидела? — участливо спросил Трамвай.
Головы-колокольчики затряслись на ветру в безобидном смехе, и цветы сказали сквозь этот смех:
— Если по-вашему рассуждать, то Турция нас не обидела, может быть, это наша родина, может быть, нас Турция родила.
У Ефима Гавриловича был малый опыт общения с цветами, да, в сущности, у него никакого такого опыта и не было. Он почувствовал свою оплошность и, видимо, от растерянности, а может, чтобы показать себя умным, спросил:
— А как Вы относитесь к интерференции свободы воли и ответственности?
— Не знаю, — с колебанием ответила Настурция, — всё это для меня мудрено, но вот недавно около меня прошла Крыса, она хромала на одну лапку и не остановилась, хотя она всегда охотно со мной общалась, видимо, спешила к своим деткам.
Ефим был опешен, очарован, ему хотелось слушать ещё и ещё, но надо было ехать, и он с заминкой отправился по маршруту.
При дальнейших встречах Трамвай только слушал. Всё, что говорила Настурция, было наполнено каким-то значительным смыслом, интересом.
— Вы знаете, — говорила она на одной из встреч, — вчера ко мне подошла Собака, такая несуразная: одно ухо стоит прямо, другое торчит в сторону, и вся в таких чёрных пятнах. Она молча долго на меня смотрела и не разговаривала, а потом подошла совсем близко и пыталась взять меня зубами, но я её пожурила, и она с виноватым видом ушла. И вообще, — заключила Настурция, — я больше доверяю тем, кто сразу начинает разговаривать.
На одной особенно памятной Ефимушке встрече он спросил о том, что его давно беспокоило и не поддавалось пониманию:
— Настурция, — начал осторожно он, — как Вы относитесь к жизни, к тайне жизни?
Он не ожидал услышать что-то сокровенное, но ответ её опять поразил Ефима:
— А никакой тайны жизни нет, — своим обычным голосом ответила Настурция, — всё во всём.
— А Бог? — опять-таки настороженно вопросил Ефим.
— И Бог во всём — разве это непонятно? — и закачалась в смехе своими колокольчиками.
Трамвай шёл по своему маршруту и восхищённо изумлялся:
— Господи, я перевёз массу умных книг и людей, слышал их умные разговоры, пытался и сам проникнуть в какой-то смысл, но всё это отстранённо, заумно, а она живёт здесь, внутри этого мира, вместе с миром, где всё во всём и… всегда, — добавил он.
Ефимушка шёл по своему маршруту, но всё воспринималось уже по-новому: и люди, и небо, и солнце, и деревья, так, как будто он увидел их в первый раз или в последний.
В один из дней осени, когда задули холодные, упрямые ветры и ЕГ-129 после длительного ремонта в депо вышел на линию, он не увидел в пригороде Настурцию. Ефимушка проезжал по маршруту снова и снова и каждый раз с надеждой думал, что сейчас он её увидит. Но тщетно.
«Может, её съела та несуразная Собака? — спрашивал он себя и отгонял от себя эту мысль. — Нет, нет, как рассказывала про неё Настурция, Собака так поступить не могла».
Ефим вспомнил шутливую фразу, сказанную кем-то из пассажиров: «Когда он смотрел на девушек, то чувствовал себя подлецом». «Если, — рассуждал Трамвай, — кто-то чувствует себя подлецом, значит, он навряд ли сделает что-то подлое. Вот и Собака тогда ушла с виноватым видом. Нет, — в отчаянии продолжал рассуждать Ефим, — если бы Настурция была рядом, она бы всё объяснила в двух-трёх словах или бы рассказала какой-либо очередной случай из своей жизни.
А почему я сказал «была»? Если всё во всём и всегда, то ничто никогда не исчезает, иначе была бы пустота, пустота пустот и всяческая пустота. Надо ждать. Она явится, она обязательно явится».
Ефим Гаврилович всю зиму возил своих пассажиров, помогал им как мог, рассуждал о разных видах пустот и ждал. И вот однажды, опять это прекрасное «однажды», весной, когда солнце ещё не выраженно испускало своё тепло и на деревьях и кустиках из почек начали проклёвываться робкие листики, он увидел её. Радость заполнила всю сущность Ефимушки, из дуги посыпались искры, и сквозь треньканье своего звонка у него вылились слова стихами:
Настурция, настурция, Душа моя! Не Турция, не Турция Вас родила. Живём мы в Мире, В Вечности, В всегдашней Бесконечности — И Ты, и Я. Настурция, Настурция, Любовь моя!«Ну, что ж, — скажет кто-нибудь, — стихи-то и не очень». А для Трамвая и Настурции они были самыми лучшими.
«Море смеялось» Рассказ
В отпуск приехали с женой в Геленджик на Тонкий мыс. Не знаю, как сейчас, но тогда это было прелестное черноморское захолустье с одноэтажными домами, деревянными домиками-клетушками для отдыхающих, курятниками, крольчатниками и удобствами во дворе. И самое главное — через калитку по тропе мимо островков кустарника выход к открытому морю.
И, опять же, по прелестному совпадению хозяева оказались выходцами из Сибири, откуда родом, если можно сказать, выходка и моя жена. Соответственно, и отношение как к родне — поселили в одной из комнат хозяйского дома и предоставили, как сейчас говорят, прочие бонусы. Ну а что я, простой врач, только пользовался всем этим.
Вечером хозяева со всей своей роднёй затеяли ужин с выпивкой и обильной едой. Я хочу вам напомнить — а какой русский не любит обильной еды, да ещё и с выпивкой. Пошли здравицы за знакомство, воспоминания об общих сибирских местах, и только потом молвили о бедном враче слово. Мол, что ты за врач, мил человек, лечишь ли людей или просто зарплату получаешь.
И я, обласканный алкогольными парами, раскрылся, расправил плечи и объявил, что я психотерапевт, только, конечно, без «э» на последнем слоге, как у Кашпировского. Как стайка рыб поворачивается дружно в какую-либо сторону, так и родня повернула головы ко мне с интересом, типа так, так, а с этого места поподробнее.
Я без утайки, чего уж там, раз такое дело, объяснил, что я лечу невротические расстройства и алкоголизм разными психотерапевтическими техниками и гипнозом в том числе.
Вы же, конечно, посещаете симфонические концерты и замечали, я хочу вам это просто напомнить, что дирижёр иногда резко поднимает свою палочку вверх, обозначая синкопу, так вот и родня при слове «гипноз» тоже резко подняла головы вверх.
Через паузу жена хозяина, которого по-свойски все называли Степанычем, вопросила, поглядывая на оного, мол, не могли ли Вы вылечить, к примеру, одного человека от распространённой русской болезни, которую некоторые учёные называют алкоголизмом. А если да, то, может быть, гипнозом, и деньги у нас есть. Прослушав это, я сделал открытие, что «одессизм» (термин мой) распространяется по черноморским волнам. А что? Одесса рядом, можно сказать, волной подать.
Я, не вдаваясь в технические подробности, рассказал, что у человека в состоянии гипноза вырабатывается аверсия, то есть отвращение к алкоголю, и выпить его не может, даже если хочет, потому что ему становится тошно, он рвёт. Иногда ему становится тошно и при виде самого психотерапевта, и самое главное, добавил я, это желание самого человека, а не его жены. Я поочерёдно строго посмотрел на Степаныча, а потом на его жену.
Дня через три, слушая подробные донесения цикад и в то же время направляясь к морю, я чисто из исследовательского инстинкта заглянул в полуоткрытую дверь какого-то сарая. На заднем плане сарая в полутемноте я увидел крупную фигуру какого-то подозрительного человека.
Я нараспашку открыл дверь, вошёл в сарай и фигурой подозрительного человека оказался Степаныч. Он растопырил руки и в испуге пятился назад до тех пор, пока не упёрся спиной в стенку сарая. Вам, видимо, приходилось в угол крысу загонять, я хочу Вам только напомнить.
Так вот, крыса, видя безысходность отступления, вдруг поворачивается к преследующему, окрысивается, то есть шерсть у неё становится дыбом, обнажаются зубы, отнюдь не в улыбке, зло блестят глаза, и она стремительно несётся к вам. Дай бог, чтобы Вы успели отскочить в сторону.
У Степаныча руки выступили, как клешни, вперёд, маска добродушного алкоголика с обрюзгшим и поношенным лицом сменилась на маску агрессивного алкоголика. Он двигался ко мне навстречу, влажные губы дрожали, зло блестели глаза и обнажились в оскале зубы. Не приведи Господи! Но я психотерапевт, без «э» на последнем слоге, как у Кашпировского. Я ждал, и не такое приходилось видеть.
Степаныч остановился от меня в двух шагах и стал, брызгая слюной, кричать, при этом сразу переходя на ты:
— Ты сюда зачем приехал? Отдыхать? Ты в отпуске? Так отдыхай! Зачем включаешь гипноз? Почему мне не даёшь спокойно выпить?!
Я безмолвствовал. Степаныч выпустил пар, снял напряжение в сети и уже просительно-удивительно продолжил:
— Ты понимаешь, что со следующего дня твоего приезда я не могу выпить. Вот видишь, — он показал на початую бутылку водки и наполовину наполненный стакан, — я только глотать, а вот тут спазмы, — он ребром ладони показал на горло, — и рвёт как на палубе при большом шторме.
Степаныч приложил руки к груди и трепетно до шёпота попросил:
— Не надо включать гипноз. Ты мне обещаешь? Христом Богом прошу.
Я размышлял. Если он не решил отказаться от выпивки, то эта психотерапия рикошетом и самовнушение бесполезны, вся аверсия к алкоголю вскорости пройдёт, а вскорости — это как только я уеду, не жить же мне здесь вечно. Я решился и твёрдо сказал, можно сказать, произнёс:
— Всякий гипноз, вынужденный и невынужденный, снимается!
После купания в море нежились с женой на солнце, возлежав на каменных плитах. Вижу. На краю обрыва стоит Степаныч в семейных трусах, пузо впереди и повыше их. Спокойная фигура, расслабленное и благодушное в полуулыбке лицо.
— Ну что? — говорит он тоном доброго хозяина, который владеет не только домами-клетушками, курятником, крольчатником и удобствами во дворе, но и морем, и даже всем миром.
— Ну что, — благодушно продолжил Степаныч, — погода хорошая, море хорошее, купайтесь, загорайте, одним словом, отдыхайте.
Степаныч милостиво нам разрешил пользоваться всеми благами и усталой, в то же время довольной походкой пошёл от берега. Солнце светило во всю мочь. Оно старалось обогреть всё вокруг себя. Море вальяжно катило свои волны, на волнах были блики солнца. Как там у А. М. Горького, хочу Вам напомнить — море смеялось.
Белая лошадь Рассказ
Кобыла прожила до середины своего лошадиного века, она могла бы ещё несколько раз ожеребиться, могла бы и в хозяйстве пригодиться на долгие годы, но ранней весной на шкуре у неё появились розоватые пятна. Их становилось всё больше и больше, невыносимее становился зуд. Лошадь была вынуждена часто тереться об изгородь, столбы, а если приступ зуда настигал её в поле, то она опрокидывалась на землю и каталась по ней.
Некогда стройная красавица-кобыла, гордость хозяина, превратилась к лету в больную и старую лошадь. Белый волос её стал грязно-серым, на коже видны были свежие пятна и старые, покрытые струпьями крови и гноя. Бока впали, просел позвоночник, и в нервных глазах её застыло отчаяние. Отчаивался, но и надеялся хозяин, нет, не на ветеринара — хутор был на отшибе и такие люди в нём не появлялись, — надеялся на домашние средства. Поил её зельем, втирал снадобья, пригласил даже бабку, которая что-то шептала около лошади. Ничего не помогало. Кобыле становилось всё хуже, всё больше появлялось пятен, всё больше она слабела и уже не могла работать.
Казаки снисходительно советовали хозяину-иногородцу пристрелить лошадь и использовать хотя бы то, что от неё останется. Хозяин кобылы хотел её пристрелить из жалости, но не мог, просто не мог. Вечером он открыл ворота, слегка хлопнул по лошадиному крупу и тихо сказал: «Иди». Она поняла. И пошла. Медленно. Заплетая ноги и опустив голову.
Лошадь понуро шла по степи, и вдруг ноздрей её коснулся неприятный запах. Она остановилась. Неподалёку, в балке, стояло грязное и чёрное болото. Обычно от него лошадей грозно и настороженно отгоняли, да они и сами, почуяв гнилостный запах, уходили от болота подальше. Кобыла пошла на этот запах, в памяти сидевшее «нельзя» руководила ею.
В тягостном оцепенении лошадь всё ближе подходила к болоту, всё отчетливей был тухлый запах. Она вошла по бабки в жирную, подвижную, чавкающую под ногами грязь и остановилась испуганно, по всему телу продёрнулась тревожная волна. Воды в болоте было мало, она, как плёнка, покрывала грязную жижу, и на поверхности её время от времени вспучивались и лопались крупные пузыри.
Лошадь, с трудом вытаскивая ноги, пошла дальше, вглубь болота. Внизу грязь стала гуще, вязче, и она уже не смогла вытащить ни передние, ни задние ноги. Кобыла всхрапнула тяжело и обречённо осела на бок. Грязь начала обволакивать всё её тело и медленно, как-то нежно втягивать его в себя.
Прошло несколько десятков лет. Километрах в семи от бывшего хутора, теперь станицы, в балке стояло чёрное и грязное болото, на его поверхности вспучивались огромные пузыри, но оно не было пустынным. Около болота, на пологих склонах балки, было множество разноцветных автомобилей, навесов, палаток, и всюду видны были люди.
Одни сидели в специально вырытых в земле ложах, наполненных грязью, другие носили её в вёдрах из болота, а иные лежали в самом болоте. Можно было видеть искалеченные болезнью руки, ноги, поражённую кожу, худые тела и бледные лица. Над всем этим стоял густой тошнотворный запах тухлых яиц. Люди как будто не чувствовали его, они деловито занимались своим делом, лица их были оживлены и даже как будто веселы.
Стоило появиться новичку или случайно забредшему сюда человеку, как его окружали старожилы, словоохотливо говорили о чудесных свойствах грязи, об исцелении ею неизлечимых заболеваний, приводили множество примеров, объясняли, что уже производили заборы и исследования грязи, сетовали на бюрократов, которые тормозят и задерживают здесь строительство санатория, и, конечно же, обязательно рассказывали о белой лошади, о том, как у казака этой станицы до революции заболела паршой лошадь и сама, — представьте себе, сама (!) — пошла в это болото лечиться грязью. И домой вернулась здоровой, красивой, и волос её стал чистый, белый, ну прямо как снег!
Все, кто впервые слышал эту легенду, и те, кто слышал её неоднократно, проникались рассказом о лошади, и для них это был самый убедительный случай излечения.
По выходу из балки на самом бугру стоял корявый столб с прибитым на нём щитом. На щите непрофессиональными и уже несколько размытыми буквами написано: «Грязелечебный санаторий „Белая лошадь“».
Пройдёт несколько лет. Возможно, в районе болота и будет стоять санаторий с большими корпусами и специальными кабинетами. Будет ли он называться «Белая лошадь» и будут ли рассказывать пациентам эту легенду? Или они будут ходить на процедуры с сосредоточенными лицами и говорить будут лишь об анализах и болезнях?
…и домой вернулась здоровой, красивой, и волос её стал чистый, белый, ну прямо как снег!
Зарисовки
***Я не понимаю, как это произошло, но вдруг появился будто разгон, словно какой-то механизм вытолкнул меня, поднял на большую, тревожную высоту. Я не видел, не осязал своё тело, но в то же время чувствовал себя в нём, и какой-то как бы прежний центр сознания определял существование моего «Я».
Я видел непривычную высоту, в которой я как бы завис, инстинктивно испытывал боязнь её, в том плане что если упаду, то будет конец мне. И вдруг всё это ушло, я понял, что вниз я не упаду, и от этого мне стало не легче.
Я с грустной печалью посмотрел вниз на видимую поверхность земли и ещё видимые на ней фигуры жены, дочери, внука. Они, козырьком ладони обрамив свои глаза, тревожно всматривались вверх, и я не знаю, видели ли они меня, но мне кажется, что они этого очень хотели.
Я же видел, чувствовал их ясно, отчётливо, и было мне от этого ещё печальнее, потому что я понимал, что я сейчас оторвусь от них в неизвестную высоту навсегда.
***Стою в очереди в магазине. Впереди меня перед прилавком отоваривается пара монахов, принадлежность коих к церкви определялась одеждой их и внешностью: длиннополые чёрные рясы, чёрные же и камилавки, бороды, усы и длинные волосы. Заказывал товар высокий и, надо полагать, старший собрат с более жёсткими волосами и бородой.
Никакого внимания на светскую публику магазина он не обращал. Он всецело хотел угодить младшему собрату, меньшего роста, субтильному, с жидкими светлыми волосами и бородёнкой. Из-под головного убора у него выбивались кудели и едва прикрывали бело-розовую кожу щёк и по-детски незащищённую шею.
Старший протягивал руку к витрине и угодливо, в то же время навязчиво предлагал, мол, давай возьмём вот это и это.
Они взяли печень трески, ветчину, сыр, какие-то сладости. Напоследок старший предложил взять вина, но младший болезненно скривил лицо и сказал, что оно горькое, старший же убедительно указал, что он уже пил это вино, оно хорошее, густое. Младший нерешительно согласился, и они наконец взяли это вино, причём старший попросил продавщицу выдать на вино чек.
Вот это было для меня и непонятно. Они набрали много дорогих продуктов, всё это стоило немалых денег, но чек не просили, вернее, старший не просил, а вино вышло как бы отдельной статьёй, видимо предусмотренное церковью. Они уложили продукты и вино в большие пакеты, и старший как бы напоследок широко провёл рукой в сторону прилавка:
— Может, ещё что-нибудь взять?
Младший застенчиво улыбнулся и тихо попросил:
— Если можно, то сладенькой водицы.
***В детстве, лет в 9—10, приснился мне яркий по видению и переживанию сон. Я двигаюсь в каком-то проходе наподобие большой трубы. Поворачиваю голову в правую сторону и вижу, что в противоположном направлении движется какой-то старик. Он тоже повернул голову в мою сторону, и покамест мы смещались относительно друг друга, мы пристально удивлённо вглядывались друг в друга.
В моём понимании он был уже преклонного возраста: седые волосы, борода, усы и как будто усталое лицо. Лицом он мне кого-то напоминал, словно он был близким человеком, но я его не смог ни с кем отождествить. Вдруг я вижу, что он как будто узнал меня и хотел что-то предпринять, но движение, не зависящее от нас, повлекло нас в разные стороны, и я его уже не смог больше видеть.
Утром я рассказал про сон матери и настойчиво выспрашивал её про нашу родню, носил ли кто усы и бороду, но в то время носить их было не принято, о чём мать меня и уведомила.
Через довольно-таки продолжительное время, когда я уже забыл об этом сновидении, я снова во сне повстречался с тем стариком. Мы снова смещались относительно друг друга в том же переходе, но он уже смотрел на меня узнавающе, тепло. Когда мы уже поравнялись, он подмигнул мне по-свойски, потом приподнял в приветствии правую руку, и вот в таком положении он скрылся из моих глаз. Помимо воли у меня появилась улыбка, и утром мать мне сказала, что я во сне улыбался, значит, я буду счастливым.
Я вспомнил давешние детские сны, потому что этой ночью мне приснился сон, яркий по видению и переживанию. Я двигаюсь в каком-то проходе или переходе, поворачиваю голову вправо и вижу, что с противоположной стороны движения смотрит на меня в каком-то изумлении мальчик лет 9—10. Щуплый, большая голова, коротко стриженные волосы и широко раскрытые светлые глаза. Он показался мне знакомым, и только после просыпания я понял, что это был я из далёкого моего детства. Некоторые учёные утверждают, что в сновидениях мозг прокручивает будущие вероятностные ситуации. Если это обстоит так, то я предполагаю, что мне предстоит ещё одна встреча в переходе, и я знаю, что я при этом буду делать.
***Выхожу из дома. Раннее утро. На скамье у края спортивной площадки сопряжённая пара явно бомжистого вида. Лица одутловатые, синюшные, у неё выделяется синим пятном заплывший глаз, у него исцарапанное лицо. Я уже было прошёл мимо, но что-то меня остановило, я бы даже сказал очаровало.
У него повёрнуто лицо полубоком от неё в сторону солнца, глаза блаженно прикрыты. Она каким-то гребнем с поломанными зубьями расчёсывает его жидкие волосы. Лицо её выражало высшее умиление, она как бы благоговела перед его красотой и не могла, не хотела останавливаться в этом благоговении. Я шёл и восклицал внутри себя:
— Господи, хотя бы нам иметь на четверть такое!
***Стою я на балконе. Смотрю вниз. По тротуару быстро, налегке, можно сказать, летит молодая девушка. Ещё бесфигурная, но при ходьбе ртутно колышется молодая грудь, не связанная никакими обязательствами.
Чуть поодаль грузно, по-утиному переваливаясь, с разбитыми тазобедренными суставами и крестцом, словно вдалбливая ноги в асфальт, неумолимо стремительно продвигается вперёд пожилая женщина, можно сказать старуха.
Уже бесфигурная, одетая неопределённо, голова с седыми лохмами потряхивает, как бы подтверждая каждый шаг, да-да, вот так, вот так. В руках какие-то тяжёлые сумки.
Молодая девушка, испуганно озираясь, прибавляет шаг, но старая позади с прежней скоростью, вколачивая шаг за шагом, приближается к ней, и голова её утвердительно кивает: так-то так, вот так. Расстояние между ними сокращается, и встреча неминуема.
***Данный эпизод, казалось бы, и незначительный, но требует некоторой определённой справки. В то тяжёлое для нашей страны время выпущен был, как чёрт из табакерки, провинциальный психотерапевт из города Винницы А. Кашпировский, который гипнотизировал по телевизору всю страну. Человек с явным комплексом неполноценности и, стало быть, завышенным, можно сказать, гиперкомпенсированным уровнем притязаний.
Затем появился А. Чумак, который, опять же, по телевизору заряжал всё что можно, и из стен, как у Н. В. Гоголя, полезли всякого рода колдуны, целители и ясновидящие.
Я ехал в трамвае. Держался за поручни задней площадки и думал о чём-то своём. Вдруг услышав шум, обернулся и увидел, что по проходу бодро идёт мужчина. В левой руке он нёс полусогнутую кипу цветных газет, правой размахивал утверждающим жестом и бодрым же голосом провозглашал:
— Покупайте газету с портретом великого целителя всех времён Алана Чумака! Вы можете ставить на его фотографию воду, кефир, зубную пасту, и они обретут колоссальную лечебную силу! Наконец, вы можете приложить портрет к больному месту и даже сесть на него и сразу почувствуете проникающую в вас исцеляющую энергию! Покупайте! Покупайте! Остались последние экземпляры!
И знаете, несмотря на эту словесную галиматью, люди покупали газеты. Господи! Неужели мы опустились в Средневековье, когда продавали в пузырьках чудодейственные слёзы Иисуса Христа и Девы Марии? А может быть, мы опустились или нас опустили ещё ниже, может быть, это было кому-то выгодно? К сожалению, эти тенденции опускания продолжаются по всем направлениям и в наши дни: псевдоискусство, магия, мистика, экстрасенсорика, чудеса посредством мощей и поясков.
Около газетоноши появился высокий мужчина неопределённых лет с каким-то разляпанным лицом и походкой динозавра, почти вплотную шлёпал за продавцом чуда. Невооружённым взглядом у него просматривались последствия перенесённой инфекции мозга. Гнусавым голосом и картавя, со слезами на глазах он просил, умолял продавца газет:
— Ну дайте, дайте мне эту газету! Она мне очень нужна, она меня вылечит!
Продавец, не оборачиваясь:
— Плати деньги и получишь.
Больной следовал за ним и монотонно, слово в слово повторял свою просьбу. Продавец уже ничего не говорил, только слегка отталкивал его, когда тот приближался вплотную. Пассажиры продолжали покупать чудодейственную газету. Больного, кажется, не видели и не слышали.
Я в волнении и каком-то стеснении думал:
— Неужели никто не купит несчастному эту дурацкую газету? Цена ей копейки, не в деньгах дело. Что-то их сдерживает. А сдерживает их, наверное, боязнь показаться нелепо добрыми, прикрытая рассуждениями, что это ему не поможет.
И тут я обратился к себе, используя слова Аввакума:
— А что же ты, блядин сын, не сделаешь этого? Боишься на виду у всех сделать доброе, пусть даже, казалось, и нелепое? Боишься показаться добрым?
Я переступил некий барьер и сделал то, что должен был сделать. Незаметно для больного отдал деньги продавцу чуда. Больной взял газету, прижал её двумя руками к груди, и со счастливым и нелепым лицом пошёл к выходу.
Голубь Рассказик
Психотерапевт вёл беседу со своими пациентами с каким-то особым вдохновением. Как-то сами по себе приходили нужные слова и тональность речи.
Он говорил о духовной работе, о необходимости прорыва, трансценденции к своей духовной сущности. Пациенты слушали его тихо, затаённо, и лица их казались разгладившимися и умытыми. Весь зал, атмосфера его были наполнены какой-то благостью и просветлением.
«Самым высоким примером самотрансценденции, — проникновенно продолжал психотерапевт, — является жизнь Иисуса Христа. Вот он пришёл на реку Иордан, и констатацией его выхода из плоти и души плотника и сына плотника явился голубь, который опустился ему на плечо».
В это время на подоконник распахнутого окна сел голубь. Повозился там, подозрительно посматривая на замолкнувшего психотерапевта, и слегка присел, намереваясь лететь в его сторону.
«Господи, что делать? Не дай Бог!» — внутри себя проговорил тот и растерянно уставился на голубя.
Пациенты также уставились на голубя, и в их застывших лицах читалось любопытство, желание чуда и ещё что-то такое.
Напряжение в зале росло. Ну! Ну! Голубь ещё глубже присел, оттолкнулся лапками от подоконника, взмахнул крыльями и полетел к психотерапевту. Сделал над ним в нерешительности маленький круг, как бы размышляя, садиться или нет, затем решительно и радостно вылетел наружу.
Все сразу расслабились и как бы выдохнули: «Слава тебе, Господи!»
Здравствуйте, дети! Рассказ
После смерти мужа она стала как будто оглушённой, как будто в том месте, где была душа, вдруг в одночасье ничего не оказалось. Всё чаще она стала бывать на даче и даже ночевать там, хотя раньше это было для неё крайне трудно из-за большой впечатлительности и ночных страхов. А сейчас страхов не было, и от всей её впечатлительности ничего не осталось: лицо стало скупым и постным, как у слепца.
Мозг постоянно выискивал объекты для работы, и она её скрупулёзно, бездушно выполняла. Часто можно было видеть её склонённой над землёй, в руках тяпка с длинным держаком, и она методично машет и машет ею, не поднимая головы. Даже когда отрывалась от земли, тяпку из рук не выпускала, а так и ходила с ней по участку, как будто бы носила личное оружие. Не найдя работы на своём участке, она переходила на соседний и работала там.
С соседями по даче не разговаривала, почти не разговаривала. Разговоры казались ей никчёмными и нелепыми. Иногда она на приветствия не отвечала, делая вид, что не слышит, а иногда и в самом деле не слышала, и люди оставили её в покое, только сочувственно смотрели на неё.
Не разговаривала она и с собаками, коих было множество за оградой, когда кормила их; не разговаривала и с кошкой, которая давно прибилась к дому. Она помнила, она знала, что всех этих животных любил покойный муж, но это знание не вызывало никаких душевных движений. Да и сам муж больше представлялся ей в виде застывшей фотографии или портрета.
Одним утром, когда солнце ещё не выжарило ночную прохладу, во время работы на участке она вздрогнула, как будто услышала что-то. Она медленно с тяпкой в руках пошла за калитку, затем вернулась, прислонила тяпку к забору и, опять же, медленно пошла по дороге к реке. Вскорости её догнал чёрный коротконогий пёс с острыми ушами, который и раньше любил сопровождать её на прогулках. Около берега дорога поворачивала влево, к пляжу; вправо, в лес, уходила рыбацкая тропа. Она в нерешительности остановилась, но пёс юркнул на тропу в лес, и она пошла за ним.
Прохлада леса начала окутывать всё тело, и вместе с этим душа её стала наполняться невыразимой тревогой и ожиданием. Пёс нетерпеливо бежал впереди, время от времени останавливался и смотрел на женщину, как бы проверяя, идёт ли она за ним.
Через некоторое время они подошли к небольшой поляне. Широкий край поляны уступами заканчивался у воды. Это было самым любимым местом рыбалки мужа. Она замерла в тени у начала поляны, и взор её остановился на залитом солнцем уступе, где обычно в ожидании клёва сидел муж. В голове начали мелькать обрывки, отпечатки воспоминаний и, как в мозаике, составлять картинку прошлой жизни.
Она изображает лошадь и, прицокивая и подпрыгивая, несёт на плечах внука; тот машет веткой, кричит и понукает; позади бежит чёрный пёс и громко лает, досадуя, что не может достать внука. Вот таким весёлым клубком они выкатились на поляну. Муж её, они немудрено называли его «дедом», успел только радостно поприветствовать их, и сразу началось нечто невообразимое: зазвонил колокольчик, требовательно, нетерпеливо, дед бросился к снастям и вытащил рыбину на песок, она бьётся, прыгает, чёрный пёс возбуждённо, азартно лает, прядёт лапами на рыбу, бегает кругами, хватает внука за рукава, от волнения коротко хлебает воду в реке и опять бегает, лает.
Внук же серьёзно оценил ситуацию и коротко бросил деду: «Дай удочку!» Дед дал ему хворостину. Внук подошёл к берегу, опустил её в воду и стал ждать. Лицо сосредоточено, только мельком взглянет на деда с бабой, на рыбу, коротая вновь и вновь появлялась на берегу, на шумящую собаку и вновь продолжает терпеливо своё занятие. Подумать только! Недавно ему исполнилось три года, а он уже решил отделиться; решил открыть свое дело! Но надолго внука не хватило — пёс своими наскоками сбил его серьёзность. Внук побежал за псом, потом пёс за ним, запутали снасти на берегу, дед кричит, колокольчики звонят, внук верещит, собака лает, и этот весёлый гвалт, казалось, доставал до самого неба…
С улыбкой воспоминаний она смотрела на поляну, и та не казалась ей пустой, как будто поляна, прилегающие к ней деревья, река, воздух стали очищенными и наполнились потаённым смыслом. Она даже не решилась выйти из леса, боялась нарушить что-то.
Ни ветерка, ни дуновения… и вдруг одна из веточек вербы начала медленно покачиваться из стороны в сторону, по глади воды побежала рябь, и всё опять замерло в выжидающей тишине. На поляну выскочил невесть откуда взявшийся пёс, напряг свои острые уши и в возбуждении начал оглядываться на женщину, как бы спрашивая: «Нет, ты видела? Ты видела?»
Она вышла на освещённую солнцем часть поляны, разделась донага, закрыла глаза и начала впитывать ласковое тепло солнца всем телом, и хотелось, чтобы это продолжалось ещё и ещё. Затем она медленно вошла в прозрачную прохладу воды, кожа её стянулась, тело стало упругим, обновлённым, и со дна её души как бы начали бить чистые и радостные источники.
Подплывая к берегу, она снизу вверх посмотрела на деревья и сквозь листву увидела небо. Она даже ахнула внутри себя. Такого ей ещё не приходилось видеть. Зелёные ребристые ветки акации создавали входные ориентиры, за которыми открывалась и звучала-таки ровная, без дна и без края чистая синева!
…Она возвращалась домой. Впереди, деловито обнюхивая тропу, бежал чёрный пёс. Всё, что сейчас было у неё внутри, и окружающее воспринималось по-новому, по-другому. По-новому, по-другому она услышала отмытые, округлые оклики иволги, суетливую стрекотню сороки. Ранее потеряв обоняние, она начала воспринимать всем телом дурманящий запах бузины, тёплый настой трав, нагретых на солнце, таинственную прохладу земляного пола тропы.
Около своего забора, понуро опершись на держак граблей, стоял сосед. Она приветливо поздоровалась с ним и поинтересовалась его жизнью и делами. Сосед, выкруглив глаза, настороженно всмотрелся в её лицо и спросил, что, может, что-то случилось. Потом посмотрел на чёрного пса, как бы приглашая его в сообщники удивления, но пёс только фыркнул носом и пошёл прочь по своим собачьим делам. Она же просто ответила: «У меня всё хорошо». И ещё раз повторила: «У меня всё хорошо».
Вечером написала первое после долгого перерыва письмо дочери, внуку и зятю. «Здравствуйте, дети! У меня всё хорошо. В этом году большой урожай малины и всего прочего. Приезжайте. Обнимаю. Целую».
Свинское дело Рассказ
Стояли мы тем летом лагерем в горах. Единственным развлечением после трудов праведных был бильярд. Как-то к концу дня влетел к нам на позицию всадник. Я оторвался от бильярда и увидел, что лошадь его движется по какой-то ломаной линии. Она быстро неслась прямо, потом резко меняла направление, так что её заносило набок.
Всадник натянул поводья, остановил лошадь и долго по-армянски выговаривал ей. Через некоторое время он уже шёл к бильярду, лошадь вёл за поводья, и по мере приближения я узнавал его. Я встречался с ним в армянском селенье, куда мы ходили за кое-какими покупками.
Небольшого роста, кругленький, с маленькими руками, он сразу начал ими размахивать и кричать:
— Слушай, ара, выручай!
Лошадь в это время крутанула головой и шарахнулась в сторону, он ей что-то прокричал по-армянски и опять мне:
— Выручай, брат, свинья умирает.
Выражение лица его стало скорбным. Я в растерянности помолчал, а потом ответил:
— Я не лечу свиней, ей нужен ветеринар.
Он опять закричал, замахал руками:
— Какой такой ветеринар-метеринар, ей нужен самый лучший доктор! Матка она, матка, двенадцать маленьких у неё! — и он показал на пальцах, сколько их и какие они маленькие. Лошадь армянина согласно кивала головой, как будто подтверждая сказанное.
Я сомневался, я же никогда не лечил свиней и вообще животных. Приятель мой взял кий, прицелился, красиво разрезал «штаны» на две лузы и как будто между прочим проговорил:
— Если ты рискуешь лечить людей, почему бы тебе не рискнуть полечить свинью?
— Свинья свинье рознь, есть свиньи, которые молчат, а есть которые разговаривают и даже в бильярд играют, — в раздражении проворчал я.
— И неплохо играют, — добавил приятель и послал накатом «своего» в середину.
Тогда я решился и со словами:
— Друг свинье не товарищ, а родственник, — пошёл в палатку за аптечкой скорой помощи.
Во время нашего разговора армянин молчал, считая, что у нас идёт деловой разговор по поводу его свиньи. Молчала, тьфу, не кивала головой и его лошадь. Когда же армянин увидел меня с чемоданчиком, сразу же закричал:
— Ара, садись на лошадь, бери свои шприцы-мрыцы и гони до самого дома, хорошая лошадь, ни у кого такой нет!
Лошадь в это время затрясла головой и начала метаться из стороны в сторону. Армянин начал кричать на неё по-своему, и она вроде бы успокоилась.
— Нет, — ответил я, — может быть, она и самая лучшая лошадь в мире, но я не разговариваю по-армянски, а по-русски она, наверное, не понимает.
Лошадь в это время закивала головой. Наконец, чтобы взять инициативу в свои руки, я отдал армянину аптечку и приказал сразу же по приезде его домой вскипятить шприцы и иглы (тогда не было одноразовых шприцев и игл, давно это было, так давно, как будто и не со мной).
Армянин влез в седло, лошадь его несколько раз метнулась из стороны в сторону, и вскоре они скрылись за деревьями, откуда доносились крики армянина. Я уже прошёл половину спуска, а сомнения не оставляли меня. Тогда я их оставил, решив, что покамест не видишь пациента, даже если он свинья, предварительные раздумья бесполезны. В это время, благо что я успел отскочить в сторону, на тропу вылетел армянин на лошади и с криками:
— Давай, ара, давай, самая лучшая лошадь в мире! — начал спускаться к селению. Я посчитал, что он уже давно дома. Ну да, ну да, самая лучшая лошадь в мире и, наверное, самая быстрая.
Вошли в свинарник. Огромнейшая свинья с оттянутыми сосками лежала на боку, дыхание тяжелое, частое, глаза прикрыты, и весь вид её говорил, что ей очень тяжело и что она не ждёт от жизни ничего хорошего. Единственное, что я знал из ветеринарии, это куда нужно ставить термометр. Ртуть заполнила все деления. Скорее всего, пневмония. Набрал в большой шприц весь запас антибиотиков, взял самую длинную иглу и ввёл и ещё ввёл весь запас кордиамина. Колол с опаской, но свинья на мои уколы никак не реагировала.
Через три дня к вечеру влетел к нам в лагерь армянин. Он не вёл лошадь за поводья, когда спешился, а, пустив её на самотёк, бросился ко мне, заключил в объятья и, путая армянские и русские слова, рассыпался в благодарностях и самых лучших пожеланиях.
Вечером я был у него дома. Он заколол самого лучшего в мире барашка, весь стол был заставлен самыми разными винами с различными сроками изготовления. Стол был такой обильный от блюд и бутылок самого лучшего в мире вина, что угощаться смогли бы сразу человек двадцать. Нас же было трое, не считая свиньи, которая в добром здравии находилась в свинарнике со своими поросятами: хозяин, жена его и я. Зато тостов было много — и за моё здоровье, и за здоровье свиньи с поросятами, и за здоровье всех моих родственников.
На этом история могла бы и закончиться, но быстро заканчиваются только плохие истории, а хорошие тянутся долго, так долго, что они уже перестают быть хорошими. Если я попадался в городе армянину на глаза, а в армянское селенье я старался не заходить, то он поднимал руки вверх и кричал на всю улицу:
— Эй, народ, люди! Посмотрите! Вот человек, который вылечил мою свинью! Эй, смотрите, идёт самый лучший доктор в мире!
Он обнимал меня, а потом вёл в винную лавку, где мы пили с ним вина с различными сроками изготовления.
Вскоре я стал избегать его. Если он появлялся вдалеке на улице, я сворачивал в первый же переулок и бежал прочь как можно быстрее. Я не против вин с различными сроками изготовления, но зачем так кричать? Мало что могут подумать люди. Например, могут подумать, что я могу лечить свиней, а зачем мне эта свинская слава?
«Сколько ночи?»
Как всегда, Георгий Евсеевич готовился к празднику заранее. За месяц до юбилея он купил бутылку армянского коньяка, и с этой покупки начался отсчёт времени.
После завтрака он подходил к настенному календарю и прошедший день отмечал вертикальной чёрточкой, как будто делал зарубки. И каждый раз после этого он представлял, как он придёт в клинику, как ему будут рады все, и не только старые сотрудники, но и молодые, как славно они проведут время.
«Ожидание праздника — больше, чем праздник», — подумал Георгий Евсеевич и не мог вспомнить, сам ли он придумал этот афоризм или где-то когда-то вычитал.
Анна Ильинична, его жена, с поблекшим, но красивым лицом мягко уговаривала его:
— Жоржик, ну чего ты пойдёшь туда? Ты думаешь, что они тебя ждут, что ты им нужен? Ведь ты для них лишь старый пенсионер.
— Ждут, Аннушка, ждут, — убеждённо сказал Георгий Евсеевич и, будто стараясь убедить и себя, горячо продолжил: — Знаешь, как ждут! Без меня у них и юбилей не получится. Как-никак 80 лет моей клинике, и из них 40 — ровно половину — проработал в ней я. Я учился у корифеев с дореволюционной культурой, и ту атмосферу они как бы и в меня вдохнули. Нас таких мало осталось, и нам есть к кому идти и что передать!
Георгий Евсеевич закончил свою тираду и, как бы осерчав, вне очереди пошёл смотреть на календарь. Он снял минусовые очки, лицо его сразу стало по-детски незащищённым, и, почти вплотную приблизившись к календарю, долго в него всматривался.
И ранее отличаясь сутулостью, он стал ещё более согбенным, тело его стало усыхать, как будто уже готовилось к земле. Георгий Евсеевич смотрел на календарь, губы его слегка шевелились, отсчитывая последние до юбилея дни. Дней оставалось мало, и он отошёл от календаря с просветлевшим лицом.
Накануне праздника Георгий Евсеевич долго не мог уснуть, знал, почему, и потому особо не беспокоился. Утром встал до времени, тщательно выбрился, надел белую рубашку, галстук, кремовый чесучовый костюм и в таком наряде пробыл до самого обеда, время от времени посматривая на часы.
После обеда, весь подобравшись, направился к двери. В прихожей Анна Ильинична подала ему лёгкую шляпу, трость, поцеловала в щёку и, когда Георгий Евсеевич уже выходил, она со словами «С Богом!» перекрестила его.
Май в этом году выдался жарким, но утром прошёл дождь и оставил после себя прохладу, и идти и просто вдыхать эту прохладу было приятно. По тротуару спешно и озабоченно шли люди, ходко катили по дороге машины, иномарки нахально-уверенно обгоняли отечественные.
Георгий Евсеевич шёл по краю сквера и вдруг увидел около большого дерева группу людей. В середине её стоял долговязый мужчина и вытянутой рукой показывал на что-то вверху дерева. Когда Георгий Евсеевич подошёл к этому дереву, мужчина тот, слегка взяв его за рукав, восхищённо улыбаясь и показывая рукой вверх, сказал:
— Смотрите, вон белка!
Нельзя без умиления смотреть на этого зверька. Белка помоталась по ветвям дерева, потом повернула к зрителям свою мордочку и сердито зацокала на них. Георгий Евсеевич постоял некоторое время, посмотрел на белку, на как будто бы счастливые лица наблюдателей и, улыбаясь, тихонько пошёл. Потом оглянулся и увидел, что мужчина останавливает новых людей и протягивает вверх руку.
— Проводник к радости, — обозначил его для себя Георгий Евсеевич и подумал, что про него надо будет обязательно рассказать коллегам.
Через некоторое время он увидел на скамье сквера молодую пару. Оба с закрытыми глазами. Она склонила на его плечо голову, он, приобняв её, кончиками пальцев, едва касаясь, водил от волнующих завитков затылка вниз по шее. В душе у Георгия Евсеевича появилась какая-то светлая мелодия, он шёл и прислушивался к ней.
Сзади раздались шаги: одни твёрдые, уверенные, другие как бы шелестящие. Не любил Георгий Евсеевич, когда слышал сзади себя шаги неопределённых людей, хотелось или уйти от них вперёд, или пропустить. Он было замедлил шаг, но тут насмешливый самоуверенный мужской голос произнёс:
— Во, чухает её, чтобы скорее легла.
И в ответ заискивающий женский прыск. Георгия Евсеевича будто сотрясла ударная волна, он втянул голову в плечи и остановился. Совершенно не замечая его, но нахально рассматривая молодую пару на скамье, прошествовали крупного телосложения мужчина средних лет и худая женщина, которая селёдкой висела у него на руке. Георгию Евсеевичу хотелось что-то крикнуть вслед им, но слова застряли у него в горле, и через некоторое время он снова двинулся в своём направлении.
На подходе к клинике волнение, ожидание встречи вытеснили этот эпизод, и лицо Георгия Евсеевича снова приобрело праздничный вид. Женщины уже накрывали стол в его бывшем профессорском кабинете. Он обошёл все кабинеты. Чаще всего появление его отмечалось возгласами удивления и вроде бы искренней радости. Георгий Евсеевич обнялся с наиболее близкими и расцеловался с ними, женщинам всем без исключения поцеловал ручки.
Как он и ожидал, праздник удавался на славу. Говорили тосты за учителей и с особым почтением за Георгия Евсеевича, вспоминали разные истории из жизни клиники, которые, впрочем, при встречах всегда повторялись. От выпитого у Георгия Евсеевича появилась в теле некая лёгкость, но мысли приобрели особую важность, проникновенность, чувства, как будто освободившись от покровов обыденности, стали искренними и настоящими.
Он на память читал стихи, в основном из так называемого Серебряного века, говорил тосты, и в каждом тосте ему хотелось сказать самое главное, самое сокровенное, как будто он уже был готов к последнему и окончательному путешествию.
Но по мере продолжения застолья его слушали всё менее внимательно, разговоры начали скатываться к вольным шуткам и анекдотам не самого лучшего качества.
Тем не менее Георгий Евсеевич смотрел на всех тёплым взглядом, и обиды у него ни на кого не было. С умилённой полуулыбкой он встал, извинившись, и вышел в коридор.
На стендах висели фотографии, по которым можно было читать историю клиники. Георгий Евсеевич внимательно всматривался в своих учителей, на себя же, молодого аспиранта, доктора, смотрел отстранённо, как будто это был не он, а кто-то другой в его прошлой жизни.
Дверь профессорского кабинета изнутри толчком открыли, и на фоне нестройного разноголосого разговора и позвякивания посуды он вдруг услышал голос своего преемника, молодого профессора, внешними качествами и сущностью своей более походящим на делового спортсмена.
— Слушайте, — вальяжно говорил он, — а всё-таки этот старый хрыч припёрся. Вот «Победоносец» долбанный.
Георгий Евсеевич, полностью не осознавая сказанного, повернулся к двери и услышал, что доцент, его ученик, впоследствии сподвижник, поддакивает молодому шефу:
— И чего не сидится дома. Ну, кажется, заработал пенсию — сиди дома и отдыхай. Ещё и раньше мозги заполоскал этой духовностью, Богом, Библией, стихами своими. Нет, припёрся, вроде его ждали здесь!
Георгия Евсеевича как будто ударили палкой по голове, оцепенело и чувствуя стеснение в груди, он медленно пошёл к открытой двери, выводящей на внутренний дворик. И, уже войдя в её проём, увидел со спины свою последнюю ученицу, которой он фактически написал кандидатскую диссертацию. В левой руке она держала сигарету, другой, правой, как бы подчёркивая сказанное, обращалась к невидимой Георгию Евсеевичу аудитории:
— Вот вы ещё раз и увидели «Сеятеля». Ручки всем целует. Лучше бы он меня сюда поцеловал, — и она, круто вывернувшись, хлопнула себя ладонью по затянутому в джинсы заду.
Невидимая аудитория одобрительно засмеялась. Георгия Евсеевича как будто вторично ударили палкой. Как бы придавленный какой-то силой, он зашёл в ординаторскую, взял свою шляпу, трость и, не попрощавшись ни с кем, побрёл домой.
Слёзы застилали ему глаза, в горле было першение, он шёл, и внутренняя речь его была обращена к тем, к кому он так стремился и от которых он так медленно, чуть ли не с позором уходил:
— Придёт время, и вы, вы к кому пойдёте, и главное — с чем?!
Эти слова несколько раз прокрутились в голове Георгия Евсеевича, глаза его высохли, и, обратив их кверху, он уже шёпотом сказал:
— Господи, прости им, ибо не ведают…
На этом он закончил общеизвестную фразу, и она приобрела как будто новое значение.
Когда он вошёл в дом и увидел, что Анна Ильинична, его жена, вопросительно смотрит на него, он раздумчиво сказал:
— Помнишь, у Исайи: «Сторож! Сколько ночи? Сторож! Сколько ночи?.. Приближается утро, но ещё ночь».
Анна Ильинична всё поняла, подошла к нему близко и молча начала целовать его лицо, шею, и Георгий Евсеевич почувствовал вдруг, что как будто в самую жару, в самое пекло ноги его опустились в живительную прохладную воду.
Ах, как они были счастливы! Эскиз
Ветер расправил свои невидимые крылья и легким зигзагом прошелся над лесом. Так, все в порядке. Деревья голые и готовы к зиме. И вдруг увидел Белолистку и на ней Листья не зеленые с серебристой подкладкой и не желтые, а серые и дряхлые от старости. Но они крепко держались за ветки и от движения Ветра лишь только трепетно задрожали.
Ветер развернулся над Деревом, облетел его вокруг и прошумел озадаченно:
— Вы что, ребята? Пора лететь!
— Нам страшно, — прошелестели Листья, — мы никогда не летали.
— Я помогу вам, — протрубил Ветер, — только не держитесь за ветки, и вы потом будете благодарить меня, ведь это так здорово — лететь!
Ветер сделал большой круг и полетел на Белолистку, ударил тугими крыльями по Листьям, и они, преодолев свой страх, оторвались от веток и полетели.
От восторга души их напряглись, и, как через клапан, напряжение это вырвалось криками. Они летели, кувыркаясь, изменяя траекторию своего полета, иногда поднимались вверх, опускались вниз, и во всё пространство жизни разносились их радостные крики:
— Мы летим! Мы летим! Как это здорово! Дуй, Ветер, дуй!
Листья не заметили, как приняла их Земля, можно было лишь услышать разноголосицу их недоговоренных восторженных фраз: «Спас… Благ… Мы никогда не…»
Ветер развернулся и полетел к мрачным Тучам, завозился с ними в каком-то угаре и сквозь угар этот вдруг вспомнил о Листьях и вострубил жалостливо и восхищенно:
— Ах, как они были счастливы!
В низенькой светёлке Рассказ
Впервые я осознанно увидел свою родительницу, когда мне было около четырёх лет. Я увлечён какой-то игрушкой, по-моему деревянной, кем-то сделанной машинкой, катаю её по полу, шумлю, подражая работе двигателя. И вдруг как будто удар! Я оставил своё занятие, посмотрел на мать и замер, словно впервые, новоявленно увидел её.
Мать находилась со мной в очень большой комнате, залитой косыми лучами солнца. Она сидела у окна и работала на швейной машинке. Чёрные волосы её, заплетённые в косы, были уложены на голове какими-то калачиками, ещё выделялись на белой коже лица чёрные влажные глаза — всё лицо матери казалось мне чистым и красивым. Такой же чистой и красивой была песня, которую пела мать. Она крутила ручку машинки, что-то делала другой рукой и пела:
В низенькой светёлке огонёк горит, Молодая пряха у окна сидит…В эти минуты я был заворожен красотой матери и смутно чувствовал благоговение перед ней, и по мере того как я смотрел на мать и слушал её песню, комната всё более наполнялась светом…
Все неприятные новости, впрочем как и приятные, приходят неожиданно. Пришла телеграмма: «Маме плохо, срочно приезжай».
Я не хочу описывать сумятицу сборов, сумятицу мыслей, была только одна сквозная мысль, даже не мысль, а какое-то заклинание, по-детски доверчивое к благосклонностям судьбы: «Осталась бы только живая, какая ни есть, в каком бы ни было состоянии, только живая, только бы мне успеть». Но не успел я.
Когда приехал в небольшой среднерусский городок Трубчевск и вошёл в знакомый с детства двор с деревянным забором и срубом, я понял, что уже поздно. По двору сновали люди с какими-то потерянными лицами. Они двигались в непонятном круговоротном движении, некоторые подходили ко мне и с фразами типа «Ну что поделаешь?», «Горе есть горе», «Жалко мать», «Ну, ты давай, держись» пожимали мне руку или клали руку на моё плечо. Я, как бы отгребая от них, в нетерпении направился к крыльцу, и вот на него выбежала тётя и, по-бабьи неприятно заголосив, с размазанным слезами лицом кинулась меня обнимать.
В большой комнате, в зале, как её называли, стоял гроб, возле него справа — дядя; к гробу подходили люди и, постояв некоторое время около него, уходили. Дядя подошёл ко мне, с виноватым выражением лица сказал какую-то подобающую фразу и обнял меня. Мать сильно изменилась: восковое лицо, впалые глазницы, щёки, седые волосы — совсем старуха, но выражение лица глубинно-удовлетворённое, успокоившееся, как будто она наконец сделала то, что должна была сделать.
С дядей и тётей мы зашли в маленькую комнатку около печных полатей, и тётя протянула мне бумажку. На небольшом помятом клочке бумаги корявыми прыгающими буквами было написано: «Так жить больше не могу. Ждать, с какой стороны подойдёт смерть, больше нет сил. Простите, Анна». Тётя, опять заголосив, начала причитать:
— Я не пойму, как это она могла сделать? Ведь она уже два месяца как совсем не вставала с кровати, ведь я её уже с ложечки кормила, а тут она взяла швабру, доковыляла до сеней, взобралась на табуретку, привязала верёвку к этому дурацкому крюку, я его уже давно хотела снять! — и всё. А я же была в это время на работе. Как она всё рассчитала!
Дядя что-то невнятно бормотал, обвинял в чём-то сестру, поминутно по-пьяному размашисто обтирал тыльной стороной ладони слёзы, а у меня саднящая боль в груди как будто выпала в осадок, в душе наступило подобие просветления, и я испытал восхищенье поступком матери. Три года назад ей поставили страшный диагноз — рассеянный склероз, неизлечимое поражение центральной нервной системы. Состояние её быстро ухудшалось, она уже передвигалась с палочкой, начались нарушения речи. Через два года она решила уехать к себе на родину, и, как я сейчас понимаю, было в этом не только желание умереть в своих пенатах, но своим отъездом она, видимо, хотела освободить нас от тягот своего присутствия.
Тётя посоветовала мне пойти к крёстной и навестить её. Я смутно помнил крёстную. В детстве, опять же по наущению старших, я изредка приходил к ней в гости. Меня встречала красивая мягкая женщина, угощала меня всегда чем-то сладким и, преодолевая моё смущение, душила меня в своих объятьях. Во дворе меня встретила скрюченная худая старуха с клюкой и, не дойдя до меня, заголосила:
— Ой, дитёнок, а я твою матку знала. Ой, Нюрка, Нюрка, зачем ты это сделала?
Вдруг она переметнула клюку из правой руки в левую и, резко подав правую руку в сторону моего паха, осклабилась и ернически запричитала:
— Паренёк ты или девица? Петушок там у тебя или же корытце?
Опешенно, под смех её, я и ушёл.
По двору так же круговоротно сновали люди, в основном мужики. Около крыльца на столе стояло несколько баллонов с мутной жидкостью, стаканы, на тарелке — нарезанные солёные огурцы. Вышедшие из дома, как они говорили, «попрощамшись» с покойной, подходили к этому столу, наливали сколько считали себе нужным в стакан, выпивали, закусывали огурцом и шли по направлению калитки, но не выходили за пределы двора, а, покрутившись по нему, покурив, поговорив, снова заходили в дом прощаться с покойной, и сколько они делали таких кругов, один Бог ведает.
К вечеру на хорошем алкогольном взводе прибыли два свояка и удовлетворённо доложили, что батюшка «заряжен» и дал добро на похороны на кладбище, а не за пределами его, как это заведено в православии для покончивших с собой, что место для могилы обозначено и утром «копачи» выроют могилу. Свояки выпили, закусили и, ещё более удовлетворённые выполненным заданием, ушли. Ушли и все остальные родственники, и я не понял, почему они так быстро покинули пределы дома. Остались тётя, дядя и я. И тут тётя, несколько заикаясь от волнения, сказала:
— По христианскому обычаю, с покойной кто-то должен переночевать в одной комнате, — и после небольшой паузы скороговоркой добавила: — Лично я не могу, у меня больное сердце, да и за хозяйством присмотреть надо, вон сколько закуски и выпивки приготовлено на поминки.
Дядя, отводя глаза в сторону и вниз, сказал, что ему ещё надо поговорить с музыкантами похоронного оркестра, и быстро ушёл.
— Ну что, — как бы подытожила тётя, — придётся тебе ночевать в зале, — и видя моё сомнение и растерянность, подбодрила, — да ты не бойся, это же твоя мать.
Я затушил свечи у гроба, и сразу наступила густо замешанная темнота, ощупью дошёл до кровати и лёг. Пошёл поток мыслей категоричных и героического толка, свойственных моему возрасту, в то время я перешёл на третий курс института. «Всё-таки мать поступила правильно, молодец, я бы на её месте поступил так же, чем обременять людей и самому от этого мучиться, лучше вот так — сразу, покамест ещё есть возможность, завтра надо будет самому не расклеиться, и не дай Бог заплакать, надо всем своим видом показать, что я одобряю мать и восхищаюсь ею». Вдруг в молчащей темноте послышалось какое-то неясное и настороженное топотанье. Оно приближалось к гробу. Сердце заколотилось. Кожа стала стянутой и холодной. Топотанье прекратилось, но послышалась какая-то возня в самом гробу — я это отчётливо слышал. Я вовсю раскрыл глаза, но в этой густой темноте ничего нельзя было рассмотреть. Вскочил, лихорадочно начал нащупывать выключатель — где он, этот дурацкий выключатель? — я точно знаю, что он у дверного проёма. Наконец я включил его и со страхом посмотрел на гроб. В гробу у ног матери, свернувшись калачиком, лежала кошка. Со слов тёти, как я потом узнал, она часто приходила к матери в кровать.
Я не мог долго уснуть, но в памяти всплыл эпизод из раннего детства, я как бы вошёл в него и через него погрузился в сон. Не помню, сколько мне тогда было, лет пять, наверное. Мы с матерью шли по дороге из села Бородинка в город. Вдоль дороги росли деревья, кустарники, высокая трава была вся в росе. Слева от дороги тянулся залив с красивым названием Гоголь. Это, видимо, мать на мой вопрос дважды повторила:
— Залив Гоголь, залив Гоголь.
Я с радостным прискакиванием убегал от матери вперёд по дороге, с любопытством вглядываясь, что там будет за поворотом. И за одним из поворотов я наткнулся на что-то длинное, извивающееся по земле, тёмно-серебристого цвета, и это непонятное мне существо напугало меня, и я отчаянно, с криком побежал к матери. Уткнулся в ноги и зарылся лицом в её платье. Мать приласкала меня, успокоила, и когда мы дошли до того поворота, мать сказала, что извивающееся существо не страшно, что это просто уж.
Похороны задерживались, гроб был вынесен и уже стоял на табуретах около дома. Дядя ушёл за музыкантами, и около часа не было ни дяди, ни музыкантов. Я его ещё вчера вечером просил, чтобы не было никакой музыки, но дядя чуть ли не патетически мне ответил:
— Племянник, молчи! Мы не хуже людей!
А я действительно не хотел музыки, вернее, боялся её, боялся, что когда пойдут душераздирающие звуки траурных маршей, я не выдержу и расплачусь как мальчишка и не выполню программу, положенную мной накануне вечером.
Пришли музыканты с дядей, лица помятые, глаза мутные — видимо, они допоздна обсуждали с дядей программу траурной музыки. Музыканты неловкими руками повытаскивали из чехлов и футляров инструменты, встали отдельной группкой в стороне от гроба. Вначале они издали несколько неверных звуков, потом как бы собрались, и пространство затрепетало от громкой едко-жалостливой музыки, а периодически возникающие вибрирующие аккорды, как острые языки, жалили душу. Казалось, что она сейчас не выдержит и разобьётся вдребезги, и я, не совладав с собою, разрыдаюсь. Я посмотрел на мать в гробу, ещё раз отметил её глубинно-удовлетворённое выражение лица и вспомнил, что такое же выражение у неё было два года тому назад.
Я окончил первый курс политехнического института в том городе, где завершил срочную службу в армии, и поэтому послал документы о переводе в аналогичный институт родного города. Документы на каком-то звене застопорились, и так получилось, что меня, отчислив из одного института, не приняли в другой. В результате меня не допускали на занятия ни в одном, ни в другом вузе, хотя вины моей не было. Я прошёл все инстанции и от отчаяния не знал, что делать.
Мать, никого не предупредив, куда-то исчезла. Часа через три с палочкой, кивательно покачивая головой, она прибрела домой, легла на кушетку и сказала мне одну лишь фразу:
— Завтра иди на занятия.
Выражение лица её было усталое и, вот как сейчас в гробу, глубинно-удовлетворённое. Куда она ходила, что говорила, я до сей поры не знаю, но учёба моя продолжилась.
Когда мы сопровождали мать в последнем пути её на кладбище, то пришлось отпустить машину с гробом несколько вперёд, из-за сильной засухи образовалось много пыли, и идти вслед за машиной было невозможно. Тяжёлая и в то же время мягкая, скользкая пыль заполнила все колдобины, колею, и приходилось, прежде чем ступать ногой, осторожно пробовать её носком обуви. Потом просто прямо брели по пыли. Она лениво стекала с ног и тяжёлым дымом плелась за людьми. Ноги, одежда, лица, волосы — всё было покрыто пылью. На лица как будто наложен однотонный серый грим. Выделялись только глаза и зубы. И вдруг я почувствовал своё одиночество. Один, один я на этом свете, и нет человека, который любил бы меня более, чем кто-либо, и этого человека, который мне ближе всех, уже нет. Я, будучи взрослым человеком, почувствовал себя сиротой и готов уже был расплакаться, но боковым зрением увидел слева от себя необычную пару и помимо своей воли обратил на них свой взор.
Один из них — маленький, горбатый, пиджак распахнут, сквозь разухабистость в голосе слышится боль, тоска, на глазах слёзы. Второй не в лад монотонно гудел, худой, высокий, с постным выражением лица, в руках длинная палка. Горбатый, плача, не пел, а прямо-таки орал: «Ты сама под ласками снимешь шёлк фаты, унесу я пьяную до утра в кусты», — и они уже было начали следующий куплет: «Зацелую допьяна, изомну, как цвет…» — как вдруг увидел горбатый похоронную процессию. Замолчал, рот полураскрыт, на лице недоумение. Его тощий напарник, как я понял, слепой, тупо приподнял лицо кверху, понюхал воздух, смешался и, захлестнув руку горбатого себе за спину, растерянно проговорил: «Пошли, Вася, пошли», — и перекошенная пара ушла прочь от переулка.
Подошли к кладбищу, и началась несуразица. Стая старух в чёрной одежде и в чёрных, повязанных на головы платках, как вороньё, замахали руками и загалдели, завопили:
— Прочь от кладбища! Не дадим места самоубийце! Убирайтесь! Хороните где хотите!
В нашей похоронной процессии наступила растерянность, но через некоторое время сватья решительно, и я вслед за ними, прошили цепь старух и устремились на кладбище. То место около могилы моей бабушки, в противовес заверению сватов, было не копано. Сваты ушли в поисках «копачей» и вовсе исчезли.
Я вернулся к машине и увидел, что от похоронной процессии никого не осталось, поблизости не было даже ни тёти, ни дяди. У входа на кладбище была лишь заградительная цепь старух, шумящих и кричащих что-то. Я взобрался на машину, у переднего борта увидел лопату, взял её и пошёл на кладбище. С каким-то отчаянием и даже злостью начал копать могилу в том месте, где ей и предназначалось быть. С очередным выбросом земли я увидел стоящего не краю обозначающейся могилы ветхого стрика. Он жалостливо посмотрел на меня и сказал сокрушённо:
— Сынок, могилу своим близким копать нельзя. Ты иди к батюшке, батюшка добрый, он всё разрешит. Вон там его дом, рядом с церквой.
Добротный деревянный дом был огорожен добротным же деревянным забором. Я много раз нажимал на кнопку звонка, стучал кулаками в калитку — никакой реакции. Наконец вышел священник с недовольным выражением лица и, выслушав мою сбивчивую речь, ответил, что он всё понимает, но ничего сделать не может, что есть такое положение в православии, запрещающее хоронить самоубийц на кладбище, но он хотел сделать исключение, а прихожанки всё узнали, пригрозили «копачам», что те никогда не получат работу, пригрозили ему, что напишут архиерею и он лишится прихода.
— Ну, что я могу сделать, если кто-то хочет быть непогрешимее папы? — патетически вопросил священник и развёл руками.
Потом развернулся, пошёл по дорожке к дому и, не оглядываясь, бросил фразу:
— Поступайте как знаете, я не разрешаю и не запрещаю.
Я вернулся на кладбище и продолжил копать могилу. Вдруг со стороны входа на кладбище, где стояла машина с гробом, услышал какие-то неистовые крики, визг. Чуя неладное, я выбрался из могилы и с лопатой в руке побежал туда. И тут увидел что-то страшное. Старухи с оскаленными лицами облепили машину, они уже открыли задний борт и с криками: «Вон её из машины! Вон её из гроба!» — начали тянуть к краю кузова гроб с телом матери.
Я растолкал задних старух, разбросал в стороны передних и, став к заднему борту машины с лопатой наперевес, наверное, со страшным лицом, закричал:
— Вороны! Ведьмы! Если хотя бы одна сволочь подойдёт к машине, убью вот этой лопатой! Задушу, разорву в клочья вот этими руками!
Старухи в оцепенелом страхе начали пятиться, и я, размахивая лопатой и что-то крича, как говорят военные, рассредоточил их по местности. И тут, как в сказке, когда изгоняется чудовище, начали появляться люди. Водитель молча полез к себе в кабину, подошли тётя и дядя и начали меня успокаивать, заохали, закивали головами другие люди, сваты взяли у меня лопату и пошли докапывать могилу.
Похоронили мы мать. Народ остался у могилы, начали раздавать стаканы, резать солёные огурцы. Я выпил полстакана и молча пошёл через кладбище и сквер к реке. Стоял на высоком с неровным спуском обрыве и курил. Рядом церковь, полинялая, с облезшей штукатуркой и в то же время архаичная и величественная. От церкви спад, затем выступ с жутковатым отвесом к воде. Наверное, с таких вот выступов бросались в воду, не останавливала и церковь. Вода насупившаяся, отяжелевшая, по желто-серой поверхности реки несутся наискось шершавые волны.
Смотрел я на всё это, и сделалось мне печально-грустно, как будто жаль было кого-то, наверное, себя.
В памяти всплыл ещё один эпизод. Во время службы в армии я был отправлен из одной части в другую. По дороге я решил рискнуть и заехал на несколько часов домой. И всё это время мать только и делала, что кормила меня домашними яствами, сетовала, что я худой, и умилённо смотрела, как я всё это наворачивал. Прощание было тягостным. Повзрослев и побыв в отдалении от дома, я уже начал понимать, вернее чувствовать, значимость матери в моей жизни, и хотелось это как-то выразить ей, но подворачивающиеся на язык слова казались выспренними, фальшивыми, сентиментальные же проявления в виде объятий, поцелуев в нашей семье не были приняты. Я молча шёл к выходу, и уже на подходе к двери меня накрыла жгучая волна любви и ощущение слитности с женщиной, которая шла позади меня. Тугой комок в горле перекрыл слова, я обернулся, распростёр руки к матери, но она молча их опустила и развернула меня за плечи вперёд. Я уже было взялся за ручку двери, но позади себя уловил движение воздуха, и вот уже спиной, сквозь грубую солдатскую шинель, я почувствовал, что мать прижалась ко мне, и через мгновенье она отчаянно поцеловала меня в спину.
Я стоял на высоком берегу реки и жил в том эпизоде, так же, как и тогда, в горле у меня сжимался тугой ком, но неожиданно он словно растаял, и слёзы медленно и горько-сладостно полились у меня из глаз. Я понял, что в жизни у меня наступает новый этап, что в нём будет много хорошего и плохого, но того прикосновения к большому и чистому, которое я испытал тогда, больше никогда не будет.
Пришёл на подворье тёти. Люди сливали друг другу на руки воду и смывали с лиц толстый слой пыли. Они как будто снимали с себя какую-то коросту, и лица их становились чистыми и светлыми.
Как дама поссорилась с дамой Из подслушанного в автобусе
Ну, я сижу у ней, она мне чай подливает и всё болтает, болтает, а мне припекает. Говорю:
— Ну ладно, хватит, побегу я домой.
А она:
— Да посиди же, я тебе ещё не дорассказала. Чайку попьём.
— Нет, — говорю, — некогда, да и в туалет я сильно хочу.
— Ну сходи в мой, — говорит она, — выйдешь на дворик и сразу направо по дорожке.
Выбежала я, семеню к туалету и приговариваю:
— Сейчас… сейчас… сейчас…
Открыла дверь, крючок опустила, трусы снимаю — раз! Быстро приседаю. А у нас унитаз. Свободно. А у неё стенка. И я об эту стенку этой самой. Полетела, согнувшись, головой в дверь, крючок выбила и согнутая, в раскоряку по дорожке потопала. Несёт меня, остановиться не могу, впереди ящик мусорный, а я руками трусы на ногах поддерживаю. Ну, думаю, воткнусь в ящик, надо сворачивать. И повернула. В кусты. Растянулась в кустах по земле, трусы на ногах, юбка кверху закинулась, эта самая наружу, отдышаться не могу и лёжа писаю. А тут она выбегает из дома и ко мне. Кричит сдуру:
— Я же тебе говорила направо, а тебя какой чёрт сюда понёс?! Туалет же вон там! — и ручкой показывает.
Лежу я, меня злость, досада разбирает. Кричу ей:
— Ах ты собака сиволапая! Сделала туалет на мою голову. Чтоб тебя, кобылу, с туалетом твоим взорвало!
А она мне:
— Тогда нам с тобой не об чем разговаривать.
И ушла. С тех пор мы с ней не разговариваем.
Бобби
Недавно приехала из Англии моя старинная приятельница, побывала она на экскурсии и в Шотландии. И вот из этой самой Шотландии она привезла интересную историю, которую и рассказала мне. Я, с её позволения, попробую вам передать эту историю.
Жил в одном шотландском городке человек по имени… сейчас посмотрю в свою записную книжку, она мне чётко назвала его имя и фамилию… ага, вот, человек, которого звали Джон Маккрогер. У этого Маккрогера была собачка по кличке Бобби. Собачка неопределённой, пёс его знает, какой породы, но это и не важно для нашей истории. Она была очень предана хозяину. Куда тот ни пойдёт — она за ним. Ждёт его у входа в паб, супермаркет или просто лежит у скамьи, когда хозяин отдыхает в парке.
И вот пришло время, когда Джон Маккрогер умер, но Бобби продолжала ходить по их прежнему маршруту. Она некоторое время сидела у входа в паб, супермаркет, потом лежала у привычной скамьи в парке, спать же она шла на могилу Маккрогера. Наблюдая за всем этим, жители городка прониклись любовью к Бобби, жалели её и подкармливали. Не знаю, сколько это продолжалось, но в один из дней смерть пришла за Бобби и забрала её. Жители городка организовали похоронный фонд, с почестями похоронили Бобби рядом с могилой её хозяина, а ещё через некоторое время на могиле собачки появилась ограда, скамьи и великолепно сделанное надгробие в виде огромной чаши, в которой постоянно стояли цветы с длинными стеблями. У основания чаши крупными буквами была выбита надпись, которая гласила: «Мы любим тебя, Бобби!» На маленькой надгробной табличке Джона Маккрогера, пониже дат рождения и смерти, белой краской маленькими буквами было приписано: «Хозяин Бобби».
Ваза Притча
Пришла как-то жена одного человека домой радостная, сияющая и говорит ему:
— Смотри, что я купила!
Занесла в комнату огромный свёрток и поспешно сняла с него упаковку. Перед ним предстала ваза. Надо сказать, что она ему сразу не понравилась: крутобокая, аляповатая, какого-то жёлто-зелёно-болотного цвета и, самое главное, несуразного размера: на стол поставить — велика, на пол — мала.
— Ну как? Правда она похожа на амфору? — восхищённо спросила жена.
Но, дабы не портить ей настроение, ответил:
— Ну что, хорошая ваза, нормальная ваза.
Сам же про себя подумал: «Господи, какой же дурак может делать такие вазы? — и по законам логики продолжил: — И какой же дурак их покупает?» Видя его хинное выражение лица, жена подытожила:
— Ты просто ничего не понимаешь.
С этого дня отрицательное притяжение к вазе стало нарастать. Она человека раздражала. Хотелось обзывать её всякими словами. И он её обзывал, благо никто не слышал: «Камфара ты недоделанная, чебышка тупая!» Чем бы он ни занимался, ваза притягивала к себе его внимание, она как бы дразнила: «А вот я такая, и ты ничего со мной не сделаешь!»
Вскоре негативное отношение к вазе достигло накала.
— А вот сейчас, — шипел про себя тот человек, — буду проходить мимо и «нечаянно» — толк ногой, ты — вдребезги!
И вдруг он понял: «Всё, ваза меня доконает!»
Он сел, расслабился, внимательно посмотрел на неё и спокойно сказал:
— Ваза, а зачем ты мне нужна? У меня свои интересы, у тебя — свои.
С тех пор она перестала для него существовать. А через несколько дней он как будто впервые её увидел и отметил для себя: «В общем-то, ваза ничего, даже интересная линия! И этот неопределённый цвет рождает такие романтические ассоциации».
Человек поехал в лес, набрал всяких веточек-палочек, поставил их в вазу, и она как бы зажила новой жизнью. Когда к ним приходили гости, он с нетерпением тащил их в комнату и восклицал:
— Нет, вы посмотрите, какая ваза!
И вот однажды, когда он вернулся с работы домой, с горестным выражением его встретила жена и похоронно сказала:
— Случилось несчастье. Твоя любимая ваза разбилась. Я нечаянно споткнулась об неё…
— Где она? — взревел человек и, узнав, что она в мусорном ящике во дворе, стремглав помчался туда.
Он собрал осколки вазы, бережно отнёс их домой, склеил «Моментом». Потом поставил в вазу веточки-палочки, перенёс вазу на её место, и она зажила прежней жизнью.
Перекрёсток Этюд
Выехал с бригадой на дорожное происшествие. На перекрёстке толпа, снующая, но молчаливая. Лица растерянные. В середине толпы на тротуаре девушка. Лежит полубоком, правая нога поджата, левая вытянута, лицо закрыто рассыпавшимися волосами и как бы прижато к асфальту. Одежда в пыли, не теле ссадины. Полусогнутые руки вытянуты вперёд, ногти до половины вошли в асфальт…
Она видела только его голову и плечи. Голова с плечами как будто плыла среди людей, а люди с их лицами и заботами смазывались, стирались, становились подвижными штрихами, фоном. Видна была только его голова и плечи. И они уходили всё дальше от неё. Вот голова с плечами, его голова, его плечи (!), вместе с толпой и в то же время независимо от неё перешли перекрёсток, и неверие её, нежелание поверить в эту действительность сразу перешло в страх, в страх, что эта голова, его голова с плечами исчезнут навсегда! Она рванулась к дороге, но уже ринулись машины. Гладкие, блестящие, они монотонно, неумолимо скользили и скользили по асфальту. Она с тревогой переводила взгляд с одной машины на другую, даже считала их. Затем посмотрела на противоположный тротуар и увидела, что его голова, его плечи ещё плывут среди толпы, их ещё видно, но они исчезнут, вот-вот исчезнут раз и навсегда. По дороге скользили чудовища, холодные, твёрдые, равнодушные. Голова с плечами начала скрываться, как будто нырять, потом всплыла опять, но уже на короткое время. Изнутри её тела ударной волной просквозило отчаяние, и она уже не чувствовала своего тела, не слышала шума, ничего не видела: ни этих чудовищ, ни людей. Она видела только его голову, его плечи. Выбежала на дорогу, и её сразу ударило чудовище чуть поменьше других — мотоцикл. Она отлетела, как мяч от биты, и упала. Но боли не чувствовала. Она и здесь, на асфальте, видела только его голову, его плечи. Поднялась и рванула вперёд, но чудовища как будто ждали её на дороге, как будто специально дежурили для этого. Длинное чёрное чудовище поддело её своим лбом и снова бросило на асфальт. Она закрутилась на асфальте и замерла. Уже были видны ссадины на лице её, теле, и кровь, и пыль. Это был конец. Но она неожиданно сразу вскочила на ноги и помчалась вперёд. Туда, только туда, где его голова, его плечи! Бежала стремительно, как вспышка! Она уже почти добежала до тротуара, оставался, быть может, один шаг, но другое чудовище зацепило её боком и выбило тело на тротуар, на тот самый, к которому она стремилась…
По показаниям свидетелей, она ещё проползла по тротуару около двух метров по направлению от дороги. Ногти почти до половины вошли в мягкий асфальт…
Времена года
Октябрь
На дворе сейчас начало октября. По нашим, южным, меркам — это юность осени. Трава и листья ещё свеже-зелёные, осень кое-где мазнула по листьям ореха и дикого винограда, и они выделяются на фоне зелени жёлтыми и красными пятнами. Утренники прохладные, бодрящие, кажется, что воздух и всё вокруг заряжено чистой энергией, и она проникает в тебя не только через лёгкие, но и через все поры тела. Почти каждое утро случаются туманы. Туман длинной тесьмой висит над рекой, иногда свисает в неё лохмами, а поверх него пробивается зарево восходящего солнца. Оно ещё не показалось, оно вот-вот. А пока…
А пока, как расплавленный свинец, чуть движется река, застыли в беге к реке деревья, роса сплошным слоем покрывает траву, листья, в кустах робко потренькивает птица, как будто проверяет проводимость воздуха. В душе чистая пустота и невысказанная благодарность Богу за то, что это есть, и за то, что ты всё это видишь. Видишь так новоявленно, как будто впервые.
Впереди ещё апофеоз осени — бабье лето с жёлтыми и багряными листьями, ленивой паутиной и последними ласками солнца. В финале осени будут гореть костры с горько-грустным запахом жжёных листьев, постепенное помрачнение неба и опустившийся занавес дождя.
Январь
Сумерки. Время между собакой и волком. Иду по дороге вдоль леса. Падает снег средними хлопьями. Пространство заштриховано снежинками, и словно сквозь сито смотрятся в снежных кружевах деревья. Сознание переходит в какой-то регистр тихого восхищения, внутри застывшего «Ах!».
Беззвучно летят снежинки, и вдруг над головой так же беззвучно, медленно пролетает большая птица, таинственно и многозначно. Регистр сознания опускается ещё ниже, по коже озноб, и хочется вопросить: «Ангел это иль Рок?»
Март
Ранняя весна. Река очистилась от панциря льда, лишь только по краям берегов белой неровной оторочкой закрепились ледяные остатки. Иду вдоль берега с рыбалки, рядом семенит собака. Остановились на прогалине леса. Воды в реке мало, как будто бы лёд забрал множество воды и ледоходом унёс с собой.
На противоположном берегу по-зимнему опустевшая база отдыха. И вот на помосте у самой воды девочка-подросток, держась одной рукой за перила, как у балетного станка, выполняла свои экзерциции. Полный мах ногой, отход, подход, какие-то вращения, которых я толком не понимал.
Я испытал поразительно радостное чувство, казалось, и собака в каком-то удивлении села, выпрямила уши и уставилась на тот берег. Лес голый, без листвы, кое-где только пробивается трава, солнце неизвестно где ходит, серость реки, неба… и вдруг девочка, изящный подросток вдохновенно в ритме выполняет свои упражнения.
Я не вытерпел и закричал: «Браво! Браво!» И ладони мои сами зашлись в хлопках.
Девочка отошла от своего станка, спустилась к берегу и, радостно улыбаясь, замахала рукой и, опять же, радостно закричала: «Привет!» Потом в ручной рупор вопросила:
— Что Вы здесь делаете?
— Ловим рыбу, — в свой ручной рупор прокричал я.
— Поймали?
— Да!
— Молодцы!
— И ты молодец! Отлично танцуешь!
— А как зовут собаку?
— Маша!
— Красивое имя!
— До свиданья!
— До свиданья!
Я отходил с собакой от берега в каком-то непонятном чувстве сродства, обретения.
За весной следует лето, в этом никто не сомневается, даже синоптики. Река стала полноводной, берега отошли друг от друга. Идём с собакой с рыбалки. Остановились у знакомой лесной прогалины. И вдруг, о чудо! На помосте противоположного берега у своего станка та прежняя весенняя девочка-подросток выполняет свои упражнения.
Я захлопал в ладоши, я закричал в ручной рупор: «Браво! Молодец!», но девочка молча продолжала делать свои экзерциции. Так-то так, так-то так, так-то такт.
Я кричал:
— Привет! Мы, это мы! Я и собака Машка! Рады видеть тебя!
Девочка продолжала делать свои упражнения. Мне так хотелось, чтобы она встрепенулась, подошла к берегу и что-нибудь радостно прокричала нам, но тщетно, она жила в своём мире и нас не слышала, а может, и не хотела слышать.
Уходили мы с собакой от берега. И как-то грустно стало мне, как будто я нашёл неожиданно что-то хорошее и враз потерял его невозвратно.
Август
Наша дачная собака Машка занемогла. Это Машка, которая маленькой встречала нас ползком по земле и от избытка чувств уписывалась. Потом она научилась улыбаться нам и нашим друзьям. В строгие обязанности Машки, ею же и определенные, было обязательное сопровождение домашних на прогулки.
Чаще всего она сопровождала меня, когда я шёл за грибами или на рыбалку. Но с начала августа состояние её стало ухудшаться, она всё медленнее и с трудом шла за мной по лесной тропе на рыбалку. Я её просил, умолял не ходить за мной, говорил, что ей надо набираться сил, поправляться. Она меня слушала, мелко помахивая коротким хвостом, но поступала по-своему.
В последующие дни она уже не могла идти за мной без остановок. Она садилась на тропу, переводила дыхание и опять плелась за мной к речке. Когда Машка уже ничего не ела и всё время лежала, я на всякий случай незаметно от неё ушёл на речку. Начал забрасывать свои рыбацкие снасти и с сожалением подумал, что вот собака уже не может меня сопровождать и дела её плохи.
Через время оглянулся, а она позади меня сидит, опершись на передние лапы и тяжело дышит. Подошёл к ней, начал гладить и говорить, что зачем пришла, у тебя очень плохое состояние, а она смотрит на меня преданно и как бы говорит:
— Так надо, как же ты без меня.
Это лето стало для нас летальным.
Апрель
Вновь и вновь тянет к Елагину острову, особенно сейчас, когда наступили белые ночи. Трезвому человеку подумать — и делать там нечего, тем более если один. И всё-таки выхожу из пансионата. Около одиннадцати вечера. Светлые сумерки, прозрачные сумерки. На западе красным подсвечивается небо, и от этого места длинными рядами тянутся чёрно-синие облака. Иду, не знаю зачем, к острову. Ни цели, ни мысли, ни мелодии. Тихо, пусто внутри, пустынно вокруг. Пустой мост. Подхожу к будочке в начале моста, жду, что, может быть, кто-либо выйдет и спросит что-нибудь или скажет, что нельзя идти. Прохожу под арочкой — никого. Тихо. Мост застыл. Воздух свежий, напитанный сыростью, и сырость как будто приглушает звуки. По голому мосту, лениво скользя, прошелестел полуистлевший лист, и звук шелеста серый, как и всё вокруг.
Справа дворец, застывший, мёртвый. Вдоль аллей стоят скамьи, пустые и холодные. Иду по аллее — никого, никакого звука. Конюшенный корпус, скамьи, голые скамьи — и никого. Тихо. Неестественные сумерки, когда кажется, что только начинает темнеть, а сумерки тянутся долго, томительно, монотонно. Иду вдоль пруда, заброшенного, захламлённого. Голые деревья, на кустарниках повылезали из почек несмелые листики, робко пробилась кое-где из земли бледно-зелёная травка — и всё это застыло в тягостном молчании.
Слева промелькнула, проплыла между деревьев какая-то пара в белых плащах, тихо, без звука, как привидения. Хотя бы кто-либо заговорил громко, засмеялся или бы засвистел. Тихо. Медленно тянущаяся тишина. Вдруг раздалась дробная трель соловья и оборвалась, как будто он понял свою нелепость и закрыл испуганно клюв. Внутри только какие-то намёки на мысли, намёки на грустную мелодию. Прошлое моё исчезло, о будущем не хочется думать, и вот настоящее — пустые аллеи, пустые скамьи, сумерки, которые ничего не скрывают, заглохший пруд, мёртвый, застывший дворец, конюшенный корпус, и висит в сыром воздухе пустая тишина.
Внутри тоже сумерки, которые ничего не скрывают, нечего им скрывать: пусто внутри, пусто и чисто. Ничего желаемого, ничего суетного. Что это? Вечность? Модель вечности или модель одиночества? И может ли быть вечность без одиночества? Ноги идут сами, без напряжения, без шума, без усталости. Тихо. Тихо. Тихо. Бесконечная, безвременная, бесчувственная тишина.
Декабрь
Начало декабря, а зимы нет. Власть сезонов у нас, на Кубани, неустойчивая, как в Гражданскую войну, когда на смену «красных» приходили то «зелёные», то «белые». Вот и сегодня у самого края леса обнаружил зацветающую алычу.
Постоянно осаждает туман, рыхлый, сырой. Деревья, кустарники, опавшая листва находятся в непросыхающей мокрости. Сырость пропитывает всё окружающее, кажется, и всего тебя. Зябко. Кисти становятся красными, как лапы гусей, которых выпасает мой сосед Максимыч. И только хорошая физическая работа изнутри наполняет теплом.
На небе постоянная мгла, и лишь изредка, пробившись сквозь неё, показывается солнце и устраивает маленький праздник. Зима близко. Она где-то затаилась в засаде с метелями, морозами и может грянуть в любой момент.
В старину, проверяя готовность и возможность перенести зиму, глава семьи приказывал поочерёдно домочадцам: «Ты, крикни! Ты, крикни!» и услышав бодрый крик, одобрительно отмечал: «Перезимуешь! Перезимуешь!»
Я пожелал бы нам всем, чтобы на указующий и вопрошающий перст Жизни мы ответили ей бодрым и жизнерадостным криком.
Послесловие — пустословие
Я, он же А. М. Иванов, родился давно, даже неприлично писать, ну ладно, родился в 1941 году, до войны.
Родился в Крещенье, в санях, Можно сказать, недовезенным, Выбрался в жизнь впопыхах, Но явно с каким-то намереньем.А намерения были, такие как вырасти, то есть оторваться от титьки, и через время постепенно окончить институт, и тут… ловлю себя на слове, что говорю стихами.
Закончив институт, не важно какой, ну, положим, медицинский, понял, что я не знаю, как жить, и потому начал учить людей этому. И знаете, успешно. Я и мои слушатели до сих пор не знают, как правильно жить, с чем я себя и их поздравляю.
Да, вот последнее:
Мордой в космос вперясь, Спрашиваю: — Ась? Автор



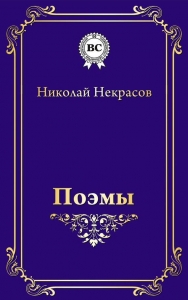



Комментарии к книге «Я грустью измеряю жизнь», Александр Михайлович Иванов
Всего 0 комментариев