Николай Карпов ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ Рассказы Стихотворения
РАССКАЗЫ
Тайна старого мастера
Илл. Н. Герардова
I
— Артур Ширм… Артур Ширм… Черт его знает, кто это такой. Не припомню… — пробормотал старый музыкант, вертя в руках визитную карточку.
— Просите его войти… — сказал он старухе-хозяйке.
Гость — высокий, худой мужчина, в потертом платье — вошел, поклонился музыканту и опустился в кресло. Музыкант внимательно всматривался в лицо гостя; лицо это было обыкновенно, только в черных глазах вошедшего отражался какой-то внутренний огонь.
— Чем могу служить? — отрывисто спросил музыкант.
— Я слышал, что вы продаете свою скрипку, я хочу ее купить, — тихо ответил Ширм.
— Вы скрипач?
— Нет, я скрипичный мастер…
— Видите ли, я хотел бы продать мою скрипку артисту, в руках которого она пела бы еще много лет. Сам я стар, руки мои дрожат, зрение у меня плохое, я скоро умру; я уже не могу играть, только поэтому я хочу продать мою скрипку. Для меня это не просто музыкальный инструмент, это — живой организм.
Мое сокровище сделано старым мастером сотни лет тому назад, таких скрипок вы уже не найдете нигде… Вы, вероятно, думаете ее выгодно перепродать?..
— Никогда! — вскричал Ширм. — Выслушайте меня, прошу вас. Я много лет работал над этим дивным певучим инструментом, достиг относительного совершенства в выработке скрипок, но чувствую, что это — не то, что мне хотелось бы сделать. Мечтой моей жизни было сделать такую же скрипку, какую делали старые мастера.
Я знаю, что даже от лака, покрывающего такие скрипки, зависит их поразительная певучесть, мои работы меня не удовлетворили, я решил купить вашу скрипку, изучить ее устройство, проанализировать каждый атом; может быть, мне удастся проникнуть в тайну старого мастера. Я продал свою мастерскую, оставив себе только необходимые инструменты, продал все вещи мои и моей жены, я занимал деньги всюду, где было можно. Вот все, что я мог собрать… — с этими словами Ширм положил на стол небольшой мешок с золотом. Музыкант долго сидел молча.
— Скрипка ваша, берите ее, — сказал он наконец, достал футляр и подал его гостю.
Ширм дрожащими от волнения руками расстегнул ремни футляра, взглянул на скрипку и, пожимая руку старого музыканта, сказал:
— Я не могу выразить вам своей благодарности, я не нахожу слов для этого. Душу свою я готов был отдать за эту скрипку. Прощайте, — и он выбежал из комнаты.
II
Ширм вошел в свою убогую комнатку и вскричал:
— Смотри, Анни, вот та скрипка, та знаменитая скрипка!
Маленькая бледная женщина в старом черном платье подошла к нему и дотронулась до футляра тонкой рукой.
— Подожди, Анна, я тебе ее покажу, — сказал Ширм, раскрыл футляр, вынул скрипку, смычок и заиграл. Как зачарованная, слушала Анна пение скрипки.
— Я счастлив, Анна. У нас с тобой нет ни гроша, но, клянусь тебе, скоро у нас будет много золота, я тебе куплю много красивых платьев и драгоценных камней. Как-нибудь проживем пока, я согласен голодать. Я буду делать скрипки, которые будут оцениваться на вес золота. Выйди из комнаты, ты мне можешь помешать; я тебя позову потом…
Оставшись один, Ширм долго рассматривал скрипку, дотрагивался пальцами до каждого выступа, трогал струны, ощупывал гриф. Водил смычком по струнам и со слезами умиления слушал пение скрипки.
III
Ширм разобрал скрипку, рассматривал ее части и на это уходило много дней.
Анна кашляла, хирела, но он не обращал на нее никакого внимания, машинально ел скудный обед и спешил к своей работе. Наконец, с ужасом понял он, что не может проникнуть в тайну старого мастера.
Как дикий зверь по клетке, метался он по комнате, в бешеной злобе кричал на жену, швырял в нее инструментами. Анна покорно выносила все, только в глазах ее застыл испуг.
Однажды он сказал ей:
— Прости меня, Анна, я, кажется, сошел с ума. Я потерял всякую надежду узнать тайну устройства старой скрипки и думаю ее склеить и придать ей прежний вид. Я могу ее продать на вес золота, но она останется у меня. Я поступлю в мастерскую и сумею прокормиться этим; игра же на этой скрипке утешит меня в моем несчастий. Не печалься, Анна!
Ширм подошел к столу и стал склеивать части скрипки, напевая грустную песню.
Когда работа была окончена, он настроил скрипку и провел смычком по струнам.
Но вместо нежного пения послышался хриплый визг.
— Анна, ты слышишь? Скрипка испорчена! — вскричал Ширм, далеко отбросил от себя инструмент, упал в кресло и зарыдал, как ребенок.
IV
На окраине города появился человек в лохмотьях. Его вид и блуждающие глаза пугают прохожих. Он кричит, блестя безумными глазами:
— Я нашел, клянусь вам, я угадал тайну старого мастера. Я знаю, как нужно делать скрипки! Вы думаете, что для того, чтобы сделать такую скрипку, нужно дерево? Вы ошибаетесь… Я вам открою тайну…
Гриф скрипки нужно делать из кости нежной женской руки, на струны нужно брать человеческие жилы, а в состав лака входит человеческая кровь — да! Если бы моя жена не умерла и люди не зарыли бы ее в землю — я сделал бы такую скрипку, уверяю вас!..
Этот человек — Артур Ширм, скрипичный мастер…
Сказка белой ночи Петербургский случай
Илл. В. Сварога
Я полностью передаю вам рассказ студента Т.
— В одну из белых ночей, когда душу томит какая-то особенная грусть, — я особенно остро почувствовал тоску одиночества и, несмотря на мерзкую погоду, вышел пройтись. Шел дождь. Навстречу мне попадались только спешащие прохожие с поднятыми воротниками пальто да проститутки. В этот вечер мне особенно захотелось побыть в женском обществе, я шел и мечтал о том, о чем мечтает большинство одиноких молодых людей: встретить случайно «ее», чудесным образом познакомиться, любить и быть любимым… Дождь усилился, и я зашел в одну из бесчисленных кофеен на главной улице столицы. Там я долго сидел за стаканом чая, смотрел на проходивших мимо гуляк и кокоток и скучал. Внимание мое привлекла молодая, красивая дама, прошедшая мимо под руку с молодым, изящно одетым господином. Они прошли по кафе и заняли столик напротив. Незнакомка по временам взглядывала на меня — и взгляды наши встречались. Мне она показалась идеалом красоты; несмотря на мою неопытность, я с уверенностью мог сказать, что она — не кокотка… Каково же было мое удивление, когда ее спутник подошел ко мне и, приподняв цилиндр, проговорил:
— Извините, сударь, что я, не будучи знаком с вами, решаюсь обратиться к вам с просьбой… Моя спутница просит представить ей вас… Вы ей напоминаете своей наружностью дорогого человека, которого она потеряла…
Порядочно сконфузясь, я подошел с ним к незнакомке, представился и присел напротив.
Разговор наладился.
— Вы, вероятно, очень скучали в одиночестве? — мелодичным голосом спросила меня незнакомка — и, как это бывает с молодыми людьми в обществе хорошенькой женщины, я разоткровенничался, рассказал ей про тоску одиночества и чуть ли не всю свою биографию. Она слушала внимательно, и под взглядом ее прекрасных голубых глаз я был готов рассказывать хоть целую вечность… Ее спутник рассеянно слушал наш разговор, попыхивая дорогой сигарой.
— Очень жалею, что мне остается так мало времени пользоваться вашим милым обществом: скоро кафе закроют и я снова буду обречен на одиночество… — сказал я, взглянув на часы.
— Но мы еще можем не расставаться, — улыбаясь, возразила незнакомка, — если хотите, мы поедем вместе в одно общество… Там вам будут рады…
— Но будет ли это удобно?.. Я не знаком с вашим обществом и, наконец, в такой поздний час…
— Пустяки! — перебил меня спутник незнакомки. — Если мы вас приглашаем, значит — это вполне удобно… Только вы дайте слово, что исполните все, что от вас потребуют, и не будете удивляться ничему… Затем, я попрошу вас дать мне свой адрес…
Я готов был в обществе прекрасной незнакомки ехать хоть на край света, и, разумеется, дал слово. Мы вышли из кафе, сели в карету, стоявшую у подъезда, и поехали. Я сидел рядом с незнакомкой и чувствовал себя счастливейшим из смертных. Ехали мы довольно долго… Наконец, карета остановилась, мы вошли в подъезд большого дома и поднялись по устланной коврами и уставленной тропическими растениями лестнице в верхний этаж. Дама прошла в коридор, а мы с ее спутником очутились в большой красной комнате почти без мебели, освещенной яркой люстрой с гранеными подвесками.
— Прошу извинения, но я должен вас оставить… Слуга принесет вам платье, в которое вы должны переодеться. Затем вы последуете за ним… Вот и все… — сказал спутник незнакомки и удалился.
Оставшись один, я почувствовал легкую тревогу. Что это за люди и к чему эта странная таинственность, которой они себя окружают? Мои размышления были прерваны слугой-негром в восточном костюме; он положил на диван сверток и развернул его. В свертке был восточный костюм, вышитый золотом. Негр знаком указал на него, и я понял, что должен одеть это платье. С помощью негра я переоделся и взглянул на себя в трюмо. В богатом восточном наряде я показался себе положительно красавцем. Негр, сверкая белками глаз, пригласил меня знаком следовать за собой.
Я прошел за ним в коридор и вошел в большой, освещенный несколькими люстрами и полный гостями зал; мне бросилось в глаза подобие трона под балдахином против дверей. Когда я вошел, гости — молодые люди и дамы в дорогих восточных нарядах — стали шпалерами от дверей до высокого кресла под балдахином.
Ко мне подошел спутник незнакомки, одетый в восточный костюм, и, почтительно склонясь, сказал:
— Верноподданные приветствуют своего повелителя и радуются, что видят его в его дворце… Все желания повелителя — закон для его рабов… Пусть он выражает свою волю — мы будем счастливы повиноваться…
Я стоял, оглушенный, ослепленный, ничего не понимая. «Что это за комедия?» — думал я, всматриваясь в лица незнакомых людей. Эти лица были серьезны, даже торжественны… Один из незнакомцев почтительно взял меня под руку и усадил в кресло под балдахином. Я был очень обрадован, когда увидел рядом с собой незнакомку, с которой встретился в кафе; в восточном костюме она показалась мне еще красивее, ослепительнее; она наклонилась ко мне и, блестя глазами, тихо спросила:
— Рад ли повелитель видеть ту, которая назначена судьбою ему в жены?
Я ответил ей красноречивым взглядом.
— Разрешит ли повелитель начать танцы? — спросил один из незнакомцев. Я кивнул головой. В зал впорхнули несколько танцовщиц в легких белых одеждах и склонились перед моим троном. Послышался звон незримых струн, исполняющих странный мотив, танцовщицы сорвались со своих мест и, как бабочки, закружились в плавном танце. Когда танцовщицы удалились, моя соседка наклонилась ко мне и шепнула:
— Повелитель, — пора начать пиршество…
Она жестом подозвала одного из присутствующих, шепнула ему несколько слов и, взяв меня под руку, повела в большую комнату, в которой был сервирован ужин. Все присутствующие попарно последовали за нами, и мы уселись за стол, уставленный блестящими серебряными блюдами, тарелками, вазами с цветами, графинами и хрустальными бокалами. Слуги-негры, бесшумно ступая по коврам, разносили кушанья. От волнения я не мог есть, но пил довольно много… Во время ужина я заметил исчезновение моей соседки, и, подозвав знаком слугу, спросил его, куда она ушла.
— Супруга ждет повелителя, — ответил он почтительно.
Я встал и последовал за ним. Он остановился перед дверью, завешенной голубой портьерой, и молча указал на нее. Я откинул портьеру и вошел в голубой будуар, слабо освещенный светом голубоватого фонаря, привешенного к потолку.
Незнакомка, с распущенными белокурыми волосами, в белом широком платье с широкими рукавами и низким вырезом около шеи, встретила меня, ласково взяла за руку и усадила рядом с собой на кушетку. Помню, я клялся ей в любви, говорил, что за один ее поцелуй готов отдать всю свою тусклую жизнь и, ей Богу, был совершенно искренен: она была так прекрасна. Незнакомка смеялась тихим смехом, целовала, прижимаясь ко мне, и называла меня ласковыми именами, которые придумывает только любящая женщина. Наконец, она встала, налила из графина в бокал вина, подала его мне и сказала:
— Выпей, милый, это освежит тебя…
Я жадно выпил вино и… заснул, или лишился чувств — не помню. Проснулся я на другой день в своей убогой каморке. Стал вспоминать происшествия этой ночи и решил было, что это был сон, но, к удивлению моему, нашел на столе письмо на мое имя: письмо объясняло все.
Там буквально было следующее:
«Милостивый государь! События этой ночи будут для вас загадочны, и мы решили объяснить вам все, чтобы вы не думали, что все это было сном. Дело в следующем: мы — компания великосветских молодых людей и дам — учредили общество с целью хотя раз в жизни дать возможность нескольким молодым людям, которые страдают от одиночества, провести одну ночь ярко и почувствовать себя счастливыми в необыкновенной обстановке. Мы думаем, что воспоминание о таком золотом сне, пережитом наяву, хотя немного скрасит тусклое существование каждого одинокого молодого человека. Раз в месяц одна из наших дам, вытянувшая счастливый жребий, делается повелительницей на одну ночь, идет в сопровождении одного из нас в те места, где проводят время одинокие молодые люди, и избирает там себе повелителя. Этому счастливцу предоставляется право быть ее кавалером, его желания исполняются, как желания короля. Как видите, цель нашего общества — филантропическая. Остальное вы знаете…»
Я два раза перечитал письмо и положил его на стол. Когда же я взял его снова, — буквы стерлись и ничего нельзя было разобрать, по-видимому, оно было написано особыми чернилами, которые от действия света обесцвечиваются. Хозяйка мне рассказала, что утром меня, мертвецки пьяного, привез неизвестный молодой человек и уложил в постель. И, уверяю вас, эта ночь останется у меня навсегда в памяти, как золотой сон, пережитый наяву…
— Да, — прибавил мой собеседник. — Это была красивая сказка.
Волшебное зеркало
Когда приказчик открыл дверь в дом, на Рязанцева пахнуло тем особенным сырым запахом, который бывает в нежилых помещениях, и он, невольно вздрогнув, шагнул в темный, узкий коридор, а оттуда прошел в столовую и осмотрелся.
Посредине столовой стоял длинный стол, покрытый чистой белой скатертью, у стен были расставлены дубовые стулья с резными спинками, сквозь стеклянную дверь дубового шкафа тускло блестела чайная посуда.
Рязанцев прошел в гостиную, удивляясь строгому порядку, царившему в доме, хозяин которого умер два месяца тому назад. На голубой плюшевой мебели белели чехлы, на круглом столе пред диваном были аккуратно разложены альбомы в желтых и коричневых сафьяновых переплетах, со стен из позолоченных рам старых портретов смотрели старики в военных мундирах с лентами через плечо и дамы в голубых платьях.
Пятна солнца сияли на паркете у широкой стеклянной двери, выходившей на балкон, столбики которого были перевиты цепким зеленым плющом и диким виноградом. В спальне на широкой кровати белели горы подушек, на ночном столике стояли графин с водою, стакан и свеча в серебряном подсвечнике.
В библиотеке Рязанцев нашел много книг, наваленных беспорядочными грудами на полках четырех шкафов со стеклянными дверцами, в углу — кучу пожелтевших от времени газет. В кабинете на зеленом сукне письменного стола были разложены бумаги, блокноты и стоял серебряный письменный прибор. На одной из стен висели несколько охотничьих ружей разных систем, оленьи рога и патронташ.
Рязанцев снял шинель, фуражку, отстегнул шашку, бросил все на кожаный диван у стены и осмотрелся. Заметив завешенную темной портьерой дверь, он спросил:
— А что это за дверь?
Следивший за ним приказчик замялся.
— Не могу знать, ваше благородие, — ответил он наконец, — покойный барин, ваш дядюшка, никогда не открывал.
Надо полагать, комната там какая-нибудь.
Рязанцев сел в кресло у письменного стола и закурил папироску. После двух суток езды в вагоне и трехчасовой тряски в экипаже он чувствовал себя разбитым, но новизна положения и обстановка взвинчивали нервы и спать ему не хотелось.
— Вот что, голубчик, пришли мне молока да хлеба. А завтра мы с вами осмотрим постройки и съездим в поле, — сказал он неподвижно стоявшему пред ним приказчику.
— Слушаю, ваше благородие… А вы не забоитесь здесь одни? Может, прислать вам кого?
— Нет, не надо, — нетерпеливо ответил Рязанцев, — можете идти!
— Счастливо оставаться! — поклонился приказчик и вышел, стуча толстыми подошвами смазных сапог.
Это неожиданное наследство от старого чудака-дяди выбило Рязанцева из колеи, заставило на неопределенное время распрощаться с прелестями городской жизни.
Товарищи по полку были уверены, что он выйдет в запас. Еще бы! около тысячи десятин земли, хорошая усадьба; есть где похозяйничать.
Продавать землю Рязанцев не хотел: подъезжая к усадьбе, он уже успел окинуть хозяйским взглядом цепь каменных амбаров, просторный скотный двор, старый фруктовый сад, крытый зеленым железом дом с высоким балконом, светлую гладь пруда с посеревшей от дождей купальней, — и в нем проснулся инстинкт собственника.
Неожиданно ему припомнилось толстое, сонное лицо приказчика с маленькими плутоватыми глазами, и он усмехнулся.
«Этого гуся лапчатого прогоню к черту. Спит, вероятно, каналья, двенадцать часов в сутки и воровать мастер. Посмотрим завтра, как он здесь хозяйничал. Найду знающего управляющего, тот хотя и будет воровать, да будет дело делать. А сам в полк. Буду получать доход с именья, что даст хорошую прибавку к жалованью, и дело с концом. А здесь можно умереть со скуки. Надоест служба, тогда посмотрим».
Размышления Разанцева были прерваны приходом женщины в синей кофте и красной юбке, поставившей прямо на сукно письменного стола черный узкий горшок с молоком, стакан и тарелку с несколькими ломтями черного хлеба.
— Ничего еще не нужно, барин? — спросила она.
— Ничего. Можете идти.
Рязанцев выпил залпом стакан молока, съел ломоть хлеба и закурил папиросу.
* * *
Наступили сумерки. Стерлись острые углы мебели и потонули в темноте два старых портрета, висевших рядом на стене. Рязанцев сидел неподвижно и курил папиросу за папиросой. В его воображении встал образ его дяди, высокого седобородого старика с пергаментным лицом и зеленоватыми глазами. Рязанцев видел его всего один раз, когда был юнкером. Дядюшка зашел к нему в училище, вызвал Рязанцева, посидел с ним несколько минут в приемной, стуча своими синими зубами, и, пристально всматриваясь в лицо племянника, пробормотал: «Вот ты какой! Молодец, молодец!» — подарил ему на прощанье сторублевую бумажку и удалился шаркающей походкой.
Рязанцев слышал, что дядя много путешествовал по Востоку, но ни одна вещь в доме не напоминала об экзотических странах. По дорог ямщик сообщил ему, что дядюшка в последнее время был «малость не в себе». Рязанцев вздрогнул, вспомнил острый взгляд зеленоватых глаз старика и его пергаментное лицо, зажег обе свечи на письменном столе и заходил по комнате, прислушиваясь к звуку собственных шагов и мягкому позвякиванию шпор. Затем он подошел к письменному столу и стал выдвигать ящики. Там лежали пачки пожелтевших писем, аккуратно перевязанные голубыми лентами, металлические пуговицы, револьверные патроны, несколько старинных серебряных монет, небольшой кинжал с костяной рукояткой в красных сафьяновых ножнах и большая связка ключей.
Рязанцев вспомнил о таинственной двери, откинул портьеру и нажал медную ручку, но дверь не открывалась. Он вставлял в замочную скважину один ключ за другим, но безуспешно.
Рязанцев уже решил утром позвать слесаря, но один из ключей повернулся в замке, и дверь со скрипом отворилась. В темноте нельзя было рассмотреть ничего, таинственная комната казалась пустой. Рязанцев взял свечу и вошел. Пламя свечи задрожало на пороге, узкая полоса света легла от двери до противоположной стены и в тусклом свете Рязанцев увидел круглый стол посредине комнаты, подвешенную к потолку лампу, удобное кожаное кресло у стола, небольшой шкаф у стены и большое круглое зеркало в золоченой раме, висевшее против стола. Рязанцев качнул лампу и, услышав бульканье керосина, зажег ее. Комната осветилась ярким беловатым светом, и на фоне темно-синих обоев выпукло выступили предметы.
Стол в комнате был черный, лакированный; на нем стояла толстая пустая бутылка из-под шампанского. Кресло было обито коричневой кожей, из двери шкафа торчал ключ. Стекла единственного окна были матовые, и снаружи нельзя было виден внутренность комнаты.
Рязанцев был разочарован: он ожидал найти здесь массу интересных предметов, особенно роскошную мебель или оружие, и ничего не нашел. Эта почти пустая комната с особенным запахом, похожим на пряный запах жасмина, была, вероятно, просто лишней.
Рязанцев подошел к шкафу, открыл дверцу и взглянул в него. На трех полках были разложены горки желтоватых сигареток и восковых спичек. Он взял несколько сигареток, уселся поудобнее в кресло и стал курить. Сигаретки были крепкие, и у Рязанцева слегка закружилась голова. Он скользнул рассеянным взглядом по странной комнате и, взглянув в зеркало, замер от удивления; в зеркальной дали отражалась совершенно другая комната, с бледно-голубыми обоями, с туалетным столиком, на котором были расставлены хрустальные граненые флаконы, с пухлыми пуфами, кушеткой и с высокими вазами, полными алых и белых роз. Пол комнаты был устлан коврами с затейливыми рисунками, в стене была заметна дверь, полузакрытая портьерой.
«Галлюцинация!» — решил Рязанцев и, бросив сигаретку, ущипнул себя за руку.
Почувствовав боль от щипка, он открыл глаза и взглянув в зеркало, снова увидел голубую комнату.
Портьеры были откинуты, в комнате была видна дама, вероятно, только что вошедшая. Она была в малиновой широкополой шляпе с белыми перьями, в черной бархатной кофточке и черной узкой юбке. Медленным жестом незнакомка подняла руки, вынула из шляпы булавку, бросила шляпу на круглый столик, сняла кофточку и опустилась в низенькое кресло прямо против Рязанцева, не отводившего взгляда от бледного лица, на котором блестели черные лукавые глаза, от ее высокой светлой прически и гибкой фигуры, обтянутой узким черным платьем.
Взгляд незнакомки рассеянно скользнул по комнате и остановился на Рязанцеве. Под этим взглядом сладко замерло его сердце, он не мог шевельнуться, словно застигнутый врасплох. Незнакомка улыбнулась, блеснув жемчугом зубов, и протянула руку, как бы приглашая его подойти ближе. Он с усилием поднялся, шатаясь, сделал несколько шагов вперед, но видение исчезло, и в зеркале отражалась комната с темно-синими обоями. Когда Рязанцев сел в кресло, в зеркале снова появилась голубая комната. Незнакомка с укором посмотрела на Рязанцева, откинулась на спинку кресла и задумалась.
Рязанцев дрожащими руками закурил сигаретку. Когда он взглянул в зеркало, голубая комната подернулась туманом, в котором потонула фигура незнакомки, и видение исчезло.
Рязанцев осмотрелся. От света зари розовели матовыми стеклами окна, в лампе выгорел керосин, и она чадила. Рязанцев погасил огонь и подошел к зеркалу, постучал пальцами по его скользкой поверхности, по дереву рамы и заглянул в промежуток между стеной.
Там он увидел только лоскутья паутины и серый налет пыли. Шатаясь, побрел он в спальню, лег в постель, но еще долго не мог заснуть. Незнакомка встала в его воображении, как живая, ее черные глаза жгли его упорным взглядом, и ему казалось, что он сходит сума.
Он заснул, когда стало уже совсем светло.
* * *
Проснулся Рязанцев поздно. Он чувствовал тупую головную боль и неприятный вкус во рту[1].
Сбросив дремоту, он закурил папироску и припомнил события прошедшей ночи. Он был уверен, что виденное им не было сном или галлюцинацией, — слишком ярко вырисовались в его воображении голубая комната и стройная фигура незнакомки с бледным лицом и гипнотизирующим взглядом.
Рязанцев встал и вышел в столовую, где на столе стоял потухший самовар и блестела чайная посуда. Кипяток в самоваре остыл, но Рязанцев с наслаждением выпил два стакана теплого чая и съел пару яиц. Вошедшей женщине он велел налить керосина в лампу, висевшую в таинственной комнате, и направился туда.
Тускло блеснула холодная поверхность зеркала, отражавшая комнату с темными обоями, и пожелтевшее лицо Рязанцева. Он долго стоял пред зеркалом, потом зажег лампу, беловатый свет которой сбился с ровным светом, проникавшим сквозь матовые стекла окна, сел в кресло и взглянул в зеркало, но там по-прежнему отражалась комната с матовыми обоями. Рязанцев ужаснулся при мысли, что видение не повторится, и он никогда не увидит прекрасного лица незнакомки. Он вспомнил, что курил вчера сигаретки, взятые из шкафа. Может быть, под влиянием наркоза видел он вчера голубую комнату?
Он вскочил, открыл шкаф, торопливо закурил и с надеждой стал смотреть в зеркало, но там по-прежнему отражалась комната с темными обоями. Не из желания проникнуть в сущность таинственного явления, а побуждаемый лишь дикой жаждой видеть незнакомку, видеть во что бы то ни стало, Рязанцев курил сигаретку за сигареткой, курил до тошноты, но видение не повторялось.
Странная тоска охватила все его существо, он бесцельно слонялся по комнатам, лежал на диване. Пробовал он было пойти в сад, но скоро его потянуло назад, в таинственную комнату. Приказчику он приказал его не беспокоить, лег на диван и лежал неподвижно.
Когда же сумерки прильнули к окнам, затихли голоса рабочих в усадьбе и в тишине послышалась частая дробь колотушки ночного сторожа, Рязанцев вошел в таинственную комнату, зажег лампу, сел в кресло, закурил сигарету и взглянул в зеркало.
Сердце его замерло от счастья, когда он увидел голубую комнату и незнакомку. Она была в том же черном платье, только к ее корсажу была приколота алая роза. Незнакомка сидела, откинувшись на спинку кушетки, и по временам ее взгляд обжигал неподвижно сидевшего Рязанцева. Иногда она вставала и расхаживала по комнате, перебирая на столиках флаконы. Рязанцеву казалось, что он слышит шорох ее платья и тихие вздохи. На рассвете видение исчезло, и Рязанцев, измученный бессонной ночью, но счастливый, потушил лампу и лег в постель.
* * *
Уже несколько дней жил Рязанцев странной жизнью. День ему казался бесконечно долгим, хозяйством он не интересовался и с нетерпением ждал ночной темноты, чтобы испытать счастье снова видеть незнакомку. Он стоял как бы на грани между явью и чудесным, не пытался объяснить себе странное явление, которое его уже не поражало. В нем выросла странная уверенность, что настанет час, когда он обнимет незнакомку, будет осязать ее тело, слышать ее голос и смех.
Все его желания и стремления замкнулись в стенах таинственной комнаты. Теперь он не пытался уже подходить ближе к зеркалу, зная, что при его приближении видение исчезнет, а сидел неподвижно и не сводил взгляда с лица незнакомки[2].
Однажды он заснул после обеда и проснулся поздно ночью, дрожа от мысли, что потерял несколько драгоценных часов. Поспешно направился он в таинственную комнату, сел в кресло и взглянул в зеркало. По коврам в голубой комнате в волнении расхаживала незнакомка, на этот раз не обращая внимания на неподвижно сидевшего Рязанцева. Ее бледные щеки по временам вспыхивали нежным румянцем, черные глаза блестели ярче обыкновенного, в руках она нервно комкала белый клочок бумаги.
Неподвижно завешанная портьерой дверь открылась, и Рязанцев вздрогнул от удивления. В голубую комнату вошел человек в черном плаще, в черной широкополой шляпе с пером и стал у двери.
С тревогой смотрел Рязанцев на его смуглое худое лицо с лихо закрученными усами, остриженной бородкой и горящими мрачным огнем глазами. Вошедший не сводил горящего взгляда с лица незнакомки, в ужасе отшатнувшейся от него. Рязанцев увидел, как незнакомка, словно зачарованная мрачным взглядом человека в плаще, нервными шагами подошла к нему. Торжествующая улыбка мелькнула на тонких губах вошедшего, его руки властно легли на талию незнакомки и она, словно покоренная его взглядом, прильнула губами к его губам[3].
В бешенстве вскочил Рязанцев, схватил тяжелую бутылку, стоявшую на столе, и швырнул в зеркало. Послышался звон разбитого стекла, на пол полетели осколки, и вместо зеркала Рязанцев увидел дерево рамы с кое-где прилипшими кусочками стекла. Сознание непоправимого несчастья заставило его бессильно опуститься в кресло.
Долго сидел он неподвижно, и ему казалось, что он в эту ночь вместе с зеркалом разбил свое счастье. Когда же лучи солнца позолотили матовые стекла окна и на полу заблестели осколки зеркала, он встал, движением автомата надел шинель, фуражку, пристегнул шашку, вышел на крыльцо и приказал проходившему мимо рабочему позвать приказчика.
Подошедший приказчик с удивлением посмотрел на его бледное лицо[4] и снял шапку, но Рязанцев стоял молча и продолжал смотреть куда-то вдаль, поверх соломенной крыши конюшен. Приказчик спросил:
— Изволили звать, ваше благородие?
Рязанцев вздрогнул, быстро взглянул на него[5] и сказал отрывисто:
— Сейчас же заложить мне тройку! Я уезжаю.
— Надолго, ваше благородие? — робко спросил приказчик, вертя в руках шапку.
— Не знаю… Я потом вам напишу, — устало ответил Рязанцев, продолжая смотреть куда-то.
Тройка, громыхая[6], подкатила к крыльцу.
Рязанцев быстро вскочил в коляску и крикнул:
— Пошел!
Лошади рванули вперед, застучали бревна деревянного мостика[7].
Рязанцев сидел, закрыв глаза, по временам толкал кулаком ямщика в спину и отрывисто говорил:
— Пошел!
Колдунья
Павел медленно шел по порубу узенькой, поросшей кудрявой муравой дорожки, которая вела к крупному лесу. Желтый Султан, помесь дворняжки с гончей, шнырял по кустам, обнюхивая траву, выбегал на дорожку и снова с треском скрывался в густой зелени поруба. Лесник, по привычке, прислушивался к лесным шорохам, и ухо его различало и резкое постукивание дятла, доносившееся из крупного леса, и монотонное жужжанье насекомых в зеленой траве, и предвечернюю болтовню дроздов на опушке. На краю оврага, отделявшего крупный лес от поруба, Павел услышал сердитое ворчали Султана и, переложив берданку из правой руки в левую, бросился в овраг, цепляясь за ветки свободной рукой, Впереди затрещали кусты, и навстречу ему вышла молодая высокая баба в красном ситцевом сарафане и белом платке. Смуглое, с большими карими глазами и вздернутым носом, лицо ее было угрюмо, бледные бескровные губы были плотно сжаты. Подол ее красного сарафана был высоко подоткнут, из-под него виднелась белая домотканая рубаха.
Павел остановился, отозвал собаку и строго сказал:
— Ты чего здесь шатаешься?
Баба спокойно взглянула на медную бляху на его сером кафтане; перевела взгляд на медного орла на его шапке и, сунув пучок травы в подол, тихо ответила:
— Травы собираю… А ты аль испугался, думаешь, чай, все твои ягоды унесу? Мне, милый, ни твоих ягод, ни грибов не надобно… — и она улыбнулась, сверкнув белыми зубами…
Лесник сердито взглянул на нее: он привык видеть у баб, которых заставал в лесу без билета, испуганные лица и молящие взгляды.
— А билет у тебя есть? Без билета по лесу ходить не полагается… Возьму вот, да представлю тебя на кордон к объездчику…
— Аль тебе травы жалко, сам ее сеял, што ль? Аль сам ее будешь жрать, траву-то? — насмешливо заговорила баба, поправляя загорелой рукой на голове платок.
— Убирайся из леса — и весь сказ… Еще разговаривает! Иди, добром говорю… — сказал Павел и с угрожающим видом сделал шаг вперед.
Баба взглянула ему прямо в глаза холодными карими глазами, выбросила из подола пучок травы и, повернувшись, пошла по тропинке из оврага.
Лесник молча пошел за ней, вышел из оврага и, провожал ее глазами, остановился у опушки. Баба перепрыгнула через канаву, отделявшую казенный лес от крестьянского поля, перешла узенькую полоску темного пара, вышла на дорогу, ведущую к селу и, повернувшись к леснику, звенящим голосом крикнула:
— Погоди ты, черт комолый, ты меня попомнишь! Травы тебе стало… жалко? Лихоманка тебе в ребра, идол толсторожий. Погоди, я те покажу!..
— Ведьма проклятая, — пробормотал Павел и, вскинув берданку за плечи, зашагал к кордону.
Дома, вешая ружье на гвоздь, он сказал жене:
— Знаешь, Варька, кого я встретил в лесу-то? Агашку-знахарку…
— Да ну? — и Варька выжидательно посмотрела на него.
— Травы какие-то собирала… — продолжал Павел, садясь за дубовый стол, — да я ее прогнал к черту… Грозилась, лихоманку сулила, проклятая…
— Зря это ты, Паша… — тихо сказала Варька, громыхая в печке ухватом, — и взаправду напустит… Шут с ней, пускай бы собирала траву, ай ее мало в лесу-то…
— Много ты понимаешь! — раздраженно вскричал Павел. — Рази я могу дозволять, штобы без билета по лесу шлялись? Для чего я здесь приставлен? Для охраны! Ну, то-то и оно… Давай ужинать, пора… — прибавил он уже спокойнее.
Варька подала на стол чашку со щами, ложки и краюху хлеба.
Несколько минут они молча хлебали щи.
— Не могу я дозволить, чтобы по лесу шлялись… — заговорил снова Павел, словно оправдываясь. — А может, она пришла лыки драть, бес ее знает… А я за все в ответе…
— А все-таки зря ты ее обидел… — упрямо повторила Варька, — она может тебе всякую пакость устроить… Слыхал, чай, как она Васьки Бубнова мальчонку испортила? Пришла, вишь ты, она к Ваське за картошкой; он ее прогнал да еще обругал черным словом. Она ему пригрозила, а к вечеру мальчонка его весь в жару мечется, анчутки ему представляются… Беспременно, она наслала… А у Микишиных сразу обе коровы сдохли, так тоже, говорят, она подстроила… Сердита она была на них…
— Мало ли што болтают, стану я всякие бабьи россказни слушать! — вскричал Павел и встал из-за стола.
Варька убирала посуду.
— Надоть Султану хлеба бросить… — сказал Павел и вышел из избы. Он сел на бревно у завалины, бросил собаке хлеб и, свернув цигарку, закурил. В нем нарастала какая-то смутная тревога, предчувствие какого-то неизбежного несчастья, в глубине души он уже раскаивался, что обидел Агашку. Ночью, лежа на нарах рядом с женой, он ворочался с боку на бок, вздыхал и не миг заснуть. Неотвязная мысль, что колдунья отомстит, как назойливый комар, не дала ему заснуть до рассвета. А на дворе неистово лаял Султан и со злобным ворчаньем бросался в лес, но Павел не решался выйти из избы и взглянуть в темноту.
Рано утром, невыспавшийся и злой, Павел пошел в обход и вернулся к обеду мрачный, как туча.
— Аль порубку нашел? — робко спросила Варька, собирая обедать.
— Не хочется… — неохотно ответил Павел. — В груди сосет што-то…
Варька испуганно взглянула на него, взгляды их встретились, и Павел насупился.
— Беспременно это она, проклятая… — плачущим голосом вслух докончила свою мысль Варька.
Павел молча, с усилием, прожевывал хлеб, пища не шла ему в горло, руки его стали словно деревянные, он испытывал странную безотчетную тоску, делавшую его тело вялым.
После обеда он долго лежал на нарах, потом встал и стал надевать кафтан.
— Аль в обход? Не ходил бы уж, коли нездоровится… — сказала Варька.
— На село пойду… Табаку нужно купить… — тихо ответил Павел и вышел из избы. Султан радостно бросился ему навстречу, но он схватил его за ременный ошейник, запер в сенях и пошел по дороге к селу.
Через час он сидел в избе бабки Луканихи, торговавшей тайно водкой.
Маленький огарок сальной свечки тускло освещал закоптелые стены избы и блестел на зеленоватой бутылке и на образах в переднем углу. Двое белоголовых ребятишек, прячась за печку, с любопытством смотрели на гостя. Павел пил теплую, противную на вкус водку, закусывал солеными огурцами и говорил бабке Луканихе, маленькой старухе со сморщенным лицом, напоминавшим печеное яблоко:
— Скушно мне, бабка Луканиха, так скушно, что и белый свет не мил… Оттого и лью… Да и недужится што-то…
— С чего бы это? Мужик ты здоровый… — удивлялась бабка Луканиха, подперев ладонью щеку и с сочувствием смотря на гостя. — Может, в жару холодной воды испил? Может, лихоманка?
— Нет, бабка, не лихоманка… — уныло ответил Павел, — в груди сосет… И хворь эта отчего — знаю… Вчерась я Агашку турнул из лесу, так это она, проклятая…
— Вестимо, она… — согласилась Луканиха, сочувственно кивая головой. — А ты бы, касатик, к ней наведался, да поклонился бы ей, ведьме, может, и снимет хворь-то?
— Штобы я к ней с поклоном пошел! — вскричал захмелевший Павел, ударяя ребром руки по столу. — Да лучше я ей, ведьме, башку разобью… Подохну, а не пойду!..
Расплатившись с Луканихой, Павел вышел из избы и пошел по селу.
Павел вышел из околицы и направился к лесу, но внезапная мысль, что ему придется идти темной чащей, заставила его остановиться и повернуть назад. Сосущая боль в груди усиливалась, он почти задыхался, чувствовал тупой страх и странную жалость к самому себе. У околицы он решил пойти к Агашке.
— Шут с ней, поклонюсь, голова не отвалится… — думал он, — уж ли ж пропадать ни за что?
Изба Агашки стояла в лощине, довольно далеко от прочих изб.
Павел отворил дверь и робко вошел в избу, освещенную тусклым светом жестяной лампочки, подвешенной к стене. Под низким потолком висели на мочальных бечевках пучки сухих трав, в переднем углу вместо образов несколько серых заячьих шкурок. Агашка сидела за столом без платка и среди черных растрепанных волос лицо ее казалось особенно бледным.
— Ну, чего тебе ночью понадобилось? — сурово спросила она. — Вчерась в лесу травы для меня пожалел, а нынче в гости… Соскучился, што ли?.. Садись уж, коли пришел…
— Да я ведь, ей-Богу, ничего, Агаша, — тихо заговорил Павел, опускаясь на лавку и робко косясь на кота. — По мне, хошь каждый день ходи в лес… Дело наше подневольное, за все в ответе… Закон — положенье такое, штобы в лесу без билета не ходить… А теперь, значит, ходи в лес слободно… Мой ответ…
— Што же это ты сразу такой добрый стал? — усмехнулась Агашка. — За этим только и пришел, штобы сказать?
— Дело есть, Агаша, — глухо сказал Павел, опустив голову, — занедужил я… Вылечи, сделай милость, што хошь проси…
Агашка несколько секунд внимательно смотрела на него.
— Ну, шут с тобой, — весело заговорила она, тряхнув волосами. — Вылечу… Говори, што у тебя болит-то?
— В груди сосет… Дышать трудно, да и скушно как-то…
— Постой…
Агашка подошла к нему и, наклонив свое бледное лицо к его лицу, тихо сказала:
— Раскрой рот, да дыхни на меня…
Павел открыл рот.
— Винищем пахнешь… — брезгливо сморщилась Агашка. — Дыхни-ка еще…
Павел широко открыл рот и с усилием стал дышать.
— Ну, парень, плохи твои дела, — зловещим тоном заговорила колдунья, — жабий дух я учуяла… Жаба у тебя в груди-то, вот што я тебе скажу…
— Жаба? — упавшим голосом спросил Павел. — С чего бы это?
— А, может, с водой как-нибудь попала, аль в лесу, когда спал, в рот залезла. Это бывает.
Павел дрожал от страха, как в лихорадке, чувствуя, что в груди, действительно, что-то шевелится.
— Как же, Агаша? Аль нельзя выгнать ее, проклятую? — плачущим голосом спросил он. — Вылечи, Агаша… Чем хошь ублаготворю…
— Вылечить-то можно, нужно только жабьей травы в лесу достать… В лес идти надо…
— Сходи, Агаша, сделай милость… Я хоть целую ночь тут буду ждать…
— Нет, так не годится… И ты должен со мной в лес пойти, а то ничего не выйдет… — сказала Агашка.
— Куда хошь, пойду, только вылечи!.. — вскричал обрадованный Павел.
— Только чур, уговор — не робеть, да слушаться меня… Да крест сними, не годится с крестом на такое дело идти…
Павел расстегнул ворот рубахи, оборвал пальцами гайтан[8] и положил крест на стол.
В лесной тишине отчетливо слышался каждый треск сучка, каждый шелест травы. Порой в темной гуще ветвей вздрагивал сыч и с пугливым стоном махал крыльями, осыпая на головы идущих мелкие сучья и сухие листья, порой в кустах фыркал и шуршал листвой еж, и Павел вздрагивал от страха. Ему чудилось, что из-за кустов ему кивают головами какие-то странные существа с звериными мордами и высунутыми дрожащими языками. Впереди его белели рукава Агашки и слышался треск сучьев под ее ногами. Лес стал редеть, они вошли в поруб. Агашка остановилась и, шепнув Павлу: — Стой тут… — стала собирать в кучу сухой валежник. Потом она нагнулась над кучей, чиркнула спичкой, алый огонек побежал по веткам.
Агашка закружилась вокруг костра, как-то странно подпрыгивая и размахивая руками, сарафан ее раздувался от быстрых движений, волосы растрепались, на лице ее, красном от огня, дико блестели карие глаза. Павел со страхом смотрел на нее и дрожал, как в лихорадке. Наконец, Агашка остановилась, вынула из-за пазухи темную тряпицу и бросила ее в огонь. Черный едкий дым ударил в лицо Павла, он закрыл глаза и невольно отшатнулся в сторону. Открыв глаза снова, он еле сдержал дикий крик ужаса: на пне против костра сидело, скорчившись, какое-то странное существо с темным голым телом, смуглым лбом, напоминавшим козлиную морду, и с костлявыми длинными ногами, на которых Павел ясно различил небольшие раздвоенные копытца. На голове, покрытой густой, курчавой, как у барана, шерстью, торчали маленькие рожки.
— Черт, — догадался Павел и присел от страха.
Агашка на коленях подползла к пеньку, на котором сидел черт и, выкликая какие-то непонятные слова, уткнулась лицом в траву.
Черт медленно поднял костлявую лапу и указал крючковатым пальнем на куст. Агашка приподнялась и на коленях поползла в лес. Павел хотел последовать за ней, но ноги его словно вросли в землю, и он почувствовал, что не может шевельнуть даже пальцем. Лесник закрыл глаза, ожидая с минуты на минуту, что черт схватит его своими цепкими лапами и задушит.
Сучья затрещали под ногами вернувшейся Агашки. Павел открыл глаза и вздохнул с облегчением. Черта на пне уже не было, костер покрылся серым налетом пепла и красным пятом выделялся среди травы, а над ним бесшумно реяла какая-то черная ночная птица.
— Ложись на траву, — шепнула Агашка, — ложись, открой рот да зажмурь глаза…
Павел покорно лег на живот и открыл рот. Агашка положила перед ним пучок травы с маленькими желтыми цветочками и отошла к костру. Павел лежал с закрытыми глазами, боясь шевельнуться. Вдруг он почувствовал, что задыхается, сквозь его горло проскочил в рот какой-то скользкий комок, что-то шлепнулось в траву и сосущая боль в груди Павла прекратилась.
— Выскочила, проклятая, — радостно вскричал он.
Агашка неподвижно стояла у костра и расширенными, немигающими глазами смотрела в темноту.
— Ну и ладно… А теперь беги за мной, да не отставай, а то худо будет, — сказала она и бросилась в чащу. Павел долго бежал за ней, спотыкаясь о корни, натыкаясь на кусты и по временам кричал:
— Агаша, подожди… Мочи моей нет. Агаша…
Шелест кустов слышался далеко впереди. Павел собрал все силы и продолжал бежать. Неожиданно что-то словно обухом ударило его по голове, он полетел куда-то вниз, цепляясь за кусты, и потерял сознание.
Очнулся Павел на дне лесного оврага, на том самом месте, где он в первый раз встретил колдунью. Без шапки, мокрый от росы, в разорванной рубахе, он встал и осмотрелся. Было уже светло, в кустах перекликались птицы, лучи восходящего солнца зажигали росу в густой траве косогора. Дрожа от холода, Павел пошел к кордону.
— Где это тебя черти носили? — сердито встретила его Варька. — Аль шапку-то пропил? А рубаху-то где исполосовал? Батюшки! И крест-то потерял, татарин поганый…
— Молчи уж, — сердито оборвал ее Павел, садясь к столу. — Где был, там меня нет… Помалкивай знай…
Варька с любопытством взглядывала на мужа, но он молчал.
— Слышь, Варька, пойду завтра к объездчику… — сказал он угрюмо. — Хочу уволиться с кордона… Неладно тут, нечисто… Попрошусь на другой кордон аль в стражники, в стражниках не в пример лучше…
Белый волк
Дрова в очаге разгорелись, и красноватый отблеск пламени лег на темные, закоптелые стены избушки, на широкие нары, застланные толстым слоем пушистых звериных шкур, и на грубо сколоченный из березовых досок стол, стоявший около единственного узенького оконца, заклеенного промасленной бумагой и скупо пропускавшего дневной свет. Ян подошел к окну, поставил на плоский камень котелок с кашицей и сел на корточки перед огнем, сердито ворча; его беспокоило продолжительное отсутствие товарища, на рассвете отправившегося на охоту…
Дверь отворилась, белое облако пара на мгновение окутало дверное отверстие и расползлось по избушке. Вошедший стряхнул с шапки снег, швырнул ее на нары, поставил в угол винтовку и подошел к очагу.
— Ян, я видел Белого волка!.. — глухо заговорил он, протягивая к огню пальцы окоченевших рук. — Я видел его так же ясно, как теперь вижу тебя…
Ян медленно повернул голову и взглянул на товарища, юное, безбородое лицо которого отражало сильнейшее внутреннее волнение.
— Белого волка? — переспросил Ян. — Разве ты спал в лесу? Во сне ты его видел, что ли, Марк?
— Оставь твои шутки, они совсем неуместны… Белый волк разорвал нашего Гектора, понимаешь? — с досадой проговорил Марк.
— Расскажи толком, что случилось? — заговорил наконец Ян, ласково опуская ему на плечо руку.
— Я сначала подумал, что ты бредишь… Я десять лет живу в лесах севера, бывал в разных передрягах, все, что происходит в лесной чаще, мне ясно и понятно, как раскрытая книга для грамотея; я могу определить по следу любого зверя, от лося до землеройки, но Белого волка я не встречал, и мне кажется, я бы его встретил, если бы он существовал не только в воображении болтунов. Правда, я слышал, что он существует, что этот зверь силен, страшен и кровожаден и представляет из себя нечто вроде помеси дьявола с волком… Но я думал, что это — глупые сказки болтунов из поселка, любящих попусту трепать язык… Ты говоришь, он загрыз Гектора? Но эта собака не даст себя в обиду полдюжине волков!..
— Но ведь это был Белый волк… — уныло возразил Марк, немигающими глазами смотря в огонь. — Слушай, я расскажу все по порядку. Ты помнишь то место вблизи оврага, где мы на прошлой неделе застрелили лося? Как раз с этого места Гектор погнал зайца… Я не успел выстрелить, сел на пень и стал ждать собаку, лай которой вскоре замер вдали. Прождав полчаса, я порядком иззяб и пошел вдоль оврага. Смотрю — почти из самой вершинки, шагах в ста от меня, выскочил зверь, белая шерсть которого почти сливалась со снегом, быстро перебежал поляну и скрылся в лесу. Ростом он гораздо больше нашего Гектора… Бежал он как-то странно, подскакивая… Теперь, когда я вспоминаю его кроваво-красную пасть, у меня кровь стынет в жилах…
— Подожди!.. — быстро перебил его Ян. — Почему же ты решил, что это должен быть непременно белый волк? Может быть, это был самый обыкновенный волк или просто-напросто наш Гектор. Сто шагов — порядочное расстояние!
— Я не слепой!.. — обиженным тоном сказал Марк. — Во всяком случае, я бы отличил на таком расстоянии волка от собаки. Кроме того, шерсть нашего Гектора белая, с большими рыжими пятнами, шерсть обыкновенного волка — серая, а шерсть этого зверя — белая, как кипень. Я не могу выразить словами то впечатление, которое произвело на меня появление этого зверя, но, уверяю тебя, я сразу угадал в этом исчадии ада Белого волка. В первый момент я не мог сдвинуться с места, потом пошел по следу, который гораздо крупнее волчьего, и набрел на кучу окровавленного мяса и костей… Я уверен, что это были кости нашего бедного Гектора… Разумеется, я сейчас же поспешил к тебе.
— Можно подумать, что ты пьян или бредишь, — проворчал Ян, — сознаюсь тебе, я до тех пор не поверю, пока не осмотрю сам следов. На каком месте ты нашел кости? Я успею вернуться до сумерек.
— Ты хочешь пойти туда? — с искренним ужасом спросил Марк, вскакивая с места.
— Да, я полагаю, добрая пуля уложит на месте любого волка, независимо от цвета его шерсти…
Оставшись один, Марк съел несколько ложек кашицы, закурил трубку, растянулся на нарах и долго лежал неподвижно. Трубка погасла, ему лень было ее раскурить. Он попробовал заснуть, закрыл глаза, но в его воображении встал страшный белый зверь с кроваво-красной пастью и с сияющими фосфорическим светом злобными глазами. Марк вспомнил о своем товарище, в сердце его мало-помалу нарастала смутная тревога за отсутствующего, блуждающего по снежному лесу. Он вскочил, отворил дверь и выглянул из избушки в холодный, мертвый мрак снежной ночи.
Высокие, косматые ели, окружавшие плотной стеной избушку, застыли в мертвом сне, запушенные снегом. Высоко на темном фоне неба сияли холодным светом звезды. Вздрогнув от холода и внезапной жути, Марк захлопнул дверь, подбросил в очаг сухих веток и сел, протянув к огню дрожащие руки.
Он в душе проклинал суровую жизнь в лесах севера, казавшуюся ему раньше такой заманчивой, полной интересных приключений. В этот вечер он особенно горько раскаивался, что оставил людный поселок, соблазнившись рассказами старого Яна…
Неожиданно до его слуха донеслись странные звуки, напоминавшие царапание по дереву звериных когтей; охваченный внезапным ужасом, он вскочил, бросился к двери и плотно задвинул засов. Шум усиливался: казалось, какой-то большой зверь в дикой ярости царапал острыми когтями дверь, намереваясь ворваться в избушку. Через минуту царапание прекратилось и за дверями послышался вой, похожий на волчий. Марк в ужасе заметался по избушке, хватаясь то за винтовку, то за топор. Этот вой был невыносим для его слуха и он ждал, что дверь избушки с минуты на минуту рухнет под напором железных лап зверя и Белый волк ворвется в избушку. Дрожащими руками он бросил в очаг охапку хвороста, сел, скорчившись перед огнем, и заткнул пальцами уши, но дикий вой звучал все громче и громче, ему вторило царапанье когтей. Марк снова вспомнил о товарище и тихо застонал: он не сомневался, что Яна загрыз этот страшный зверь.
Между тем, вой за дверью прекратился, и слабый луч надежды улыбнулся Марку. Он встал, но в этот момент послышался треск, зверь прорвал мордой бумагу, которой было заклеено окно; это окно было прорублено невысоко над полом, и зверь достал мордой до бумаги, поднявшись на задние лапы. Марк бросился к окну и заткнул его курткой, ожидая, что куртка полетит на пол и оскаленная пасть зверя покажется в окне. С решимостью отчаяния он схватил штуцер, но вспомнил, что на близком расстоянии полезнее револьвер и поставил штуцер в угол. С револьвером в руке он подошел к двери, и дрожа, как в лихорадке, положил руку на засов.
Вой перешел в рычание, и дверь избушки затряслась. Марк закрыл от ужаса глаза и отступил к очагу. В его мозгу молнией сверкнула мысль, что, если даже он избавится от зверя, снежный лес не выпустит его из своих дебрей… Он сойдет с ума в одиночестве.
Тогда, покорясь неизбежному, Марк сел на корточки перед погасающим огнем, вложил дуло револьвера в рот и нажал спуск. Пороховой дым наполнил избушку. Марк упал на спину, раскинув руки.
А за дверью избушки по-прежнему выл зверь.
Скользя на лыжах по твердому, без блеска снегу, Ян ехал параллельно следу лыж своего товарища. Лавируя между седыми от инея стволами деревьев и кустами, на которых, как клочья ваты, белели снежные хлопья, он зорко всматривался вперед, вспоминая все детали рассказа своего товарища.
По этому следу он доехал до Медвежьей поляны и еще издали заметил темное пятно на снегу.
Наклонившись над окровавленными кусками мяса, клочьями шерсти и костями, он долго стоял и ковырял в этой куче палкой. Выпрямившись, он весело расхохотался и закурил трубку.
Для него было ясно, что на этом месте волчья стая передралась из-за зайца; одного волка загрызли в драке, и стая принялась делить его труп, но почуяла приближение охотника и разбежалась… Неужели Марк не мог догадаться, что никакого Белого волка здесь не было?
Давно стемнело, но зоркие глаза Яна отличали след Гектора от бесчисленных волчьих следов. Порой лыжи путались в кустах, Ян соскакивал с них, утопая по пояс в снегу, освобождал их и ехал дальше, лавируя между темными стволами деревьев, осыпавших на него снежную пыль.
Свежий след собаки поворачивал к избушке, и успокоенный Ян направился к ней кратчайшим путем. Неожиданно ухо его уловило отдаленный вой и, подъехав ближе к избушке, он пробормотал:
— Что за черт! Гектор воет… Почему этот малый не пускает его в избушку?
Громадная белая собака с запушенной снежным инеем шерстью, почуяв приближение хозяина, бросилась к нему навстречу и бешено заскакала вокруг него.
— Ах, так вот он, Белый волк! — вскричал, смеясь, Ян, — неужели этот младенец принял собаку за Белого волка? Неужели он не мог догадаться, что собака, разгоряченная погоней за зайцем, вывалялась в снегу и превратилась в белую? Ах ты, подлый трусишка!.. Принять Гектора за Белого волка!.. Ну, мы еще посмеемся!
Подойдя к избушке, он взялся за дверную ручку, но дверь оказалась запертой.
— Спит, каналья! — пробормотал Ян и стукнул в дверь прикладом винтовки, но в избушке по-прежнему было тихо.
Удары приклада посыпались на дверь, встревоженный Ян не знал, что и подумать.
Наконец, он схватил тяжелую деревянную бабку для колки дров и ударил ею в дверь, которая с треском упала вовнутрь.
Ян бросился в избушку, зажег спичку и наткнулся у порога на труп своего товарища, еще сжимавшего револьвер в окоченевшей руке.
Клад
Вышла, братец ты мой, эта оказия со мной годов пятнадцать тому назад.
Я в те поры в кучерах состоял у барина Верхотурова.
Может, слыхал? Ну вот… Харчи хорошие, жалованья 10 рублей, одежа барская, — словом, не жисть, а малина… Съездишь с барином куда нужно, лошадей уберешь, — и спи хоть день и ночь, а то гуляй. А в праздник к вечеру махнешь на село, хороводы водить с девками, песни петь… Парень я был лихой, в красной рубахе, в плисовой поддевке, шапка набекрень, — словом, фартовый парень… И познакомился я с одной девкой, дочкой лесника Степана, что лес барский караулил…
Она мне полюбилась, полюбился и я ей…
Каждый праздник приходила она с кордона на село, а потом и я стал около кордона покачивать…
Да раз наткнулся я на Степана, на отца ее… Увидал он меня, подходит и говорит:
— Чего ты тут околачиваешься, парень?
— А за ягодами, — говорю, — пришел.
— Ты, — говорит, — парень, не пыли, я знаю, за какими ягодами… ты ту дурь из башки выкинь, за голоштанника я мою Анку не отдам — дудки… А ежели будешь здесь шляться, я те такую ижицу пропишу, что чертям тошно станет…
Закинул ружье за плечи и пошел к кордону. Я стою, как статуй бесчувственный. Табак теперь дело, — думаю я, — Анку запрет старый черт… Видно, не судьба мне жениться на милой.
Пошел я из лесу… по прогону на село, тоска меня обуяла, хоть жисти готов решиться…
Вдруг слышу:
— Эй, молодец, что не весел, что нос повесил?
Гляжу — стоит у дороги знахарь Макар. Потешный был старикашка, махонький из себя, а голова как пивной котел, борода, как мочала, а глаза пронзительные, словно у ястреба.
Болтали на селе, что знается с нечистым и всякие средствия от болезней знает.
Стоит это он у дороги и усмехается в бороду.
— А тебе какое дело, чертов колдун… — отвечаю. — Не до тебя мне?
— А и глуп ты, парень, как я погляжу, — говорит, — кто же тебя, как не дядя Макар, из беды-то вызволит? А про беду-то того, я знаю… Я, брат, все знаю… Ты только, парень, не сердись, да поласковей будь с Макаром, а то все обмозгуем…
Остановился я и думаю: авось что-нибудь да выйдет… Колдуны-то народ дошлый.
Макар усмехается себе в бороду и говорит:
— Так-то лучше, милый человек… А беду твою я знаю: хочешь жениться на Анне, да лесник Степан за голыша выдать дочери не хочет, потому у тебя только поддевка плисовая, да и то не твоя, а барская… Правильно я говорю? Ну то-то… А ежели бы ты получил маленькую толику деньжонок, с превеликим бы удовольствием отдал бы он за тебя Анку… А ежели ты не из робкого десятка, то можешь получить столько, что и до дому не дотащить…
— Как же это так? — я спрашиваю…
— Постой, не торопись… Табак у тебя есть? Посидим, покурим, да обо всем потолкуем. Слыхал ты, парень, что в барском лесу еще в старинные годы клад зарыт?
— Слыхал, — говорю, — мало ли что болтают.
— Дурак ты и больше ничего! Болтают! Да ежели ты хочешь знать, я целую горсть серебра набрал, а ежели бы не торопился, целый бы мешок набрал. Клад этот, братец ты мой, разные виды принимает, это мне доподлинно известно. То коровой ходит по лесу, то вроде человека. Раз я пошел искать в полночь, вижу, на поляне стоит колода, полная серебра… Я к ней… Ухватил горсть серебра, а клад и пропал… Позабыл я, вишь ты, сказать: «Аминь — рассыпься», а то весь клад был бы мой… Так вот, если хочешь, я тебе помогу найти этот клад…
— А почему ты сам его не найдешь, дядя Макар? — спрашиваю.
— А мне теперь нельзя, не положено. Ежели, к примеру, какой человек раз из рук клад выпустил, другой раз тот ему не покажется, ни Боже мой.
Так вот, парень, я тебе дам ладанку с травой особенной, нынче же ночью и иди в лес. Волкову поляну знаешь? Иди туда: он завсегда около появляется… Ежели увидишь, что в траве огонек горит, подойди и скажи: «Аминь, рассыпься». Ежели человека какого увидишь — бей его наотмашь и тоже скажи: «Аминь, рассыпься». Кого бы не увидел — бей смело, клад разные виды на себя принимает. Может даже обличье твоего барина принять… Только смотри: крест-то с шеи сними, да захвати мешок поболе, да лопату. Да, чур, а уговор: коли найдешь клад, половину мне, там обоим хватит. А за ладанку давай сейчас рупь целковый.
Отдал я ему последний целковый, спрятал ладанку в карман, иду на барский двор и думаю:
— Коль колдун все про меня, знает, так уж наверно ему помогает нечистая сила. Не сорока же ему принесла на хвосте весть про мою беду, про мою зазнобу. Авось и клад сыщем, зевать не будем.
Приготовил заранее лопату железную, мешок, снял с шеи гайтан с крестиком, поужинал в людской и пошел убирать лошадей. А как на церкви позвонили одиннадцать, захватил мешок с лопатой и — айда в лес. Ночь была светлая, тихая, в чаще пугачи стали перекликиваться, жуть меня берет, а я все иду по просеке.
— Ну, думаю, не робей, парень! Не уйдет теперь клад от тебя.
Стал я за дерево, бросил в траву мешок с лопатой и жду… Он подходит все ближе, и вижу я, что обличьем он на лесника Степана похож. Ну, думаю, меня не проведешь. Как только он со мной поравнялся, я как его тряхну по шее, да закричу: «Аминь, рассыпься». Он с ног долой. Тут я в раж вошел и давай его катать руками и ногами, а сам все кричу — «Аминь, рассыпься».
А он орет благим матом:
— Разбой! Убивают!
Катал я его, катал, а потом впал в сумление, подхватил мешок с лопатой и давай Бог ноги.
Перво-наперво пошел я к Макаровой избе и постучался в окно.
— Кто там? — спрашивают.
— Я, дядя Макар, — отвори.
— Постой, парень, я окно открою; через окно потолкуем.
Открыл он окно и спрашивает:
— Ну, как?
— Видал, — говорю, — клад, дядя Макар.
— Видал? Ну и что?
— Так и так, — рассказываю, — отдубасил я его здорово, а он не рассыпался.
— Тут что-то дело не так, парень. Ты, может, крест позабыл снять?
— Нет, — говорю, — крест оставил дома.
— А как ты его ударил? — спрашивает.
— Да обнаковенно: первый раз сзади по шее смазал, а потом давай катать по чем попало.
— А не наотмашь?
— Нет, не наотмашь.
— Ну, то-то, парень; сам виноват, сам упустил свое счастье, — говорит Макар. — Толковал я тебе, чтобы наотмашь бил. Теперь, брат, ничего не поделаешь. Иди-ка домой, а то у меня в избе такой гость сидит, что ежели выйдет, так и костей не соберешь потом. Иди-ка, парень, домой.
Так и ушел я от него не солоно хлебавши.
А утром прослышал я, что лесника Степана нашли в лесу избитого до полусмерти.
Догадался я тут, что обглупился малость.
А потом, как Степан опомнился, пришел к барину и пожалился на меня. Меня сейчас же по шапке.
Запил я с горя, а как прослышал, что Анку просватали за лавочника, запил еще больше, да с пьяных глаз подпалил избу Макарки-знахаря. Схватили меня, и — в острог.
А из острога сам знаешь, братец мой, дорога одна: гуляй по свету. С той поры маюсь я, да гуляю по свету. День до ночь — сутки прочь.
Золото
Рыжий первый заметил в ночной темноте светлую точку костра, схватил за рукав товарища и потянул его в поросшую редкими колючими кустами ложбину.
— Казаки, аль приискатели… — прошептал он, снова опускаясь на влажный мох рядом с Кубарем и вздрагивая от ночного холода, — для них, чертей, что блоху убить, что человека — все единственно…
Кубарь молчал; продолжительные голодовки, усталость и холод убили в нем остатки энергии и выработали тупое равнодушие ко всему, что не было связано с представлением о пище. В пути он тихо брел за товарищем, машинально повторяя все его движения, и оживлялся только тогда, когда Рыжему удавалось стащить кусок хлеба или несколько горстей муки из амбаров редких степных поселков. Уже целые сутки брели они без пищи и жевали горькую древесную кору, стараясь обмануть настойчиво требовавший пищи желудок. Рыжий, старый и опытный бродяга, днем еще сохранял бодрость духа, пытаясь веселыми шутками и насмешками ободрить Кубаря, но с наступлением ночи и он приуныл. Замеченный им свет костра сначала испугал его не на шутку, но теперь, лежа в сырой ложбине, он размышлял о людях, сидевших у костра; вероятно, они пьют там горячий чай, весело болтают и едят жареное мясо… С каждой минутой эти люди казались Рыжему все менее и менее опасными. Наверное, это старатели или охотники-промышленники, которым нет дела до оборванных, голодных бродяг.
Они прогонят их от своей стоянки — это самое худшее, что они могут сделать.
— Кубарь! — тихо позвал он.
— Ну? — уныло отозвался тот.
— Пойдем, посмотрим, что это за люди… Может, дадут нам кусок хлеба, а? А то, брат, плохо наше дело, все равно — капут! Ослабли мы очень… Ежели бы ружье какое ни на есть у нас было — птицу можно бы было подстрелить, аль зверя. А то все равно с голодухи подохнем… — продолжал Рыжий и, оживившись при новой мысли, добавил: — А может, братец ты мой, они спят? Понимаешь? Подползем, да пощупаем их, может, и винтовку достанем, а тогда — гуляй да жри, сколько хочешь.
— Убьют… — протянул Кубарь.
— А с голоду-то лучше помереть? Эх ты, голова садовая! А, может, пофартит нам? Идем!
Рыжий решительно встал, вынул из кармана зипуна широкий мясницкий нож, попробовал его лезвие большим пальцем правой руки и пополз из ложбины. Кубарю не хотелось вставать и пускаться в рискованное предприятие, но он не протестовал, зная решительный характер своего товарища, и молча последовал за ним, натыкаясь на кусты и скользя по влажным кочкам. Ночная темнота обманула бродяг: сначала светлая точка костра казалась такой близкой, но около часа пришлось им ползти, пока они смогли рассмотреть фигуру одиноко сидевшего у костра человека.
— Один!.. — прошептал Рыжий. — Верно, наш брат Исакий. Однако, не спит, черт его разорви…
Бродяги долго лежали на земле, не сводя глаз с человека, сидевшего у костра, и ждали, но тот не переменял позы и, казалось, не имел ни малейшего желания заснуть. Наконец, Рыжий не выдержал; он с решимостью отчаяния вскочил, и, стараясь покашливаньем и шарканьем ног издали обнаружить свое присутствие, двинулся к костру.
Чернобородый человек в кожаной куртке и оленьей шапке вскочил, взял винтовку на изготовку и хриплым от испуга голосом вскричал:
— Эй, стой! Стрелять буду. Что за люди, эй?
— Божьи… — угрюмо ответил Рыжий, останавливаясь в нескольких саженях от него. — Дозволь, добрый человек, обогреться, смерзли совсем…
Чернобородый раздумывал, не выпуская из рук винтовки и всматриваясь ястребиным взглядом в измученные лица бродяг.
— Мало вам места в степи… — сурово заговорил он. — Грейтесь, да убирайтесь подобру-поздорову… А то у меня разговор короток!
Он хлопнул ладонью по стволу винтовки и сел на кожаную сумку, положив ружье на колени. Бродяги со смиренным видом подошли к костру и присели на корточки, протянув к огню окоченевшие руки. Зоркие глаза Рыжего успели заметить туго набитую кожаную сумку, на которой сидел чернобородый, жестяной чайник и оловянную кружку, стоявшую у огня.
— Благодать… — заговорил он, чувствуя приятную теплоту, разливавшуюся по жилам.
— Спасибо тебе, добрый человек… Вот, коли бы была твоя милость, еще хоть кусочек хлеба… А то два дня крошки во рту не было, ослабли совсем, прямо ветром шатает…
Чернобородый сердито взглянул на него, порылся в сумке и бросил ему на колени горсть сухарей и кусок вяленой рыбы. Рыжий жадно схватил сухарь и с хрустеньем стал грызть его, не выпуская из рук рыбы. Кубарь робко взял с его колен несколько сухарей и весь ушел в процесс еды, двигая челюстями, как лошадь, жующая овес. Рыжий съел рыбу, бросил рыбью голову товарищу, собрал с колен крошки, проглотил их и растянулся у костра, чувствуя, что силы возвращаются к нему и члены его снова становятся гибкими. Чернобородый молча следил за бродягами, и лицо его становилось все мрачнее и мрачнее: по-видимому, он раскаивался, что подпустил их к костру и не встретил выстрелами.
Заметив, как бродяги переглянулись между собой, он сказал:
— Ну, согрелись, поели — пора и честь знать. Идите-ка подальше, гости дорогие, а то как бы худо не вышло…
— Дозволь хоть часок погреться, добрый человек!.. — жалобно заговорил Рыжий, вставая и ощупывая его взглядом. — Скоро, чай, светать будет, тогда мы и уйдем. Часок хоть еще погреемся…
В его напряженной позе и во взгляде, которым он обменялся с товарищем, чернобородый почуял угрозу.
— Добром говорят — уходи! — бешено вскричал он, вскакивая на ноги. — Убирайтесь — и весь сказ!..
Он угрожающе двинулся вперед, но поскользнулся и выронил винтовку. Рыжий, как кошка, бросился на него и сбил с ног, навалившись на него всем телом. Кубарь вскочил, подобрал винтовку и подбежал к ним, стараясь помочь товарищу, но борющиеся сплелись в один живой клубок, и он не мог выстрелить, боясь поранить Рыжего. Наконец, он уловил момент и изо всей силы стукнул прикладом по голове очутившегося наверху чернобородого. Тот взвизгнул от боли и выпустил Рыжего, а Кубарь продолжал бить его прикладом до тех пор, пока он не застыл без движения.
— Готов… — пробормотал Рыжий, тяжело дыша и наклоняясь над трупом, — здоровый, черт… Я уж думал — крышка мне. Ну, теперь, брат, наше дело на мази!..
Он проворно обшарил карманы убитого, сбросил свой рваный зипун и надел его куртку и сапоги.
— Важный пинжак, — проговорил он, подходя к костру, — рубаха и портки ничего не стоят, хуже наших. А малахай ты себе возьми, добрый малахай.
Кубарь со скрытой злобой взглянул на него; дележ казался ему в высшей степени несправедливым, но он сдерживал гнев, боясь более сильного товарища. Когда он вспомнил о сумке, Рыжий уже подобрал ее и рылся в ней.
— Кирпичный чай, сахар, — перечислял он, осторожно складывая свертки на землю, — рубаха совсем новая… Патроны… Эге, что это такое?
Он вытащил из сумки тяжелый, как камень, кисет из замши, завязанный тонким ремешком, торопливо развязал его, бросив сумку на землю, и при свете погасавшего костра на ладони его блеснули золотые крупинки. Он задрожал, как в лихорадке, и бросил быстрый взгляд на товарища.
Кубарь, вытянув шею, загоревшимися глазами смотрел на кисет.
Первой мыслью Рыжего было скрыть от него находку, но он скоро одумался, увидев, что Кубарь заметил кисет.
— Ну, паря, пофартило нам!.. — вскричал он, опускаясь на корточки перед огнем и лихорадочно роясь дрожащими пальцами в кисете. — Теперь, брат, только бы до поселка добраться, а за деньги что хочешь можно состряпать… Эх, заживем теперь.
— Покажи… — сказал Кубарь и протянул руку к кисету.
— Да не бойся, хватит с нас!.. — раздраженно вскричал Рыжий. — Чего смотреть? Хватит, тебе говорят, — и он опустил кисет в боковой карман куртки.
— Поди, принеси хворостку, чай скипятим, — продолжал он, — давно я не баловался чайком-то. Чай, уж и вкус его забыл. А воды полный чайник этот чалдон припас…
Кубарь злобно взглянул на него, но не посмел ослушаться и тихо добрел к кустам.
Рыжий поднял винтовку, осмотрел ее и, убедившись, что она заряжена, выбрал из сумки пачку медных патронов и сунул в кардан. Он уже подумывал избавиться от товарища, но не решался выстрелить; перспектива очутиться одному среди пустыни пугала его. Темная фигура Кубаря с охапкой валежника выступила из кустов и направилась к костру; момент был упущен. Кубарь бросил охапку в костер, стаи золотых искр разлетелись в разные стороны и скоро пламя охватило хворост.
Чайник закипал. Бродяги сидели молча, искоса посматривая друг на друга. Рыжий уже раскаивался, что не застрелил Кубаря, а тот в душе проклинал товарища, украдкой ощупывая за пазухой нож, и еле сдерживал бешенство, кипевшее в груди.
Ему страстно хотелось погрузить пальцы в блестящие золотые крупинки, осязать их, а разыгравшееся воображение рисовало ему заманчивые картины счастья, доступного лишь обладателю мешка с золотыми крупинками.
— Надо чая засыпать, готов кипяток-то, — заговорил Рыжий и снял чайник с огня.
Он наполнил оловянную кружку мутно-красным чаем и протянул ее товарищу, словно желая предупредительностью загладить явную несправедливость дележа.
— Пей, — продолжал он, — пей, а то ты иззяб.
Кубарь подвинулся к нему на коленях, взял кружку, взглянул ему в глаза круглыми от бешенства глазами и, почти не отдавая себе отчета в том, что он делает, выплеснул кипяток прямо ему в лицо. Рыжий завыл от боли, закрывая глаза ладонями, а Кубарь бросился на него, не успев вытащить ножа… Рыжий оторвал руки от лица, обхватил левой рукой товарища, а правой вытащил нож и, не помня себя от боли и ярости, сунул его ему в спину. Кубарь завизжал, как подстреленный заяц, руки его ослабели и он упал на землю. Рыжий пошатнулся, застонал и свалился с ним рядом, корчась от боли, лицо его горело, словно его кололи иголками, глаза застилал синий туман.
Долго лежал он, вздрагивая, тихо стонал и перевертывался с боку на бок. Когда алая полоска зари вспыхнула на востоке, Рыжий стал и расширенными глазами взглянул вокруг себя. В синем тумане, окутавшем его, он еле различал алое пятно костра и смутные очертания двух трупов.
Осторожно двигаясь, он нашел ощупью чайник и промыл остывшим чаем глаза, смутно надеясь, что к нему вернется прежняя острота зрения, но синий туман становился гуще. Подвигаясь на коленях вперед, Рыжий нащупал сумку, подобрал винтовку и, натыкаясь на кусты, побрел прочь от костра, чувствуя инстинктивную потребность двигаться, и долго шел, пока не свалился от усталости на влажный мох.
Он лежал, покорившись неизбежному, и ждал смерти, потеряв надежду прозреть. Хриплое карканье ворона снова зажгло в нем жажду жизни, он встал и побрел, опираясь на винтовку. Сумку он бросил, но голод заставил его вспомнить, что в ней осталось еще несколько кусков сахара, которыми можно было бы обмануть властно требовавший пищи желудок, и он пытался вернуться и найти сумку. Около часа ползал он, ощупывая мох, и наконец, отчаявшись, снова упал на землю.
Старый бродяга понял, что борьба бесполезна, что смерть менее страшна, чем ползанье наугад по сырому мху.
Он быстро снял с правой ноги сапог и портянку, встал, ощупал затвор винтовки, взвел курок, упер приклад в землю и навалился грудью на дуло, вложив большой палец ноги в скобу на спуск.
Несколько секунд он стоял в этой неудобной позе, напрягая мускулы левой ноги и стараясь сохранить равновесие, и прислушивался к хриплому карканью воронов, потом, стиснув зубы, нажал на спуск и свалился на землю в предсмертных судорогах. Испуганный выстрелом ворон сорвался с верхушки маленькой сосны и закружился над кустами, суживая круги над трупом…
Вор
Илл. Н. Герардова
Амброс чувствовал мучительные спазмы в желудке: в его воображении рисовались груды жареного, дымящегося мяса, наполненные пенистым вином бутылки, горы хлеба; он шел, глотая слюну, и со странным, враждебным чувством скользил взглядом по лицам встречных. Неожиданно он вздрогнул от какой-то новой мысли, и взгляд его стал выжидающим и ищущим и остановился на господине в цилиндре и модном пальто.
Амброс круто повернул, догнал его и окликнул:
— Послушайте, сударь!
Господин в цилиндре остановился, и Амброс, пристально всматриваясь в его бритое актерское лицо, сказал спокойно:
— Послушайте, дайте мне рубль, иначе я вам дам по физиономии!..
Бритый господин невольно отшатнулся, но Амброс продолжал убеждать его ласковым, но решительным тоном:
— Не упрямьтесь и не пробуйте звать на помощь, я ударить вас успею. Вам это будет неприятно, а мне все равно… Пусть меня заберут хоть к черту!.. Я не ел два дня…
Господин в цилиндре рылся в жилетном кармане, словно ища денег, и растерянно смотрел на Амброса.
— У меня нет мелочи, — извиняющимся тоном заговорил он, — зайдемте в ресторан, там разменяем… Кстати, вы не прочь закусить? Ну, конечно…
Амброс пошел с ним рядом и, предвкушая обильную закуску, возбужденно заговорил:
— Это со всяким может случиться, сударь… Я полтора месяца без работы и совсем прожился… А по копейкам я собирать не намерен, это уж совсем глупо… Если бы я был богачом, я бы подавал нищим по десяти рублей, уверяю вас. Разве может устроить порядочного парня меньшая сумма?.. А вы, вероятно, актер? Ну, я так сразу и решил с первого взгляда…
— А вы, черт возьми, играли в беспроигрышную игру… Я уверен, что из десяти встречных — девять скорее предпочли бы дать вам денег, чем получить пощечину, — смеясь, проговорил «актер».
— Да, я надеялся собрать некоторую сумму, — скромно согласился Амброс.
Они поднялись по устланной ковром лестнице небольшого ресторана и прошли в кабинет.
Лакей в белом переднике принес на блюде две порции телятины, откупорил бутылку вина и удалился.
Амброс жадно ел, глотая большие куски, а «актер» потягивал вино, внимательно наблюдая за каждым движением незнакомца… Наконец Амброс откинулся на спинку дивана, закурил папиросу и заговорил:
— Ну, спасибо вам, сударь… Я так наелся, что не в состоянии двигаться. Мне остается поблагодарить судьбу, пославшую на моем пути такого прекрасного человека, как вы…
— А я благодарю ее, что она мне послала такого решительного человека, как вы, — усмехнулся «актер». — Сначала, когда вы подошли ко мне, я, признаться, растерялся, а потом вспомнил, что такой человек мне пригодится… Я хочу вам предложить выгодную работу.
Амброс выпил залпом стакан вина и смущенно сказал:
— Мне очень грустно сознавать, что я не оправдаю ваших ожиданий… Вы очень добры, сударь, но, видите ли… Я уже давно ничего не делаю и отвык от работы… да и, наконец, я не желаю работать!.. — докончил он решительно.
— Вы меня не поняли… — усмехнулся «актер». — Я знаю, что джентльмену вашего склада работа не по сердцу. Но ведь работа бывает разная… Если, скажем, вам представится случай заработать за один час тысячу рублей, вы, надеюсь, не откажетесь? Конечно, здесь нужна небольшая доза решительности.
— Это другое дело, — отвечал Амброс. — Решительности у меня хватит…
— Видите, я не ошибся в вас! — обрадовался «актер». — Выпьем по этому случаю… Ну-с, а теперь слушайте внимательно… Видите ли, у меня есть одна знакомая, она артистка. У нее в спальне, в ящике комода, лежит куча бриллиантовых вещей… Это всё подношения от поклонников таланта… Вечером в семь часов она уезжает в театр, домой возвращается в час ночи… Вчера она прогнала единственную прислугу, новой пока не нашла… В квартире других жильцов нет, муж ее в отъезде… Значит, с семи вечера до часа ночи в квартире нет ни души…
— Я понимаю… — весело прервал его Амброс. — Если эта женщина не умеет распорядиться своими драгоценностями, то мы сумеем это сделать… Я согласен помогать вам. Мне терять нечего!
— Видите ли, вам придется одному обделать это дело, — заявил решительно «актер». — Сам я сегодня должен уехать, а медлить больше нельзя: не сегодня-завтра она может нанять прислугу, и тогда все пропало… Надеюсь, вы не струсите? Сегодня ночью вы проникнете в квартиру, взломаете замок комода и заберете вещи… Ровно через три дня в это же время мы встретимся в этом уютном ресторанчике и поделим добычу.
— Я не боюсь, но мне кажется, что из этого ничего не выйдет, — пробормотал задумчиво Амброс. — Я никогда не занимался такими делами и не сумею даже взломать замок…
— Это пустяки, — прервал его «актер». — Я вас научу.
С этими словами он вынул из кармана большой ключ и, протягивая его Амбросу, спокойно добавил:
— Вот вам ключ от квартиры… Войдете вы, разумеется, с черного хода…
— Откуда же у вас этот ключ? — удивился Амброс.
— Чудак вы… Я вам говорил, что знаком с хозяйкой квартиры и часто бывал у нее… Снять слепок с двери и заказать ключ — что может быть проще?! Я сам думал заняться этим делом, но, как я вам уже говорил, мешают обстоятельства. Видите, риска почти нет, я уверен, что все пойдет, как по маслу.
— Ладно, я согласен, — решительно сказал Амброс. — А чем же я взломаю замок комода?
«Актер» молча протянул ему складной нож, на тонком кривом лезвии которого были посажены несколько острых бороздок. Амброс внимательно осмотрел его и положил в карман. «Актер» позвонил, подал лакею двадцатипятирублевую купюру и, когда тот принес сдачи, протянул десятирублевую бумажку Амбросу, прибавив:
— Это вам пока на расходы… Ах, да! Я позабыл вам сказать адрес той квартиры…
Он вынул записную книжку, написал несколько слов, вырвал листок и отдал его Амбросу. Потом они вышли из ресторана.
— Итак, через три дня мы встретимся… — говорил «актер». — Вы не раздумали? Ну и прекрасно… Желаю успеха!
И он, крепко пожав руку Амброса, пошел на другую сторону.
Амброс остановился, вынул бумажку, взглянул на адрес и медленно пошел по улице. От вина у него слегка кружилась голова; сознание, что у него в кармане есть деньги, делало его бодрым и располагало к мечтательности. Несомненно, этот «актер» — профессиональный вор, он хочет загребать жар чужими руками, но это ему не удастся… О, Амброс не так глуп! Он и сам сумеет превратить в звонкую монету эти блестящие штучки, стоит только уехать в другой город. А там — веселая жизнь, вино, музыка, песни…
Домой, в убогую комнату верхнего этажа большого дома, Амбросу идти не хотелось, и он решил подождать наступления ночи в пивной.
Там, за столиком, уставленным бутылками, он просидел до десяти часов вечера, потом вышел и пошел разыскивать улицу, обозначенную на записке.
Он не испытывал ни малейшего волнения, выпитое за день изрядное количество алкоголя укрепило его. Дело представлялось необыкновенно легким, словно вся штука была в том, чтобы зайти в квартиру к приятелю и взять там забытый портсигар.
Дворника у ворот дома он не заметил, прошел во второй двор и разыскал над входом номер квартиры. Ощупав в кармане ключ, вошел в подъезд и стал подниматься по темной, узкой лестнице, не переставая чиркать спичками. Наконец он нашел дверь, над которой был нужный номер; чья-то заботливая рука вычертила мелом этот же номер на самой двери. Амброс остановился, прислушался и с силой дернул за ручку висячего звонка. На лестнице было тихо, за дверью был слышен захлебывающийся звон колокольчика.
Когда же звон прекратился, Амброс вложил ключ в замочную скважину, открыл дверь и юркнул в квартиру. Сначала в темноте он чуть не вскрикнул от внезапного страха, потом зажег спичку, осмотрелся и увидел, что находится в кухне. Он вышел из кухни в коридор и очутился в большой комнате.
Зажженная спичка осветила две стоявшие рядом никелированные кровати, блеснула в дали большого трюмо и погасла. Амброс зажег новую спичку, шагнул вперед, заметил стоявшую на ночном столике свечу, зажег ее и осмотрелся. Окна были закрыты плотными шторами, на стенах комнаты висели в беспорядке женские платья и юбки, на комоде, покрытом голубой скатертью, стояли флаконы, баночки, коробки с пудрой и две узкие японские вазы для цветов.
Амброс подошел к комоду, вложил в замочную скважину верхнего ящика нож, со скрипом повернул его и выдвинул ящик. Белье и разные тряпки полетели на пол, но кроме них, там ничего не было. Амброс всадил нож в щель второго ящика, открыл его и радостно засмеялся. В его руке при свете свечи заискрился браслет, усыпанный бриллиантами, колье, две броши и три перстня. Все эти вещи лежали в углу ящика. Амброс спрятал их в карман брюк и продолжал лихорадочно рыться в ящике, но без успеха.
В третьем ящике он нашел несколько коробок с пудрой, баночек с мазями и притираниями и с досадой бросил их на пол. Были взломаны замки ночного столика и платяного шкафа, но и там не оказалось ни одной вещи, стоящей внимания.
Над кроватью на гвоздике Амброс заметил небольшой медальон с цепочкой, снял его и спрятал отдельно в боковой карман пиджака.
Почувствовав усталость, он сел на постель и стал прислушиваться к четкому тиканью часов за стеной, потом выглянул в коридор. Странное чувство тоскливого одиночества охватило его; он поспешно подошел к комоду, взял свечу и вышел в кухню. Дрожа от волнения и предчувствия близкой опасности, он погасил свечу и выскочил на лестницу, затворив за собой дверь. Ему казалось, что эта дверь снова откроется, оттуда появится неведомый враг и бросится на него.
Амброс ощупью спустился с лестницы, прошел в арку ворот и вышел на улицу. Сознание избегнутой опасности и сумасшедшей удачи заставило его легко вздохнуть, улыбнуться и ускорить шаги. Долго шел он, ощупывая в кармане добычу, и незаметно дошел до своего дома. Очутившись в своей убогой комнате, он при свете лампы долго любовался сверкающими камнями золотых вещиц, потом аккуратно завернул их в бумагу, спрятал в карман и лег спать.
На другой день он вышел на улицу и решил продать пару колец. На вырученные деньги можно было уехать в другой город и там продать остальные вещи.
Амброс вошел в небольшой ювелирный магазин, вынул из кармана один перстень с тремя небольшими бриллиантами и протянул его ювелиру.
— Вы желаете продать этот перстень? — спросил тот. Амброс в ответ утвердительно кивнул головой.
Ювелир вышел за перегородку и, вернувшись, сказал:
— Ничего не могу предложить вам за эту вещь… Камни поддельные, золото — американское…[9] Этот перстень стоит гроши.
Амброс растерянно взглянул на него, с решимостью отчаяния вынул из кармана брошь и положил ее на прилавок.
— К сожалению, и эта вещь ничего не стоит, — сказал ювелир, осмотрев брошь. — Где вы приобрели эти вещи, сударь?
Амброс схватил брошь и бомбой вылетел из магазина, бормоча проклятия. Вероятно, эта актриса, эта гнусная баба хвасталась своими поддельными камнями, а тот бритый осел, втянувший Амброса в это грязное дело, поверил ей… Впрочем, Амброс заставит его раскошелиться и заплатить за работу!
* * *
В назначенное время Амброс пришел в ресторан, и лакей провел его в кабинет.
— А, наконец-то! — встретил его «актер», сидевший за уставленным бутылками столом. — Поздравляю с успехом… Вы золото, а не человек!.. Я уже знаю — вам повезло.
Амброс уселся в кресло, выпил залпом стакан вина и заговорил:
— А, вам уже известно, как я обстряпал это дельце? Великолепно! А теперь, сударь, я вам хочу предложить такую штуку: уплатите мне сотню рублей и берите себе все эти вещи… Я, видите ли, не сумею их сплавить, я человек неопытный… Вы это лучше сумеете сделать…
«Актер» быстро взглянул на него и расхохотался.
— Однако, вы парень не промах… Значит, вы уже знаете цену этим «драгоценностям»? — заговорил он, вздрагивая от душившего его смеха.
Амброс посмотрел на него.
— Так… Значит, и вы знаете их цену? — спросил он тихо.
— Ну, конечно… Ведь я слежу за газетами, а там о вашем деле кое-что писали… Ошиблись мы немного с вами… — ответил «актер». — А, кстати, не захватили ли вы небольшого медальона с цепочкой?
— Он здесь, — хлопнул себя Амброс по карману.
— Ну, так вот, за этот медальон я вам дам десять рублей, — сказал «актер». — Медальон этих денег стоит. Вот видите, решительный человек, иногда и решительность — бесполезная штука… Уверяю вас, умный человек всегда восторжествует над решительным… — прибавил он загадочным тоном.
Амброс молчал. Он начинал подозревать, что сделался жертвой какой-то дьявольской махинации, и решил это выяснить.
— Мне кажется, сударь, вы не явились бы сюда, если бы я не захватил медальона, — сказал он. — Вам нужен медальон.
— Да ведь и вы не явились бы, если бы бриллианты оказались настоящими, — лукаво улыбнулся тот. — Ведь правда? Ну вот… Итак, ликвидируем это дело… Давайте медальон и получайте свои десять рублей.
Амброс взял со стола пузатую бутылку, встал и, смеясь, сказал:
— Я вам сейчас докажу, что решительность кое-чего стоит.
— И, взмахнув бутылкой, грозно прибавил: — Если вы не объясните мне, что это за штуку вы со мной сыграли, я вам разобью этой бутылкой череп!.. Ну?
«Актер» растерянно взглянул на него и пугливо отшатнулся.
— Что за шутки… — забормотал он, — ведь я сам ошибся… Вы же знаете…
— Ничего я не знаю, и вы мне все должны объяснить! — крикнул Амброс. — Не пытайтесь вилять хвостом, одно слово лжи — и вам конец!
— Ну ладно, что с вами поделаешь… — с деланным добродушием начал «актер». — Ну, неужели вы не могли догадаться? Вы читаете газеты? Во всех столичных газетах напечатано крупным шрифтом сенсационное известие о краже дорогих бриллиантов у талантливой артистки Малецкой… Эта Малецкая — моя пассия… Она очень талантливая артистка, уверяю вас, но о ней совсем не писали… Она просила меня устроить так, чтобы о ней написали везде… Что поделаешь — хорошенькая женщина вправе иметь фантазии! Вы поняли, в чем дело? Жаль, я не захватил с собой вырезок из газет, их целая куча… Реклама-то какая, мой милый!
— Ладно, — грубо прервал его Амброс. — Выкладывайте сто рублей, получайте медальон и убирайтесь к дьяволу со своей пассией!.. Я не привык валять дурака… Благодарите Бога, что дешево отделались.
— Ну, я думал, что это мне будет стоить еще дешевле… — с комическим вздохом проговорил «актер», сунул медальон в карман, вручил Амбросу деньги и с гордым видом удалился.
Амброс налил в стакан вина и пробормотал:
— А все-таки жаль, что я не дал тогда этому франту по физиономии.
Иван Иванович Из русско-японской войны
У него было длинное, неудобопроизносимое китайское имя, но, когда он появился в отряде в качестве переводчика, все, от начальника дивизии до вестовых, стали почему-то называть его Иваном Ивановичем. Маленький, смуглолицый и юркий, он сразу сумел сделаться нужным человеком и с редким бескорыстием, столь мало свойственным китайцам, оказывал штабу дивизии массу важных услуг. Беззаветно преданный русским, он почти всегда недружелюбно относился к своим соотечественникам, и когда в штаб приводили для допроса китайцев, подозреваемых в шпионстве или в принадлежности к хунхузским шайкам, он как-то с одного взгляда определял степень их благонадежности.
— Холосы манза!.. ничего дулного делай нет!.. — шептал он допрашивающему офицеру, внимательно осматривая подозреваемых своими маленькими, живыми, раскосыми глазками.
— Шибко дул ной есть!.. Нехолосо! Пу — шанго! Хунхуза есть! — блестя глазами, сердито выкрикивал он в другой раз, по каким-то, ему одному понятным, признакам различая хунхузов. Ему сначала не хотели верить, но впоследствии все его подозрения оказывались основательными.
Званием переводчика он гордился необыкновенно. Если кто-нибудь из вновь прибывших в штаб осмеливался крикнуть ему: «Эй, ходя!» — он сердито взглядывал на этого человека, с достоинством бросал ему: «Моя нет ходя… Моя пелеводчик есть!» — и спокойно поворачивался к нему спиной. Заветной мечтой его была мечта о медали, которую он думал получить за свои услуги, намекая при каждом удобном случае о ней начальнику дивизии. Медаль ему была обещана, а в ожидании ее он получал грошовое жалованье и был бесконечно доволен своей судьбой. Но месяца через два появление в штабе второго переводчика смутило его простую душу, и его счастливому существованию пришел конец. Этот второй переводчик, Чун, был прямою противоположностью суетливому Ивану Ивановичу. Высокий, широкоплечий, всегда сумрачный, он смотрел на всех исподлобья, волком. В свободное время, когда Иван Иванович весело болтал с офицерами и солдатами, Чун молча сидел на корточках у порога фанзы и смотрел куда-то вдаль. Впрочем, обязанности переводчика он исполнял добросовестно, методически переводил фразу за фразой, часто переспрашивал, тогда как Иван Иванович часто горячился, пересыпал русскую речь китайскими фразами и проглатывал слова. Потому ли, что Чун лучше его объяснялся по-русски, или просто, почувствовав к нему антипатию с первого взгляда, Иван Иванович всеми силами своей души возненавидел его.
— Шибко нехолосый!.. Пу — шанго! Нехолосый манза есть! — качая головой, говорил он русским.
— Хунхуз? — смеялись в штабе.
— Хунхуз нет… Нехолосый, шибко нехолосый манза есть! — твердил он.
Но ему, разумеется, не верили.
— Это ты, Иван Иванович, из зависти плетешь про него всякий вздор! Конкуренции опасаешься! — со смехом говорили ему. Он сердито взглядывал на говорившего и, задумчиво покачивая головой, уходил прочь. Открыто своей вражды он не проявлял ничем, но не сводил горящих ненавистью глаз с Чуна и зорко следил за ним.
А Чун, словно не замечая его взглядов, не обращал на него ни малейшего внимания и совершенно его игнорировал. И это равнодушие приводило кроткого Ивана Ивановича в дикое бешенство.
Однажды, через месяц после появления Чуна, Иван Иванович с таинственным видом подошел к большой, просторной фанзе, которую занимал начальник дивизии, и заглянул в окно. В китайской деревушке, где в то время помещался штаб, все уже давно спали, но в окне генерала светился огонь. Не обращая внимания на грозный окрик часового, Иван Иванович проскользнул в двери фанзы и остановился, прислушиваясь и зорко оглядываясь по сторонам.
— Стой! Что надо? — угрожающе двинулся к нему часовой.
— Моя нужно больсой капитана… Моя секлет есть… — зашикал и зашептал переводчик. Часовой пытался оттеснить его от фанзы, но в дверях ее показалась фигура офицера, адъютанта генерала.
— Кто там? Это ты, Иван Иванович? Что случилось? — спросил он.
— Моя нада больсой капитана… Больсой секлет есть!.. — повторил китаец.
Адъютант исчез за дверью и скоро появился снова.
— Ну, входи, — сказал он, — да смотри, если по пустякам беспокоишь генерала, — он тебе задаст! Тогда прощай твоя медаль!
Иван Иванович молча последовал за ним. Высокий, моложавый генерал с суровым, опушенным рыжеватыми бакенбардами лицом сидел за простым некрашеным столом, на котором была разложена карта, освещенная двумя стоявшими по краям ее свечами в высоких медных подсвечниках. Генерал, по-видимому, не собирался еще спать, походная кровать была не приготовлена, на столе около карты стоял стакан с жидким чаем, а на канах были разложены бумаги, которые он просматривал. Услышав шаги входящего переводчика, генерал повернулся к нему и вопросительно взглянул на него своими холодными голубыми глазами. Тогда Иван Иванович быстро заговорил, по обыкновению пересыпая свою речь китайскими фразами, глотая слова и отчаянно жестикулируя. Из его горячей тирады, длившейся добрых четверть часа, генерал с трудом мог понять, что Иван Иванович обвиняет Чуна в сношениях с неприятельскими шпионами и предлагает поймать его на месте преступления именно сейчас; что он с первых дней его службы подозревал его, но лишь недавно убедился в его измене, — проследив его, и теперь представляется возможным поймать его с поличным.
— Моя — пелеводчик, Чун есть японьски шипион! — ударяя себя в грудь, закончил он свою речь.
— Как же ты его собираешься поймать? — недоверчиво смотря на него, спросил генерал.
— Моя бери солдат, ходи фанза. Недалеко есть… Японьски приходи, Чун приходи… Солдата лови-лови их… — пояснил Иван Иванович.
— Вот так история! Капитан, прикажите сотнику Ченыкаеву взять десяток казаков. Разумеется, они пойдут пешком. Их поведет переводчик ловить шпионов… — обратился генерал к адъютанту.
— Слушаю, ваше превосходительство!
Адъютант вышел, но Иван Иванович продолжал стоять у порога, переминаясь с ноги на ногу. Он, по-видимому, хотел еще что-то сказать, но не мог решиться.
— Что там еще? — взглянул на него генерал.
— Моя лови-лови шипион, твоя моя медаль давай будет? — тихо спросил китаец.
— Будет тебе медаль, будь спокоен… — добродушно усмехнулся генерал и склонил голову над картой. Иван Иванович низко поклонился и вышел. К фанзе уже подходили темные фигуры казаков, впереди шел адъютант с низеньким, плотным казачьим офицером и на ходу объяснял ему, что от него требовалось.
— Моя лови-лови шипион, больсой капитана моя медаль давай! — шепнул адъютанту торжествующий Иван Иванович и зашагал во главе маленького отряда рядом с сотником. Миновав ряд темных фанз, отряд вышел из деревушки и пошел по сжатому полю чумизы. На небе не было ни звездочки, в темноте маньчжурской ночи нельзя было ничего рассмотреть в двух шагах, казаки по временам спотыкались, звякая оружием и чертыхаясь, но Иван Иванович уверенно шагал впереди, словно его глаза обладали кошачьей способностью видеть в темноте. Он сердито шикал на казаков, когда в ночной тишине звякали ножны их шашек, и тихо шептал сотнику:
— Близко фанза есть… Пустой фанза… Моя ходи смотри, твоя жди…
Наконец, он сделал знак остановиться и, вытянув шею, стал всматриваться в темноту. Сотник еле мог различить темную массу фанзы, одиноко стоявшей довольно далеко от деревушки, и вспомнил, что эту фанзу он видел накануне, возвращаясь с разведки. Она была давно покинута своими хозяевами, бежавшими от ужасов войны, но осталась в целости, и только два узких оконца ее не были закрыты ни стеклом, ни промасленной бумагой, которой обычно заклеивались окна бедных поселян. Казаки прилегли к земле и затаили дыхание, сотник привстал на одно колено, а Иван Иванович пополз к фанзе и исчез в темноте. С замирающим от волнения сердцем сотник, сжимая в руке рукоять револьвера, всматривался в неясные очертания фанзы, и ему показалось, что в ее окнах виден слабый, желтоватый свет.
— Смотри, ребята, живьем бери, ни рубить, ни стрелять не смей! — шепнул он казакам. Напряженное ожидание будоражило воображение, в темноте вокруг задвигались какие-то неясные, темные фигуры и сотник еле сдерживал в себе потребность вскочить, двигаться, ощутить явную опасность, менее страшную, чем скрытая в ночной темноте. У него мелькнула даже мысль, что переводчик — изменник и завлек нарочно маленький отряд дальше от своих, но из темноты вынырнула фигура Ивана Ивановича.
— Моя видал фанза японьски… Потом моя видал — приходи Чун… Твоя лови-лови надо, — зашептал он, наклоняясь к сотнику. Казаки, стараясь не звенеть оружием, двинулись за переводчиком к фанзе и окружили ее.
Сотник нащупал дверь, распахнул ее и вошел, а за ним последовал переводчик и казаки. В слабом свете сальной свечи, стоявшей на канах, к окнам метнулись фигуры двух китайцев и по стенам закачались их уродливые тени. Видя, что отступление отрезано, они полными дикого ужаса глазами смотрели на казаков. Один из них был молодой, небольшого роста китаец с лишенным растительности, лоснящимся от жира лицом, другой был Чун. Иван Иванович бросился вперед, схватил незнакомого китайца за косу, дернул — и коса вместе с круглой шапочкой полетела на пол.
— Бери их, ребята! — скомандовал сотник.
Неожиданно лишившийся косы китаец выхватил из-за пазухи нож и смахнул быстрым движением с кан свечу. Фанза погрузилась в темноту. Сотник растерянно стоял с револьвером в руке, а вокруг него в темноте слышался шум отчаянной борьбы, яростное пыхтенье, топот ног, проклятия казаков и крики боли. Еле не сбитый с ног, он бросил бесполезный револьвер и, окончательно оправившись от неожиданности, вытащил из кармана коробку спичек.
— Огня! Здесь он! Руку укусил, проклятый! Ах, ты, дьявол! Врешь, не уйдешь! — слышались восклицания казаков. Чиркнув спичкой, сотник увидел, как два казака боролись с отчаянно вырывавшимся из их рук шпионом, Иван Иванович ползал по полу, хватая шпиона за ноги, а остальные казаки бестолково вертелись вокруг них, хватая друг друга. У стены неподвижно стоял Чун и прислушивался к шуму борьбы с бесстрастием фаталиста, ожидая своей участи.
— Здесь свечка, ваше благородие! — сказал, поднимаясь с сконфуженным видом, сбитый борющимися на пол казак. Чиркая спичками, сотник зажег свечу, но борьба была кончена. Понявший бесполезность сопротивления шпион дал себя связать, злобно посматривая на казаков…
— Моя умилай, капитана! — услышал сотник слабый голос переводчика, продолжавшего лежать на полу, и со свечой наклонился к нему. Вся грудь Ивана Ивановича была залита кровью, стекавшей с его синей курмы на пол, рядом валялся окровавленный нож.
— Моя лови его, он меня бей… — продолжал жалобным тоном раненый, — моя падай, хватай его ноги…
— Ежели бы не он, этот удрал бы, ваше благородие, — вмешался один из казаков, — здоровый черт, даром, что маленький. В темноте его бы и не взять, да Иван Иванович подсобил…
Сотник приказал перенести осторожно раненого на каны.
— Твоя ищи его… Бумага мало-мало есть… — снова заговорил Иван Иванович.
— И то правда, ребята! — спохватился сотник. — Обыщите их, а то выронят где-нибудь нужные бумаги, потом — пиши пропало! Хитрый народец!
Казаки принялись обшаривать шпионов. У Чуна не нашли ничего, зато в складках японца оказались наспех сделанные чертежи и другие бумаги.
— Моя умилай, капитана! — проговорил Иван Иванович, — моя надо глоб клади!
— Поживешь еще, нас переживешь! — пробовал пошутить сотник, понимавший, что рана смертельна.
— Моя знай — моя умилай! — упрямо повторил раненый.
— Ну, если умрешь, — хороший гроб сделаем. Самый лучший! — утешали его казаки.
— Холосо! — счастливо улыбнулся умирающий. — А Чун кантлами будет?
— Непременно! Без разговоров — завтра же голову долой! — сказал сотник.
Иван Иванович с облегчением вздохнул и закрыл глаза.
Таинственный аэроплан
На опушке леса оба зуава остановились.
— Мы заблудились окончательно, Пьер… — прошептал Батист, всматриваясь в открывшуюся перед ними равнину, слабо освещенную беловатым светом луны. — Я боюсь, что мы находимся в сфере расположения неприятельских войск. Вот тебе и разведка!
— Я говорил тебе, что не нужно далеко забираться в лес, — проворчал Пьер, поправляя на голове феску. — Ткни штыком в кусты — и явятся пруссаки!
— Накликал-таки! — вырвалось у его товарища, услышавшего шорох в кустах. Шорох этот прекратился, но зуавы инстинктивно чувствовали близость врага. Неожиданно Батист вскинул к плечу ружье и выстрелил в кусты.
— Один! — хладнокровно произнес он и, снова нажав спуск, добавил: — А вот и другой!
С диким криком из кустов выскочили темные фигуры пруссаков и бросились на зуавов. Французы боролись отчаянно: стиснув зубы, они молча кололи врагов штыками, разбивали им черепа прикладами и, наконец, сбитые с ног, очутились на лесной поляне со связанными за спиной руками.
Пруссаков было около полсотни.
Они развели на поляне громадный костер, чувствуя себя вполне в безопасности, и весело болтали. К пленникам подошел прусский офицер и заговорил с ними на ломаном французском языке:
— Вы негодяи. Вы убили нашего майора! Вы шпионы и мы вас расстреляем!
Он выкрикнул резкое приказание, два пруссака подняли зуавов и поставили их рядом у ствола дерева. Напротив них выстроились шестеро прусских солдат с винтовками в руках.
— Умрем, товарищ, как истые зуавы… — сказал Батист.
— Прощай!
— Прощай! — отозвался Пьер. — Жаль только, что мало мы их поколотили!
Офицер хотел скомандовать, но слова команды застыли на его губах: неожиданно с темного неба упал на поляну ослепительно-яркий свет прожектора, хотя не было слышно ни характерного стука мотора аэроплана, ни жужжанья пропеллеров. Пруссаки и оба пленника взглянули вверх и увидели низко над их головами застывший в воздухе огромный аэроплан. Он висел неподвижно, словно ястреб, высматривающий добычу, не производя ни малейшего шума.
Опешившие от неожиданности и удивления пруссаки подняли свои винтовки, но в этот момент из-за дерева выскочил небольшого роста человек в кожаной куртке и грозно вскричал по-немецки:
— Не сметь! Прочь отсюда! Оставьте пленных! Иначе — всем вам смерть!
Офицер повернулся к солдатам и крикнул:
— Пли! Стреляйте!
Но незнакомец, заслонив собой пленных, вытянул вперед правую руку, в которой блеснуло что-то похожее на револьвер. Из него вылетела без шума длинная голубоватая искра и весь отряд пруссаков, как пораженный громом, повалился на землю.
Незнакомец спокойно подошел к застывшим от удивления пленникам, развязал им руки и сказал на чистом французском языке:
— Вы свободны, господа. Пруссаков вблизи нет. Я вам укажу тропинку и вы доберетесь до передовой линии французских войск!
— Но кто же вы? Дьявол? — вскричал Батист.
— Может быть… — усмехнулся незнакомец. — Довольно с вас, что я не желаю вам зла…
— А эти? — кивнул головой Пьер, указывая на неподвижные тела пруссаков.
— Они мертвы… — спокойно ответил незнакомец. — Я убил их электричеством из револьвера собственного изобретения. Как видите, сфера поражения и сила его довольно велика. Я могу одним нажатием спуска уничтожить целый полк.
— Но кто же вы?
— Я — мститель! — тихо ответил незнакомец. — Я враг ваших врагов. Аэроплан, висящий над вами, также изобретен мной. Он приводится в движение электричеством. На нем несколько человек экипажа. Вот и все, что я вам могу сказать. Прощайте! Вот тропинка, которая приведет вас к вашим друзьям.
С этими словами незнакомец исчез под деревьями и скоро аэроплан бесшумно поднялся выше и исчез из глаз изумленных зуавов.
Корабль-призрак
Французский миноносец медленно подвигался вперед. Его командир, капитан Риэль, стоял на мостике и внимательно всматривался в даль, где в предрассветных сумерках свинцовая вода сливалась с сумрачными, темными облаками осеннего неба. Легкое восклицание матроса на носовой части судна заставило капитана оторвать глаза от бинокля.
— Что такое, Пьер? — тревожно спросил он, оглядывая фигуру стоявшего у рубки матроса.
— Там… там… — бормотал тот, показывая рукой направо, и в голосе его слышался дикий ужас.
Капитан приложил снова к глазам бинокль и взглянул по указанному направлению. Сначала он ничего не мог различить, но скоро в поле зрения бинокля вырисовались смутные очертания странного судна, быстро подвигавшегося наперерез французам. Конструкцией оно напоминало трехтрубный миноносец, но капитана сразу поразило странное обстоятельство: хотя судно шло полным ходом, но из его труб не вылетало даже слабой струйки дыма, казалось, оно скользило по воздуху. Несмотря на близкое расстояние, контуры его слабо вырисовывались над водой, на палубе не было видно ни одного матроса…
— Боцман! — стряхивая внезапную жуть, крикнул командир.
— Есть, капитан! — отозвался дрожащим голосом тот.
— Свистать всех наверх! Канониры — к орудиям! Минеры — к аппаратам! — приказал Риэль.
— Осмелюсь доложить… — отделяясь от кучки неподвижно застывших в страхе матросов, возразил боцман. — Это… это — корабль-призрак, капитан…
— Хотя бы это был корабль сатаны, я его обстреляю! — бешено вскричал капитан. — Боцман, вы слышали мои приказания?
Резкая трель свистка боцмана нарушила жуткую тишину и вскоре, покорные железной морской дисциплине, матросы заняли свои места. Миноносец медленно повернулся к проходившему мимо призрачному кораблю, на котором по-прежнему не было видно ни одной живой души, правым бортом.
— Первое — пли! — скомандовал капитан.
Грянул выстрел и снаряд упал перед самым носом призрачного корабля.
— Эй, вы там, у орудий! Цельтесь вернее! — сердито крикнул капитан, недовольный результатом выстрела. Он уже собирался скомандовать снова, но, к великому удивлению французских моряков, на призрачном корабле взвился английский флаг.
— Что за чертовщина? — повернулся капитан к трем остальным офицерам миноносца. — На судне — ни души… Кто поднял флаг? Это прусское судно, в этом не может быть сомнения, пруссаки прикрываются чужим флагом. Но почему это судно действительно напоминает призрачный корабль? Смотрите, они спускают шлюпку!
Действительно, от остановившегося призрачного корабля отделилась маленькая, словно игрушечная шлюпка, управляемая невидимыми руками; только на носу виднелась фигура одиноко сидящего человека.
Скоро на палубу миноносца по трапу взобрался высокий, плотный человек с гладко выбритым, энергичным лицом, одетый в высокие сапоги, кожаную куртку и морскую фуражку.
Подойдя к капитану, он вежливо приложил руку к козырьку и спросил по-французски:
— Я имею честь говорить с командиром этого судна?
— Я капитан Риэль! — отвечал француз и, уловив английский акцент незнакомца, с улыбкой прибавил:
— Вам нужно было бы несколько раньше показать свой флаг…
— Это не входило в мои расчеты… — спокойно ответил незнакомец и, бросив выразительный взгляд на стоявших на мостике офицеров, прибавил:
— Я хотел бы поговорить с вами, капитан.
— Я — к вашим услугам. Пожалуйте в мою каюту.
Незнакомец последовал за Риэлем и, усевшись за стол маленькой каютки, сказал:
— Я понимаю, капитан, ваше удивление и постараюсь вам объяснить те странности, которые вы заметили в моем судне.
Это — не военное английское судно, оно принадлежит мне лично. Лет за шесть до начала войны с Германией мне удалось изобрести такой состав, который обесцвечивает все предметы, придает им призрачный вид, и решил предложить этот состав английскому адмиралтейству, но там отнеслись ко мне не с тем доверием, какого я ожидал. Тогда я решил сам построить миноносец, предвидя близкое столкновение моей родины, Англии, с Германией. Судно было построено на одном необитаемом островке Индийского океана, куда я привез с большими предосторожностями необходимые материалы, механиков, мастеров и рабочих. Когда началась война, мое судно было готово; я установил на нем собственного изобретения электрические двигатели и поэтому не нуждаюсь ни в угле, ни в другом горючем материале. Сначала я имел в виду просто использовать то обстоятельство, которое мне дает возможность почти вплотную подходить к врагу, а именно, мою относительную «невидимость». Но скоро мне помогло нечто другое. Видите ли, немецкие матросы страшно суеверны и среди них распространена легенда о корабле-призраке. Именно за него они и принимают мое судно. Когда я появляюсь перед ними, они, от юнги до капитана, застывают от ужаса и опускают руки… Это мне дает возможность топить их наверняка своими минами…
— Но, однако, мои орудия еле не потопили вашего судна… — возразил француз.
— Вы — первый моряк, решившийся обстреливать корабль-призрак! — с любезной улыбкой сказал англичанин.
— Я, видите ли, сомневался в национальных цветах вашего флага и слишком поздно угадал в вашем судне французское… Итак, я вас покину. Желаю вам успеха.
— Еще один вопрос! — жестом остановил его капитан.
— Почему вы не передадите ваших изобретений английскому правительству?
— Я уже вам говорил — английское адмиралтейство обидело меня… — спокойно ответил незнакомец. — А затем, я хочу сам, понимаете, сам топить немецкие корабли!
Он спустился по трапу в шлюпку и скоро взошел на палубу призрачного корабля.
Вскоре корабль-призрак растаял вдали, но французские моряки долго еще смотрели ему вслед и им чудились над волнами его призрачные контуры.
«Белый генерал»[10]
Поручик Страхов окинул взглядом прижавшиеся к стенкам окопа серые фигуры стрелков, взглянул назад, где виднелись отходившие на новые позиции густые тени пехоты, и снова перевел взгляд на своих людей. Он знал, что эти солдаты, которым было поручено во что бы то ни стало задержать наступающего врага, обречены на смерть, так как неприятельский отряд в несколько раз многочисленнее и раздавит эту горсть храбрецов, но не испытывал страха ни за себя, ни за них: они все исполняют свой долг.
Замолкла трескотня русских пулеметов и грохот орудий, отходивших назад, и только огонь неприятеля, подготовлявшего атаку штурмующей колонне, усилился, но шрапнель рвалась вблизи окопов, не причиняя большого вреда стрелкам. Чувствуя потребность заняться чем-нибудь, поручик взял у раненого солдата винтовку и стал методически стрелять в невидимого врага.
— Идут, ваше благородие… — шепнул ему находившийся рядом фельдфебель. Бросив винтовку, поручик высунулся из окопа, не обращая внимания на визжавшие над ним пули, и увидел высыпавшие из перелеска густые цепи австрийцев.
— Вероятно, тирольские стрелки… — повернулся Страхов к прапорщику, — уж очень решительно прут вперед.
Наступающие цепи австрийцев, по временам припадая к земле и открывая огонь, быстрыми перебежками приближались к русским окопам, видимо, торопясь до наступления темноты овладеть ими, но вскоре беглый огонь русских стрелков заставил их задержаться.
— Сейчас опять попрут! — шепнул Страхову прапорщик. — Ну, жаркое будет дело…
— Если что со мной случится — вы меня замените! — так же шепотом приказал поручик.
— Когда близко подойдут — пойдем в штыки. Все равно — умирать… Ишь, их видимо-невидимо.
Когда серые сумерки окутали окоп, русские услышали шум бегущих австрийцев, направляющихся без выстрела к окопам.
Поручик выхватил шашку и хотел скомандовать, но слова команды застыли у него в горле: перед окопом, словно из-под земли, появился в тусклом сумеречном свете всадник на белом коне. Его опушенное бакенбардами лицо, огненные глаза, молодцеватая фигура, затянутая в белоснежный, старого образца китель, показались странно знакомыми Страхову, но он не мог вспомнить, где он его видел. Стрелки прекратили огонь и застыли на своих местах.
— Вперед, ребята! В штыки! За мной! — загремел властный голос.
Поручик увидел, как ощетинившаяся штыками волна солдат хлынула, словно повинуясь неведомой силе, за всадником; не отдавая себе отчета в происходящем на его глазах, точно загипнотизированный, поручик бежал вперед, кричал: «ура» и размахивал шашкой…
Неожиданно что-то ударило его в голову и он упал без чувств. Очнулся Страхов в окопе и увидел склонившееся над собой бородатое лицо прапорщика.
— Отбили мы этих австрияков… — поймав вопросительный взгляд раненого, сказал прапорщик, — а вас подобрали солдаты.
— А они? Снова наступают? — слабым голосом спросил он.
— Где там наступать! Удрали без оглядки! — усмехнулся его собеседник. — Прямо удивительно, как это вышло…
— А «он»? Разве вы его не видели? — вскричал Страхов. блестя глазами и внезапно поднимаясь с земли. — Как он командовал! Эх, куда угодно пошел бы за ним! Хоть в ад!
И он снова без чувств свалился на дно окопа.
Слепой капитан
Перед сеансом капитан страшно волновался, нервно теребил край скатерти, курил папиросу за папиросой и поминутно спрашивал хозяйку, молодую женщину-врача:
— Лидия Петровна, пора бы начать… Время идет…
Хозяйка, разговаривавшая с художником Гурьевым и его женой, высокой, стройной блондинкой, с улыбкой, в которой сквозило ласковое сожаление здорового человека к калеке, взглядывала на капитана и мягко отвечала:
— Сейчас, Владимир Андреич… Одну минуту…
Наконец, она встала, подошла к круглому столику перед диваном, сдернула с него скатерть и, похлопывал по его блестящей лакированной поверхности, сказала:
— Итак, господа, мы начинаем… Присаживайтесь!
Жена капитана усадила его на диван и села напротив, рядом с ней поместилась хозяйка и жена художника.
Художник Гурьев в сеансе участвовать отказался.
— Я в первый раз присутствую на спиритическом сеансе и хотел бы понаблюдать со стороны, — сказал он, закуривая папиросу. — Я, откровенно говоря, в спиритизм не верю…
— Вот этого я не понимаю!.. — с раздражением перебил его капитан. — Вы же сами говорили, что никогда не были на спиритическом сеансе, следовательно, как же вы можете так категорически утверждать, что не верите в спиритизм? Сознайтесь, вы с ним едва ли даже знакомы по книгам? Ну, вот видите, я угадал… По крайней мере, вы не откажетесь записывать все, что мы вас попросим?..
— О, разумеется!.. — согласился художник.
Участники сеанса, касаясь лакированной поверхности стола кончиками пальцев, сидели молча и напряженно ждали.
Гурьев, удобно усевшись в кресло, вынул записную книжку, карандаш и стал всматриваться в моложавое, бледное лицо капитана.
Художнику как-то не верилось, что у слепого может быть такое подвижное лицо и такие лучистые глаза, и ему показалось, что в этих незрячих глазах порой можно было прочитать странное выражение затаенной тоски.
Жена капитана сидела со скучающим видом, вытянув перед собой пухлые руки, и шепотом разговаривала с хозяйкой. Стол стал медленно наклоняться в сторону капитана и, на секунду задержавшись, принял прежнее положение с резким отрывистым стуком.
— Это дух обнаруживает свое присутствие, — взволнованно заговорил капитан. — Господа, кто желает предлагать вопросы?
— Сначала спросим имя этого духа, — сказала хозяйка.
— Внимание, господа… Кажется, это дух необыкновенной силы…
Стол снова пришел в движение и стук слышался за стуком. Капитан перечислял вслух одну букву алфавита за другой: столик задержался на букве «и». — Я буду говорить вам каждую следующую букву.
Стуки прекратились, и капитан нетерпеливо спросил:
— Ну, прочитайте, пожалуйста, что у вас вышло.
— Пифагор! — громко прочитал удивленный художник.
— Странно, очень странно…
— Это необыкновенно сильный дух, я уже с ним беседовала… Предлагайте вопросы, господа!.. — торжественным тоном сказала хозяйка. — Впрочем, спросим его, какой это Пифагор.
Столик застучал снова. Заинтересовавшийся художник записывал букву за буквой.
— Исторический титан! — громко прочитал он. — Ого! Нельзя сказать, чтобы этот дух был очень скромен… Исторический титан! Громко сказано…
— Почему же вам кажется странным этот ответ: Пифагор и есть исторический титан, — тихо сказал капитан. — Господа, разрешите мне предложить духу вопрос, который я не хочу пока объявлять…
На этот раз столик долго оставался неподвижным и стучал с большими промежутками. Фраза получилась странная: «За облаками есть просвет, брат Владимир».
Услышав эту фразу, капитан вскочил, сел снова и заговорил голосом человека, внезапно опьяненного большой радостью:
— Господа, этот ответ относится ко мне!.. Меня зовут Владимиром… Вы мне разрешите задать еще вопрос? Пусть дух ответит мне одним стуком…
Столик заколебался и стукнул один раз.
Художник заметил, как в бледных щеках капитана вспыхнул румянец, и ему показалось, что в карих глазах слепого блеснула безумная радость.
— Пусть теперь дух мне скажет что-нибудь, — нежным детским голосом сказала жена художника.
— Богатство делает человека волком, а бедность — овцой, — громко прочитал художник и, смеясь, добавил: — А он, оказывается, чертовски мудрый дух, этот Пифагор! Ведь это классический афоризм.
— Вы напрасно смеетесь над этим, — с неудовольствием сказала хозяйка. — Этот Пифагор — добрый дух, но ведь бывают духи и злые, которые не прощают подобных насмешек и могут сыграть с вами нехорошую штуку… Что вы скажете, если сегодня ночью к вам явится дух в образе дьявола с хвостом и рогами?
— Я схвачу его за хвост! — решительно заявил художник.
— Я думаю, пора прекратить, господа… Уже поздно… — сказала жена капитана и встала из-за стола. Ее примеру последовали остальные участники сеанса и стали прощаться с хозяйкой.
Провожая художника и его жену в передней, хозяйка говорила:
— Не правда ли, интересный сеанс? Приходите в следующую субботу, у меня сеанс по субботам…
— А я, вероятно, не приду… Я получила работу и буду занята до восьми часов вечера… — сказала жена капитана, заботливо помогал мужу одеваться.
— А как же Владимир Андреич? — спросила хозяйка.
— О, он придет… Мне рекомендовали Старцевы одну интеллигентную девушку… Она будет за ним ухаживать и провожать его на прогулку и на сеансы…
Сидя с женой на извозчике, капитан оживленно говорил:
— Ты знаешь, Надя, я спросил духа, вернется ли ко мне зрение… И, представь, я слышу: «За облаками есть просвет, брат Владимир». Разве это не прямой ответ на мой вопрос? О, я надеюсь на следующем сеансе получить более определенные указания… Кстати, эта жена художника… Она брюнетка?
— Нет, блондинка, — со вздохом ответила жена.
Капитан замолчал. Ему почему-то вспомнилось легкое пожатие маленькой теплой руки жены художника, нежный голос и манера нечисто произносить букву «р». Когда она вошла в первый раз в комнату и заговорила, капитан почему-то принял ее за очень молоденькую девушку.
О, как он был бы счастлив видеть оживленные девические лица, смеющиеся глаза, свежую зелень деревьев, пестрые цветы, алмазные капли росы в их чашечках, золотые лучи солнца и разноцветные огни города… Каждую субботу он аккуратно являлся на спиритический сеанс, задавал духу вопросы, и ему казалось, что близок час, когда он получит точное указание и прозреет. Ему осталась только одна надежда на чудо, и он ждал этого чуда с нетерпением и диким упорством фанатика. Иногда ему казалось, что он испытывает легкое светоощущение, и надежда вспыхивала в нем с новой силой. В спиритизм он верил безгранично и с нетерпением ждал субботы и начала сеанса..
Он настойчиво заставлял жену читать ему вслух книги о спиритизме, заставлял ее рыться в медицинских. Журналах и расспрашивал каждого нового знакомого, не слыхал ли он о новых способах лечения слепоты.
И в этот вечер он был почти счастлив, словно предчувствовал неожиданную большую радость и близость чуда.
Поднимаясь по лестнице домой, он сказал жене:
— Ты помнишь, когда мы на прошлой неделе заходили в гомеопатическую аптеку, аптекарь говорил, что читал в каком-то журнале о вновь найденном способе лечения слепоты. Зайди завтра к нему, разузнай все, как следует, и постарайся достать этот журнал…
На другой день, после обеда, капитан лег по обыкновению отдохнуть и проснулся довольно поздно, когда часы пробили уже шесть. Он встал и, придерживаясь за мебель, осторожно направился в столовую. Расположение комнат и порядок мебели ему были знакомы давно и он мог в своей квартире обходиться почти без посторонней помощи. Из столовой до него донеслись звуки незнакомого женского голоса, он вспомнил, что позабыл одеть тужурку, вошел в соседнюю комнату и сел в кресло. Здесь ему было слышно каждое слово и он догадался, что в столовой жена разговаривает с девушкой, которая должна за ним ухаживать.
Он слышал, кик жена его говорила:
— Да, больше тридцати рублей мы платить не можем… Ведь это, в сущности, нетрудно… Вы будете приходить в десять часов утра, будете провожать мужа на прогулку, почитаете ему иногда вслух. Обедать будете, разумеется, у нас… Я, видите ли, до сих пор ухаживала за ним сама, но теперь я буду с понедельника занята на службе…
— А давно ослеп ваш супруг? — спрашивал незнакомый женский голос.
— Вот уже пять лет… Это произошло у него на нервной почве… И, представьте, это так неожиданно случилось… Да, страшное несчастье… Кстати, вы его будете провожать на спиритический сеанс… Вы верите в спиритизм? Нет? Я, видите ли, сама не верю… Между нами говоря, эти сеансы устраиваются исключительно для него… Он, бедный, верит, что духи укажут ему способ исцеления от слепоты… Сеансы эти мы устраиваем у одной нашей хорошей знакомой и мы с ней заставляем духа говорить все, что нам угодно… Уверяю вас, это все очень трудно подстраивать, но теперь я уже напрактиковалась… Что же поделаешь, приходится его тешить иллюзиями и несбыточными надеждами, это в нем поддерживает некоторую бодрость духа. А то первое время он был близок к самоубийству… Это — такой ужас!..
Капитан слышал все, и каждое слово жены словно раскаленным железом жгло его мозг: вся горечь обманутых надежд и поруганной веры душили его. Он тихо качался в кресле, словно испытывал мучительную зубную боль. Потом он вскочил и, натыкаясь на мебель, пошел в спальню.
Там он упал на кровать, уткнувшись лицом в подушку, и долго лежал неподвижно, по временам всхлипывая, словно в груди его не хватало воздуха.
В спальню вошла его жена и позвала его:
— Ты еще спишь, Володя? Пора вставать… Там пришла та девушка… Мы с ней условились за тридцать рублей, она придет завтра утром…
Заслышав ее голос, капитан поднял голову с подушки… У него явилось желание броситься на эту женщину, схватить ее за гордо и душить долго-долго…
— Оставь меня в покое… Я буду спать… — каким- то странным тягучим голосом проговорил он. — Уйди!
— Да что с тобой, Володя? — с тревогой спросила она.
Капитан молча повернулся к ней спиной и, стиснув зубы, продолжал лежать неподвижно.
Через полчаса капитан снова позвал ее и, когда она вошла, тихо сказал:
— Открой окно, здесь душно…
— Что ты Володя?.. Воздух здесь чистый…
— Я тебе говорю, открой окно! — тоном капризного ребенка крикнул он.
Она с треском распахнула окно и сказала:
— Я пойду на полчаса к Старцевым. Ты посидишь один? Если тебе что-нибудь понадобится, кликни Настю… — и она вышла.
Капитан долго лежал неподвижно, потом, шатаясь, подошел к окну и лег грудью на подоконник. Словно во сне слышал он уличные стуки, звон трамваев, гул автомобилей и человеческие голоса.
Он пытался вызвать в воображении картину уличной жизни и испытывал странное чувство человека, заживо погребенного, который слышит трепет жизни, но не видит, который чувствует, но никогда не воскреснет.
И неожиданно мысль, что только за гранью небытия освобожденная душа увидит свет золотого солнца, пронзила его мозг и он, вытянув перед собой руки, словно подброшенный стальной пружиной, с глухим криком полетел из окна на мостовую…
Опиум Рассказ моряка
Курт останавливался у каждой ярко освещенной витрины, с одинаковым любопытством рассматривал пестрые галстухи, книги, белье, блестящую посуду и весело подмигивал манекенам в длинных пальто и широкополых шляпах, украшенных разноцветными перьями и пестрыми цветами. Их раскрашенные восковые лица и выпученные глаза вызывали в нем целый рой приятных воспоминаний о коротких, но интересных встречах с гостеприимными незнакомками в течение последних двух суток, проведенных им в этом шумном, незнакомом городе.
Правда, теперь эти встречи уже казались ему несколько однообразными и ему хотелось новых, более сильных ощущений… Кроме того, в кармане его болталась последняя золотая монета, и было бы положительно глупо явиться на борт «Спрута», не пристроив ее надлежащим образом: ведь его бы подняли на смех все — от боцмана до юнги…
Последнее соображение заставило матроса оторваться от созерцания пестрого хлама, разложенного в витринах, и ускорить шаги. Он свернул в узкий переулок, тускло освещенный редкой цепью фонарей и, насвистывая бравурный марш, стал читать вывески кабачков и присматриваться к лицам встречных. Он уже жалел, что отбился от шумной компании товарищей, и питал смутную надежду встретить одного из них, чтобы вместе провести ночь в кабачке, а утром — явиться на борт судна.
— «Причуда моряка» — славный кабачок, но как мне его разыскать — хоть убей, не знаю, — пробормотал Курт, останавливаясь на углу. — Не может быть, чтобы он помещался на этой гнусной улице, где не встретишь ни собаки, ни полисмена…
Он уже хотел двинуться дальше, но из ближайшего подъезда вынырнула темная фигура и направилась к нему.
— Китаец! — удивился матрос, с любопытством рассматривая желтое, с раскосыми глазами лицо, синюю куртку и меховую шапку.
— Слушайте, желторожий, не можете ли вы мне сказать, на какой улице находится кабачок «Причуда моряка»? Там все наши, мне их необходимо повидать…
Китаец отрицательно мотнул головой.
— Досадно, черт возьми! Слушайте, желтая рожа, неужели вы настолько тупы, что даже не можете указать пути к одному из тех кабачков, где бы мог весело провести время честный моряк, в карманах которого звенит куча золота?
Китаец подошел ближе, свет фонаря упал на его лицо, и Курт заметил, как это лицо исказилось подобием улыбки, а правый глаз китайца лукаво подмигнул ему.
— Я был в этом уверен, желтая кожа, — сказал, смеясь, матрос, — вы премилый человек! Итак — полный ход!
Китаец кивнул головой и быстро зашагал вперед, шлепая по камням толстыми подошвами башмаков. Курт следовал за ним, мужественно борясь с искушением дернуть его за длинную черную косу. Это мужество истощалось по мере того, как истощалось терпение матроса, и он, наконец, сердито крикнул:
— Стоп! Не думаете ли вы, желтокожий, что я буду идти за вами до завтрашнего вечера? Я извиняюсь, но «Спрут» снимается с якоря ровно в десять часов утра, ни минутой позже…
— Близко, капитана… Одна минута… — пробормотал китаец и, наконец, проскользнул в узкие ворота мрачного каменного дома.
Курт вошел за ним, очутился на темном, широком дворе, напоминавшем каменный ящик, и остановился перед низенькой дверью в какой-то подвал. Китаец сделал приглашающий жест рукой и закивал головой.
— Это вход в кабачок? — удивился матрос. — Сомневаюсь, чтобы в этой дыре было весело. Я пойду за вами, желтая рожа, но, клянусь бугшпритом, если мне будет скучно, я лишу вас нежного украшения, которое зря болтается сзади…
Они вошли в длинный, узкий коридор, освещенный несколькими тусклыми жестяными лампочками, подвешенными к стене, прошли мимо десятка узких, обитых войлоком дверей и очутились в маленькой, квадратной комнате. Китаец подошел к бамбуковому столику и прибавил огня в жестяной лампочке. Курт осмотрелся. Оба небольших оконца комнаты были плотно завешены красной, засаленной тканью; у стены, кроме бамбукового столика, стоял низкий клеенчатый диван. Китаец молча указал ему на этот диван и вышел из комнаты.
Чувствуя усталость, матрос растянулся на диване и стал от скуки соображать, сколько стаканчиков рома можно было бы выпить за один маленький золотой. Не успел он кончить подсчета, как вошел в дверь китаец и подошел к нему. В правой руке он держал длинный тонкий чубук, на конце которого была прикреплена плоская чашечка с небольшим отверстием, в левой — коробку восковых спичек.
— А, понимаю! — весело вскричал Курт. — Опиум? Прекрасно! Я порядочно погулял по свету, но опиума мне курить не приходилось… Что ж, нужно испытать все!.. Я выкурю с десяточек трубок, а после все-таки потребую рома и других развлечений. Помните это, желтая рожа!
— Платить! — отрывисто сказал китаец, вкладывая в отверстие трубки сероватый шарик величиной с горошину.
— Платить? Есть! Получайте золотой, сдачу дадите мне утром…
Китаец спрятал монету за пазуху, зажег спичку, поднес ее к отверстию трубки и вышел.
После двух-трех затяжек матрос почувствовал приятную тому во всем теле; глаза его, устремленные в одну точку, подернулись полупрозрачной дымкой, и ему показалось, что стены комнаты тихо раздвигаются.
Неожиданно он испытал ощущение человека, летящего вниз с высоты, нить его сознания оборвалась, словно он погрузился сразу в глубокий сон. Когда сознание вернулось к нему снова, он увидел над собой матовую зелень деревьев, сквозь которую виднелось бирюзовое небо. В просвете между темными стволами виден был алый диск заходящего солнца. Предрассветный ветерок освежал голову матроса легким дуновением, похожим на вздох. Курт увидел, что он лежит на циновке посреди небольшой зеленой лужайки, окруженной живой изгородью зелени, из-за которой доносилась до его слуха странная музыка. Казалось, эта музыка явилась сочетанием звона серебряных колокольчиков с тихим звоном струн и мелодичным пением скрипки. Она заставляла сердце матроса трепетать от неизъяснимого блаженства, словно легкий ветерок сдунул с него все горести и желания земли; его тело стало необычайно легким, способным взлететь в бирюзовое небо и парить над густой зеленью лесов. Вблизи него зашевелились кусты — и на лужайку вышла стройная женщина в легких белых одеждах. На ее янтарно-смуглом лице черными бриллиантами блестели лукавые глаза и ярко выделялись алые губы. Ее черные, как крылья ворона, волосы украшала красная, расшитая жемчугом повязка, стройные ноги были обуты в кожаные сандалии. Она низко склонилась перед матросом и закружилась под музыку в плавном танце, словно большая белая бабочка. Темп музыки ускорялся, женщина кружилась быстрее, белые одежды ее развевались, взгляд ее зачаровывал и неотразимо притягивал к себе, словно взгляд гремучей змеи. Матрос испытывал безумное желание броситься к ней, сжать ее в своих объятиях, но не мог шевельнуться. Эта пытка стала нестерпимой, сердце его словно хотело выскочить из груди, тело забилось в судороге и застыло, скованное сном. Когда сознание вернулось к нему, он тусклым взглядом скользнул по грязным обоям квадратной комнаты и поднял голову. Сквозь редкую ткань красных занавесей пробивался свет дня, за стеной он услышал человеческие голоса и хлопанье дверей. Матрос встал, чувствуя полный упадок сил и необычайную сонливость, развинченной походкой направился к двери, отворил ее и крикнул хриплым голосом, показавшимся чужим ему самому:
— Эй, желтокожий, куда вы провалились?
Из полумрака коридора вынырнула знакомая фигура китайца.
— Пить! — сказал матрос.
Китаец вопросительно смотрел на него своими раскосыми глазами.
— Вы поняли меня, старый кашалот? Я хочу пить, дайте мне воды! — раздраженно крикнул Курт. Китаец кивнул головой и скрылся за узкой дверью. Курт вернулся в комнату, отдернул занавеску и выглянул на двор. Глаза его резнул яркий солнечный свет, он снова задернул занавес и присел на диване. Ему было ясно, что теперь уже более десяти часов утра и что «Спрут» вышел в море без него, но это сознание не доставило ему ни малейшего огорчения. Вошел китаец с глиняной кружкой в руке. Курт жадно осушил кружку и сказал:
— Мне еще придется погулять по берегу, мне этот город нравится, а пока я хочу спать…
Китаец кивнул головой и удалился. Матрос растянулся на диване и заснул крепким сном смертельно уставшего человека, сном без видений, похожим на смерть. Когда он проснулся, было совершенно темно. Освеженный сном, Курт встал, прошел по пустому коридору и вышел на улицу, жадно вдыхая свежий воздух. Он шел медленно, и по мере того, как он удалялся от мрачного дома, в его воображении все ярче и ярче оживало виденное им ночью: и густая зелень деревьев, и бирюзовое небо, и смуглое лицо танцовщицы. В нем усиливалось желание увидеть все это снова, услышать снова дивную музыку — и это желание парализовало его волю. Ему хотелось курить опиум, курить во что бы то ни стало. Он быстро вернулся к мрачному дому и стукнул кулаком в низенькую дверь знакомого подвала.
Ему отворил гигант-китаец с широким, изуродованным оспой лицом и вопросительно посмотрел на него своими тусклыми глазами.
— Я хочу курить опиум… Я был здесь полчаса тому назад, — сказал Курт.
Китаец посторонился, чтобы пропустить его, и матросу показалось, что в его тусклых глазах мелькнула усмешка. Он прямо прошел в знакомую комнату и лег на диван, нетерпеливо крикнув:
— Скорее!
— Платить… — промямлил китаец.
— Я заплачу после. Что же, ты мне не веришь, желтая обезьяна?
— Платить… — упрямо повторил китаец.
— Ах ты, желтая жаба! — заревел матрос, вскакивая в внезапном припадке дикого бешенства. — Да я разнесу в щепки вашу скверную лачугу, желтые твари! Как, не верить матросу? Я заплатил золотой за одну трубку — этого довольно… Я вам покажу! Пусть полиция перевешает вас, хотя на вас жаль тратить веревку!..
Китаец, испуганно попятившись к двери, резко крикнул, и на его зов явился второй, знакомый Курту. Оба китайца перебросились несколькими отрывистыми фразами на своем языке, потом гигант вышел, а оставшийся закивал головой матросу, словно извиняясь, и забормотал:
— Сейчас, капитана… Одна минута… Не надо полиции…
Дрожащими от нетерпения руками Курт закурил и растянулся на диване. Знакомая расслабляющая истома охватила его тело, мысли стали заволакиваться туманом.
Китаец убавил огонь в лампе, быстро взглянул на лежавшего неподвижно моряка и вышел из комнаты. Курту уже казалось, что издали доносятся звуки нежной музыки, и он медленно стал погружаться в рай грез. Внезапно он почувствовал, как чьи-то железные пальцы сдавили ему горло, отчаянным усилием открыл глаза — и последнее, что он увидел, было склонившееся над ним, искаженное злобой лицо гиганта-китайца. Потом матрос захрипел, дернулся всем телом и замер. В тусклом свете жестяной лампочки двигалась по комнате мрачные фигуры двух китайцев, изредка перебрасываясь короткими фразами на своем языке. Один из них, обшарив карманы матроса, разостлал на полу грязную циновку, поднял труп с дивана, положил на циновку и закатал его в нее, как вьюк. Оба китайца наклонились над трупом, подняли его, выскользнули на темный двор и направились к темному предмету, похожему на сруб колодца. Один из них снял со сруба сбитую из досок крышку — и запах сточной ямы отравил воздух. Китайцы подняли труп матроса над ямой, разжали руки — и до их ушей донесся глухой плеск. Они закрыли яму крышкой — и скоро их темные молчаливые фигуры исчезли за дверью подвала.
Малайский крис
Человек в серой широкополой шляпе и черном плаще вошел в дверь маленькой кофейни и уселся у окна, не обращая ни малейшего внимания ни на стоявшего за стойкой хозяина, ни на случайных, быстро сменявшихся посетителей. Он сидел молча, не снимая шляпы, медленно пил жидкий кофе, стакан за стаканом, словно желая оправдать свое долговременное пребывание здесь, и не сводил упорного взгляда с подъезда маленького двухэтажного домика на противоположной стороне улицы. Заинтригованный его странным поведением хозяин пробовал заговорить с ним, но незнакомец, бросив на него свирепый взгляд, прорычал что-то в ответ и отвернулся к окну.
— Невежа, — довольно громко пробормотал обиженный хозяин, — сидит здесь несколько часов и, кажется, собирается выпить все, что есть у меня. Среди моих посетителей еще не было шпионов!
Гость, не обращая внимания на его воркотню, спокойно заказал еще стакан. Но едва кофе был подан, он вскочил и впился внимательным взглядом в вышедшего из подъезда высокого человека в морской фуражке и черном, наглухо застегнутом сюртуке. Хозяин заметил, как на бледных щеках незнакомца вспыхнул румянец, а черные глаза его зажглись мрачным огнем. Незнакомец небрежно бросил на столик несколько серебряных монет, провел рукой по лицу, справился со странным волнением, закутался в плащ и вышел из кофейни. Он перешел на другую сторону улицы и пошел следом за вышедшим из подъезда моряком. Некоторое время незнакомец следовал за ним, не уменьшая расстояния, и пристально всматривался в его широкую спину, словно изучая его плавную, вразвалку, походку. Наконец он ускорил шаги, поравнялся с моряком, дернул его за рукав сюртука и окликнул:
— Кепп, дружище!
Моряк быстро обернулся и, вздрогнув, взглянул на бледное, опушенное черной кудрявой бородой лицо незнакомца.
— Ты меня не узнал, дружище Кепп? — продолжал тот добродушно. — Ну, и немудрено: мы виделись с тобой последний раз пять лет тому назад! Это было в Рио-Жанейро, в госпитале… Как видишь, иногда мертвые воскресают!
— Демерт! — с ужасом пробормотал моряк и, охваченный внезапной нервной дрожью, пошатнулся.
— А, ты все-таки узнал меня, несмотря на костюм и бороду? Да не бойся, старина, я совсем не выходец с того света! Двинемся вперед, а то на нас уже начали обращать внимание прохожие… Они чертовски любопытны, эти граждане этого скверного портового городишки! — весело говорил Демерт, шагая рядом с моряком. — Ну, а ты, кажется, изменился еще меньше, чем я: все такой же франт и так же лихо закручиваешь твои усы! Ты знаешь, когда я тебя случайно увидел на улице, я прямо с ума сошел от радости… Еще бы! После пятилетней разлуки встретить единственного друга! Ведь мы с тобой чуть не десять лет плавали вместе…
— Положим, шесть лет… — уныло поправил его Кепп.
— Ну, не все ли равно! Шесть лет — тоже порядочный период времени! А ты знаешь, Кепп, я болтаю, — и мне стыдно за мою пустую болтовню… Когда я представлял себе нашу встречу, я думал, что мы будем беседовать только о чертовски важных вещах, но когда я тебя увидел, эти важные разговоры вылетели из моей головы… Так всегда бывает при встрече с близкими людьми, я это давно заметил… Знаешь что, старина, зайдем ко мне и поговорим по душе; я не привык к откровенной беседе на улицах. Я живу недалеко, в гостинице «Семь каравелл»…
— Сейчас я тороплюсь по делу. Я зайду к тебе завтра, Демерт, и тогда потолкуем… — быстро перебил его Кепп. — Я очень рад видеть тебя, но я тороплюсь. Очень важное дело!
— Я ни за что тебя не отпущу, — весело вскричал Демерт, схватывая его за руку, — ты меня смертельно обидишь, если не примешь моего приглашения. Пять лет не видеть — а он хочет удрать! Нет, к черту важные дела! Идем!
— Только на одну минуту… Я тороплюсь… — пробормотал Кепп, невольно подчиняясь его настойчивости.
— Ну, нет, мы побеседуем подольше. Выпьем, как бывало выпивали… Ты помнишь «Аврору», Кепп? Славная была шхуна! — проговорил Демерт и замолчал.
Они шли рядом, и Кепи искоса посматривал на мрачное, странно противоречившее веселому тону лицо своего спутника. Даже в этом веселом тоне он улавливал смутную угрозу и мысленно проклинал себя за уступчивость, но у него не хватало духа решительно отказаться от приглашения.
— Вот мы и пришли, — заговорил Демерт, отворяя дверь гостиницы и пропуская вперед гостя. — Ты знаешь, эту трущобу следовало бы назвать «Гостиницей Морфея». Еще нет десяти часов вечера, а все ее обитатели, от привратника до хозяина, спят и храпят, как тюлени. Впрочем, так спокойнее. Осторожнее, здесь очень узкий коридор! Сюда! — С этими словами он распахнул дверь в конце коридора, чиркнул спичкой и зажег две свечи на столе. Комната была маленькая, квадратная, с засаленными обоями; на покрытом серой клеенкой столе стояла бутылка и два стакана, около железной кровати валялся тощий брезентовый чемодан, а единственное окно было занавешено плотной темной занавеской.
Демерт бросил плащ прямо на пол и, казалось, вместе с плащом с него слетела маска добродушия.
— Не правда ли, уютная комната? — заговорил он, приглашая жестом гостя присесть. — Она мне напоминает мою каюту на «Авроре». Ты не находишь в ней сходства с каютой, Кепп?
В ровных, размеренных звуках его голоса гость услышал ноты, заставившие его покоситься на дверь. Демерт поймал этот взгляд, спокойно запер дверь и положил ключ в карман, прибавив зловещим тоном:
— Нам могут помешать, а мы должны побеседовать откровенно о многом. Не хочешь ли выпить стаканчик вина?
Кепп отрицательно мотнул головой, продолжая следить за каждым его движением, и сердце его сжалось от предчувствия чего-то ужасного, что должно было сейчас произойти в этой маленькой комнате.
— Я не спрашиваю тебя, как ты поживаешь, так как знаю о тебе все, что мне нужно знать, — снова заговорил Демерт, продолжая расхаживать из угла в угол. — Теперь я хочу рассказать тебе о себе. Начну с того, что тебе уже известно. Ты, конечно, не забыл, что в Рио-Жанейро, куда пришла наша «Аврора», я заболел желтой лихорадкой и лег в госпиталь. Капитану пришлось передать мое место, место старшего помощника, тебе, моему другу, а меня — оставить в Рио-Жанейро издыхать от лихорадки. Так ли я рассказываю?
Кепп угрюмо кивнул головой.
— Перед отходом судна я просил тебя передать письмо моей невесте. Передал ли ты его Дэзи, Кепп? — угрожающим тоном спросил Демерт и впился взглядом в побледневшее лицо гостя.
— Ты молчишь? Ну что ж, я буду рассказывать дальше! Два месяца валялся я в госпитале и вышел оттуда без гроша. Всем сердцем я стремился в родные места, к той, которую любил, но у меня не было денег, и я принужден был поступить на судно, совершавшее рейсы между Рио-Жанейро и Сиднеем. Через год кончился срок моего контракта, и я вернулся сюда, в родной город. Да, Кепп, ровно три года тому назад я был в этом городе, хотя ты меня и не видел. Здесь я узнал, что Дэзи вышла за тебя замуж… Словом, я узнал все!
— Я ее не принуждал… Она сделалась моей женой добровольно… — тихо ответил Кепп и втянул голову в плечи, словно ожидая удара.
— Нет, ты поступил, как подлец! — бешено вскричал Демерт, останавливаясь у стола. — Говорю тебе, я узнал все! Ты ей солгал, будто я умер от лихорадки; ты даже показал ей подложное письмо из Рио-Жанейро, извещавшее о моей смерти! Ты подстроил так, что она не получала моих писем! Этого мало: ты утаил деньги, которые дал тебе капитан «Авроры» для передачи мне, и оставил меня в госпитале без гроша!
Он замолчал, тяжело дыша, вытер платком лицо и продолжал более спокойным тоном:
— Когда я узнал все это, я хотел рассказать о твоих подлостях Дэзи и убить тебя, как собаку. Но потом я подумал так: если девушка через полгода после смерти жениха выходит замуж за другого, — значит, она не любила умершего. Эта мысль отравила часы моей жизни, я решил забыться и, распустив все паруса, плыть по воле ветра. Я исколесил всю Южную Африку, охотился на тигров в Индии, сражался с пиратами в Малайском Архипелаге, но не нашел ни смерти, ни забвения. Тогда я убедился в том, что не могу забыть Дэзи, что она для меня дороже всего. Я пришел к жестокому выводу, что для человека гораздо важнее любить самому, чем быть любимым, и решил хотя бы силой взять ту, которую ты у меня похитил. Я приехал свести старые счеты, Кепи!
— Ты хочешь меня убить? — с ужасом спросил гость, отодвигаясь от стола.
— Ты стоишь этого! — холодно ответил Демерт. — Но успокойся, я не могу убить безоружного. Вызвать тебя на дуэль я также не собираюсь: возня с секундантами и слишком много шума! Кроме того, у тебя нет револьвера. Но так или иначе, один из нас не выйдет живым и этой комнаты!
— Я тебя не понимаю! — пробормотал Кепп.
— Ты сейчас поймешь все! — со злобной усмешкой вскричал Демерт, подошел к чемодану и, порывшись в нем, достал небольшой кинжал, швырнул на пол ножны и бросил его на стол. При свече свеч тускло блеснуло узкое, с синеватым отливом, напоминавшее колеблемый ветром тонкий язык пламени, лезвие, посредине которого от грубой деревянной рукоятки до наконечника шел тонкий, как волос, желобок.
— Это — отравленный крис, — спокойно пояснил Демерт, — оборонительное и наступательное оружие малайцев. Маленькая царапина — и человек отчаливает в лучший мир… Не правда ли, прекрасное оружие?
— Ты хочешь меня убить, я это знаю! — дико вскричал Кепп и вскочил, но Демерт схватил его за шиворот и швырнул в кресло.
— Сиди смирно! — глухо проговорил он. — Иначе не удержусь от соблазна и всажу тебе в грудь этот крис по самую рукоятку! Сиди смирно, говорю тебе! Пусть сама судьба решит, кто из нас останется жив. Мы бросим жребий, один из нас вскроет себе жилу этим крисом — и дело с концом. Никакого шума, никаких хлопот! Нас никто не видел, когда мы входили в гостиницу…
— Я ничего не понимаю! — простонал Кепи и закрыл лицо руками.
— Повторяю, ты сейчас поймешь все! — сказал Демерт, доставая из кармана колоду засаленных карт. — Мы сыграем партию в покер, и проигравший нанесет себе царапину этим крисом…
— Но ты ведь знаешь, что я не умею играть в карты! — быстро вскричал Кепи, радуясь неожиданно возникавшему затруднению и цепляясь за него, как утопающий за соломинку.
— Ну, тогда мы сделаем это гораздо проще! — спокойно ответил Демерт, тщательно тасуя карты и разбрасывая их веером по столу. — Мы возьмем по одной карте. Вытянувший старшую — останется жив. Масти, конечно, безразличны. Бери карту!
Кепп протянул дрожавшую руку к столу, со смутной надеждой взглянул на карту и радостно вскричал:
— Король! Король червей!
Демерт спокойно бросил свою карту на карту Кеппа и грозно сказал:
— Туз!
Кепп швырнул карты под стол и, закрыв лицо руками, замер.
Он не верил своим глазам и старался убедить себя, что все происходящее здесь — сон, и что после сладкого пробуждения он увидит знакомую обстановку своей уютной квартиры.
— Ты проиграл, Кепп! — услышал он голос Демерта. — Есть еще справедливость на свете! Кончай скорей, а то ты совсем скиснешь!
Кепп поднял голову и расширенными глазами смотрел на тускло блестевшее при свете свеч лезвие криса.
В его парализованном страхом мозгу мелькнула спасительная мысль, он схватил крис и встал, но Демерт быстро отскочил к стене, выхватил из кармана револьвер и крикнул:
— Я так и думал! Ты хочешь меня угостить этим крисом? Не шевелись, иначе я всажу пулю в твой гнусный лоб! Какой же ты негодяй, Кепп! Конечно, ты не способен играть честно! Итак, кончай скорее, или я выстрелю!
Крис выскользнул из руки Кеппа и с глухим стуком упал на пол. Моряк почувствовал, как его мускулы тела ослабели, и оно опустилось на пол, словно кости в нем превратились в мягкие хрящи. Ударившись головой о стул, он заревел в припадке безумного страха:
— О, не убивай, оставь меня! Отойди, не прикасайся ко мне! Я хочу жить! Я раскаиваюсь во всем! Демерт, пощади, я отдам тебе все! Дэзи будет твоей, Демерт… Не убивай, я все искуплю…
Он пополз на животе по полу и ударился мокрым от слез лицом о носок сапога Демерта, с презрением смотревшего на него.
— Встань и садись на свое место, — тихо проговорил Демерт, пряча револьвер в карман, — садись и молчи, трус!
Кепп, шатаясь, поднялся с пола и рухнул в кресло. Демерт уселся напротив; в его ушах еще продолжал звенеть дикий, звериный крик врага, вызвавший в нем отвращение, доходившее до тошноты. Он сидел, задумавшись, и неожиданно задрожал, как в лихорадке. Бормоча проклятия, он сорвался со стула и зашагал по комнате, не обращая внимания на неподвижно сидевшего Кеппа, следившего за каждым его движением глазами, полными страха.
— Дьявол! — глухо заговорил наконец Демерт, останавливаясь у стола. — Ты испакостил всю мою жизнь, а сегодня, сам этого не сознавая, нанес мне последний удар! Ты убил сейчас во мне любовь к Дэзи! Я тебе объясню это, если только твой отупевший от страха мозг в состоянии понять мои слова! Когда ты ползал, как собака, у моих ног и ревел, я вызывал в своем воображении светлый образ Дэзи, но, помимо моей воли, передо мной встала другая картина! Тысяча проклятий, я увидел Дэзи, чистую Дэзи в твоих объятиях, в объятиях подлого труса, — и почувствовал к ней почти такое же отвращение, как к тебе. Ты отнял ее у меня, ты же и убил во мне любовь к ней!
Он жадно выпил стакан вина и продолжал:
— Ты останешься жив… Я не хочу пачкать своих рук твоей кровью… Пусть сама жизнь накажет тебя, негодяй!
Кепп сидел молча, боясь шевельнуться; он почти не слышал речи Демерта, и из его слов понял только одно: он останется жив; это сознание наполняло безумной радостью все его существо.
— Уходи, не оскверняй воздуха этой комнаты своим дыханием! — прогремел над его ухом голос Демерта. — Уходи, или я тебя убью, как собаку. Дверь отперта!
Сгорбившись, полузакрыв глаза, Кепп добрался до двери, но его дрожащие руки не могли нащупать дверную ручку.
Демерт бросился к нему, схватил его за шиворот и вышвырнул в коридор. Захлопнув дверь, он опустился в кресло, и скоро до него донесся стук сапог убегавшего по коридору человека.
Заклинатель змей
Илл. Е. Нимич
Солнце жгло нестерпимо, и Орк еле передвигал ноги, обливаясь потом. Пробковый шлем на его голове казался вылитым из горячего олова и с каждым шагом становился тяжелее, легкая белая ткань куртки прилипла к телу. Орк раскаивался, что покинул веранду гостиницы и отправился бродить по городу, в котором, в сущности, он не нашел до сих пор ничего интересного. Правда, ему никогда еще не приходилось видеть такого сочетания роскоши с убожеством, остатков великой древней культуры — с невежеством и косностью, как в туземных кварталах этого города, где рядом с бедными хижинами, стены которых были сплетены из сучьев или гибких побегов бамбука, возвышались каменные дворцы набобов, виднелись высокие минареты магометанских мечетей и купола буддийских пагод. Впрочем, скверный запах и отчаянный визг полуголых черномазых ребятишек, копавшихся, не обращая внимания на жару, в уличной пыли, выгнали Орка из туземных кварталов.
Здесь, в европейской части города, навстречу ему попадались смуглые туземцы в белых одеждах и в белых тюрбанах, с удивлением глазевшие на иностранца, отважившегося выйти на улицу в то время, когда все белые люди лежат врастяжку на верандах своих бунгало, изнемогая от жары.
Орк невольно вспомнил хмурое небо и глубокие снега своей родины и с облегчением вздохнул, завидев перевитую плющом веранду знакомой гостиницы, в тени которой можно было растянуться на циновке и лежать неподвижно, ни о чем не думая. Неожиданно резкий, металлический звон заставил его остановиться у самой веранды и взглянуть направо, где в тени апельсиновых деревьев стояло несколько человек туземцев и два туриста в белых пробковых шлемах. В центре этой группы сидел на корточках туземец и ударял палкой в круглую металлическую тарелку.
Орк подошел ближе, с любопытством всматриваясь в сидевшего на корточках человека, вся одежда которого состояла из широкого куска легкой грязной ткани, повязанного вокруг бедер и образовавшего подобие юбки, и белого тюрбана на голове. На смуглом худощавом лице его лихорадочно блестели черные, глубоко впавшие глаза, в черной курчавой бороде серебрилась седина. Перед туземцем стояла небольшая ивовая корзина. Орку надоело ждать и он уже хотел направиться к веранде, но туземец быстро выпрямился, вынул из складок своей одежды тростниковую дудку и нагнулся под корзиной. Зрители отшатнулись, расширяя круг, туземец сдернул с корзины плетеную крышку, быстро опустился на корточки и, приложив к губам конец дудки, извлек из нее несколько резких пронзительных звуков.
Орку показалось, что корзина покачнулась, он увидел, как из нее высунулись три плоских змеиных головы, раскачиваясь из стороны в сторону. Туземец продолжал играть, не спуская горящего взгляда со змей; звуки его дудки напоминали звуки пастушеской свирели, мелодия звучала все нежнее и нежнее. Змеи выползли из корзины и раскачивали головами в такт странной музыке, темп которой постепенно ускорялся. Орк еле сдержал крик ужаса, увидев, как пресмыкающиеся, словно загипнотизированные взглядом музыканта, подползли к нему. Одна из змей обвилась вокруг его стана, образуя живой пояс, другая вокруг шеи, и ее раздвоенный язык качался перед самым лицом туземца. Третья змея лежала, свернувшись в узел, у ног заклинателя, словно мертвая. Продолжая держать дудку во рту и перебирать лады левой рукой, заклинатель схватил свободной рукой лежавшую у его ног змею, медленно встал, подошел к корзине и опустил в нее пресмыкающееся. Затем он снял с талии живой пояс, бережно положил его в корзину, снял змею с шеи и, оборвав мелодию, опустил крышку.
Орк заметил, что по лицу его струились крупные капли пота, руки дрожали, а огненные глава стали тусклыми. Заклинатель закинул на ремне корзину за спину, поднял тарелку, в которой уже лежало несколько медных монет, брошенных туристами, и подошел к Орку, но в этот момент величественный полисмен в белой каске остановил его и заговорил с ним на языке туземцев.
Лицо заклинателя исказилось от ужаса, и этот ужас отразился в его глубоко впавших глазах.
— Что вам сделал худого этот человек? — спросил Орк, подойдя к полисмену.
— Мне? Ровно ничего, сэр. Но он нарушил закон… — ответил тот с нескрываемым презрением, смотря на иностранца, приехавшего в чужую страну и не потрудившегося ознакомиться с ее законами.
Орк вопросительно смотрел на него, и он пояснил:
— Видите ли сэр, этим шарлатанам воспрещено давать представления в европейской части города, они могут показывать свои штуки только в туземных кварталах. Если одна из его гадин заползет к вам ночью в постель, вы, я полагаю, не очень будете польщены таким визитом! Это — очковые змеи…
Орк прочитал безумную мольбу в глазах индуса и сказал:
— Еще один вопрос… Какое наказание грозит этому бедняге?
— Штраф. А так как у этого голыша нет ни гроша за душой, ему придется посидеть недельку-другую в городской тюрьме…
— А как велик штраф?
— Фунт стерлингов… — коротко ответил полисмен и потянул за собой индуса.
— Послушайте, я уплачу за него штраф… — сказал Орк, нагоняя его.
— Пожалуйте к полицейскому комиссару, — проворчал полисмен, с неудовольствием глядя на Орка.
— В такую-то жару! Да вы с ума сошли, почтеннейший! Дело можно уладить гораздо скорее и проще, уверяю вас… — с этими словами Орк вынул из кармана две золотых монеты и сунул их в руку полисмена. Тот спрятал деньги, во все еще стоял в нерешительности.
— Если будут какие-нибудь недоразумения, я обращусь к вам, сэр, — сказал он наконец.
— Я принимаю всю ответственность на себя. Меня зовут Орк, я живу в гостинице напротив.
Полисмен приложил руку к каске и удалился, а Орк направился к веранде.
— Сагиб! — услышал он голос заклинателя и обернулся.
— Как! Вы еще здесь? — удивился Орк. — Я бы вам советовал удрать скорее. Ведь этот полисмен может раздумать и схватить вас…
— Я только хотел поблагодарить сагиба… Пусть сагиб скажет мне свое имя, чтобы я мог молить жизнедавца-Вишну о ниспослании ему счастливой жизни!.. — торжественным тоном проговорил индус.
— Я не люблю, когда меня благодарят… — нахмурился Орк. — Это мне всегда портит хорошее настроение. Я сделал это не по доброте сердца, уверяю вас. Мне просто пришла в голову фантазия немного развлечься разговором с этик надутым полисменом, благо представился предлог с ним побеседовать… Можете думать, что я просто пожалел ваших змей — и дело с концом…
Индус продолжал умоляюще смотреть на него. Орк усмехнулся и продолжал:
— Впрочем, эта благодарность будет лежать тяжелым камнем на вашей душе и я, право, начинаю жалеть вас… Ладно, я еще раз выручу вас из затруднительного положения! Видите ли, я хочу осмотреть развалины древнего храма Сивы, которые находятся всего в нескольких милях от этого города, но до сих пор я не могу пойти проводника. Ваши соплеменники думают, что в этих развалинах живет добрая дюжина чертей и ни за какие деньги не соглашаются меня проводить туда, а белые люди здесь ленивы и горды, как испанские гранды, и предпочитают валяться на верандах своих домов, а не шататься по джунглям. Итак, услуга за услугу! Хотите быть моим проводником?
— Я знаю эти развалины… — тихо ответил индус, — я знаю джунгли… я провожу сагиба…
— Отлично! Я думаю отправиться завтра на восходе солнца.
— Сагиб живет в это гостинице? Я завтра разбужу сагиба… — сказал индус и, низко поклонившись, зашагал по улице. На веранде гостиницы Орк застал всех посетителей — трех комиссионеров, лежавших на циновках в самых непринужденных позах, и рыжего толстяка-доктора, сидевшего за столиком и поглощавшего гомерическую порцию виски с содовой водой.
— Вы еще сегодня утром говорили мне, что эти индусы трусливы и неблагодарны! — весело вскричал Орк, обращаясь к нему. — Но я сейчас убедился в противном…
Доктор взглянул на него своими заплывшими, красноватыми глазками и пробурчал:
— Я видел, как вы спасли этого черномазого парня от полисмена… Что ж, он вам в теплых словах выразил свою благодарность? Это дешево стоит!..
— Он согласился проводить меня к развалинам храма Сивы… — сказал Орк, опускаясь в плетеное кресло.
— Поздравляю. Впрочем, вы оказали ему большую услугу.
— Только спас его от тюрьмы, пожертвовав парой золотых монет…
— Сразу видно, что вы не знаете этих индусов! — вскричал доктор. — Нет, сэр, вы его спасли от позора. Его посадили бы в общую камеру с людьми другой касты, ему давали бы пищу, которую не разрешает есть религия… Он был бы осквернен, а это для этих фанатиков страшнее смерти… Хотя, впрочем, я не поручусь, что он не свернет вам шею там, в джунглях… Советую вам быть настороже и на всякий случай держать револьвер под рукой…
— Благодарю за совет, доктор… И уверен, что вернусь цел и невредим… — сухо сказал Орк и ушел в свою комнату…
На восходе солнца Орк отправился к развалинам верхом на небольшой туземной лошадке. Заклинатель змей с неизменной корзиной за плечами бежал впереди, опираясь на бамбуковую трость. Путники миновали ряды грязных хижин туземного квартала и, сопровождаемые отчаянным лаем желтых бродячих собак, выехали на дорогу, по обеим сторонам которой зеленели рисовые поля. За волнующимся от легкого дуновения горячего ветра джунглей морем риса виднелась матовая зелень лесных чащ. Жара усиливалась, темная шерсть туземной лошадки покрылась клочьями белой пены; Орк задыхался от жары, и только заклинатель змей бодро бежал впереди, по временам оглядываясь, словно желая взглядом ободрить своего спутника.
За рисовыми полями потянулись заросли розовых кустов и, наконец, Орк увидел над собой зеленую листву деревьев. В лесной чаще не чувствовалось ни малейшей сырости, ни вздоха ветра, аромат трав и крупных цветов, чашечки которых размерами напоминали чашечки подсолнечника, кружил голову. Эти цветы росли на стеблях лиан, обвивавших темные стволы деревьев, и осыпали на голову всадника, случайно задевавшего их верхушкой своей пробковой каски, разноцветную сухую пыль, слепившую глаза. На кривых узловатых сучьях деревьев качались пестрые птицы и перескакивали с дерева на дерево стаи рыжеватых мартышек, оглашая воздух резкими пронзительными криками. Обезьяны заинтересовались путниками и следовали некоторое время за ними, бросая вниз сорванные по пути орехи.
Индус свернул в сторону от большой дороги и остановился на узкой, усыпанной опавшей листвой тропинке, поджидая отставшего всадника.
— Если мы проедем еще час, я сварюсь в собственном соку! — вскричал, подъезжая к нему, Орк.
— Скоро, сагиб, — ободряюще сказал индус и снова зашагал вперед.
Здесь, на тропинке, зеленые ветви деревьев сплелись, образуя нечто вроде туннеля, и только зоркие глаза заклинателя змей могли различать путь в полумраке этой аллеи. Зеленая ветка больно хлестнула по лицу Орка, он лег грудью на луку седла, закрыл глаза и положился на волю своего коня. В тени было прохладнее, и под мерный шаг лошади Орк задремал.
— Сагиб! — услышал он голос индуса, выпрямился в седле, потирая глаза, и осмотрелся.
Они находились на опушке леса, невдалеке за редким рядом жидких кустов виднелись развалины. Нагромождение громадных камней, оплетенных ползучими растениями, остатки разрушенных стен, поросших кустарником и плющом, следы обширной террасы, все это повергло Орка в самую глубокую бездну разочарования.
— Только и всего! — вскричал он с высоты седла, всматриваясь в это нагромождение камней. — А я-то мечтал найти здесь какие-нибудь памятники или пару добрых идолов. Стоило из за этого столько времени жариться на солнце.
Индус стоял молча, склонив голову, и, казалось, не слышал его слов.
— Сагиб хотел видеть развалины храма Сивы? — заговорил он наконец. — Это и есть развалины храма… Сагиб недоволен?
Орк соскочил с седла и сказал:
— Ладно. Нужно же, по крайней мере, осмотреть их поближе. Может быть, я найду там какие-нибудь надписи на камнях. Конечно, я не сумею их прочитать, но срисовать сумею. Привяжем лошадь здесь…
— Сагиб думает идти в развалины? — с искренним ужасом спросил индус.
— Конечно, пусть я не найду ничего интересного, зато я посижу на развалинах этого храма… Это чего-нибудь да стоит.
— Если мы оставим здесь лошадь, ее растерзают дикие звери джунглей, — тихо сказал индус.
— Мне кажется, вы просто трусите, заклинатель. Можете оставаться здесь со своими змеями и сторожить лошадь, а я пойду один.
— Как угодно сагибу… — покорно согласился индус.
Орк передал ему поводья и направился к развалинам, путаясь в кустах и высокой траве. Перелезая через барьер, образованный остатками стены, он еле не слетел с него, удержавшись за куст.
— Надписи! Где же здесь рассмотреть надписи под этой зеленой кашей, — пробормотал он, разрывая плотную сеть ползучих растений, и стал спускаться со стены.
Неожиданно нога его провалилась в углубление, замаскированное цепкой зеленью плюща, и Орк схватился снова за спасительный куст. Отыскав камень, на который можно было встать, осмотрел углубление, разрезая складным ножом тонкие стебли ползучих растений. В это углубление мог свободно пролезть человек, и Орк, нащупывая в карманах револьвер и электрический фонарь, решил спуститься в него.
Он ухватился руками за края углубления и опустился вниз, ноги его коснулись земли, резкий переход от яркого солнечного света во тьму заставил его вздрогнуть, вынуть из кармана фонарь и нажать кнопку. Яркий белый свет упал на заплесневелые стены низкой галереи, по которой мог, согнувшись, пробраться вперед человек, и спугнул тучу больших летучих мышей, поднявших своими крыльями едкую пыль. Орк двинулся вперед, держа фонарь в левой руке, а правой отмахиваясь от обитателей галереи, задевавших его по лицу своими крыльями. Галерея постепенно расширялась и скоро Орк очутился в четырехугольной пещере, и, осветив ее фонарем, едва не вскрикнул от удивления. Посреди пещеры на четырехугольном пьедестале он увидел статую бога, высеченную из желтоватого камня. Идол был изображен в сидячем положении, со скрещенными на груди руками. На его круглой, как луна, физиономии были изображены три глаза, один из которых помещался в средине лба. Перед идолом возвышалось подобие сталагмита, верхушка которого была искусно выточена в виде чаши на тонкой подставке. Орк внимательно осмотрел идола со всех сторон, постучал пальцами по полированной поверхности камня и решил отломать чашу от сталагмита, чтобы сохранить ее на память. Он ухватился за края чаши и потянул ее к себе, но в этот момент статуя, словно на шарнирах, сдвинулась с пьедестала. Орк бросился к идолу, думая осмотреть удивительный механизм, приводивший его в движение, и заметил открывшееся у ног идола углубление, на дне которого что-то блеснуло. Большой золотой перстень с головой тигра, искусно выточенной из цельного кровавого рубина, очутился вместе с горсточкой риса в руке Орка, застывшего от удивления.
— Это будет получше этой чаши! — радостно пробормотал он наконец, рассматривая находку и удивляясь искусной работе индусского ювелира. Сунув перстень в карман, Орк вернулся к чаше, которая, как оказалось, вертелась на своей подножке и была соединена с идолом каким-то чудесным скрытым механизмом. Орк, повернув чашу, водворил статую на прежнее место и решил осмотреть ее более подробно в другой раз. Он направился к выходу из галереи и скоро дневной свет ослепил его; он чуть не упал от странной неожиданной слабости и, перебравшись через остатки стены, направился к опушке леса, где застал своего проводника неподвижно сидящим на корточках под деревом.
Лошадь, привязанная к тонкому стволу тамаринда, щипала траву, отмахиваясь хвостом от москитов. Увидя Орка, индус вскочил:
— Я рад, что сагиб вернулся, — сказал он. — Сагиб нашел там надписи?
В голосе его Орку послышались иронические ноты.
— Надписей я не нашел, но зато мне удалось найти кое-что получше, — спокойно ответил он и вынул из кармана перстень.
Кроваво-красный рубин сверкнул на солнце и Орк с торжеством взглянул на своего проводника. Индус, вытянув шею, впился горящим взглядом в перстень и хриплый крик ужаса и удивления вырвался из его горла.
— Сагиб… Этот перстень… Он приносит несчастье чужеземцу. Это перстень богини Кали!.. — бессвязно бормотал он, блестя безумными глазами.
— Чепуха! — прервал его Орк, пряча перстень в карман.
— Нам пора в путь, мы побеседуем с вами дорогой…
— Сагиб, — глухим голосом заговорил индус, подойдя к нему вплотную, — сагиб должен отдать этот перстень Дин-Сингу. Где сагиб его нашел? Он не должен находиться в руках чужеземца… Этот перстень — священная вещь для каждого индуса… Динг-Синг передаст его браминам…
— Динг-Синг — прекрасное имя, но ни Динг-Синг, ни брамины этого перстня не получат, — спокойно сказал Орк, — я увезу эту редкость в Европу… Я оставлю его на память о стране чудес, и даже сам дьявол не заставит меня с ним расстаться! Довольно болтать, пора в путь.
Заклинатель змей стоял молча, опустив голову, и тяжело дышал.
— Да будет воля Брамы, — со вздохом сказал он наконец. — Вперед, сагиб!
Орк вскочил в седло, и путники снова углубились в чащу. Всадник заметил, что они возвращаются по другому пути, но промолчал. Он чувствовал себя разбитым, словно после нескольких часов тяжелого физического труда, и с наслаждением думал о том моменте, когда можно будет растянуться на веранде гостиницы и подремать.
— Динг-Синг! — позвал он.
Индус остановился.
— Я думаю, нам не мешает немного отдохнуть. Нет ли у вас здесь поблизости знакомых, гостеприимством которых можно было бы воспользоваться на часок. Я думаю, мы все-таки успеем вернуться в город до сумерек…
— Здесь нет людей, Сагиб, — помолчав, ответил индус, — есть только старая хижина, покинутая гондами…
— Тем лучше, что она покинута, мы там будем полными хозяевами. Заедем туда на часок, Динг-Синг, а то я, кажется, скоро свалюсь с седла…
— Как будет угодно сагибу… — флегматично сказал индус и зашагал вперед.
Они вышли из чащи на поляну, поросшую высокой травой и мелким колючим кустарником, и в море зелени Орк, различил плоскую кровлю хижины. Стены ее были сплетены из хвороста, а кровля была сделана из темных кусков древесной коры.
Орк вошел в хижину и осмотрелся.
Дневной свет пробивался сквозь щели в крыше, посреди хижины находилось несколько плоских камней, покрытых серым налетом пепла, в углу валялась куча сухих листьев, обрывки циновки и несколько тонких бамбуковых палок. Орк растянулся на ложе из листьев, с наслаждением расправил усталые члены и задумался.
Тишина и покой располагали к мечтательности и в воображении Орка рисовались заманчивые картины, связанные с находкой. Может быть, этот перстень является великим символом власти, откроет своему обладателю все тайны этой Страны Чудес, так ревниво хранящей эти тайны от любопытного взгляда чужеземца… Может быть, перстень даст ему власть над теми таинственными сектами, о которых ему приходилось читать, и по одному движению его руки тысячи людей будут готовы пойти на смерть… Орк уже видел себя сидящим на боевом слоне, окруженным темнолицыми воинами в белых тюрбанах. О, этот заклинатель недаром бормотал, что этот перстень — священная вещь… Орку припомнилось волнение, с которым смотрел на перстень индус, и это отогнало видения и вернуло его к действительности. Орк понимал, что с этим заклинателем надо было держаться настороже. Этот фанатик способен зарезать его, чтобы достать перстень. Но Орк не будет дремать и при первом его подозрительном движении размозжит ему голову выстрелом из револьвера.
Приподнявшись на локте, Орк украдкой взглянул на Динг-Синга, неподвижно сидевшего на пороге и смотревшего в чащу, и снова опустился на свое ложе.
Неожиданно еле уловимый шелест или, вернее, предчувствие близкой опасности заставило его приподняться. Живая серая лента фыркнула сухой листвой у его локтя, и он, почувствовав острую боль в руке повыше кисти, вскочил с криком ужаса. Бессознательным, движением он схватил подвернувшуюся ему под руку бамбуковую палку и ударил змею по голове. Пресмыкающееся свернулось в кольцо, ударило хвостом по листьям и застыло.
— Динг-Синг, меня ужалила змея! — вскричал Орк, бросаясь к двери и осматривая укушенную руку. На месте укуса появились две алые капли крови и розоватая опухоль.
— Динг-Синг, меня укусила змея, — повторил с ужасом Орк и взглянул на индуса, неподвижно стоявшего у двери хижины.
— Кобра… Сагиб скоро умрет… — бесстрастным тоном сказал индус, и слова эти прозвучали в ушах Орка ударом похоронного колокола. Его била нервная дрожь, обрывки мыслей закружились в его голове, возникая в мозгу без строгой логической связи, и ему захотелось броситься на землю, царапать ее ногтями, кусать… Он не был трусом, он презирал трусов, но умереть в лесной трущобе, вдали от родины, умереть так неожиданно и глупо, это было слишком ужасно и могло свести с ума самого храброго человека.
— Я вылечу сагиба, — услышал он тихий голос Динг-Синга, и этот голос ему показался райской музыкой.
— Я вылечу сагиба, — повторил индус, — но сагиб должен мне отдать перстень, иначе сагиб сейчас умрет… Если сагиб не отдаст перстня — Динг-Синг возьмет его у мертвого… Но я не хочу смерти сагиба…
Закусив губу от бешенства, Орк вынул из кармана перстень и швырнул его на пол. Как коршун добычу, схватил индус перстень, спрягал его в складки своего тюрбана, вынул из мешочка, висевшего у него на шее, мясистый лист какого-то дерева и повелительно сказал:
— Руку, сагиб. Скорее, а то будет поздно!
Орк протянул ему укушенную руку; индус, разжевав лист, положил его на место укуса и перевязал руку грязной тряпицей.
— Пусть теперь сагиб не беспокоится, он не умрет, — тихо сказал он. — Динг-Синг — заклинатель змей, он знает лекарство от их укусов.
Его уверенный тон успокоил Орка, он развеселился и подумал, что можно было бы с револьвером в руке потребовать от индуса перстень. Ведь, в сущности, он его отдал не добровольно, он был принужден отдать… Почему бы ему, в свою очередь, не принудить индуса вернуть перстень!
— Пусть сагиб не думает о перстне… — словно угадав его мысли, сурово сказал Динг-Синг, — если сагиб убьет Динг-Синга, он не найдет дороги в город и его растерзают дикие звери джунглей… Динг-Синг вернет перстень браминам…
— Ладно!.. — с досадой прервал его Орк. — Ну, что же, мне придется вместо перстня взять эту змею на память о Стране Чудес… Я повезу ее с почетом, в банке со спиртом, в Европу.
— Как угодно будет сагибу… — равнодушно пробормотал индус и, подняв убитую змею, положил ее в седельную сумку. Орк вскочил в седло и тронул лошадь. Он молча ехал за заклинателем змей, вспоминая приключения этого дня, казавшиеся ему теперь сном, и изредка осматривал укушенную змеей руку. Опухоль спала совершенно, ранки затянулись и к Орку вернулось обычное спокойствие и ясность духа: он знал что яд кобры действует почти моментально и что теперь опасность прошла.
Ему пришла в голову мысль показать доктору лист, наложенный индусом на место укуса… Можешь быть, доктор определит, с какого дерева он сорван, и европейская медицина обогатится новым радикальным средством от укусов ядовитых змей.
Осмотревшись, Орк неожиданно заметил исчезновение своего проводника и растерянно остановил лошадь, но индус словно провалился сквозь землю.
Приподнявшись на стременах, Орк стал всматриваться вперед, и ему показалось, что вдали заметны купола пагод города.
Он пустил лошадь карьером и скоро очутился перед верандой знакомой гостиницы…
Толстяк-доктор, сидевший за столиком, поднялся со стула и ждал Орка, попыхивая сигарой. Орк соскочил с седла, бросил поводья конюху, отстегнул от седла кожаную сумку и подошел к доктору.
— Взгляните на мою руку, доктор, — сказал он, сдергивая повязку.
Доктор взглянул на следы укуса и проворчал:
— Ах, как страшно!.. Вас укусил уж?
— Кобра, доктор, самая настоящая кобра! — вскричал Орк..
— Кобра? И вы еще живы? — удивился доктор, внимательно осматривая ранки.
— Осмотрите этот лист, доктор… Этот лист спас мне жизнь!.. — протягивая лист доктору, проговорил Орк.
— Самый обыкновенный пальмовый лист… Я что-то не слышал, чтобы такие листья обладали свойством излечивать укусы кобры!.. — пожал плечами толстяк. — Кто вам рекомендовал это средство, сэр?
— Мой проводник… — коротко ответил Орк и, достав из сумки убитую змею, протянул ее доктору.
— Кобра! Странно… — пробормотал тот. Он перевертывал змею, словно не верил своим главам и, наконец, заглянув ей в рот, неожиданно расхохотался.
— Что вас так развеселило? — нахмурился Орк.
— Простите, сэр… — вздрагивая от душившего его хохота, проговорил доктор, — но ваш заклинатель змей — шарлатан… Признайтесь, он сорвал с вас кругленькую сумму за излечение? Ведь у этой змеи вырваны ядовитые зубы!
— Не может быть! — вырвалось у Орка.
— Можете посмотреть сами, сэр… Индусы очень ловко проделывают эти операции со змеями, сэр. Лист пальмового дерева — средство от укуса кобры! Ха-ха-ха!
СТИХОТВОРЕНИЯ
Куклы
Золотится лампада в углу, Тихий сумрак детей убаюкал, Пятна света дрожат на полу И на лицах разбросанных кукол. Эти лица под слоем белил Неподвижны, как лица у статуй, Неизвестный шалун оклеил Их головки пушистою ватой. Тот же самый шалун паяцу Острой шпилькой лицо продырявил, А маркизе совсем не к лицу Вместо глаз две горошины вставил. Захрипят за стеною часы, Прокукует «двенадцать» кукушка, — И, пригладив рукою усы, Вскочит с пола веселый петрушка. Просыпаются куклы вокруг, — Пестрый клоун и пляшет, и свищет А маркиза слепая подруг Под кроватями ощупью ищет. В диадеме маркизы алмаз И наряд ее пестрый роскошен, Но не может сияющих глаз Заменить эта пара горошин. Золотится лампада в углу, Тихий сумрак детей убаюкал, Пятна света дрожат на полу И на лицах тоскующих кукол…Гном
Прохладно в сумраке зеленом… Трещит сорока у дупла, Уносится с веселым звоном Неугомонная пчела. Где сломан бурей дуб столетний, Качается на ветке гном И слушает сорочьи сплетни В зеленом сумраке лесном. Вестей сорока знает много: — Лесник убил двух медвежат… Вчера ежиха-недотрога В кустах покинула ежат. В овраге волк зарезал зайца… Хорька ужалила оса… У горлинки стащила яйца Проворная кума-лиса. Нарушен гнома отдых сладкий, Дрожит в руке его кирка: В лесу родимом беспорядки Смущают сердце старика…Леший
Ни конному, ни пешему Дороги не найти, — В лесу дремучем лешему Везде лежат пути. Головушка кудрявая Репьями убрана, Кругло лицо корявое, Как полная луна. Бородушка — мочалкою, Ручонка — как сучок, Бредет, да машет палкою Веселый старичок. От смеха травы клонятся, Колышется листва, За птахой леший гонится, Хохочет как сова. Раздолье ночью лешему, Везде лежат пути, — Ни конному, ни пешему Дороги не найти.Жалоба лешего
Сколько деревьев по чащам порублено, Где ни посмотришь — просека, Сколько цветов понапрасну загублено Рваным лаптем дровосека… Парни-ль проедут лесными дорожками, — В чаще костры поразложат, Бабы крикливые бродят с лукошками, Зверя и птицу тревожат. Прогнаны звери гостями проклятыми, Дятлы — в безвестной отлучке, Срыты давно озорными ребятами Все муравьиные кучки. Прежде, бывало, и в дни-то погожи Чащи для странних — потемки, Крикнешь — стрелой убегают прохожие, Бросив со снедью котомки. Часто находишь там хлеб с коровайцами, Множество всяческой снеди, Делишься с лисами, делишься с зайцами, В гости заходят медведи… Прежде ты с песнями ходишь веселыми, Снедь подбираешь, да свищешь… Ну, а теперь над чащобами голыми Много ли корысти сыщешь!Лесная царевна
В чащах диких, непробудных, У поляны у лесной, Скрытый в листьях изумрудных, Светлый терем расписной. Там царевна молодая Одинешенька живет, Темной ночи ожидая, Пряжу-золото прядет. Ворон стукнет к ней в оконце Краем черного крыла: — Выходи, не светит солнце, Ночка темная пришла! И краса засветит свечку, Русу-косу заплетет, Выйдет тихо на крылечко Да ночного гостя ждет. Леший службу верно служит — Рыщет, свищет и поет, Молодца по лесу кружит, Свистом к терему ведет. Подойдет на свист прохожий, — Смолкнет свист и смех в лесу, И не сможет князь пригожий Наглядеться на красу. В терем свой она заманит, Медом хмельным напоит, Знойной лаской одурманит, Тихой песней усыпит. У опушки князь проснется, — Под удалым мох седой, Леший свищет да смеется, — Нет царевны молодой…Царевна-лебедь
Тихо грудью снежно-белою Разрывая осоку, Выплывает лебедь белая На заснувшую реку. Шея гордо изгибается, Перья — снежная парча, Крылья в искорках купаются, Очи — словно два луча. При луне, блестя короною, В брызгах радужных плывет, Шелестит травой зеленою И царевича зовет. Ищет, кличет, надрывается, До утра, до зорьки ждет, Мил дружок не откликается, Знать, забыл и не придет.Златоцвет
Выйди ночью в час урочный, По тропинке в лес войди — Мрачный филин, страж полночный, Захохочет впереди. Там лишь феи в тихой пляске Из травы плетут венки, И сверкают тайной сказки Золотые светляки. Феи в блещущих коронах Будут звать — вперед иди, В час полночный в травах сонных Златоцвет-траву найди. Сторожит толпа чудовищ Златоцвет от смелых душ, Он дороже всех сокровищ — Власть их дерзко ты разрушь. Не пугайся безобразных, Златоцвет скорей сорви, Он яснее звезд алмазных — Светоч знанья, ключ любви. С ним узнаешь тайны ночи, Тайны зелени лесной, И невидящие очи Будут видеть в час ночной. Все неясные намеки, Правду светлую и ложь — Ты, безумно-одинокий, Все узнаешь, все поймешь.Заколдованный лес
Сажусь в седло, и конь пугливый Несет меня в лесную глушь, Где вечно слышен сон тоскливый Загубленных во мраке душ. Обломками доспехов ратных Покрыта влажная тропа, Сверкает сталь на лунных пятнах, В траве белеют черепа. Как волчий глаз, в угрюмой чаще Горит угрюмый глаз огня И смех, угрозою звенящий, Пугает моего коня, Но мне не страшен путь опасный Давно, давно мой кубок пуст. Не знаю я весны прекрасной И поцелуя милых уст…Блуждающий огонек Из цикла «Перстень смерти»
Свет луна за тучи прячет, Над болотом — тишина. Мимо черный всадник скачет, Погоняя скакуна. Верный конь косится робко На пучке густых осок, — Там блестит над зыбью топкой Золотистый огонек. Он порхает над трясиной, Он сверкает, как светляк, Стаи искр, как рой пчелиный Рассыпаются во мрак. Видит всадник: по трясине Тихо девушка идет, Ризы — белые, как иней, Очи — ясный небосвод. Из кувшинок серебристых На челе ее венок, Над челом звездой огнистой Золотится огонек. И противиться не сможет Всадник зову синих глаз, Не огладит, не стреножит Скакуна в последний раз. Путь ночной ему неведом, Манит блеск огня в тиши, — И за девушкою следом Вступит всадник в камыши. Утром солнце мрак разгонит, Над болотом — снова тишь, Только черный чибис стонет Да шуршит седой камыш.Перстень
Ночью лес во мраке тонет, Не шелохнется река, Птица-выпь уныло стонет В темной гуще тростника. Месяц в водах отразится, Струи сонные зажжет, Заблестит, засеребрится Теплой ночью лоно вод. Выпь покинет берег спящий, Шум заслыша вдалеке, — Выйдет девушка из чащи Спешной поступью к реке, Шелестя травой зеленой, Сядет на берег крутой, С песней в воды речки сонной, Кинет перстень золотой. Тихо ивы встрепенутся, И проснутся берега, В тихих водах засмеются. Белой пены жемчуга Бросит пенная волна И царевне грустноокой Перевитое осокой Тело витязя со дна. Витязь в блещущем шеломе На кудрявой голове Неподвижен в мертвой дреме На зеленой мураве. И шелом царевна скинет, Ил речной сотрет с лица, С тихой ласкою обнимет, Поцелует мертвеца. Вновь румянцем вспыхнут щеки, Вновь огнем заблещет взор, Встанет витязь черноокий, Оглядит речной простор. Будут слышать только ивы, Только сонная трава Шепот тихий, торопливый, Смех, да с ласкою слова.Русалка
Ровно в полночь в воду глянет Серебристо-бледный серп И в полночном небе станет Над верхушкой сонных верб. Там, на дне, в хрустальном гроте, Спит русалка крепким сном; Ложе в звездной позолоте Блещет радужным огнем. Ровно в полночь месяц бросит В грот хрустальный огоньки И волна ее выносит К берегам немой реки. Зашуршит камыш высокий У зеленых берегов, И над сонною осокой Пронесется тихий зов. Будет зов подхвачен эхом… Ближе — в легкой лодке князь, Очарован чудным смехом Он подъедет, не крестясь. И русалка в очи глянет, Шею крепко обовьет, Заласкает и заманит Молодца в хрустальный грот…Русалочья любовь
Иду, в нездешнее влюбленный, К реке, затерянной в лесу. Последний луч в траве зеленой Зажег вечернюю росу. Я знаю: близок миг желанный, — В реке запляшет лунный диск, И сквозь полночные туман Увижу взлет жемчужных брызг. По тихим шелестам гадая, Смотрю на лоно тихих вод, — Ко мне русалка молодая На сонный берег приплывет. Увижу блеск очей зеленых И плечи — белые снега, В кудрях, луной посеребренных, Холодной влаги жемчуга, Она на травы сядет рядом, Молчанье вечное храня, Заворожит горящим взглядом И смехом ласковым меня. Усну, покорный дивной власти, На травах навсегда усну, Но ни ее губящей страсти, Ни диких ласк — не прокляну…Иванова ночь
Ты днем с подругами нарядными Цветы сбирала у реки, — И далеко волнами жадными Умчало пестрые венки. Когда же с пеньем от завалинки Толпа подружек разошлась, — Одна, в своей девичьей спаленке. Чудесной ночи дождалась. Ушла ты в дебри заповедные, Тропинкой шла к реке лесной, Где в камышах кувшинки бледные, Склонившись, дремлют над волной. В ночь оживали чаши темные, Сверкали в травах светляки, Металась нажить неуёмная, Русалки пели у реки. Тебя пугали совы сонные, Крылами сорванный листок, Но ты, мечтою опьяненная, Искала огненный цветок. Склонялась в страхе ты над травами, И молчалива и бледна, — И вдруг русалками лукавыми Была в лесу окружена. Тебя русалки пляской тешили, К реке со смехом увлекли, Речными травами обвешали И в косы лилии вплели. Их тихой песней усыпленная, Лежишь ты на сыром песке И, в ночь волшебную влюбленная, Не вспоминаешь о цветке.Сирены
Мой белый легкий челн умчали Седые волны в дальний плен, Туда, где радостно звучали Напевы сладкие сирен. Мелькали в водном изумруде Их руки, белые как снег, Мелькали трепетные груди, Горели очи жаждой нег. Я знал: кто слышал в море пенье — Не избежит проклятых чар, От зова страсти нет спасенья, Неугасим в груди пожар. И думал я: близка могила, Но вспомнил снова о руле, И в час утра волна прибила Мой челн к утесистой земле. И вот с тех пор мне нет покоя: Я слышу радостный напев, Мне снится море голубое И зовы чернокудрых дев.Морские призраки
В ненастье вышли мы из гавани, Плясала пена над водою, Морская даль в туманном саване Грозила тайною бедою. Мы плыли с плясками и пением, Безумных не пугали шквалы, И вдруг неведомым течением Фрегат наш бросило на скалы. Спасла нас сила незнакомая И держит властно над волнами, Чудесной силою влекомые, Все трупы жертв плывут за нами. Проклятья шлем туману млечному. И в час холодного ненастья Являемся мы судну встречному, Как злые вестники несчастья.Черный капитан
Черный плащ мой алой кровью залит, Снятся мне безрадостные сны, И корабль мой черный не причалит К берегам моей родной страны. Я проклятьем грозным неба скован Я — как тень небесного гонца; Мне суровый жребий уготован — Пенить волны моря без конца. Я один на палубе просторной, Все матросы спят на влажном дне, Что ни ночь — встают над бездной черной Тени жертв, грозя, навстречу мне. И проклятья мертвых бесконечны, Бесконечен мой безумный страх, Жажду смерти я, скиталец вечный, Жду покоя вечного в волнах. Но и бездна моря не приемлет, Не потушит вечного огня, И мольбе безумного не внемлет, Отвергает, темная, меня. Оттого, что плащ мой кровью залит, Что проклятье вечное на мне, — Никогда корабль мой не причалит В час рассвета к солнечной стране.Скрипач
В расшитом блестками наряде, Обычную скрывая дрожь, Ты каждый вечер на эстраде С улыбкой пляшешь и поешь. Танцуй, танцуй нескромный танец, Пусть треплется в прическе бант, Пока среди крикливых пьяниц Не встанет странный музыкант. Как ночь мрачна его улыбка, Холоден взгляд как сталь меча, И запоет, заплачет скрипка В костлявых пальцах скрипача. И сквозь сумятицу ночную, Сквозь визги песни разбитной Услышишь музыку иную, Влекущую в чертог иной. Погаснут смех и искры блесток На черном шелке тяжких риз, И ты с раскрашенных подмосток Отпрянешь в глубину кулис. Твоя растрепана прическа, Помят роскошный твой наряд, Твое лицо белее воска И неподвижен тусклый взгляд. Поправишь локон непокорный, Зажжешь свечу, и в тот же миг Ты в дымном зеркале уборной Увидишь свой безумный лик.Призрак
Я не один в моих покоях: Едва погаснет серый день, За мною следом на обоях Кривляясь, пляшет чья-то тень. Я оглянусь, но призрак черный Поспешно прячется в углах И, лишь порою, взор упорный Блеснет в холодных зеркалах. И вижу я: в дали зеркальной Стоит недвижно мой двойник, Тревожен взор его печальный И странно бледен строгий лик. Его уста всегда сомкнуты; Заколот черный плащ всегда И бесконечные минуты В час ночи длятся, как года. Смотрю — и призрак не отводит Стального взора от меня, Иду, — и он за мною бродит, Молчанье жуткое храня…Рыцарь ночи
Каждый вечер из унылых келий Слышим мы призывный перезвон И поем всю ночь псалмы в капелле Перед старым золотом икон. Скоро. Вместо тени тихой дремы, Наши лица исказит испуг, — Входит спешно рыцарь незнакомый, Оглядит сурово все вокруг. Плащ его темней сутаны черной, На берете искрится алмаз… Нас пугает взор его упорный И стальной отлив горящих глаз. И стоит он, демоноподобный, Не страшась сияния креста, Он молчит; лишь смех беззвучный, злобный Разомкнет порой его уста. На рассвете в тишине тоскливой Мы услышим крики петуха, И опять поспешно, молчаливо Как вошел, исчезнет сын греха. Но тревожен сон усталых братий, Страшный гость во сне пугает нас, — Незнакомый рыцарь в черном платье Нас зовет нездешним блеском глаз…Замок смерти
В седых изломах стен зубчатых, На серых пятнах древних плит Кудрями трав зеленоватых Холодный ветер шевелит. На кровлях башен мох пушистый Густой щетиною растет И паутиной серебристой, Как шелком, заткан темный вход. Высокий вал порос осокой, Покрыты ряской воды рва, В провале башни одинокой Гнездо свила себе сова. В глухую полночь мост подъемный Во мгле уныло заскрипит, — И блеск лампады замок темный Влекущим светом озарит. Там дева в зале башни хмурой Огонь в полночный час зажжет, Сидит у темной амбразуры, В зловещий час кого-то ждет. Пушистым мехом горностая Подбит ее цветной наряд. На ней корона золотая, В короне яхонты горят. Устало шепчет заклинанья, Ведет минутам долгим счет, Заслышит тяжкое бряцанье И конский топот у ворот. Влекомый призрачною тайной, Увидя свет среди руин, В угрюмом замке гость случайный — Войдет суровый паладин. Виденьем сладостным смущенный, Уронит на пол арбалет И взором девы опьяненный, Забудет рыцарский обет. Губами жаркими коснется Безумный девических губ, — И дева тихо засмеется И оттолкнет холодный труп. Погаснет прорезь амбразуры, И башня темная заснет, — У входа только конь понурый Тревожно и призывно ржет.Ночная гостья
Едва завесит ночь туманная Мое окно своей фатой, — Ко мне приходит гостья странная На свет лампады золотой. Войдет, шурша шелками черными, И станет тихо у дверей; Сверкает огненными зернами Алмаз во мгле ее кудрей. Ее глаза влекут загадкою, В них — знойный полдень и гроза, Но я, смущенный, лишь украдкою Гляжу в лучистые глаза. Боюсь я: светлое видение Спугнет мой беспокойный взгляд, И буду вновь считать мгновения И слушать, как часы стучат.Сад
Мой факел в сумраке погас, Пошел я наугад, Путем тернистым в поздний час Дошел до райских врат. И вот открылись предо мной Зеленые сады И озаренные луной Зеркальные пруды. Цветы и травы там росли Душистей, чем везде, И светляки огни зажгли Подобные звезде. Вошел я радостно в цветник И алых роз нарвал, Но каждый стебель в тот же миг В руке моей завял. Едва касался я рукой, — Все превращалось в прах, Был лунный мертвенный покой Страшней, чем смерти страх. Мгновенья длились, как года, И нет пути назад, И понял я, что навсегда Пришел я в этот сад…Биографический очерк
Писатель-фантаст, сатирик, поэт и мемуарист Николай Алексеевич Карпов родился в 1887 г. в селе Высоком Пензенской губернии. По собственному рассказу, самоучкой выучился читать и быстро пристрастился к лубочной, а затем и приключенческо-фантастической литературе, что предопределило его литературные интересы.
Карпов учился в Пензенском реальном училище, после исключения из 4-го класса поступил в коммерческое училище в Томашове, затем в Минске (не окончил).
В 1907 г. Карпов приехал в Санкт-Петербург, где поступил на Высшие сельскохозяйственные курсы, но вскоре решил посвятить себя литературе и в 1910 г. бросил учебу.
В 1910-х гг. Карпов много публиковался в столичной периодике. Его рассказы и стихи часто появлялись на страницах «тонких» иллюстрированных журналов — Всемирная панорама, Аргус, Пробуждение, Синий журнал, Журнал-копейка, Война, Русская иллюстрация и пр. Добрался Карпов и до Нивы, Нового слова И. Ясинского и даже утонченного Аполлона (где его стихотворение появилось рядом со стихами К. Бальмонта, О. Мандельштама и М. Зенкевича).
Многие стихотворения Карпова эти лет обнаруживают тяготение к «таинственному» (им был задуман неосуществившийся сборник с красноречивым названием Перстень смерти), рассказы — к фантастическо-приключенческому жанру. В некоторых заметна явная зависимость от хорошо знакомого Карпову по Петербургу-Петрограду А. С. Грина: экзотический антураж, неожиданные сюжетные коллизии, герои с такими именами, как Амброс, Кепи, Орт и т. д. Напоминают о Грине и короткие военные рассказы — беспардонные патриотические фантазии подобного рода обильно печатал в военные годы и Грин, благо на них имелся спрос. В военных миниатюрах Карпова главное место, как и в будущем романе Лучи смерти, занимает тема фантастического оружия. В рассказе Таинственный аэроплан (1914) повествуется об электрическом летательном аппарате и электроревольверах, в Корабле-призраке (1916) — об электрическом же корабле со специальной «невидимой» покраской; в рассказе Белый генерал (1914) «сверхоружием» выступает призрак генерала Скобелева.
После Февральской революции Карпов вернулся на «малую родину» — работал народным следователем, журналистом, организовывал транспортную милицию, был инспектором РКП — а в 1924 г. перебрался в Москву. В том же году в выпусках 1–3 Библиотечки революционных приключений издательства «Рабочая Москва» (1924) был опубликован его фантастический роман Лучи смерти. Роман оказался настолько популярным, что в 1925 г. вышел двумя изданиями в ЗИФе (общий тираж 15 тыс. экз.).
Роман Карпова, опередивший Гиперболоид инженера Гарина А. Н. Толстого, стал одним из первых в советской фантастике произведений на модную тему «лучей смерти», заявленную в заглавии; нельзя исключать, что он повлиял и на Толстого, и на М. Булгакова (отметим в этом смысле сцены в клинике для душевнобольных).
С другой стороны, если Карпов и был календарным предтечей Толстого, говорить о прямых влияниях следует с чрезвычайной осторожностью, так как речь идет о слишком распространенных мотивах. Тем более нельзя сравнивать писательский дар Толстого и Булгакова со скромным талантом Карпова. Его роман — откровенная агитка в духе «красного Пинкертона»: капиталисты отличаются телесным уродством и не переставая курят сигары, у рабочих непременно «заскорузлые руки» (с точностью до «заскорузлых лап»), молодые женщины, включая пролетарок, обязательно «порхают» и «щебечут», гениальный изобретатель «лучей смерти» профессор Монгомери, который стирает с лица земли население целого рабочего города вместе с собственной дочерью и ее возлюбленным-революционером — гениален, аморален и чудаковат и т. п. Среди этих ходульных описаний останавливает на себе внимание лишь 24-я глава, где «лучи смерти» в конце концов начинают действовать, и портрет Л. Д. Троцкого в обличии вождя восставших американских рабочих: «Небольшая черная бородка оттеняла матовую бледность его впалых щек; черные, глубоко-впавшие глаза горели лихорадочным возбуждением».
Сложно не заметить при этом весьма необычный для фантастики такого рода и эпохи прием, состоящий в полном обмане читательских ожиданий. От подобного романа читатель вправе был ожидать долгой и запутанной борьбы капиталистов и пролетариев за обладание аппаратом «лучей смерти», грандиозных картин всеамериканского восстания трудящихся, панического бегства эксплуататоров, триумфа революции и слияния любовников (профессорской дочки Долли и рабочего Тома Грея) на фоне развевающихся алых знамен. Но никакого революционно-го апофеоза в романе нет и в помине. Долли и Том гибнут, причем «за кадром»; победа революции оборачивается жестокой расправой капиталистов над взбунтовавшимся городом; наконец, свой финальный монолог о пришествии «строителей нового мира» явно тронувшийся умом профессор Монгомери произносит в палате «желтого дома». Спасается лишь ловкий и предприимчивый «сознательный» таксист Бен Смок: его уютная, почти мещанская квартирка, хорошенькая жена и относительно сытное существование противопоставлены в романе пафосу революционной героики и аскетическому быту Грея.
В 1920-х — начале 1930-х гг. Карпов опубликовал более двух десятков сборников и отдельных изданий одиночных рассказов, чаще всего юмористическо-сатирического толка. В 1933 г. вступил в Союз писателей, а во второй половине 1930-х по заказу директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича начал работу над воспоминаниями о литературном Петербурге предреволюционных лет, которые завершил в 1939 г.
Мемуары В литературном болоте стали наиболее ценным сочинением в литературном наследии Н. Карпова. Книга эта, писавшаяся в годы сталинского террора, полна намеренных и непроизвольных неточностей и весьма тенденциозна: чего стоит один Н. Гумилев, весело расстреливающий африканских негров! Вместе с тем, как справедливо отметил первый публикатор мемуаров Карпова С. В. Шумихин, воспоминания писателя «сохраняют значительный интерес как свидетельство современника и очевидца о быте и нравах петербургских газетчиков и литераторов предреволюционного десятилетия»[11] и содержат множество уникальных сведений.
Н. А. Карпов скончался в Москве в 1945 г. Спустя более чем полвека его произведения начали постепенно возвращаться к читателю. В 2011-15 гг. два «микроиздательства», специализирующиеся на научной фантастике, переиздали роман Лучи смерти; эти издания так и остались недоступны для большинства читателей по причине высокой цены и ничтожного тиража. Первое общедоступное переиздание романа было осуществлено издательством Salamandra P.V.V. в 2015 г. В 2016 г. в издательстве «Молодая гвардия» увидела свет книжная версия мемуаров, в 2017 — подготовленный А. Б. Танасейчуком сборник, куда вошел роман Лучи смерти и ряд рассказов (изд-во «АртеФактъ»).
Примечания
Все вошедшие в книгу произведения публикуются по первоизданиям, откуда взяты и иллюстрации. Безоговорочно исправлены очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.
В оформлении обложки использована работа М. Ройдс.
Издательство выражает глубокую благодарность А. Б. Танасейчуку за предоставленный текст рассказа Вор.
Тайна старого мастера
Впервые: Синий журнал. 1912. № 25.
В рассказе отразились легенды об особом составе лака, которым покрывал свои скрипки знаменитый кремонский мастер А. Страдивари (1644–1737) — якобы включавшем человеческую или драконью кровь. Новое распространение эти легенды получили уже в 1990-х гг. с продажей таинственной скрипки Страдивари, изготовленной в 1720 г. и прозванной «красный Мендельсон», и появлением кинофильма Ф. Жирара Красная скрипка (1998).
Сказка белой ночи
Впервые: Синий журнал. 1912. № 23.
Волшебное зеркало
Впервые: Всемирная панорама. 1912. № 165/24,15 июня; также с небольшими изменениями в: Сборник русской и иностранной литературы. 1914. Кн. 12 (наиболее существенные правки отмечены ниже).
Колдунья
Впервые: Всемирная панорама. 1912. № 185/44, 2 ноября.
Белый волк
Впервые: Огонек. 1913. № 47, 24 ноября (7 декабря).
Клад
Впервые: Журнал-копейка. 1913. № 238/32, август.
Золото
Впервые: Пробуждение. 1913. № 23.
Вор
Впервые: Аргус. 1913. № 1.
Иван Иванович
Впервые: Пробуждение. 1915. № 5.
Таинственный аэроплан
Впервые: Война. 1914. № 11: Война в воздухе, под псевд. «Наль».
Корабль-призрак
Впервые: Война: (прежде, теперь и потом). 1916. № 93, июнь.
«Белый генерал»
Впервые: Война. 1914. № 17: Таинственное и необъяснимое на войне.
Слепой капитан
Впервые: Всемирная панорама. 1912. № 180/39, 28 сентября.
Опиум
Впервые: Всемирная панорама. 1913. № 194/1, 4 января.
Малайский крис
Впервые: Всемирная панорама. 1913. № 216/23, 7 июня.
Заклинатель змей
Впервые: Аргус. 1913. № 6.
Стихотворения
Куклы. — Летучие альманахи. 1913. Вып. 5.
Гном. — Детский альманах. СПб.: Рубикон, [1914].
Леший. — Детский альманах. СПб.: Рубикон, [1914].
Жалоба лешего. — Всемирная панорама. 1911. № 130/41, 14 октября.
Лесная царевна. — Всемирная панорама. 1911. № 94/5, 4 февраля.
Царевна-лебедь. — Всемирная панорама. 1910. № 46,5 марта.
Златоцвет. — Вестник Европы. 1910. № 5.
Заколдованный лес. — Всемирная панорама. 1911. № 110/21, 2 7 мая.
Блуждающий огонек. — Всеобщий журнал литературы, искусства и общественной жизни. 1911. № 4, март.
Перстень. — Всемирная панорама. 1909. № 26, 16 октября.
Русалка. — Всемирная панорама. 1910. № 64, 9 июля.
Русалочья любовь. — Всемирная панорама. 1911. № 108/18, 6 мая.
Иванова ночь. — Нива. 1912. № 24, 16 июня.
Сирены. — Вестник Европы. 1911. № 5.
Морские призраки. — Аргус. 1913. № 2.
Черный капитан. — Огонек. 1914. № 32, 10 (23) августа.
Скрипач. — Новое слово. 1912. № 11.
Призрак. — Всемирная панорама. 1911. № 120/31, 27 июля.
Рыцарь ночи. — Всемирная панорама. 1913. № 207/14, 5 апреля.
Замок смерти. — Аполлон. 1910. № 9, июль-август.
Ночная гостья. — Новое слово. 1914. № 5.
Сад. — Русская иллюстрация. 1915. № 18.
Примечания
1
…неприятный вкус во рту — В первой ред. добавлено: «словно после гомерического пьянства».
(обратно)2
…с лица незнакомки — В первой ред.: «…бледного лица».
(обратно)3
…его руки властно легли на талию незнакомки и она, словно покоренная его взглядом, прильнула губами к его губам — В первой ред.: «…рука его властно легла на ее талию, и незнакомка, как бы покоренная его взглядом…»
(обратно)4
…бледное лицо — В первой ред.: «…мертвенно-бледное».
(обратно)5
…быстро взглянул на него — В первой ред.: «…посмотрел на него».
(обратно)6
…громыхая — В первой ред.: «громыхая бубенцами».
(обратно)7
Лошади рванули вперед… мостика — В первой ред.: «Лошади рванулись вперед… мостика, экипаж окутало облако пыли».
(обратно)8
…гайтан — шнурок, обычно для нательного креста.
(обратно)9
…золото — американское… — «Американским» называли поддельное золото, обычно из сплава меди.
(обратно)10
«Белый генерал» — прозвище ген. М. Д. Скобелева (1843–1882). Легенда о появлении его призрака на поле боя широко использовалась в патриотической пропаганде времен Первой мировой войны.
(обратно)11
-ms.ru/red_port/00120Lphp.
(обратно)




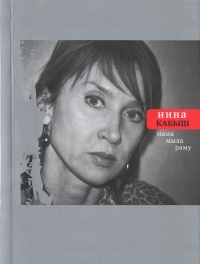
Комментарии к книге «Заклинатель змей», Николай Алексеевич Карпов
Всего 0 комментариев