Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977
Поэты
ГЕРМАНИИ
ИТАЛИИ
ФРАНЦИИ
ПОРТУГАЛИИ
ИСПАНИИ
АВСТРИИ
ПОЛЬШИ
ВЕНГРИИ
АНГЛИИ
Вильгельм Левик
Избранные переводы
в двух томах
●
Том I
Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977
Сб3
Л36
Предисловие
Л. Озерова
Оформление художника
Г. Клодта
© Вступительная статья и переводы, отмеченные * в содержании. «Художественная литература», 1977 г.
70404-156 Л 166-77
028 (01)-77
Искусство Вильгельма Левика
Мы в мастерской художника. Мольберт с незавершенным портретом, полки с законченными полотнами, этюдники, кисти, альбомы, карандаши. На стенах – репродукции великих мастеров, слепки, и среди них рука Лоренцо Медичи работы Микеланджело.
Вглядываюсь в пестрые корешки книг, – так много их здесь, и они на разных языках. Не только книги по искусству. Стихи, поэмы, драмы в стихах. Томики малого формата, тома собраний сочинений, словари толковые и профессиональные, исследования, монографии.
Пока я внимательно осматривал стены мастерской, интересовался книгами, по крутой лестнице в помещение – друг за другом – с шумом, с шутками, с криками ввалилась толпа знакомых по портретам людей – и каких людей! В широкополых шляпах, в цилиндрах, канотье, беретах, колпаках... В плащах, манто, пурпуэнах, хубонах, кожаных колетах, джеркинах, бриджах, фраках...
Кто эти люди? Длинноволос, в коротком рединготе с красной пелериной – Генрих Гейне! Наконец он здесь вволю поговорит со стариком Гете, которому на сей раз не удастся отделаться беглой репликой. А кто этот пришедший с пьесами, написанными для театра «Глобус»? Человек-легенда, уроженец Стрэтфорда-на-Эйвоне – сам Вильям Шекспир. За ним Шиллер со своим «Дон Карлосом». Хочется всех услышать, со всеми познакомиться. Возможно ли это? Здесь и немецкий миннезингер Вальтер фон дер Фогельвейде, и португалец Луис Камоэнс. Но говорят они по-русски. По-русски Камоэнс беседует с Байроном, Шамиссо с Гюго, Вордсворт с Верленом, Ронсар с Петраркой. Временные и пространственные дистанции – не помеха. Русской речью всех объединил хозяин мастерской – художник, поэт-переводчик Вильгельм Левик...
В искусстве перевода незначащих мелочей нет. Все подчинено главному делу: знание языков и чувство стиля, музыка стиха и умение живописать словом, общая культура, историко-литературное чутье... Не перечислить всего, что требуется для переводчика поэзии. Но все же впереди должно поставить талант. Это звонкое и емкое слово дает возможность освободить читателя от докучливого перечня. <5>
Перед нами собрание переводов – плоды более чем полувековой деятельности Вильгельма Левика. Обратимся к биографии мастера.
Вильгельм Вениаминович Левик родился в Киеве 13 января 1907 года. В средней школе, познакомившись с мифологией, он начал писать драму о Прометее. Кто, впрочем, в детстве не соревновался с Эсхилом?
В детстве Вильгельм Левик начал обучаться игре на фортепиано, но вскоре стал просить родителей об учителе рисования. Через полтора года после начала обучения преподаватель его устроил в одном из помещений на Крещатике выставку работ своего юного ученика. Большие акварели, изображавшие мифологические эпизоды и сцены из арабских сказок, отнюдь не исчерпывали содержания выставки. Посетители этой выставки обнаружили, что киевские кошки и лошади обрели своего даровитого поклонника.
Любовь к животным натолкнула мальчика на выбор книги, по которой он стал изучать немецкий язык. Это была «Всеобщая морфология» Геккеля. Разобраться в сложных построениях немецкого ученого помогло ему знание зоологической терминологии. Не прошло и года, как он уже читал немецкие книги. Он прочитал Гейне в оригинале. И полюбил его на всю жизнь.
Этапы жизни Левика – это этапы постижения языков, литературы, искусств. И все это, вместе взятое, служило овладению искусством перевода.
С 1921 года Вильгельм Левик на протяжении двух лет посещает вольную художественную студию. В 1924 году он переезжает в Москву. Здесь он держит экзамены одновременно во Вхутемас и на биофак МГУ. Принят в оба вуза. После мучительного раздумия выбор пал на Вхутемас, который был закончен в 1930 году.
Вышедший в 1929 году однотомник Гейне с «Германией» в переводе Вейнберга-Зоргенфрея («Academia») натолкнул на мысль сделать новый перевод поэмы. С этого и началось. Это была первая большая работа, выдержавшая с тех пор двадцать изданий. Так создалась обнимающая четырнадцать тысяч строк серия переводов из Гейне. Немецкий поэт открыл молодому человеку его призвание – полпреда европейской поэзии.
Русская «Лорелея» Гейне ведет свое начало, пожалуй, от Каролины Павловой и Мея. Вильгельм Левик взялся за перевод «Лорелеи» после того, как у нас было уже множество переводческих попыток. И он создал прекрасный перевод – достоверный и яркий портрет оригинала, сохраняющий его живость и естественность. <6>
Переводчику так нужно, так важно побывать в стране поэта. И это еще раз подтверждается на примере Левика. Он видел в Германии описанную Гейне скалу. И он понял, что уходящее на ночь солнце, сверкая, запечатлевается отблесками на этой скале дольше всего.
Лишь на одной вершине
Еще пылает закат.
Таков последний левиковский портрет гейневских строк. Раньше было: «Последним лучом пламенеет // Закат на прибрежной скале». Смысл тот же, но оттенок смысла другой. До поездки на Рейн Левик условно видел некую скалу. Увидев эту скалу воочию, он понял, что у поэта речь шла об одной вершине, на которой «еще (!) пылает закат».
Есть переводы, которые сложились сразу же и счастливо. Сделанный в 16-летнем возрасте перевод из Гейне «Зазвучали все деревья...» остался в неизменном виде до нынешнего дня. «Лорелея» и другие стихи переписывались десятки раз. В «Лорелее» всего двадцать четыре строки, а большая поэма «Германия» – она прошла с переводчиком через десятки лет и десятки раз переделывалась. Поэма Гейне «Германия» известна русскому читателю по многих переводах; Костомаров и Заезжий, Минаев и Вейнберг, Тынянов и Рубанович, Пеньковский и Левик... Левиковский перевод «Германии» проделал заметную и поучительную эволюцию. Первый вариант тридцатых годов переделан в шестидесятых. Опыт работы над другими поэтами помог Левику уточнить, а таким образом и улучшить многие частности старого перевода. Он зазвучал еще убедительней. А убедительность в поэтическом переводе – дело первейшее. Это значит: переложение производит на читателя впечатление той же непосредственности и живости, что и оригинал.
Следующим после Гейне этапом творческого пути была книга Ронсара, за перевод которого Вильгельм Левик взялся на фронте. Переводы стихов Ронсара осуществлялись в обстановке самой, казалось бы, непоэтической для этого изысканного поэта. Придворный кавалер оказался на войне. На фронте, после допросов военнопленных, передвигаясь по дорогам войны, Левик переводил Ронсара. Сразу же после победы он завершил эту работу (первое издание книги – 1947 г.), принесшую ему большой успех. Это одна из самых безусловных его удач.
Обычно к стихотворным переводам обращается оригинальный поэт. Таких примеров множество и в прошлом и в настоящем. Оригинальных стихов Вильгельма Левика мы не знаем. Он подчинил свое дарование воле других поэтов – иноязычных, главным <7> образом немецких, французских и английских. Подчинил – не совсем точное слово. Такое впечатление, что наш переводчик создан для того, чтобы услышать их голоса и сделать их слышимыми для всех. Что это значит? В пушкинских «Египетских ночах» Чарский говорит после прослушанной импровизации итальянца: «Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно». Мысль Байрона и Рембо, Верлена и Ленау коснулась слуха Вильгельма Левика и стала его собственной мыслью. Он ее не присвоил, а сделал достоянием русского читателя.
Мне думается, что живопись заменяет Левину оригинальные стихи. Ее характеризует уважение к натуре, стремление к гармонии образа, к свежей цветовой гамме. В поэтическом переводе для Вильгельма Левика характерно в высшей степени уважительное отношение к оригиналу. Он никогда не рассматривает его только как отправную точку для своих произвольных домыслов и построений. При этом он не повторяет натуру, не копирует ее, а дает ей новую жизнь.
В воспоминаниях об А. А. Осмеркине – своем учителе живописи – Вильгельм Левик воспроизводит слова художника И. И. Машкова: «Перед натурой надо ползать на пузе». По поводу этой реплики Ильи Ивановича Осмеркин сказал своему ученику: «Ну, что ж, попробуйте, только помните, что в этой позиции натуры не видно».
Сказанное о натуре в живописи имеет прямое отношение к оригиналу в переводе. Внимание к натуре и к оригиналу не означает рабьего преклонения перед ними. И в этом, может быть, прежде всего в этом, нужна мера. Вильгельм Левик с молодых лет и как практик и как теоретик перевода воюет против буквализма, против крохоборческого – слово за словом, строка за строкой – копирования оригинала. Дух, а не буква, – вот то заветное и заповедное, что направляет работу поэта-переводчика.
В одном из сонетов Дю Белле есть строка:
Поэтам платят неохотно.
Левик перевел эту строку таким образом:
Поэты не в цене у власти и закона.
С первого взгляда может показаться, что переводчик намеренно усилил гражданский пафос строки. Но и весь этот сонет, а главное, все творчество Дю Белле позволяют прочитать эту строку так, как прочитал ее переводчик.
«Художественный перевод, – пишет Левик, – это отнюдь не <8> информация о содержании каждой строки. В ряде случаев переводчик имеет право исходить из целостного образа поэта и в соответствии с этим менять ту или иную строчку». И верно: мотив пренебрежения вельмож к настоящей поэзии не раз встречается у Дю Белле, даже в соседнем сонете он иронически советует поэту не трогать власть имущих. Буква в переводе не та, что в оригинале, зато дух – тот же. Путь от общего к частному вовсе не означает невнимания к деталям. Напротив, этот панорамный, целостный взгляд на произведение дает возможность верно определить уместность той или иной детали, ее композиционную роль.
«Левик переводит не только ямбы – ямбами, хореи – хореями, но и вдохновение – вдохновением, красоту – красотой», – писал Корней Чуковский. Зная те европейские языки, с которых он переводит, Левик знает и то, что поэзию надо переводить не только с французского и с английского на русский, но и на язык поэзии. Это самое трудное, но и самое существенное. Сделать так, чтобы «Жница» Уланда, «Моему ручью» Ронсара, «Желание» Эредиа, «Облако» Шелли, «Холостяк» Ленау звучали как русские стихи, свободно и естественно, без тени «переводизмов», без налета переводческих штампов – серьезное дело, нечастая удача.
Есть одно немаловажное свойство художественного перевода вообще, издавна усвоенное Левиком в частности. Он изгоняет из перевода невнятицу, даже в том случае, если она в известной мере присуща оригиналу. Забота о том, чтобы читатель понял все до конца, – одна из главных забот Левика. Читатель должен понять решительно все, что имел в виду автор. Переводчик в этом деле первый помощник читателя. Комментарий к переводу должен быть не приложен к нему, а находиться в нем самом, в глубине строки. Левик – художественный толкователь смутных, невнятных строк оригинала. Его прочтение, его толкование может быть полезно даже для людей, знающих данный язык. Сравнение перевода с оригиналом может и должно по-новому объяснить оригинал.
Искусство поэтического перевода – это непрерывный поиск и труд, воля к совершенствованию, умение отвергать свои вчерашние удачи во имя сегодняшних еще больших удач, но, как позднее оказывается, все еще недостаточных для постижения истины оригинала. Покажу это хотя бы на примере перевода стихотворения Ленау «Три цыгана». Даже не всего стихотворения, а всего лишь второй его строфы.
В оригинале она читается так:
Hielt der eine fьr sich allein
In den Hдnden die Fiedel,
Spielte, umglьht vom Abendschein,
Sich ein feuriges Liedel. <9>
Вот подстрочный перевод этой строфы:
Первый (один) держал для себя одного
В руках скрипку.
Играл, озаренный закатом,
Себе огненную песенку.
(Здесь в слове «Liedel» – оттенок не уменьшительный, а скорее народный.)
Первый вариант перевода Левика:
Первый играл на скрипке. Кругом
Рдел закат, догорая.
Бодро звенела под смычком
Песенка огневая.
Упущено очень важное «fьr sich allein» (для себя одного). Этот мотив независимости проходит через все стихотворение. Кроме того, в оригинале цыган озарен (дословно «опламенен») закатом. В переводе закат «рдеет» кругом, то есть отдельно от цыгана. Вариант отвергнут переводчиком.
Последовал второй вариант:
Первый на скрипке играл, – освещен
Поздней багровой зарею,
Песенкой огненной тешился он,
Все позабыв за игрою.
Цыган и закат соединились, но где ж все-таки гордая цыганская независимость, где полновесность рифмы, на которую падают самые нужные слова: «fьr sich allein» и «Liedel»? «Освещен» кажется менее затасканным, чем «озарен». Но это соображение неверное; во всяком случае, строфу надо было переделывать.
Вариант третий, последовавший за предыдущим:
Первый налег на скрипку щекой, –
Залит вечерним багрянцем,
Так он играл, будто спорил с судьбой,
Тешась огненным танцем.
Рифмы, наконец, пришли живые и точные – «багрянцем – танцем», но «щекой – судьбой» все еще не удовлетворяет переводчика, «для себя одного» – эквивалент еще не найден, а жест цыгана слишком утяжелен («налег»), да и к чему в таком громадном пейзаже выделять именно жест?
Четвертый вариант строфы – самый слабый, хотя полнозвучными стали, наконец, все рифмы. Но зато первая строка не удалась, пущена в печать только «со зла на себя самого», как сообщил мне переводчик. <10>
Первый скрипку держал пред собой, –
Залит вечерним багрянцем,
Так он играл, будто спорил с судьбой,
Тешась огненным танцем.
И вот пятый вариант, который приведен в настоящем двухтомнике.
Первый на скрипке играл, – озарен
Поздним вечерним багрянцем,
Сам для себя наяривал он,
Тешась огненным танцем.
Кроме всего остального, благодаря «з» – «озарен поздним» – этот вариант лучше инструментован. Так переводчик добивался слитности значения и звучания.
Для воспроизведения столь разных и разнохарактерных европейских поэтов, встретившихся в книге Левика, нужно располагать богатой переводческой палитрой. Галантный и тонкий Ронсар – это одна манера, одна краска. Витийственный и мощный Гюго – другая краска. Угрюмый и одновременно порывистый Бодлер – третья. В одном случае достаточен пастуший рожок или волынка, в другом же случае не обойтись без органа или оркестра. Умение найти соответствующее общее звучание для того или иного поэта или его произведения, найти одновременно с этим нужную краску – большое умение. Но в любом случае надо, чтобы переведенное стихотворение было прежде всего хорошим и даже отличным русским стихотворением. Оригинал должен попасть в руки не ремесленника-копииста, а художника-портретиста. У русских читателей он должен вызывать те же ассоциации, те же образные связи, те же мысли, что и у соотечественников оригинального поэта, говорящих с ним на одном языке. Усилить звучание оригинала не только желательно, но и необходимо. Усиление этого звучания должно быть не произвольным, а в духе все того же оригинала. Усиление это происходит за счет новых возможностей русского языка и стиха, за счет новизны постижения автора. Здесь поэт-переводчик должен быть «с веком наравне», со своим веком. Он должен показать, что его родной язык, его стих способен передать все оттенки иноязычного стиха. Европейские поэты создали образцы, достойные подражания. «Прекрасные стихи – как бы вызов поэтам других народов: показать, что и их язык способен вместить тот же творческий замысел», – говорит Брюсов в статье «Фиалки в тигеле».
Обращение Левика к поэзии разных времен и народов требовало от него энциклопедического владения стихотворными формами, виртуозной передачи свойственной каждому из поэтов строфики, ритмики, рифмовки. Переводчик должен был в равной степени <11> владеть октавами и сонетами, ронделями и канцонами. Так, к примеру, огромная поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» написана спенсеровой строфой, состоящей из девяти строк с рифмовкой абаббвбвв. Размер первых восьми строк – пятистопный ямб, размер девятой строки – шестистопный ямб. Спенсерова строфа требует от стихотворца безукоризненного владения словом. Перевод Левика сделан естественно, сложная рифмовка не мешает течению образа и мысли. Достаточно прочитать несколько строф из четвертой песни, чтобы убедиться, как стихотворный период из двадцати семи строк, построенный как одна фраза и в своем стремительном движении показывающий водопад, свергающийся «с горы в долину гигантской белопенною стеной», звучит легко и непринужденно. Мы не ощущаем усилий стихотворца. Мы слышим водопад, видим его. Читая перевод Левика, мы забываем о том, что это перевод.
Мы все время говорим, оглядываясь на первоисточник, на оригинал. Это естественно. Но немалое значение в искусстве перевода имеет индивидуальность переводчика. Переводчик не стушевывается, не растворяется в лучах оригинала. Казалось бы, достаточно от переводчика в того, что он, как актер, умеет перевоплощаться в переводимого автора. Но оказывается, что этого ценного свойства недостаточно. Он должен помнить о себе, должен быть собой, оставаться индивидуальностью со своими характерными чертами и даже родимыми пятнами. И вот что важно: чем ярче индивидуальность переводчика, тем сильнее, рельефней, полней проступают черты оригинала. В этом – чудесная диалектика искусства поэтического перевода.
Своей полувековой деятельностью Вильгельм Левик стремился показать, что перевод – это не копия, а портрет, второй оригинал, воплощенный поэтом в стихии другого языка. Перевод, таким образом, становится двойным портретом: автора оригинала и автора переложения.
«Творец всегда изображается в творении и часто – против воли своей», – говорил Карамзин. Эти слова соотносимы не только с автором оригинальных произведений, но и с автором перевода («переводчик» и «автор перевода» – здесь переданы оттенки смысла, на которые осмеливаюсь обратить внимание читателя).
Были случаи, когда живописцы прошлого скромно, где-то сбоку, вписывали в групповой портрет и свою фигуру. А подчас эта фигура писалась и на первом плане. Достаточно вспомнить «Игры» Веласкеса, присутствующего на полотне в момент работы, или Мазаччо, изобразившего себя на одной из своих фресок. Так или иначе, сам художник входил в творимый им групповой портрет. В групповой же портрет, созданный более чем полувековой работой <12> Вильгельма Левика, самого себя, он, разумеется, не вписал. Ему – отдельно взятому – не посвящен ни единый миллиметр портретного полотна. И вместе с тем переводчик вписан в сотворенный им групповой портрет. Вписан своим поэтическим даром, своей пристальностью, своим, наконец, темпераментом, слившимся с темпераментами переведенных им поэтов.
Поэт-переводчик как бы захотел остаться в тени, за широкими спинами облюбованных им героев. Но они-то сами не захотели, чтобы он остался незамеченным. Они с благодарностью уступили место для него, высветлили его, чтобы он стал виден читателям.
В антологии Вильгельма Левика действуют законы постижения объективного мира. Она достоверно вводит читателя в поэтический мир Европы. Так или иначе, перевод служит продолжению жизни оригинала, его бессмертию, если он, разумеется, того заслуживает. Продлению жизни, бессмертию... Особенно если устарел язык оригинала даже для тех, кто является земляком автора его. Переводим же мы «Слово о полку Игореве» на современный русский язык, а средневерхненемецкий диалект Вальтера фон дер Фогельвейде – на современный немецкий. Так перевод возникает в одной из своих важнейших функций – обновлении...
Обновляются поэты, которых мы знаем по старым переводам. Мы как бы переосмысливаем их. Находим в их поэзии новые грани.
Гете, ощутив родство с Гафизом и другими поэтами Персии, написал «Западно-восточный диван», представляющий двойную трудность для переводчика. Запад и Восток должны зазвучать по-русски в своем единстве и в своей раздельности. Вильгельм Левик все делает для того, чтобы это запечатлеть в слове:
И тростник творит добро –
С ним весь мир прелестней.
Ты, тростник, мое перо,
Подари нас песней!
Переводчик обратился к этой книге Гете не только после многолетнего опыта перевода немецких поэтов, но и после того, как переводил великих поэтов Востока, после того, как постигал восточные касыды, газели, рубайят. Вот почему Гете выглядит обновленным.
Лафонтен в переводе Левика естественно и – добавлю – обновленно вписывается в его эпоху. Прав Сент-Бёв: «Все, что у другого писателя было бы сочтено общим местом или слабостью, у Лафонтена превращается в характерный прием и приобретает своеобразную прелесть». Переводчик не упускает этой прелести и дает ее почувствовать непосредственно – в фактуре самого стиха, русского стиха. <13>
Благодаря творческому прикосновению Левика обновляются Гёльдерлин и Шамиссо, Верлен и Рембо, Шелли и Китс, не говоря уже о главных героях его переводческого свода – Гете и Гейне, Шекспире и Байроне, Ронсаре и Дю Белле, Бодлере и Камоэнсе, Ленау и Мицкевиче.
Обновление ни в коем случае не означает модернизации, насильственного подтягивания старых авторов к нынешним вкусам и требованиям. Обновление – это более верное и глубокое прочтение автора, более точное русское воспроизведение его идей, образов, интонации.
Для Левика всегда были священными заветы русских поэтов-классиков, он читал их пристально и влюбленно. Строй их речи он перенял и никогда не взрывал его, никогда не предавал. Это важное обстоятельство, уберегшее переводчика от речевого и стилевого произвола и утвердившее его имя среди имен тех, кто составил школу русского поэтического перевода.
Ломоносов и Жуковский, Батюшков и Козлов, Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Мей, Михайлов и Курочкин, Бунин и Блок создали определенную традицию, определили уровень переводческой преемственности, так много сделали для искусства перевода в России, что добавить к этому свое, свежее, новое – нелегко. Но вовремя и талантливо внесенная переводческая лепта – большое общекультурное дело. Это важно для молодого поколения наших читателей, желающих читать европейских поэтов во все новых и новых переложениях. У нас искусство перевода стало одним из сильных средств просвещения, а таким образом и воспитания.
Переводя европейских поэтов, любуясь ими, споря с ними, Левик не только переходит от автора к автору. Он изучает эпоху каждого из них, познает литературный процесс и место в нем каждого из своих поэтов. Своего автора он не оставит в беде. Он ратует за поэта, особенно в том случае, если его русская репутация сложилась неудачно, неблагополучно, в конечном счете – несправедливо. Тут Левик, не прерывая работы переводчика, берется за перо исследователя-литературоведа, он становится публицистом, притом полемизирует с устоявшимися неверными оценками. Так было, скажем, с Шарлем Бодлером. Переводчик занимался его «личным делом» и показал читающей публике, что она тенденциозно прочла этого поэта. Отделил правду от домысла и умысла. Бодлеров портрет был очищен от позднейших наслоений. Это же Левик проделал и с другими неверно понятыми и истолкованными поэтами. Своими переводами, статьями, устными выступлениями он боролся и борется против устойчивых легенд о поэтах, против кривотолков и клевет. Сражаясь с буквализмом – крохоборческим вниманием к частностям в ущерб целому, <14> приверженностью букве, а не духу оригинала, Левик столь же непримиримо воюет с переводческим произволом, с пренебрежением к подлиннику, который расценивается всего лишь как повод для досужих вымыслов стихотворца. Часто выступая перед различными аудиториями, Левик не только читает свои переводы, но и увлеченно рассказывает о переведенных им поэтах. Так перевод возникает в своей древней и истинной сути – как просветительство.
– – –
Воздвигнутое поэтом-переводчиком выставочное помещение огромно. Настоящий двухтомник может быть уподоблен такому выставочному помещению, демонстрирующему переводческое искусство одного из сильнейших мастеров русского стиха.
Наше слово, предваряющее избранные переводы Вильгельма Левика, подошло к концу. Мы вступили с вами под гулкие своды выставочного зала, вернее – многих залов, в которых разместилось несметное множество поэтических полотен разных веков и народов.
Пойдем же в века и – доверимся музам.
Лев Озеров
От переводчика
Кто-то из наших поэтов-дворян говорил, что в его двадцатичетырехкомнатной квартире ему и его семье всегда не хватало двадцать пятой комнаты. То же самое с книгами. Казалось бы, двухтомник – это достаточно. Но начинаешь обозревать, собирать все тобой сделанное и видишь: вот-вот, и получится антология иноязычной поэзии. А уж если антология, то в ней не должно быть разрывов, должна быть историческая последовательность. И здесь-то и оказывается, что даже двух томов для этого мало.
Чтобы полнее представить главных поэтов – тех, которые сопровождали переводчика всю ею жизнь, ему пришлось от многого им переведенного отказаться. Пришлось исключить испанское романсеро, всю польскую поэзию после Мицкевича, многое из венгерской поэзии. Пришлось отказаться почти от всей драматургии.
Но и главные, любимые вынуждены были потесниться. Исключены некоторые главы «Германии» Гейне, большинство строф из четвертой песни «Чайльд-Гарольда», да и многое другое, что потребовало бы еще по крайней мере двух томов.
И все же этот двухтомник является естественным развитием моих предыдущих книг: «Из европейских поэтов XVI– XIX вв.» (1956), «Из европейских поэтов» (1967), «Волшебный лес» (1974).
Если читатель заинтересуется этой книгой независимо от ее исторической и литературоведческой полноты, если он будет ее читать, как живую книгу поэзии, переводчик сочтет свою задачу выполненной. <16>
Из немецкой поэзии
Вальтер фон дер Фогельвейде
1170-1230
Настоящая похвала За красоту хвалите женщин – им по нутру такая дань, Но для мужчины это будет так скользко, что сойдет за брань. Пусть у него отважным, щедрым и постоянным будет дух И это третье – постоянство – отличный спутник первых двух. Послушайте, что вам скажу я, и вы тотчас поймете сами, Как надобно хвалить мужчину, чтоб не бесчестить похвалами: В нем человека надо видеть, чтобы его понять сполна. Когда по внешности мы судим, нам сердцевина не видна. Есть много в мире чернокожих, в чьем сердце дух прямой и смелый, И сердце черное как часто скрывается под кожей белой! Двуязычность Бог ставит королем, кого захочет он, И этим я не удивлен. Но вот попам дивлюсь я много: Чему они учили весь народ, То стало все у них совсем наоборот. Так пусть во имя совести и бога Нам растолкуют, что безбожно, Что истинно – начистоту! Ведь мы им верили недаром, Где ж правда – в новом или в старом? Коль то правдиво, значит, это ложно: Два языка не могут быть во рту! * * * В ручье среди лужайки Я видел рыбок стайки, Видал огромный мир чудес, Траву, камыш, и луг, и лес, Ползущих, и летящих, И по земле ходящих И знаю, что везде, всегда Царит жестокая вражда. И червь, и зверь, и птица Должны с врагами биться, И, чтоб в ничтожество не впасть, Они установили власть. Поскольку без правленья Терзают граждан тренья, Там избран царь, там каждый род И слуг имеет и господ. А с вами, немцы, горе, Вам любо жить в раздоре. Порядок есть у мух, у пчел, А немец дрязги предпочел. Народ мой! Не впервые Хотят князьки чужие Твои разрушить рубежи. Отдай имперский трон Филиппу, а тем их место укажи! Песнь о венке «Вам, госпожа, венок! – Красивой девушке сказал я как-то раз. – На танцах он бы мог, Да, он на зависть дамам украсить мог бы вас. Будь я богат камнями Цветными, дорогими, Я б вас украсил ими. По совести и чести я поступил бы с вами». Она взяла венок – Воспитанной девицей она не зря слыла. Румянец юных щек Пылал, как будто роза меж лилий расцвела, И опустила взгляд. С поклоном – все как надо. То мне была награда. А если б... Но о том молчат. «Я каждый день венок Готов сплетать для вас и вашей красоты. Вы знаете лужок, Где белые растут и красные цветы? Пойдемте – в этом месте, Где только пташек пенье Звучит в уединенье, Цветы срывать мы будем вместе». И вот со мной она. И я счастливей не был, с тех пор как я живу. Мы рядом. Тишина. И падают цветы с деревьев на траву. А я смеюсь невольно. Какое наслажденье Такое сновиденье! Проснулся – яркий день, глазам от света больно. Я жил всегда беспечный, Но этим летом, потеряв покой, Ее ищу я в каждой встречной. А вдруг найду – вот праздник-то какой! Но это пляшет не она ли? О девушки, прошу прощенья: Я загляну под ваши украшенья – Ее глаза из-под венка сияли. Вина женщин День за днем страдать, друзья, – Кто способен этот крест нести? Не велит воспитанность моя, А не то бы крикнул: «Счастье, заходи!» Но у счастья всем ответ один: Счастье не для тех мужчин, Что верны навек. Так чего ж тогда я жду, верный человек? Боже, что за горький плод Сам себе взрастил я, на беду! Вся моя порядочность не в счет, Униженье – все, чего я жду. Нравы доброй старины Ныне кажутся и глупы и смешны. А богатство, честь – Что ж, для тех, кто злонамерен, все, конечно, есть. Кто в мужчинах совесть усыпил? Женщины! Увы, но это так! Встарь их дух высок и ясен был, И для них был мир и радостен и благ. Беспорочна их душа была. Далеко молва об этом шла. А теперь беда – Нравится им тот, в ком нет стыда. Когда я средь женщин нахожусь, Что всего обиднее, не скрою: Чем я вежливей держусь, Тем они надменнее со мною. Им порядочность смешна. Только если женщина достойна и умна (Эти здесь не в счет), Больно ей, когда постыдный слух о женщинах идет. Но уж если женщина чиста, Муж достоин – вот счастливый брак. Их да воспоют мои уста. Им я лучших пожелаю благ. И скажу вам, как велит мне честь: Если мир не станет лучше, чем он есть, Знайте, жить я буду, Как мне нравится, а пенье и стихи навек забуду. Элегия Увы, промчались годы, сгорели все дотла! Иль жизнь мне только снилась? Иль впрямь она была? Или казалось явью мне то, что было сном? Так значит, долго спал я и сам не знал о том. Мне стало незнакомым все то, что в долгом сне, Как собственные руки, знакомо было мне. Народ, страна, где жил я, где рос я бестревожно, Теперь чужие сердцу, как чуждо все, что ложно. Дома на месте пашен, и выкорчеван бор. А с кем играл я в детстве, тот ныне стар и хвор. И только то, что речка еще, как встарь, течет, Быть может, уменьшает моих печалей счет. Теперь и не кивнет мне, кто прежде был мой друг. Лишь ненависть и злоба господствуют вокруг. И стоит мне подумать, зачем ушли они, Как след весла на влаге, исчезнувшие дни, – Вздыхаю вновь: увы! О молодые люди, увы, прошла пора, Когда, любивший Радость, растил вас дух Двора, И вас теснят заботы, вам изменил покой. Как радость обернулась нерадостью такой? Где песни, смех и пляски – задохлись от забот. Где в мире христианский так низко пал народ? Не красят женщин ваших уборы головные. В крестьянском платье ходят и господа иные. А тут еще и буллу прислали нам из Рима, И, горе нам оставив, проходит счастье мимо. Все это мучит, гложет – иль так я сладко жил, Что смехом только слезы под старость заслужил? В лесу от наших жалоб печалится и птица, Так если я печален, увы, чему дивиться? Но почему, безумец, браню я все кругом: Кто счастлив в этом мире, тот кается в другом! И вновь и вновь: увы! Увы, под маской доброй тая повадку волчью, Мир угощает медом, который смешан с желчью. Снаружи мир прекрасен: он зелен, розов, бел. Но смерть и мрак увидел, кто в глубь его глядел... Соблазны всех прельщают, надежда тешит всех: Мол, покаяньем легким искупишь тяжкий грех. О рыцари, вставайте, настал деяний час! Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас. Готов за веру биться ваш посвященный меч, Дай сил и мне, о боже, для новых славных сеч! Богатую добычу я, нищий, там возьму. Мне золото не нужно и земли ни к чему. Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин, Небесного блаженства навеки удостоен. В град божий через море, через валы и рвы! Я снова пел бы радость и не вздыхал: увы! Нет, никогда: увы! Готфрид Август Бюргер 1747–1794 Ленора Ленору тяжкий сон томит, Проснулась до рассвета. «Вильгельм, откликнись! Ты убит Иль спишь с другою где-то?» Он с войском Фридриха весной Ушел под Прагу в смертный бой И ни единой вести Не шлет своей невесте. Монархи вражеских держав, Устав от долгой ссоры, Смирили гнев и гордый нрав, И мир пресек раздоры. И, зыбля рдяный шелк знамен, Под пенье, гул, и гром, и звон Войска, весельем пьяны, Идут в родные страны. И вот спешат и стар и млад На стены, на заставы – Встречать ликующих солдат, Любимцев бранной славы. Здесь муж вернулся, наконец, Там встречен радостно отец, – Ах, для одной Леноры Ничьи не светят взоры! Она идет, бежит, зовет, Глядит в глаза героям. Но кто ж ведет убитым счет Пред лютым вражьим строем? Ушли! Теперь ты веришь сну? И, разметав волос волну, Она в смятенье диком На землю пала с криком. И к ней бежит в испуге мать, Приникла к ней, рыдая. «Над нами божья благодать, Не плачь, не плачь, родная!» «О мать, о мать, Вильгельма нет, Постыл, постыл мне божий свет, Не внял господь Леноре. О, горе мне, о, горе!» «Господь, господь! спаси, спаси Дитя от искушенья! Господь, ты благ на небеси, Прости ей прегрешенья!» «О мать, о мать, всему конец, Не знает милости творец! Не помогли молитвы, Он пал на поле битвы». «Господь – оплот наш и покров, Мы все – его созданья. Вкуси, дитя, святых даров, Да утолишь страданья!» «О мать, я не пойду во храм, Не прикоснусь к святым дарам, Дары Христа бессильны Нарушить сон могильный». «Но если в Венгрии, дитя, Забыв страну родную, От веры душу отвратя, Он в жены взял другую, – Дитя, тогда забудь о нем, Ему добра не будет в том: Душе за грех измены Не избежать геенны». «О мать, постыл мне белый свет, Я брошена в пустыне, Он смерть оставил мне в завет, На что мне жизнь отныне! Померкни, солнце, не свети, Дай мне во тьму и скорбь уйти! Навек, навек могила Добычу поглотила!» «Господь, господь! Не будь суров К твоей рабе несчастной; Она твоих не слышит слов, Прости ей гнев напрасный! Дитя, смири молитвой плоть, Душе отверзнет рай господь, К ней в радостные кущи Придет жених грядущий». «О мать, на что мне светлый рай, Что для меня геенна! Где мой Вильгельм – там светлый рай, Где нет его – геенна. Померкни, солнце, не свети, Дай мне во тьму и скорбь уйти, Не принесут забвенья Мне райские селенья». И долго бушевала страсть, Туманя ум смятенный. Она кляла святую власть Создателя вселенной, Ломала пальцы, грудь рвала, Но вот сошла ночная мгла, И выплыли в просторы Ночных созвездий хоры. И вдруг, и вдруг, тук-тук, тук-тук! Донесся топот гулкий. И будто всадник спрыгнул вдруг В притихшем переулке. И тихо, страшно, дзин-дзин-дзин, У входа звякнул ржавый клин, И хрипло крикнул кто-то В закрытые ворота: «Открой, открой! Иль спать легла, Иль ждать не стало мочи? Как встарь, красотка весела Иль выплакала очи?» «Вильгельм! В какой ты поздний час! От слез я не смыкала глаз, Кляла я свет постылый, Откуда ты, мой милый?» «Мы только к полночи встаем, Мой конь летел стрелою. Мой новый дом в краю чужом, Я прибыл за тобою». «Вильгельм, войди, желанный мой, Свистит и воет ветер злой, Так далека дорога! Согрейся хоть немного!» «Пусть ветер воет и свистит, Пусть плачет над полями, – Мой конь косится и храпит, Мне места нет меж вами! Садись, садись же, наконец! Храпит, храпит мой жеребец, Сто миль скакать с тобою Нам к брачному покою». «Сто миль! А в поле так темно! Сто миль скакать к постели! Часы одиннадцать давно На башне прогудели». «Живей! Луна встает из тьмы. Домчимся раньше мертвых мы. Дорога мне знакома, Мы скоро будем дома». «А домик твой красив, высок? Постелька нам готова?» «Темь, холодок да семь досок, Одна доска для крова». «Не тесно в нем? – «Вдвоем – войдем. Живей, живей! Открыт мой дом, Невесту ждем, и вскоре Все гости будут в сборе». Красотка – прыг! и, в чем была, На круп коня порхнула, И мила друга обняла, К желанному прильнула. И свистнул бич, и, гоп-гоп-гоп, Уже гремит лихой галоп. И конь, как буря, дышит, Вкруг дым и пламень пышет. И справа, слева, сквозь кусты, Гей, гоп! неуловимо Летят луга, поля, мосты, Гремя, несутся мимо. «Луна ярка, не бойся тьмы, Домчимся раньше мертвых мы. Красотка, любишь мертвых?» – «Зачем ты вспомнил мертвых?» Но что за стон? Откуда звон? Как воронье взлетело! Надгробный звон! Прощальный стон: «Зароем в землю тело». И хор идет, угрюм и строг, И гроб на паре черных дрог, Но песня та сошла бы За крик болотной жабы. «Заройте после прах немой Под звон и стон прощальный! Спешу с женой к себе домой Свершить обряд венчальный! За мной, друзья! Оставьте гроб! Ступай благословлять нас, поп! Пой, дьякон, что есть мочи В честь нашей первой ночи!» Смолк звон и стон, и гроба нет – Лишь ветра свист и ропот, И, точно гром, за ними вслед Понесся гулкий топот. И громче, громче, гоп-гоп-гоп, Гремит неистовый галоп, И конь, как буря, дышит, Вкруг дым и пламень пышет. Летят деревни и сады, Летят дома, соборы, Равнины, реки и пруды, Леса, долины, горы. «Дрожишь, дитя? Не бойся тьмы, Уже догнали мертвых мы! Красотка, любишь мертвых?» – «Зачем ты все о мертвых?» «Взгляни, взгляни: вздымая прах, Столбами пыль взметая, Кружит меж виселиц и плах Полночных духов стая. Эй, нечисть! Эй! Сюда, за мной! За мной и за моей женой К великому веселью Над брачною постелью!» И сброд нечистый, хуш-хуш-хуш, Вослед помчался с треском. Так ветер злобный в жар и сушь Свистит по перелескам. И громче, громче, гоп-гоп-гоп, Гремит неистовый галоп, И конь, как буря, дышит, Вкруг дым и пламень пышет. Как скачет все в лучах луны, Как дико скачут дали! И небеса, увлечены, Вдогонку заплясали. «Дрожишь, дитя? Не бойся тьмы! Домчались раньше мертвых мы! Красотка, любишь мертвых?» – «О, боже, что мне в мертвых!» «Гоп-гоп! Уже истек мой срок. Кричит петух к восходу. Гоп-гоп! Порозовел восток. Мой конь, прибавим ходу! Близка назначенная цель, Прими нас, брачная постель! Не страшны мертвым дали, Мы быстро прискакали». И конь, заслышав грозный крик, Взметнулся в беге яром, И хлыст ворота в тот же миг Разнес одним ударом. Слетел затвор, гремит скоба, Под бегуном гудят гроба, И, месяцем облиты, Мерцают смутно плиты. Взгляни, взгляни: гремя, звеня, Хо-хо! свершилось чудо! Где всадник был, теперь с коня Ползет гнилая груда, И лишь скелет верхом на нем, Скелет с часами и серпом, Безглазый и безгубый, Сидит и скалит зубы. Храпя, поднялся дыбом конь, И дико морду вскинул, И с хохотом в провал, в огонь, Об землю грянув, сгинул. И вой раздался в тучах, вой И визг из пропасти глухой, И, с жизнью в лютом споре Приникла смерть к Леноре... А духи гор, долин и вод Кружились рой за роем, Сплетались в мерный хоровод И выли скорбным воем: «Терпи! Пусть горестен твой век, Смирись пред богом, человек! Прах будет взят могилой, А душу бог помилуй!» Фридрих Шиллер 1759-1805 Порука Мерос проскользнул к Дионисию в дом, Но скрыться не мог от дозорных. И вот он в оковах позорных Тиран ему грозно: «Зачем ты с мечом За дверью таился, накрывшись плащом?» «Хотел я покончить с тираном». «Распять в назиданье смутьянам!» «О царь! Пусть я жизнью своей заплачу - Приемлю судьбу без боязни. Но дай лишь три дня мне до казни. Я замуж сестру мою выдать хочу, Тебе же, пока не вернусь к палачу, Останется друг мой порукой. Солгу – насладись его мукой». И, злобный метнув на просящего взгляд, Тиран отвечает с усмешкой: «Ступай, да смотри же – не мешкай. Быстрее мгновенья три дня пролетят, И если ты в срок не вернешься назад Его я на муку отправлю, Тебя ж на свободе оставлю». И к другу идет он: «Немилостив рок! Хотел я покончить с проклятым, И быть мне, как вору, распятым Но дал он трехдневный до казни мне срок, Чтоб замуж сестру мою выдать я мог. Останься порукой тирану, Пока я на казнь не предстану». И обнял без слов его преданный друг И тотчас к тирану явился, Мерос же в дорогу пустился. И принял сестру его юный супруг. Но солнце обходит уж третий свой круг, И вот он спешит в Сиракузы, Чтоб снять с поручителя узы. И хлынул невиданный ливень тогда. Уже погружает он посох В потоки на горных откосах. И вот он выходит к реке, но беда! Бурлит и на мост напирает вода, И груда обломков чугунных Гремит, исчезая в бурунах. Он бродит по берегу взад и вперед, Он смотрит в смятенье великом, Он будит безмолвие криком – Увы, над равниной бушующих вод Лишь ветер, беснуясь, гудит и ревет. Ни лодки на бурном просторе, А волны бескрайны, как море. И к Зевсу безумный подъемлет он взгляд И молит, отчаянья полный: «Смири исступленные волны! Уж полдень, часы беспощадно летят, А я обещал – лишь померкнет закат, Сегодня к царю воротиться, Иль с жизнию друг мой простится». Но тучи клубятся, и ветер жесток, И волны сшибаются люто. Бежит за минутой минута. И страх наконец в нем решимость зажег. Он смело бросается в грозный поток, Валы рассекает руками, Плывет – и услышан богами. И снова угрюмою горной тропой Идет он – и славит Зевеса. Но вдруг из дремучего леса, Держа наготове ножи пред собой, Выходят разбойники буйной толпой, И, путь преграждая пустынный, Грозит ему первый дубиной. И в вопле Мероса – смертельный испуг: «Клянусь вам, я нищ! не владею И самою жизнью своею! Оставьте мне жизнь, иль погибнет мой друг! Тут вырвал у вора дубину он вдруг, И шайка спасается в страхе, Три трупа оставив во прахе. Как жар сицилийского солнца жесток! Как ломит колени усталость! А сколько до цели осталось! «Ты силы мне дал переплыть чрез поток, Разбойников ты одолеть мне помог – Ужель до паря не дойду я И друга распнет он, ликуя!» Но что там? Средь голых и выжженных круч Внезапно журчанье он слышит... Он верить не смеет, не дышит. О, чудо! Он видит, серебряный ключ, Так чист и прозрачен, так нежно певуч, Сверкает и манит омыться, Гортань освежить и напиться. И вновь он шагает, минуя в пути Сады, и холмы, и долины. Уж тени глубоки и длинны. Два путника тропкой идут впереди. Он шаг ускоряет, чтоб их обойти, И слышит слова их: «Едва ли – Мы, верно, на казнь опоздали». Надежда и страх его сердце теснят, Летят, не идут его ноги. II вот – о, великие боги! – Пред ним Сиракузы, пылает закат, И верный привратник его Филострат, Прождавший весь день на пороге, Навстречу бежит по дороге. «Назад, господин! Если друга не спас, Хоть сам не давайся им в руки! Его повели уж на муки. Он верил, он ждал тебя с часу на час, В нем дружбы священный огонь не погас, И царь наш в ответ на глумленье Лишь гордое встретил презренье». «О, если уж поздно, и он – на кресте, И предал я друга такого, – Душа моя к смерти готова. Зато мой палач не расскажет нигде, Что друг отказался от друга в беде. Он кровью двоих насладится, Но в силе любви убедится». И гаснет закат, но уж он у ворот. И видит он крест на агоре, Голов человеческих море. Веревкою связанный, друг его ждет. И он раздвигает толпу, он идет. «Тиран! – он кричит. – Ты глумился, Но, видишь, я здесь! Я не скрылся!» И в бурю восторженный гул перерос, Друзья обнялись, и во взоре У каждого радость и горе, И нет ни единого ока без слез, И царь узнает, что вернулся Мерос, Глядит на смятенные лица, И чувство в царе шевелится. И он их велит привести перед трон, Он влажными смотрит очами: «Ваш царь побежденный пред вами. Он понял, что дружба – не призрак, не сон, И с просьбою к вам обращается он: На диво грядущим столетьям В союз ваш принять его третьим». Геро и Леандр Видишь – там, где в Дарданеллы Изумрудный, синий, белый Геллеспонта плещет вал, В блеске солнца золотого Два дворца глядят сурово Друг на друга с темных скал, Здесь от Азии Европу Отделила бездна вод, Но ни бурный вал, ни ветер Уз любви не разорвет. В сердце Геро, уязвленном Беспощадным Купидоном, Страсть к Леандру расцвела, И в ответ ей – смертной Гебе – Вспыхнул он, стрелою в небе Настигающий орла. Но меж юными сердцами Встал отцов нежданный гнев, И до срока плод волшебный Поникает, не созрев. Где, штурмуя Сест надменный, Геллеспонт громадой пенной Бьет в незыблемый утес, Дева юная сидела И, печальная, глядела На далекий Абидос. Горе! Нет моста к Леандру, Нет попутного челна, Но любовь не знает страха, И везде пройдет она. Обернувшись Ариадной, Тьмой ведет нас непроглядной, Вводит смертных в круг богов, Льва и вепря в плен ввергает И в алмазный плуг впрягает Огнедышащих быков. Даже Стикс девятикружный Не преграда ей в пути, Если тень она захочет Из Аида увести. И любовь Леандра гонит – Лишь багряный шар потонет За чертою синих вод, Лишь померкнет день враждебный, Уж туда, в приют волшебный, Смелый юноша плывет. Рассекая грудью волны, Он спешит сквозь мрак ночной К той скале, где обещаньем Светит факел смоляной. Там из плена волн студеных В плен восторгов потаенных Он любимой увлечен, И лобзаньям нет преграды, И божественной награды Полноту приемлет он. Но заря счастливца будит, И бежит, как сон, любовь, – Он из пламенных объятий В холод моря кинут вновь. Так, в безумстве нег запретных, Тридцать солнц прошло заветных, – По таинственным кругам Пронеслись они короче Той блаженной брачной ночи, Что завидна и богам. О, лишь тот изведал счастье, Кто срывал небесный плод В темных безднах преисподней, Над пучиной адских вод. Непрестанно в звездном хоре Мчится Веспер вслед Авроре, Но счастливцам недосуг Сожалеть, что роща вянет, Что зима вот-вот нагрянет В колеснице снежных вьюг, Нет, их радует, что рано Скучный день уходит прочь, И не помнят, чем грозит им Возрастающая ночь. Вот сентябрь под зодиаком Свет уравнивает с мраком. На утесе дева ждет, Смотрит вдаль, где кони Феба Вниз бегут по склону неба, Завершая свой полет. Неподвижен сонный воздух, Точно зеркало чиста, Синий купол отражая, Дремлет ясная вода. Там, сверкнув на миг спиною Над серебряной волною, Резвый выпрыгнул дельфин. Там Фетиды влажной стая Роем черных стрел, играя, Из немых всплыла глубин. Тайна страсти нежной зрима Им одним из темных вод, Но безмолвием Геката Наказала рыбий род. Глядя в синий мрак пролива, Дева ласково и льстиво Молвит: «О прекрасный бог! Ты ль обманчив, ты ль неверен? Нет, и лжив и лицемерен, Кто тебя ославить мог. Безучастны только люди, И жесток лишь мой отец, Ты же, кроткий, облегчаешь Горе любящих сердец. Безутешна, одинока, Отцвела бы я до срока, Дни влача, как в тяжком сне. Но твоя святая сила Без моста и без ветрила Мчит любимого ко мне. Страшны мглы твоей глубины, Грозен шум твоих валов, Но отваге ты покорен, Ты любви помочь готов. Ибо сам во время оно Стал ты жертвой Купидона – В час, как, бросив отчий дом, Увлекая брата смело, Поплыла в Колхиду Гелла На баране золотом. Вспыхнув страстью, в блеске бури Ты восстал из недр, о бог, II красавицу в пучину С пышнорунного совлек. Там живет богиня с богом, Тайный грот избрав чертогом, В глуби волн бессмертной став, Челн хранит рукой незримой И, добра к любви гонимой, Твой смиряет буйный нрав. Гелла! Светлая богиня! Я пришла к тебе с мольбой. Приведи и ныне друга Той же зыбкою тропой». С неба сходит вечер мглистый. Геро факел свой смолистый Зажигает на скале, Чтоб звездою путеводной По равнине волн холодной Вел он милого во мгле. Но темнеет, пенясь, море, Ветра свист и гром вдали. Звезды кроткие погасли, Небо тучи облегли. Ночь идет. Завесой темной Хлынул дождь на Понт огромный. Грозовым взмахнув крылом, С гор, из дикого провала, Буря вырвалась, взыграла, – Трепет молний, блеск и гром. Вихрь сверлит, буравит волны, – Черным зевом глубина, Точно бездна преисподней, Разверзается до дна. Геро плачет: «Горе, горе! Успокой, Кронион, море! О, мой рок! Не я ль виной? Мне, безумной, вняли боги, Если в гибельной дороге С бурей бьется милый мой. Птицы, вскормленные морем, На земле приют нашли. Не боящиеся ветра В бухты скрылись корабли. Только мой Леандр и ныне, Знаю, вверился пучине, Ибо сам в блаженный час, Мощным богом вдохновенный, Он мне дал обет священный, И лишь смерть разделит нас. В этот миг – о, сжальтесь, Оры, – Обессиленный борьбой, Он в последний раз, быть может, Небо видит над собой. Понт! Свирепая пучина! Твой лазурный блеск – личина: Ты неверен, ты жесток! Ты его, коварства полный, В притаившиеся волны Лживой ясностью завлек. И теперь, вдали от брега, Беззащитного пловца Всеми ужасами гонишь К неизбежности конца». Страшно бешенство стихии! Ходят горы водяные, Бьют в береговую твердь. Горе, горе! Час недобрый! И корабль дубоворебрый Здесь нашел бы только смерть. Буря погашает факел, Рвет спасительную нить. Страшно быть в открытом море, Страшно к берегу подплыть! У великой Афродиты Молит скорбная защиты Для отважного пловца, – Ветру в дар заклать клянется, Если милый к ней вернется, Златорогого тельца. Молит всех богов небесных, Всех богинь подводной мглы Лить смягчающее масло На бурлящие валы. «Помоги моей кручине, Вновь рожденная в пучине, Левкотея, встань из вод! Кинь Леандру покрывало, Как не раз его кидала Жертвам бурных непогод, – Чтоб, его священной ткани Силой тайною храним, Утопающий из бездны Выплыл жив и невредим!» И смолкает грохот бури. В распахнувшейся лазури Кони Эос мчатся ввысь. Вновь на зеркало похоже, Дремлет море в древнем ложе, Скалы блестками зажглись, И, шурша о берег мягко, Волны к острову бегут – И ласкаясь, и играя, Тело мертвое влекут. Это он – и бездыханный, Верен ей, своей желанной. Видит хладный труп она И стоит, как неживая, Ни слезинки не роняя, Неподвижна и бледна. Смотрит в небо, смотрит в море, На обрывы черных скал, И в лице бескровном пламень Благородный заиграл. «Я постигла волю рока. Неизбежно и жестоко Равновесье бытия. Рано сниду в мрак могилы, Но хвалю благие силы, Ибо счастье знала я. Юной жрицей, о Венера, Я вошла в твой гордый храм И, как радостную жертву, Ныне жизнь тебе отдам». И она, светла, как прежде, В белой взвившейся одежде С башни кинулась в провал, И в объятия стихии Принял бог тела святые И приют им вечный дал. И, безгневный, примиренный, Вновь во славу бытию Из великой светлой урны Льет он вечную струю. Бой с драконом Шумит Родос. Куда идет, Куда торопится народ? Пожар ли? Ждут ли сарацина? Людская катится лавина К той части города, куда В броне, блестящей, как звезда, Верхом прекрасный рыцарь мчится. За ним чудовище влачится, – О, страх! – крылатый змей на вид, Но крокодильи пасть и шея. И весь народ, дивясь, глядит То на героя, то на змея. И слышен гул со всех сторон: «Смотрите, вот он, вот дракон, Губитель пастухов и стада! Вот рыцарь, поразивший гада! Не раз ходили смельчаки Изведать мощь своей руки, – Их смерть была исходом боя. Ликуй, Родос, восславь героя!» И толпы шумные текут В иоаннитскую обитель, Где братьев на совет и суд Созвал их брат и повелитель. Но рыцарь спешился, и вот Он пред владыкой предстает. Толпа в веселии великом Еще гремит хвалебным кликом. Он речь повел – и каждый смолк. «Я рыцарский исполнил долг. Дракон, страну державший в страхе, Пред вами здесь, в крови и прахе. Не страшны горы пастухам, Не страшно пахарю в долине, И пилигримы в божий храм Без страха пусть идут отныне». Но прерывает князь его: «Твое законно торжество, Ты смел и тверд, ты сердцем воин И званья рыцаря достоин. Но если рыцарь ты Христов И носишь крест, ответь, каков Твой первый долг». Толпа, в молчанье Бледнеет, затаив дыханье, А тот зарделся, но в ответ, Склонясь, ответствует без страха: «Покорность – первый наш обет, Святой для воина-монаха». «Его презрел ты, – молвит князь, – С отродьем сатаны сразясь. Мой сын, ты вопреки запрету Замыслил дерзко битву эту». «Суди ж, – ответил смело тот, – Ты знаешь мысли тайный ход. Но верь, поднявшись на дракона, Я блюл и смысл и дух закона. Не в самомнении слепом Я шел с чудовищем сразиться. В союз с коварством и умом Вступила тут моя десница. Цвет нашей веры пресвятой, Пять лучших рыцарей чредой В бою сгубила их отвага, И был бы Ордену во благо Закон твой, отче. Но мой дух К веленьям разума был глух. Им жажда подвига владела. Во сне, стряхнув оковы тела, Он мчался в бой. Но вот заря – И вновь бессилье, вновь мученье. И, смелым замыслом горя, Я принял тайное решенье. Я рассуждал в тиши ночей: В чем гордость юных, честь мужей И чем герои взяли право, Чтобы о них гремела слава, Чтоб их почтил в дали веков Слепой язычник, как богов? Не пользой дел своих? Не тем ли, Что очищал родные земли От всякой нечисти их меч, – За благо общее радея, Главу Медузы мог отсечь И льва сразить в лесах Немея? Так что ж, иль правый меч Христов Лишь сарацин разить готов, Лишь верных ложному кумиру? Нет, во спасенье послан миру, Он от безвинных отведет Всех бед и всех несчастий гнет. Но, чтоб удача с ним дружила, Должна призвать коварство сила! Так я мечтал, мой гнев дразня, И след искал к жилищу гада. И бог прозренье влил в меня: Я понял, что мне делать надо, И я сказал тебе, склонясь: Душа в отчизну повлеклась! Ты внял просящему, и вскоре Счастливо пересек я море. Сойдя на брег родной, тотчас Я дал ваятелю заказ. И, с описаньями согласный, Им зверь был вылеплен ужасный: Его на шесть коротких ног Природа глыбой взгромоздила. На брюхе кожа – точно рог, Спина – как панцирь крокодила. Дугой сгибает шею гад. Разверстый шире адских врат, Чернеет зев, и дышит смрадно, И жертвы ждет, оскалясь жадно. В нем три ряда зубов видны. Как меч, из черной глубины Торчит язык. Как две зарницы, Сверкают узкие зеницы Свирепых глаз. Его спина Змеей кончается двуглавой. Семью обхватами она Коня сжимает в ком кровавый. Таким дракона сделал он, Покрасил в мерзкий серый тон, И тот живым казался гадом, Что вспоен кровью, вскормлен ядом. Тогда, признав, что он готов, Я выбрал двух громадных псов, Чья лютость, быстрота и сила И зубра дикого страшила. Я начал распалять их злость, Учил, мой голос разумея, Хватать, как брошенную кость, И грызть изображенье змея. Учил их мяса рвать куски, Вонзив туда свои клыки, Где, голы, розовы и гадки, Под грудью вздулись жира складки. А сам, доспехами звеня, Я сел на мощного коня Арабской благородной крови, Хлестнул и, с пикой наготове, Взъярив коня ударом шпор, Помчался прямо на дракона И сталью прободал в упор Его чудовищное лоно. Собаки жалобно визжат. Конь, дыбясь, пятится назад, Грызет мундштук, покрытый пеной. Но, верен мысли сокровенной, Я был упорен, и когда Трех лун сменилась череда, Ни пес, ни конь уж не робели. Тогда, на быстрой каравелле, Я совершил возвратный путь. И здесь три дня, не знав покоя, Не мысля кратким сном уснуть, Искал назначенного боя. О, как моя вскипела кровь, Когда страну узрел я вновь! Лишь день назад под горным склоном Пастух проглочен был драконом. И, мщенья жаждою палим, Решив скорей покончить с ним, Я известил лишь слуг надежных, Я только меч проверил в ножнах, Я кликнул псов, взнуздал коня И смело, тайною тропою, Чтоб не увидели меня, Помчался в ночь навстречу бою. Отец, ты знаешь церковь ту, Что зодчий взнес на высоту, Как бы с самой природой споря. Оттуда видно все до моря. Та церковь хоть мала, бедна, Но в ней святыня есть одна, – С младенцем пресвятая дева И три царя у двери хлева. И трижды тридцать ступеней Прорублены в скале отвесной. Но пилигрим, взойдя по ней, Вкусит от благости небесной, А под скалой – в пещеру вход. Кругом трава не прорастет, Лишь мох сырой по косогору. Свет не заглянет в эту нору. И в той норе живет дракон – Людей подстерегает он. Как змий в воротах преисподней, Он бдит под церковью господней, И лишь пройдет там пилигрим, Неся мольбы Христу и Деве, Дракон кидается за ним, И жертва гибнет в черном зеве. И прежде, чем затеять бой, Я поднялся в тот храм святой. Я причастился благодати, Святому помолясь дитяти. Я перед ликом вышних сил Доспех мой верный освятил И, взяв копье рукою правой, Пошел – за смертью или славой. И слуги встретили меня. Я задержался миг, не боле, Простился, прыгнул на коня И вверил душу божьей воле. Мой путь привел на ровный луг, И псы насторожились вдруг, А конь заржал, попятясь боком, Храпит, кося багровым оком, И стал. Так вот он, наконец! Клубком чудовищных колец Лежит, на солнце брюхо грея. Псы молча кинулись на змея, Но завизжали – и назад, Когда, зевнув с протяжным воем, Дохнул вонючим ветром гад И морды им обжег обоим. Но тут мой окрик, мой укор Вернул, удвоил их напор. А сам я в шею твари гнусной Метнул копье рукой искусной. Как трость, от панциря ее, Звеня, отпрянуло копье. Я целюсь вновь. Но конь пугливо Храпит и рвется – дыбом грива! Не слышит ни узды, ни шпор И, повернув к дракону задом, Несется прочь во весь опор... И был бы я настигнут гадом! Тогда я спрыгнул, я извлек Дамасский добрый мой клинок. Удар! Удар! Всей силой в брюхо! Но только звякал меч мой глухо. И вдруг упал я на песок, Хвостом, как бурей, сбитый с ног. И зев оскалился громадный, Язык вытягивая смрадный. Но тут вцепились оба пса В прогал, где обнажалось тело, И змей на брюхе поднялся, От боли взвыв остервенело. И прежде, чем он скинул псов, Я снова к бою был готов. Я в тот же промежуток голый Под сердце свой булат тяжелый Вогнал уверенной рукой. Кровь черной хлынула рекой, И рухнул змей, громадой тела Подмяв меня. И потемнело Передо мною все вокруг. Когда ж упал тот полог темный, Очнувшись, я увидел слуг И в луже крови – труп огромный». И долго сдержанный восторг Из тысяч уст хвалу исторг, Чуть кончил он повествованье. И в каждом сердце ликованье, И жарких слез глаза полны. И даже Ордена сыны Герою требуют награды. И с окон, с крыш, из-за ограды Глядит ликующий народ И славит рыцаря младого. Но пастырь Ордена встает И смолкнуть всем велит сурово. «Ты поднял меч, – так молвит он, – И гад неистовый сражен. Но сердце предал ты гордыне. Ты для народа бог отныне, Но знай: для Ордена ты враг. Твоей души глубокий мрак Дракона худшего лелеет. Тот змий раздор и гибель сеет, Не признает святых препон Порядка и повиновенья, И в бездну мир ввергает он Мятежной пагубой сомненья. И мамелюк в сраженье тверд. Христианин смиреньем горд. Там, где являл свое величье Господь, приняв раба обличье, Там, на земле святых могил, Основан Орден этот был, И воли самообузданье В свое приял он основанье. А ты был гордостью ведом, Тебя влекла мирская слава. Так прочь! Не входит в божий дом Отступник божьего устава!» Он рек. И суд неправый тот С великим воплем внял народ. И братья молят о пощаде. Но рыцарь, с кротостью во взгляде, Отдав вождю земной поклон, Одежды снял и вышел вон Под негодующие клики. И вот светлеет взор владыки. Он молвит: «Сын мой! Этот бой Труднейшим был. Вернись в обитель! И да украсит крест святой Твою покорности, победитель!» Пегас в ярме На конные торги в местечко Хаймаркет, Где продавали всё – и жен законных даже, – Изголодавшийся поэт Привел Пегаса для продажи. Нетерпеливый гиппогриф И ржет и пляшет, на дыбы вставая, И все кругом дивятся, рот раскрыв: «Какой отличный конь! И масть какая! Вот крылья б только снять! Такого, брат, конька Хоть с фонарем тогда ищи по белу свету! Порода, говоришь, редка? А вдруг под облака он занесет карету? Нет, лучше придержать монету!» Но, глядь, подходит откупщик. «Хоть крылья, – молвит он, – конечно, портят дело, Но их обрезать можно смело. Мне коновал спроворит это вмиг, И станет конь как конь. Пять золотых, приятель!» Обрадован, что все ж нашелся покупатель, Тот молвит: «По рукам!» И вот С довольным видом Ганс коня домой ведет. Ни дать ни взять тяжеловоз, Крылатый конь впряжен в телегу. Он рвется, он взлететь пытается с разбегу И в благородном гневе под откос Швыряет и хозяина и воз. «Добро! – подумал Ганс. – Такой скакун бедовый Не может воз тащить. Но ничего! Я завтра еду на почтовой, Попробую туда запрячь его. Проказник мне трех кляч заменит разом. Л там, глядишь, войдет он в разум». Сперва пошло на лад. От груза облегчен, Всю четверню взбодрил рысак неосторожный. Карета мчит стрелой. Но вдруг забылся он И, не приучен бить копытом прах дорожный, Воззрился ввысь, покинул колею И, вновь являя мощь свою, Понес через луга, ручьи, болота, нивы. Все лошади взбесились тут. Не помогают ни узда, ни кнут. От страха путники чуть живы. Спустилась ночь, и вот уже во тьме Карета стала на крутом холме. «Ну, – размышляет Ганс, – не знал же я заботы! Как видно, дурня тянет в небеса. Чтоб он забыл свои полеты, Вперед поменьше класть ему овса, Зато побольше дать работы!» Сказал – и сделал. Конь, лишенный корма вдруг, Стал за четыре дня худее старой клячи. Наш Ганс ликует, радуясь удаче: «Теперь летать не станешь, друг! Впрягите-ка его с быком сильнейшим в плуг!» И вот, позорной обреченный доле, Крылатый конь с быком выходит в поле. Напрасно землю бьет копытом гриф, Напрасно рвется ввысь, в простор родного неба. Сосед его бредет, рога склонив, И гнется под ярмом скакун могучий Феба. И, вырваться не в силах из оков, Лишь обломав бесплодно крылья, На землю падает – он! вскормленник богов! – И корчится от боли и бессилья. «Проклятый зверь! – прорвало Ганса вдруг. И он, ругаясь, бьет невиданную лошадь. – Его не запряжешь и в плуг! Сумел меня мошенник облапошить!» Пока он бьет коня, тропинкою крутой С горы спускается красавец молодой, На цитре весело играя. Открытый взор сияет добротой, В кудрях блестит повязка золотая, И радостен певучей цитры звон. «Приятель! Что ж без толку злиться? – Крестьянину с улыбкой молвит о н. – Ты родом из каких сторон? Где ты видел, чтоб вол и птица В одной упряжке стали бы трудиться? Доверь мне своего коня, Он чудеса покажет у меня». И конь был отпряжен тотчас. С улыбкой юноша взлетел ему на спину. И руку мастера почувствовал Пегас И, молнии метнув из глаз, Веселым ржанием ответил господину. Где жалкий пленник? Он, как встарь, Могучий дух, он бог, он царь! Он прянул, как на крыльях бури, Стрелой взвился в безоблачный простор И вмиг, опережая взор, Исчез в сияющей лазури. Прошение Мой дар иссяк. В мозгу свинец, И докурилась трубка. Желудок пуст. О, мой творец, Как вдохновенье хрупко! Перо скребет и на листе Кроит стихи без чувства. Где взять в сердечной пустоте Священный жар искусства? Как высечь мерзнущей рукой Стих из огня и света? О Феб, ты враг стряпни такой, Приди, согрей поэта! За дверью стирка. В сотый раз Кухарка заворчала. А я – меня зовет Пегас К садам Эскуриала. В Мадрид, мой конь! И вот Мадрид. О, смелых дум свобода! Дворец Филиппа мне открыт. Я спешился у входа. Иду и вижу: там, вдали, Моей мечты созданье, Спешит принцесса Эболи На тайное свиданье. Спешит в объятья принца пасть, Блаженство предвкушая. В ее глазах восторг и страсть, В его – печаль немая. Уже триумф пьянит ее, Уже он ей в угоду... О, дьявол! Мокрое белье Вдруг шлепается в воду! И нет блистательного сна, И скрыла тьма принцессу. Мой бог! Пусть пишет сатана Во время стирки пьесу! Иоганн Вольфганг Гете 1749–1832 Посвящение Взошла заря. Чуть слышно прозвучали Ее шаги, смутив мой легкий сон. Я пробудился на своем привале И вышел в горы, бодр и освежен. Мои глаза любовно созерцали Цветы в росе, прозрачный небосклон, – И снова дня ликующая сила, Мир обновив, мне сердце обновила. Я в гору шел, а вкруг нее змеился И медленно всходил туман густой. Он плыл, он колыхался и клубился, Он трепетал, крылатый, надо мной, И кругозор сияющий затмился Угрюмой и тяжелой пеленой. Стесненный пара волнами седыми, Я в сумрак погружался вместе с ними. Но вдруг туман блеснул дрожащим светом, Скользя и тая вкруг лесистых круч. Пары редели в воздухе согретом. Как жадно солнца ждал я из-за туч! Каким встречать готовился приветом Вдвойне прекрасный после мрака луч! С туманом долго бой вело светило, Вдруг ярким блеском взор мой ослепило. А грудь стеснило бурное волненье, «Открой глаза», – шепнуло что-то мне. Я поднял взор, но только на мгновенье: Все полыхало, мир тонул в огне. Но там, на тучах, – явь или виденье? – Богиня мне предстала в вышине. Она парила в светлом ореоле. Такой красы я не видал дотоле. «Ты узнаешь? – И ласково звучали Ее слова. – Ты узнаешь, поэт, Кому вверял ты все свои печали, Чей пил бальзам во дни сердечных бед? Я та, с кем боги жизнь твою связали, Кого ты чтишь и любишь с юных лет, Кому в восторге детском умиленья Открыл ты сердца первые томленья». «Да! – вскрикнул я и преклонил колени. – Давно в мечтах твой образ был со мной. Во дни опустошающих волнений Ты мне дарила бодрость и покой, И в знойный день ты шла, как добрый гений, Колебля опахало надо мной. Мне все дано тобой, благословенной, И вне тебя – нет счастья во вселенной! Не названа по имени ты мною, Хоть каждый мнит, что зрима ты ему, Что он твоею шествует тропою И свету сопричастен твоему, С пути сбиваясь, я дружил с толпою, Тебя познать дано мне одному, И одному, таясь пред чуждым оком, Твой пить нектар в блаженстве одиноком». Богиня усмехнулась: «Ты не прав! Так стоит ли являться мне пред вами! Едва ты воле подчинил свой нрав, Едва взглянул прозревшими глазами – Уже в мечтах сверхчеловеком став, Забыв свой долг, ты мнишь других глупцами. Но чем возвышен ты над остальными? Познай себя – и в мире будешь с ними». «Прости, – я вскрикнул, – я добра хотел! Не для того ль глаза мои прозрели? Прекрасный дар ты мне дала в удел, И, радостный, иду я к высшей цели. Я драгоценным кладом овладел, И я хочу, чтоб люди им владели. Зачем так страстно я искал пути, Коль не дано мне братьев повести!» Был взор богини полон снисхожденья, Он взвешивал, казалось, в этот миг И правоту мою, и заблужденья. Но вдруг улыбкой дрогнул светлый лик, И дивного исполнясь дерзновенья, Мой дух восторги новые постиг. Доверчивый, безмолвный, благодарный, Я поднял взор на образ лучезарный. Тогда рука богини протянулась – Как бы туман хотела снять она. И – чудо! – мгла в ее руках свернулась, Душистый пар свился, как пелена, И предо мною небо распахнулось, И вновь долин открылась глубина, А на руке богини трепетало Прозрачное, как дымка, покрывало. «Пускай ты слаб, – она мне говорила, – Твой дух горит добра живым огнем. Прими ж мой дар! Лучей полдневных сила И аромат лесного утра в нем. Он твой, поэт! Высокие светила Тебя вели извилистым путем, Чтоб Истина счастливцу даровала Поэзии святое покрывало. И если ты иль друг твой жаждет тени В полдневный зной, – мой дар ты в воздух взвей, И в грудь вольется аромат растений, Прохлада вечереющих полей, Утихнет скорбь юдольных треволнений, И день блеснет, и станет ночь светлей, Разгонит солнце душные туманы, И ты забудешь боль сердечной раны». Приди же, друг, под бременем идущий, Придите все, кто знает жизни гнет, Отныне вам идти зеленой кущей, Отныне ваш и цвет, и сочный плод. Плечом к плечу мы встретим день грядущий, – Так будем жить и так пойдем вперед. И пусть потомок наш возвеселится, Узнав, что дружба и за гробом длится. Фредерике Брион Проснись, восток белеет! Как яркий день, Твой взор, блеснув, развеет Ночную тень. Вот птицы зазвенели. Будя сестер, Поет: «Вставай с постели!» – Их звонкий хор. Ты слов не держишь, видно, Я встал давно. Проснись же, как не стыдно! Открой окно! Чу! Смолкла Филомела. Всю ночь грустя, Она смутить не смела Твой сон, дитя. Но рдеет на востоке. Вот луч зари Твои целует щеки, О, посмотри! Нет, ты прильнула к спящей Сестре твоей И грезишь вновь – тем слаще, Чем день светлей. Ты спишь. Гляжу украдкой, Как тих твой сон. Слезой печали сладкой Я ослеплен. И кто пройдет спокойный, Кто будет глух? Чей может недостойный Не дрогнуть дух? Ты спишь. Иль нежной снится – О, счастье! – тот, Кто здесь, бродя, томится И муз клянет, Краснеет и бледнеет, Ночей не спит, Чья кровь то леденеет, То вновь кипит. Ты проспала признанья, Плач соловья, Так слушай в наказанье: Вот песнь моя! Я вырвался из плена Назревших строф. Красавица! Камена! Услышь мой зов! Новая любовь, новая жизнь Сердце, сердце, что случилось, Что смутило жизнь твою? Жизнью новой ты забилось, Я тебя не узнаю. Все прошло, чем ты пылало, Что любило и желало, Весь покой, любовь к труду. Как попало ты в беду? Беспредельной, мощной силой Этой юной красоты, Этой женственностью милой Пленено до гроба ты. И возможна ли измена? Как бежать, уйти из плена, Волю, крылья обрести? К ней приводят все пути. Ах, смотрите, ах, спасите, Вкруг плутовки, сам не свой, На чудесной, тонкой нити Я пляшу, едва живой. Жить в плену, в волшебной клетке, Быть под башмачком кокетки, – Как такой позор снести? Ах, пусти, любовь, пусти! Белинде О, зачем влечешь меня в веселье, В роскошь людных зал? Я ли в скромной юношеской келье Радостей не знал? Как любил я лунными ночами, В мирной тишине, Грезить под скользящими лучами, Точно в полусне! Сном о счастье, чистом и глубоком, Были все мечты. И во тьме пред умиленным оком Возникала ты. Я ли тот, кто в шуме света вздорном, С чуждою толпой, Рад сидеть хоть за столом игорным, Лишь бы быть с тобой! Нет, весна не в блеске небосвода, Не в полях она. Там, где ты, мой ангел, там природа, Там, где ты – весна. На озере И жизнь, и бодрость, и покой Дыханьем вольным пью. Природа, сладко быть с тобой, Упасть на грудь твою! Колышась плавно, в лад веслу, Несет ладью вода. Ушла в заоблачную мглу Зубчатых скал гряда. * Взор мой, взор! Иль видишь снова Золотые сны былого? Снов ушедших не зови, Все и здесь полно любви. * Пьет туман рассветный Островерхие дали. Зыбью огнецветной Волны вдруг засверкали. Ветер налетевший Будит зеркало вод, И, почти созревший, К влаге клонится плод. Филина Полно петь, слезу глотая, Будто ночь длинна, скучна! Нет, красотки, тьма ночная Для веселья создана. Коль прекрасной половиной Называют жен мужья, Что прекрасней ночи длинной – Половины бытия! День лишь радости уводит, Кто же будет рад ему! Он хорош, когда уходит, В остальном он ни к чему. Но когда мерцают свечи, Озарив ночной уют, Нежен взор, шутливы речи И уста блаженство пьют. И когда за взгляд единый Ваш ревнивый пылкий друг С вами рад игре невинной Посвятить ночной досуг, И когда поет влюбленным Песню счастья соловей, А печальным, разделенным Горе слышится и в ней, – О, тогда клянем недаром Мы часов бегущих бой, Что двенадцатым ударом Возвещает нам покой! Пусть же всех, кто днем скучали, Утешает мысль одна: Если полон день печали, То веселья ночь полна. Свидание и разлука Пора! Призыву сердца внемлю, И на коня! Во весь опор! Уже баюкал вечер землю И ночь легла на склоны гор. Уже, клубясь и набегая, Туман одел гигантский вяз, И сквозь деревья тьма ночная Глядела сотней черных глаз. А в небе сумрачном и мглистом Луна печальная плыла, И ветер несся с диким свистом, Взметнув широкие крыла. Чудовищ сонмы ночь таила, Но вдаль звала меня любовь, В груди росла такая сила, Таким огнем пылала кровь! И, вся сияя, ты явилась, Безмолвной нежностью дыша. Как сердце трепетно забилось, Как переполнилась душа! Рассвет играл на тучках алых, Чуть озарил тебя восток. Любовь и нежность – как я ждал их, Но чем я заслужить их мог! И первый луч блеснул, ликуя, – Увы! то был разлуки час. О, сладкий трепет поцелуя, О, грустный блеск любимых глаз! Я шел, а ты – ты близ дороги Стояла, волю дав слезам. Как счастлив, кто любим! Но, боги, Как счастлив тот, кто любит сам! Ноябрьская песня Стрелку, – но не тому, кто сед, Кто правит солнца бег, Скрывает мглой небесный свет И шлет нам первый снег, – Но мальчику восторг певца! Почтим того хвалой, Кто ранит нежные сердца Волшебною стрелой. Он согревает мрак ночей Порою зимних вьюг, Дарит нам преданных друзей И сладостных подруг. Да вознесем его к звездам, Чтоб вечно меж светил Он, светлый, улыбаясь нам, Всходил и заходил. Томление Что стало со мною, Что в сердце моем? Как душен, как тесен Мой угол, мой дом! В просторы, где тучи, Где ветер всегда, – Туда, на вершины, Скорее туда! Вон черные птицы По небу летят. О птицы, я с вами, Ваш спутник, ваш брат! Под нами утесы, Под нами стена. Ее ли там вижу? Она здесь, она! Идет и мечтает. За нею, с небес, Я птицей поющей - В раскидистый лес. Идет и внимает Лесной тишине: «Как сладко поет он, Поет обо мне!» Вечернее солнце Холмы золотит. Прекрасная дева На солнце глядит. Идет над рекою, Зеленым лужком. Пропала тропинка, Стемнело кругом. Но тут я звездою Блеснул в вышине. «Что светит так ярко, Так ласково мне?» Ты на небо смотришь, - О, радостный миг! К ногам твоим пал я, Я счастья достиг! * ИЗ «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОГО ДИВАНА» ИЗ «КНИГИ ПЕВЦА. МОГАННИ-НАМЕ» Гиджра Север, Запад, Юг в развале, Пали троны, царства пали. На Восток отправься дальный Воздух пить патриархальный, В край вина, любви и песни, К новой жизни там воскресни. Там, наставленный пророком, Возвратись душой к истокам, В мир, где ясным, мудрым слогом Смертный вел беседу с богом, Обретал без мук, без боли Свет небес в земном глаголе. В мир, где предкам уваженье, Где чужое – в небреженье, Где просторно вере правой, Тесно мудрости лукавой И где слово вечно ново, Ибо устным было слово. Пастухом броди с отарой, Освежайся под чинарой, Караван води песками С кофе, мускусом, шелками, По безводью да по зною Непроезжей стороною. Где тропа тесней, отвесней, Разгони тревогу песней, Грянь с верблюда что есть мочи Стих Гафиза в пропасть ночи, Чтобы звезды задрожали, Чтоб разбойники бежали. На пиру и в бане снова Ты Гафиза пой святого, Угадав за покрывалом Рот, алеющий кораллом, И склоняя к неге страстной Сердце гурии прекрасной. Прочь, завистник, прочь, хулитель, Ибо здесь певца обитель, Ибо эта песнь живая Возлетит к преддверьям рая, Там тихонько постучится И к бессмертью приобщится. Четыре блага Арабам подарил Аллах Четыре высших блага, Да не иссякнут в их сердцах Веселье и отвага. Тюрбан – для воина пустынь Он всех корон дороже. Шатер – в пути его раскинь, И всюду кров и ложе. Булат, который тверже стен, Прочней утесов горных, И песню, что уводит в плен Красавиц непокорных. Умел я песнями цветы Срывать с их пестрой шали, И жены, строги и чисты, Мне верность соблюдали. Теперь – на стол и цвет и плод! Для пира все готово, А тем, кто поученья ждет – И свеженькое слово. Стихии Чем должна питаться песня, В чем стихов должна быть сила, Чтоб внимали им поэты И толпа их затвердила? Призовем любовь сначала, Чтоб любовью песнь дышала, Чтобы сладостно звучала, Слух и сердце восхищала. Дальше вспомним звон стаканов И рубин вина багряный, – Кто счастливей в целом мире, Чем влюбленный или пьяный? Дальше – так учили деды – Вспомним трубный голос боя, Ибо в зареве победы, Словно бога, чтут героя. Наконец, мы сердцем страстным, Видя зло, вознегодуем, Ибо дружим мы с прекрасным, А с уродливым враждуем. Слей четыре эти силы В первобытной их природе – И Гафизу ты подобен, И бессмертен ты в народе. Сотворение и одухотворение Адама вылепил господь Из глины, сделал чудо! Была земля, а стала плоть – Бездушная покуда. Но вдунул в ноздри Элохим Ей дух – всему начало, И чем-то стал чурбан живым: Оно уже чихало. Но и чурбан с душой пока Он был получурбаном. Тут Ной наставил простака: Снабдил его стаканом. Хлебнул облом – и хоть летай! Пошло тепло по коже. Вот так же всходит каравай, Едва взыграли дрожжи. И так же твой, Гафиз, полет, Пример твой дерзновенный, Под звон стаканов нас ведет Во храм творца Вселенной. В настоящем – прошлое В блеске утра сад росистый, Роз и лилий ароматы, А подальше – старый, мшистый, Тихо спит утес косматый. Лес приветливый у склона, Замок ветхий на вершине, И вершина примиренно Наклоняется к долине. Пахнет так, как там, где юны Были мы, где мы любили, Где моей кифары струны Зорь соперницами были, Где под песню птицелова Чаща тихо шелестела, Где, свежо и бодро снова, Сердце брало, что хотело. Лес не старится с годами, Но и вы не старьтесь тоже, Дайте жизнью вслед за вами Насладиться молодежи. И никто вас бранным словом «Себялюбец» не обидит. В каждом возрасте дано вам То, в чем мудрый счастье видит, День угас, но с этой верой Я несу Гафиза людям: Радость жизни полной мерой С жизнелюбом пить мы будем. Грубо, но дельно Да, поэзия дерзка! Что ж бранить меня? Утоляйте жар, пока Кровь полна огня. Если б горек был и мне Жизни каждый час, Я бы скромным стал вдвойне, Поскромнее вас. Вот с девицей, это да, Здесь уж не обидь! Мил и скромен будь всегда, Грубых – как любить? Скромно слушай мудреца, Ибо знает он От начала до конца Тайны всех времен. Да, поэзия дерзка, Балуй с ней вдвоем, А подружку иль дружка После позовем. Ты! монах без клобука! Что ты все грозишь? Кокнуть можешь старика, Скромным сделать – шиш! Ведь от вас, от пошлых фраз – Все вы пошляки! – Удирал я сотни раз, Портя башмаки, Если мелют жернова, Мастер, выдай стих! Кто поймет твои слова – Не осудит их. Песнь и статуя Пусть из глины грек творит, Движим озареньем, И восторгами горит Пред своим твореньем – Нам глядеть милей в Евфрат, В водобег могучий, И рукою поводить В глубине текучей. Если грудь огнем полна, Будет песня спета, Примет форму и волна Под рукой поэта. Жизнь во всем Пыль – стихия, над которой Торжествует стих Гафизов, Ибо в песнях о любимой Он бросает праху вызов. Ибо пыль с ее порога Лучше всех ковров оттуда, Где коленями их чистят Прихлебатели Махмуда. Вкруг ее ограды ветер Пыль взметает неуклюже, Но, пожалуй, даже роза, Даже мускус пахнет хуже, Пыль на Севере была мне Неприятна, скажем честно. Но теперь на жарком Юге, Понял я что пыль прелестна. Как я счастлив был, чуть скрипнут Те заветные воротца! Исцели, гроза, мне сердце, Дай с невзгодой побороться! Если грянет гром и небо Опояшет блеск летучий, Дождь прибьет, по крайней мере, Пыль, клубящуюся тучей, И проснется жизнь, и в недрах Вспыхнет зиждущая сила, Чтобы все цвело и пахло, Что Земля в себе носила. ИЗ «КНИГИ ГАФИЗА. ГАФИЗ-НAME» Безграничный Не знаешь ты конца и тем велик. Как вечность, без начала ты возник. Твой стих, как небо, в круговом движенье. Конец его – начала отраженье, II что в начале и в конце дано, То в середине вновь заключено. Таинственно кипит, не остывая, В тебе струя поэзии живая. Для поцелуев создан рот, Из чистой груди песня льется, Вина всечасно горло ждет, Для блага ближних сердце бьется. И что мне целый мир? Судьбою Тебе да уподоблюсь я! Гафиз, мы будем как друзья! Сквозь боль и радость бытия, Любовь и хмель пройду с тобою, И в этом счастье – жизнь моя. Но будь неповторимо, Слово, Ты старше нас, ты вечно ново! Еще Гафизу Нет, Гафиз, с тобой сравниться – Где уж нам! Вьется парус, точно птица, Мчится по волнам. Быстрый, легкий, он стремится Ровно, в лад рулю. Если ж буря разразится - Горе кораблю! Огнекрылою орлицей Взмыла песнь твоя. Море в пламень обратится, - Не сгорю ли я? Ну, а вдруг да расхрабриться? Дай-ка, стану смел! Сам я в солнечной столице Жил, любил и пел. ИЗ «КНИГИ ТИМУРА. ТИМУР-НАМЕ» Зулейке Чтоб игрою благовоний Твой порадовать досуг, Гибнут сотни роз в бутоне, Проходя горнило мук За флакон благоуханий, Что как твой мизинец, мал, Целый мир существований Безымянной жертвой пал, - Сотни жизней, что дышали Полнотою бытия И, волнуясь, предвкушали Сладость песен соловья. Но не плачь, из их печали Мы веселье извлечем. Разве тысячи не пали Под Тимуровым мечом! ИЗ «КНИГИ ЗУЛЕЙКИ. ЗУЛЕЙКА-НАМЕ» Приглашение Не шагай быстрей, чем Время. Дня грядущего едва ли Хуже день, что скрылся, минув. Здесь, где Радость мы познали, Здесь, где я, весь мир отринув, Мир обрел, порвав со всеми, Будем оба как в пустыне. Завтра – завтра, нынче – ныне, То, что было, то, что будет, Вдаль не гонит, вспять не нудит, Мне ж тебя единой надо, Ты – целенье, ты – отрада. * * * Хатем Создает воров не случай, Сам он вор, и вор – вдвойне: Он украл доныне жгучий След любви, что тлел во мне. Все, чем дни мои богаты, Отдал он тебе «полна. Возврати хоть часть утраты, Стал я нищ, и жизнь бедна. Но уже алмазом взгляда Приняла ты все мольбы, И, твоим объятьям радо, Сердце новой ждет судьбы. Зулeйкa Все мне дал ты нежным взором, Мне ли случай осуждать! Если вдруг он вышел вором, Эта кража – благодать. Но ведь сам, без всякой кражи, Стал ты мой, как я – твоя. Мне приятней было б даже, Если б вором вышла я. Дар твой щедр и смел обычай, Но и в выигрыше ты: Все ты взял – покой девичий, Жар душевной полноты. Полюбил – и стал богатым. Ты ли нищий? Не шути! Если ты со мною, Хатем, Счастья выше не найти. * * * Возможно ль? Мы вместе – и это не ложно? Я слышу, со мной беседует бог. Но роза всегда и везде невозможна, Никто соловья постигнуть не мог. * * * Зулeйка Плыл мой челн – и в глубь Евфрата Соскользнуло с пальца вдруг То кольцо, что мне когда-то Подарил мой нежный друг. Это снилось мне. Багряный Пронизал листву рассвет. Истолкуй мой сон туманный Ты, Провидец, ты, Поэт! Хатем Так и быть, я истолкую. Помнишь, быль я рассказал, Как кольцо в лазурь морскую Дож Венеции бросал. А твое – тот сон чудесен! – Пусть Евфрат хранит на дне. Сколько тысяч дивных песен Эта быль навеет мне! Я ходил путем песчаным Из Дамаска в Индостан, Чтобы с новым караваном Добрести до новых стран. Ты же дух мой обручила С духом этих скал и струй, Чтоб не смерть нас разлучила, А последний поцелуй. Gingo Biloba Этот листик был с Востока В сад мой скромный занесен, И для видящего ока Тайный смысл являет он. Существо ли здесь живое Разделилось пополам, Иль, напротив, сразу двое Предстают в единстве нам? И загадку и сомненья Разрешит мой стих один: Перечти мои творенья, Сам я – двойственно един. * * * Зулейка Но скажи, писал ты много, И козявок пел и бога, Ясен почерк, точен слог, От строки до переплета Все – тончайшая работа, Чудо каждый твой листок! Ну, и в каждом для кого-то Был любви твоей залог? Xатeм Да, от глаз, к любви манящих, Алых губ, зубов блестящих, От улыбки, как весна, Стрел-ресниц, кудрей, как змеи, Белой груди, гордой шеи Сколько раз душа пьяна! Но и в каждой новой фее Снилась ты мне, ты одна. * * * Зулeйка Восходит солнце, – что за диво! – И серп луны обвил его. Кто сочетал их так счастливо? Что значит это волшебство? Xатeм Султан! – он в далях тьмы безмерных Слил тех, кто выше всех высот, Храбрейших выделил средь верных И дал избранникам полет. Их счастье – то, чем мы богаты, И мы с тобой – как плоть одна. Коль друга Солнцем назвала ты, Приди, обвей меня, Луна! * * * Любимая! Венчай меня тюрбаном! Пусть будет он твоей рукой мне дан. И шах Аббас, владеющий Ираном, Не знал венца прекрасней, чем тюрбан. Сам Александр, пройдя чужие страны, Обвил чело цветистой полосой, И всех, кто принял власть его, тюрбаны Прельщали царственной красой. Тюрбан владыки нашего короной Зовут они. Но меркнет блеск имен. Алмаз и жемчуг тешат глаз прельщенный, Но наш муслин – их всех прекрасней он. Смотри, он чист, с серебряным узором. Укрась чело мне! О, блаженный миг! Что вся их мощь! Ты смотришь нежным взором, И я сильней, я выше всех владык. * * * Немногого прошу я, вспомни – Земное все ценю равно, А то немногое давно мне Землей услужливой дано. Люблю и шум на дружном пире, И тихий дом без суеты, Но дух мой радостней и шире, Когда с тобой мои мечты. Тебе империи гигантской Тимур бы власть и силу дал, И груды бирюзы гирканской, И гордый бадахшанский лал, И, мед хранящие в избытке, Сухие фрукты Бухары, И песен Самарканда свитки Ты принимала 6, как дары. Я госпоже Ормуза новой Писал бы с острова о том, Как, весь в движенье, мир торговый Расцвел, твой украшая дом; В стране браминов неустанно Трудился б рой и жен и дев, В шелка и в бархат Индостана Тебя роскошно разодев; И землю, камни, щебень разный Искусный жег бы ювелир, Чтобы, создав венец алмазный, Тебя украсить, как кумир; Из моря б жемчуг доставали, Ныряя, дерзкие ловцы, Чтоб ты не ведала печали, Диван сзывали б мудрецы; И все коренья и куренья Текли б из самых дальних стран, Чтоб ты в восторге нетерпенья Встречала каждый караван. Но ты, пресытившись их видом, Усталый отвела бы взгляд. Кто любит, – я секрет наш выдам, – Лишь другу неизменно рад. * * * Мне и в мысли не входило, Самарканд ли, Бухару – Не отдать, отдать ли милой Этот вздор и мишуру. А уж царь иль шах тем паче – Разве дарит землю он? Он мудрее, он богаче, Но в любви не умудрен. Щедрым быть – тут дело тонко, Город дарят неспроста: Тут нужна моя девчонка И моя же нищета. * * * Зулeйка Раб, народ и угнетатель Вечны в беге наших дней. Счастлив мира обитатель Только личностью своей. Жизнь расходуй, как сумеешь, Но иди своей тропой. Всем пожертвуй, что имеешь, Только будь самим собой. Хатем Да, я слышал это мненье, Но иначе я скажу: Счастье, радость, утешенье – Все в Зулейке нахожу. Чуть она мне улыбнется, Мне себя дороже нет, Чуть, нахмурясь, отвернется – Потерял себя и след. Хатем кончился б на этом, К счастью, он сообразил: Надо срочно стать поэтом Иль другим, кто все ж ей мил. Не хочу быть только рабби, В остальном – на твой совет: Фирдоуси иль Мутанабби, А царем – и спору нет. * * * Хатем Как лампадки вкруг лавчонок Ювелиров на базарах, Вьется шустрый рой девчонок Вкруг поэтов, даже старых. Девушка Ты опять Зулейку хвалишь! Кто ж терпеть такую может? Знай, не ты, твои слова лишь – Из-за них нас зависть гложет. Хоть была б она дурнушка, Ты б хвалил благоговейно. Мы читали, как Джемилю Помутила ум Ботейна. Но ведь мы красивы сами, С нас портреты вышли б тоже, Напиши нас по дешевке, Мы заплатим подороже. Хатем Хорошо! Ко мне, брюнетка! Косы, бусы, гребни эти На хорошенькой головке – Словно купол на мечети. Ты ж, блондинка, ты изящна, Ты мила лицом и станом, А стройна – ну как не вспомнить Минарет, что за майданом! У тебя ж – у той, что сзади, – Сразу два различных взгляда. Каждый глаз иначе смотрит, От тебя спасаться надо. Чуть сощуренный прелестно, Тот зрачок – звезда, что справа, – Из-под век блестит лукаво. Тот, что слева, смотрит честно. Правый так и рыщет, ранит, В левом – нежность, мир, отрада. Кто не знал двойного взгляда, Разве тот счастливым станет? Всем хвала, мне все по нраву, Всем открыты настежь двери. Воздавая многим славу, Я мою прославил пери. Девушка Быть рабом поэту нужно, Чтобы властвовать всецело, Но сильней, чем э т о, – нужно, Чтоб сама подруга пела. А она сильна ли в пенье? Может вся, как мы, излиться? Вызывает подозренье, Что от всех она таится. Xатем Как же знать, чем стих навеян, Чем в глубинах дышит он, Чувством собственным взлелеян, Даром собственным рожден. Вас, певиц, хотя и хвалишь, Вы ей даже не родня. Вы поете для себя лишь, А Зулейка – для меня. Девушка Ну, влюблен, по всем приметам, Ты в одну из гурий рая! Что ж, для нас, для женщин, в этом Честь, конечно, небольшая. * * * Хатeм Вами, кудри-чародеи, Круг мой замкнут вкруг лица. Вам, коричневые змеи, Пет ответа у певца. Но для сердца нет предела, Снова юных сил полно, Под снегами закипело Этной огненной оно. Ты зажгла лучом рассвета Льды холодной крутизны, И опять изведал Хатем Лета жар и мощь весны. Кубок пуст! Еще налей-ка! Ей во славу – пьем до дна! И пускай вздохнет Зулейка, Что меня сожгла она. Зулейка Как, тебя утратить, милый? От любви любовь зажглась, Так ее волшебной силой Ты мне молодость укрась. Я хочу, чтоб увенчала, Мой поэт, тебя молва. Жизнь берет в любви начало, Но лишь духом жизнь жива, * * * Где радость взять, откуда? Далек мой день и свет! Писать бы сесть не худо, А пить – охоты нет. Без слов, как обольщенье, Пришла, пленила вмиг. Теперь перо в смущенье, Как был смущен язык. Неси ж на стол вино мне! Лей, милый чашник, лей! Когда скажу я: помни! – Все знают, что о ней. Книга Зулейки Мне б эту книжку всю переплели прекрасно, Чтобы она к другим примкнула в свой черед. Но сократить ее пытался б ты напрасно, Безумием любви гонимый все вперед. На ветви отягченной, В росе, как в серебре, Ты видишь плод зеленый В колючей кожуре? Уже он тверд, он зреет, Не зная сам себя, И ветвь его лелеет, Баюкает, любя. Конец приходит лету, Темнея, крепнет он Скорее к солнцу, свету, Из тесной кельи вон! Ура! Трещит скорлупка, Каштан летит, лови! Лови, моя голубка, Стихи моей любви! * * * Зулeйка Я была у родника, Загляделась в водоем. Вдруг я вижу, чертит в нем Вензель мой твоя рука. Глядя вглубь, я так смутилась, Что навек в тебя влюбилась. Здесь, в аллее, где арык Вьется медленной волной, Вижу снова: надо мной Тонкий вензель мой возник. Глядя в небо, я взмолилась, Чтоб любовь твоя продлилась. Xатем Пусть вода, кипя, сверкая, Кипарисам жизнь дает. От Зулейки до Зулейки Мой приход и мой уход. Зулeйка Вот мы здесь, мы вместе снова, Песнь и ласка – все готово. Ты ж молчишь, ты чем-то занят. Что теснит тебя и ранит? Xатем Ах, Зулейку дорогую Я не славлю, – я ревную. Ты ведь раньше то и дело Мне мои же песни пела. Но, хоть новые не хуже, Ты – с другими, почему же? Почему зубришь тетради Низами, Джами, Саади? Тех – отцов – я знаю много, Вплоть до звука, вплоть до слога, Но мои-то – все в них ново, Все мое – и слог и слово. Все вчера на свет рождалось. Что ж? Кому ты обязалась? И, дыша дыханьем чуждым, Чьим ты служишь дерзким нуждам? Кличет, сам в любви парящий, Друг, тебя животворящий. Вместе с ним предайся музе В гармоническом союзе. Зулeйка Мой Хатем ездил – все дела, А я училась, как могла. Ты говорил: пиши да пробуй! И вот разлука стала пробой. Но здесь чужого нет. Все это – Твое, твоей Зулейкой спето. * * * Шах Бехрамгур открыл нам рифмы сладость, Его душа язык в ней обрела. И чувств ответных девственную радость Его подруга в рифмах излила. Подобно ей, и ты мне, дорогая, Открыла слов созвучных волшебство, И, к Бехрамгуру зависти не зная, Я стал владыкой царства моего. Ты этих песен мне дала отраду. Пропетым от сердечной полноты, Как звуку – звук, как взгляд другому взгляду, Им всею жизнью отвечала ты. И вдаль, к тебе я шлю мои созданья – Исчезнет звук, но слово долетит. В них не умрет погасших звезд сиянье, Из них любви вселенная глядит. * * * Голос, губы, пламень взгляда – Нет, признаюсь, не тая: В них последняя отрада, Как и первая моя. Та – вчера – была последней, С ней погас огонь и свет. Милых шуток, милых бредней Стал мне дорог даже след. И теперь, коль не пошлет Нам Аллах свиданье вскоре, Солнце, месяц, небосвод Лишь мое растравят горе. * * * Зулeйка Что там? Что за ветер странный? Не Восток ли шлет посланье, Чтобы свежестью нежданной Исцелить мое страданье? Вот играет над лужайкой, Носит пыль, колышет ветки, Насекомых легкой стайкой Гонит к розовой беседке. Дышит влагою прибрежий, Холодит приятно щеки. Виноград целует свежий На холмистом солнцепеке. Сотни ласковых названий С ним прислал мой друг в печали, На холмах лишь вечер ранний, А меня уж заласкали. Так ступай же, сердобольный, Всех, кто ждет тебя, обрадуй! Я пойду в наш город стольный, Буду милому отрадой. Все любви очарованье, Обновленье, воскрешенье – Это наших губ слиянье, Наших помыслов смешенье. Высокий образ Как солнце – Гелиос Эллады – Летит, вселенной свет неся, И мечет огненные взгляды, Да покорится все и вся, И, видя всю в слезах Ириду, К ней направляет сноп лучей, Чтоб снять с небесных глаз обиду, – Но слезы льются горячей, И бог мрачнеет, и едва ли Ему не горше в этот ч а с, – Лучом любви, гонцом к печали, Целуя, пьет он капли с глаз. И, покоряясь мощи взора, Она глядит на небосклон, И капли уж не капли скоро, Но в каждой – образ, в каждой – он, И вот, в венке цветистой арки, Светлеет горней девы лик. Он к ней летит, могучий, яркий, Увы! он деву не настиг. Не так ли жребий непреклонный Твоей любви поставил срок, И что мне в той квадриге тронной, Хоть сам я стал бы Солнцебог! * * * Зулeйка Ветер влажный, легкокрылый, Я завидую невольно: От тебя услышит милый, Как в разлуке жить мне больно. Веешь сказкой темной дали, Будишь тихие томленья. Вот слезами засверкали Холм и лес, глаза, растенья. Но из глаз и вздох твой слабый Гонит тайное страданье. Я от горя изошла бы Без надежды на свиданье. Так лети к родному краю, Сердцу друга все поведай, Только скрой, как я страдаю, Не расстрой его беседой. Молви скромно, без нажима, Что иного мне не надо. Тем живу, что им любима, С ним любви и жизни рада. Воссоединение Ты ли здесь, мое светило? Стан ли твой, твоя ль рука? О, разлука так постыла, Так безжалостна тоска! Ты – венец моих желаний, Светлых радостей возврат! Вспомню мрак былых страданий – Встрече с солнцем я не рад. Так коснел на груди отчей Диких сил бесплодный рой, II, ликуя, первый Зодчий Дал ему закон и строй. «Да свершится!» – было слово, Вопль ответом был – и вмиг Мир из хаоса немого Ослепительно возник. Робко скрылась тьма впервые, Бурно свет рванулся ввысь, И распались вдруг стихии И, бунтуя, понеслись, Будто вечно враждовали, Смутных, темных грез полны, В беспредельность мертвой дали, Первозданной тишины. Стало все немой пустыней, Бог впервые одинок. Тут он создал купол синий, Расцветил зарей восток. Утро скорбных оживило, Буйством красок все зажглось, И любовь одушевила Все стремившееся врозь. И безудержно и смело Двое стать одним спешат, И для взора нет предела, И для сердца нет преград. Ждет ли горечь иль услада – Лишь бы только слиться им, И творцу творить не надо, Ибо мы теперь творим. Так меня в твои объятья Кинул звонкий зов весны. Ночи звездною печатью Жизни наши скреплены, И теперь не разлучиться Нам ни в злой, ни в добрый час, И второе: «Да свершится!» – Разделить не сможет нас. Ночь полнолуния Госпожа, ты шепчешь снова? Что и ждать от алых губок? Шевелятся! Экий вздор! Так пригубливают кубок, Иль плутовка знает слово Для приманки губ-сестер? «Поцелуев! Поцелуев!» Видишь, сад подобен чуду, Все мерцает, все сверкает, Искры сыплются во тьму. Зыбкий мрак благоухает. Не цветы – алмазы всюду, Только ты чужда всему. Я сказала: «Поцелуев!» Он навстречу испытаньям Шел к тебе, своей колдунье, В горе счастья он достиг. Вы хотели полнолунье Встретить мысленным свиданьем, И настал блаженный миг. Я сказала: «Поцелуев!» Тайнопись Трудитесь, дипломаты, Чтоб были в должный миг Советы и трактаты Готовы для владык. Мир занят тайным шифром, Пока он не прочтен И к разным прочим цифрам Иль буквам не причтен. Мне тайнопись от милой Слуга вчера принес. Ее искусства силой Я умилен до слез: И страсть, и прелесть речи, И чувства полнота – Как всё, что мы при встрече Твердим уста в уста. Не цветника ль узоры Легли на все кругом? Иль ангельские хоры Заполонили дом? И в небе – рой пернатых, Как сказочный покров, И полночь в ароматах Над морем звонких строф. Ты властному стремленью Двойной язык дала, Избравший жизнь мишенью, Разящий, как стрела. Что я сказал – не ново, Исхожен этот путь. Открыл его – ни слова! Иди и счастлив будь! Отражение Как в зеркало, с наслажденьем Гляжусь я в «Диван», словно там, Удвоенный отраженьем, Мой орден видится нам. И я не от самохвальства Себя же ищу здесь во всем, Но песни люблю я сызмальства И дружбу – а здесь мы вдвоем. И в зеркало если гляжу я В дому опустелом вдовца, Я вижу ее как живую, И рад бы глядеть без конца. Но чуть обернулся – хоть тресни: Исчезнет – и не видна! Опять гляжу в мои песни: Так вот она, вот же она! А песни пишу все душевней, Пишу по-своему их, Для прибыли ежедневной Моих критиканов лихих. Те песни – ее приметы, В них образ ее заключен, Гирляндами роз одетый, Написан по золоту он. * * * Зулeйка Что за ласковая сила В стройном лепете твоем! Песня, ты мне подтвердила, Что себя нашла я в нем. Что, меня не забывая, Мне, живущей для пего, Шлет он из чужого края Чувств и мыслей колдовство. Но и ты мне в сердце, кстати, Друг, как в зеркало гляди: Поцелуями – печати Кто мне ставил на груди! Это – Правда без притворства И Поэзии полет. Не Любви ли чудотворство В ритмах сладостных поет! * * * Александр был зеркалом вселенной – Так! Но что же отразилось в нем? Он, смешавший в общей массе пленной Сто народов под одним ярмом. О чужом не мысля, не тоскуя, Пой свое, собою будь горда. Помни, что живу я, что люблю я, Твой везде и навсегда. * * * Прекрасен мир во всех его обмерах, Особенно прекрасен мир поэта, Где на страницах пестрых, белых, серых Всегда горит живой источник света. Все мило мне: о, если б вечным было! Сквозь грань любви мне все навеки мило. Из «Книги Парса. Парси-наме» Завет староперсидской веры Набожный бедняк на смертном ложе, Что я завещаю молодежи – Вам, о братья, столько мне отдавшим, Старость одинокую питавшим? Если едет окруженный свитой Царь в одежде, золотом расшитой, И вельможи в золото одеты, И на всех, как звезды, самоцветы, Разве зависть вас обуревает? Разве не прекрасней выплывает, Озаряя Дарнавенд и горы, Солнце утром на крылах Авроры? Кто когда отвел глаза при этом? Сотни раз был озарен рассветом Мой восторг, и чувство мной владело, Будто с солнцем празднично и смело Воспарял я к трону Всеблагого, Чтоб назвать творца всего живого И вершить в лучах его сиянья Вышних сил достойные деянья. Но когда мне тьма глаза слепила, Столь был светел полный круг светила – Грудь бия, на землю, как на ложе, Лбом вперед я падал в смутной дрожи. И теперь завет мой – без изъятья Всем, кто хочет, всем, кто помнит, братья: Каждодневно – трудное служенье! В этом – веры высшей выраженье! Чуть рожденный дернул ручкой, ножкой, Дайте солнцу любоваться крошкой, Чтоб оно огнем его омыло, Чтоб, как милость, он встречал светило. Мертвецов живые отпевайте, Праху и животных предавайте, В землю, в землю – с тем же чувством истым – Все, что вам покажется нечистым. Чистое да будет вашей нивой, Будет солнцу люб ваш труд счастливый. Лес сажайте в правильном порядке – Больше света при такой посадке. Пусть вода, служа вам, как владыкам, Чистой, свежей льется по арыкам. Зендеруд, как чистым он родится, Должен чистым в море с гор излиться. А канавы надо рыть умело, Чтоб вода в потоке не слабела, Гадов разных, аир да осоку, Эту нечисть – вон их! Что в них проку? Там, где чисты и земля и воды, Солнце лучше греет наши всходы, Где построен труд умно и здраво, Всходит Жизнь, а Жизни честь и слава! Труд закончен – вновь за труд смиренный, И очищен будет лик вселенной. И тогда вы, как жрецы, дерзните Образ бога изваять в граните. Где огонь, там радость, там улыбки, Ночь светла, и члены тела гибки, Над огнем вкуснеют в жарком токе И животных и растений соки. Собран хворост – ликованью время! Каждый сук – земного солнца семя, Собран хлопок – возликуйте вдвое: То фитиль, и в нем – Оно, святое. В каждой лампе вспыхнет та же сила Отблеском верховного светила, И судьба не возбранит вам, дети, Чтить престол господень на рассвете. Там живого бытия начало, Духом чистых высшее зерцало. Там орбита всех орбит, быть может, Для всего, что божью славу множит. Я покину берег Зендеруда, Чтоб взлететь на Дарнавенд отсюда И, встречая солнце, в те мгновенья Людям посылать благословенья. Из «Книги Рая. Хульд-наме» Праведные мужи Магомет говорит Пусть враги над мертвыми рыдают – Прах зарыт, и павшим нет возврата. Наши братья в небо возлетают – Нам ли плакать над могилой брата! Семь планет, усопшего встречая, Золотые распахнут врата, И душа восходит в кущи рая, От земного тления чиста. И трепещет радостью священной, Глядя в бездны, что раскрылись мне, Когда я сквозь семь небес вселенной В рай летел на огненном коне. Древо мудрых, все в плодах румяных, Вознеслось превыше кедров там, Древо жизни на лугах медвяных Тень дарит неведомым цветам. Дышит ветер сладостный Востоком, Он приводит хор небесных дев. Их увидишь изумленным оком – II уже пылаешь, опьянев. Девы смотрят – чем велик ты, воин, Опытом иль буйством юных сил? Если ты Эдема удостоен, Ты герой, но что же ты свершил? Каждая зачтется ими рана, Ибо в ранах – слава и почет, Стерла смерть отличья рода, сана И лишь ран за веру не сотрет. И тебя уводят в грот прохладный, В многоцветный лабиринт колонн. И кипеньем влаги виноградной Вскоре ты согрет и обновлен. В каждом вспыхнет молодости сила, Каждый чист и праведен душой. Та, что сердце одного пленила, Станет всем подругой, госпожой. Лишь к одной, достойнейшей на пире, Ты влеком не чувственным соблазном: С ней беседуй в радости и в мире О высоком, о многообразном. То одна из гурий, то другая Кличет гостя к пиру своему. Право, стоит умереть для рая: Много жен – и мир в твоем дому! И скучать о прошлом ты не станешь, И уйти отсюда не сумеешь. От подобных женщин не устанешь. От подобных вин не опьянеешь. * Я поведал кратко о награде, Ждущей тех, кто в битву шел без страха. Так пируют в райском вертограде Праведные воины Аллаха. У врат рая Гурия На пороге райских кущей Я поставлена как страж. Отвечай, сюда идущий: Ты, мне кажется, не наш! Вправду ль ты Корана воин И пророка верный друг? Вправду ль рая удостоен По достоинству заслуг? Если ты герой по праву, Смело раны мне открой И твою признаю славу, И впущу тебя, герой Поэт Распахни врата мне шире, Не глумись над пришлецом! Человеком был я в мире, Это значит – был борцом! Посмотри на эти раны - Взором светлым в них прочтешь И любовных снов обманы, И вседневной жизни ложь. Но я пел, что мир невечный Вечно добр и справедлив, Пел о верности сердечной, Верой песню окрылив. И, хотя платил я кровью, Был средь лучших до конца, Чтоб зажглись ко мне любовью Все прекрасные сердца. Мне ль не место в райском чине! Руку дай – и день за днем По твоим перстам отныне Счет бессмертью поведем. Трилогия страсти Вертеру О дух многооплаканный, ты снова Явился гостем в мир земной. Средь новых нив возник, как тень былого, И не робеешь предо мной. Ты мне напомнил то златое время, Когда для нас цвели в полях цветы, Когда, дневное забывая бремя, Со мной закатом любовался ты. Тебе – уйти, мне – жить на долю пало. Покинув мир, ты потерял так мало! Казалось бы, для счастья жизнь дана: И прелесть дня, и ночи глубина! Но человек, взращенный в неге рая, На раннем утре жизненного мая Уже бороться обречен судьбою С чужою волей иль с самим собою. Одно другого не восполнит, нет! Снаружи тьма, а в сердце яркий свет, Иль в сердце – ночь, когда кругом светло И счастье вновь неузнанным прошло. Но вот оно! В каком восторге ты Изведал силу женской красоты! И юноша, блестящим предан снам, Идет в весну, весне подобен сам. Он изумлен: весь мир ему открыт, Огромный мир ему принадлежит. Он вдаль спешит с сияющим лицом, Не скованный ни домом, ни дворцом. Как птица под лазурный небосклон, Взмывает ввысь, любви коснувшись, он И с неба вновь к земле стремит полет, – Там взор любимой в плен его зовет. Но рано ль, поздно ль – все ж узнает он, Что скучен плен, полет его стеснен, Свиданье – свет, разлука – тьма и гнет, Свиданье вновь – и счастьем жизнь блеснет. И миг прошел, года в себя вместив, А дальше вновь прощанье и разрыв. Твой взор слезой умильною блестит, Прощаньем страшным стал ты знаменит, Оплакан всеми в свой последний час, На скорбь и радость ты покинул нас, И вот опять неизъяснимый рок По лабиринту страсти нас повлек, Вновь обреченных горестной судьбе, Узнать разрыв, таящий смерть в себе. Как трогательно пел певец любви: В разрыве – смерть, с возлюбленной не рви! Страдающим, просящим утешенья Дай, господи, поведать их мученья! Элегия Там, где немеет в муках человек, Мне дал господь поведать, как я стражду. «Торквато Тассо» Что принесет желанный день свиданья, Цветок, не распустившийся доселе? В нем ад иль рай – восторги иль страданья? Твоей душой сомненья овладели. Сомненья нет! Она у райских врат, В ее любви – твой горний вертоград. И ты вступил в блаженные селенья, Как некий дух, достойный жизни вечной. Здесь нет надежд, желания, томленья, Здесь твой Эдем, мечты предел конечный. Перед лицом единственно прекрасной Иссяк источник горести напрасной. Крылатый день влачился так уныло, Ты исчислял мгновения, тоскуя, Но и в лучах полдневного светила Не таял след ночного поцелуя. Часы текли, скучны, однообразны, Как братья, сходны и, как братья, разны. Прощальный миг! Восторги обрывая, В последний раз ты льнешь к устам любимым. Идешь – и медлишь – и бежишь из рая, Как бы гонимый грозным серафимом. Глядишь на темный путь – и грусть во взоре, Глядишь назад – ворота на запоре. И сердце вдруг ушло в себя, замкнулось, Как будто ей себя не раскрывало, Как будто с ней для счастья не проснулось, Своим сияньем звезд не затмевало. Сомненья, скорбь, укоры, боль живая Теснят его, как туча грозовая. Иль мир погас? Иль гордые утесы В лучах зари не золотятся боле? Не зреют нивы, не сверкают росы, Не вьется речка через лес и поле? Не блещет – то бесформенным эфиром, То в сотнях форм – лазурный свод над миром? Ты видишь – там, в голубизне бездонной, Всех ангелов прекрасней и нежней, Из воздуха и света сотворенный, Сияет образ, дивно сходный с ней. Такою в танце, в шумном блеске бала, Красавица очам твоим предстала. И ты глядишь в восторге, в восхищенье, Но только миг – она здесь неживая, Она верней в твоем воображенье – Подобна той, но каждый миг другая. Всегда одна, но в сотнях воплощений, И в каждом – все светлей и совершенней. Так у ворот она меня встречала И по ступеням в рай меня вводила, Прощальным поцелуем провожала, Затем, догнав, последний мне дарила, И образ тот в движенье, в смене вечной, Огнем начертан в глубине сердечной. В том сердце, что, отдавшись ей всецело, Нашло в ней все, что для него священно, Лишь в ней до дна раскрыть себя сумело, Лишь для нее вовеки неизменно, И, каждым ей принадлежа биеньем, Прекрасный плен сочло освобожденьем. Уже, холодным скована покоем, Скудела кровь – без чувства, без влеченья, Но вдруг могучим налетели роем Мечты, надежды, замыслы, решенья. И я узнал в желаньях обновленных, Как жар любви животворит влюбленных. А все – она! Под бременем печали Изнемогал я, гас душой и телом. Пред взором смутным призраки вставали, Как в бездне ночи, в сердце опустелом. Одно окно забрезжило зарею, И вот она – как солнце предо мною. С покоем божьим, – он душе скорбящей Целителен, так сказано в Писанье, – Сравню покой любви животворящей, С возлюбленной сердечное слиянье. Она со мной – и все, все побледнело Пред счастьем ей принадлежать всецело. Мы жаждем, видя образ лучезарный, С возвышенным, прекрасным, несказанным Навек душой сродниться благодарной, Покончив с темным, вечно безымянным. И в этом – благочестье! Только с нею Той светлою вершиной я владею. В дыханье милой – теплый ветер мая, Во взоре милой – солнца луч полдневный, И себялюбья толща ледяная Пред нею тает в глубине душевной. Бегут, ее заслышав приближенье, Своекорыстье, самовозвышенье. Я вспоминаю, как она сказала: «Всечасно жизнь дары благие множит. От прошлого запомнится так мало, Грядущего никто прозреть не может, Ты ждал, что вечер принесет печали, Блеснул закат – и мы счастливей стали, Так следуй мне и весело и смело Гляди в глаза мгновенью! Тайна – в этом! Любовь, и подвиг, и простое дело Бери от жизни с дружеским приветом. Когда ты все приемлешь детски ясно, Ты все вместишь и все тебе подвластно». «Легко сказать! – подумал я. – Судьбою Ты избрана для милостей мгновенья. Себя мгновенно каждый, кто с тобою, Почувствует любимцем провиденья. Но если нас разделит рок жестокий, К чему тогда мне твой завет высокий!» И ты ушла! От нынешней минуты Чего мне ждать? В томлении напрасном Приемлю я, как тягостные путы, Все доброе, что мог бы звать прекрасным. Тоской гоним, скитаюсь, как в пустыне, И лишь слезам вверяю сердце ныне. Мой пламень погасить не в вашей власти, Но лейтесь, лейтесь горестным потоком. Душа кипит, и рвется грудь на части. Там смерть и жизнь – в борении жестоком. Нашлось бы зелье от телесной боли, Но в сердце нет решимости и воли. И как? Могу ли? Умертвить желанье? Не видеть лик, во всем, что суще, зримый, То в дымке предстающий, то в сиянье, То ясный, яркий, то неразличимый. И с этим жить! И брать, как дар счастливый, Приход, уход, приливы и отливы. Друзья мои, простимся! В чаще темной Меж диких скал один останусь я. Но вы идите – смело в мир огромный. В великолепье, в роскошь бытия! Все познавайте – небо, земли, воды, За слогом слог – до самых недр природы! А мной – весь мир, я сам собой утрачен, Богов любимцем был я с детских лет, Мне был ларец Пандоры предназначен, Где много благ, стократно больше бед. Я счастлив был, с прекрасной обрученный, Отвергнут ею – гибну, обреченный. Умиротворение Ведет к страданью страсть. Любви утрата Тоскующей душе невозместима. Где все, чем жил ты, чем дышал когда-то, Что было так прекрасно, так любимо? Подавлен дух, бесплодны начинанья, Для чувств померкла прелесть мирозданья. Но музыка внезапно над тобою На крыльях серафимов воспарила, Тебя непобедимой красотою Стихия звуков мощных покорила. Ты слезы льешь? Плачь, плачь в блаженной муке, Ведь слезы те божественны, как звуки! И чует сердце, вновь исполнясь жаром, Что может петь и новой жизнью биться, Чтобы, на дар ответив щедрым даром, Чистейшей благодарностью излиться. И ты воскрес – о, вечно будь во власти Двойного счастья – музыки и страсти. Фридрих Гёльдерлин 1770-1843 Греция К. Штейдлину Если б там, в платановой дубраве, Где Илисс журчал, обвив холмы, Где мечтали юноши о славе, Где Сократ обворожал умы, Где средь мирт Аспазия блистала, Где, собрав народ со всех сторон, Площадь рынка гневом клокотала, Где Платоном рай был сотворен, Где весной под солнцем лучезарным В храм Паллады – к небу из долин – Шел народ в восторге благодарном Гимны петь заступнице Афин, Где меж лир, согретых дивной силой, Жизнь текла, как сон богов светла, – Если б там, в былом, тебя, мой милый, Но не здесь душа моя нашла! О, тогда б мы встретились иначе: Высшим вдохновеньем окрылен, Весь отдавшись радости горячей, Ты воспел бы гордый Марафон. Только чувства голосу послушный, Лавр победы вкруг чела обвив, Ты б не знал, как в путах жизни душной Увядает радости порыв. Где звезда твоей любви златая? Юных сил где розовый рассвет? Ах, в Элладе ты бы жил, не зная, Что такое бег неверных лет. Вечная, как пламень Весты в храме, Там Любовь вела к добру сердца. В них, казалось, Геспериды сами Юность обновляли без конца. Если б солнцем века золотого Ты согрет был как Эллады сын, Ты бы отдал огненное слово Им, достойным гражданам Афин. И под звуки чистых песнопений, Наслаждаясь кровью пьяных лоз, От страстей, от бури чувств и мнений Отдыхал бы средь душистых роз. Верь, не тщетно вместе с братским хором, Опален высоких дум огнем, Пел бы ты народу, пред которым Слезы благодарности мы льем. Час пробьет. Уйдя в края другие, Божество покинет смертный прах. Не найдешь ты родственной стихии, Дух прекрасный, на земных тропах. Отблистали Спарта и Афины, В темный мир ушли богов сыны. Там, где спят великие руины, Бродит смерть, как сторож тишины. И когда, Илисс любя и ныне, Сходит, улыбаясь, к нам весна, – В грустной обезлюдевшей долине Братьев не приветствует она. Дай, судьба, в земле Анакреона Горестному сердцу моему Меж святых героев Марафона В тесном успокоиться дому. Будь, мой стих, последнею слезою На пути к святому рубежу! Присылайте, Парки, смерть за мною – Царству мертвых я принадлежу. Адельберт Шамиссо 1781-1838 Последняя любовь лорда Байрона Байрон здесь? Он здесь, Камен питомец, Аресом ведомый в битву вновь. Он героев новых однодомец, Ибо греки льют за вольность кровь. Все сердца ему безмерно рады, Лишь в одном – любимом – чувства нет. И отвергнут дочерью Эллады Он, несущий всем народам свет. «Чту тебя, горжусь тобой, как все мы, – Молвит дева, бледный лик склоня. – Требуй византийской диадемы, Но любви не требуй от меня». Вслед гонцу, предчувствий темных полный, К ней, звезде его печальных дней, Он стремился в бурю через волны – Ужас охватил его пред ней. В тяжких муках, боль превозмогая, Призрачно-прекрасна и бледна, Саблю сжав, подъемлется больная, И беззвучно говорит она: «С юных лет любовь, как божью кару Я ношу в сердечной глубине. Я вручила саблю паликару, Как отчизна повелела мне. Мы прощались не на брачном ложе, Знали – смерть или победа ждет! Я сказала: пусть погибну тоже, Если ты погибнешь за народ. Вот и смерть! Он пал как храбрый воин, Мне он саблю отослал свою Ты, герой наш, ты, поэт, – достоин: Я тебе святыню отдаю». Он, безмолвный, горестно внимает Слову «яд» из побелевших губ. И свершилось – Байрон обнимает Не мечту, а неостывший труп. С той поры, как вся судьба поэта, Мрачен взор, лишенный даже слез. И в могилу – люди помнят это – Саблю паликара он унес. Людвиг Уланд 1787–1862 Проклятие певца Когда-то гордый замок стоял в одном краю, От моря и до моря простер он власть свою. Вкруг стен зеленой кущей сады манили взор, Внутри фонтаны ткали свой радужный узор. И в замке том воздвигнул один король свой трон. Он был угрюм и бледен, хоть славен и силен. Он мыслил только кровью, повелевал мечом, Предписывал насильем и говорил бичом. Но два певца явились однажды в замок тот – Один кудрями темен, другой седобород. И старый ехал с арфой, сутулясь на коне, А юный шел, подобен сияющей весне. И тихо молвил старый: «Готов ли ты, мой друг? Раскрой всю глубь искусства, насыть богатством звук. Излей все сердце в песнях – веселье, радость, боль, Чтобы душою черствой растрогался король». Уже певцы в чертоге стоят среди гостей. Король сидит на троне с супругою своей. Он страшен, как сиянье полярное в ночи, Она луне подобна, чьи сладостны лучи. Старик провел по струнам, и был чудесен звук. Он рос, он разливался, наполнил все вокруг. И начал юный голос – то был небесный зов, И старый влился эхом надмирных голосов. Они поют и славят высокую мечту, Достоинство, свободу, любовь и красоту – Все светлое, что может сердца людей зажечь, Все лучшее, что может возвысить и увлечь. Безмолвно внемлют гости преданьям старины, Упрямые вояки и те покорены. И королева, чувством захвачена живым, С груди срывает розу и в дар бросает им. Но, весь дрожа от злобы, король тогда встает: «Вы и жену прельстили, не только мой народ!» Он в ярости пронзает грудь юноши мечом, И вместо дивных песен кровь хлынула ключом. Смутясь, исчезли гости, как в бурю листьев рой. У старика в объятьях скончался молодой. Старик плащом окутал и вынес тело прочь, Верхом в седле приладил и с ним пустился в ночь. Но у ворот высоких он, задержав коня, Снял арфу, без которой не мог прожить и дня, Ударом о колонну разбил ее певец, И вопль его услышан был из конца в конец. «Будь проклят, пышный замок! Ты в мертвой тишине Внимать вовек не будешь ни песне, ни струне. Пусть в этих залах бродит и стонет рабий страх, Покуда ангел мести не обратит их в прах! Будь проклят, сад цветущий! Ты видишь мертвеца? Запомни чистый образ убитого певца. Твои ключи иссякнут, сгниешь до корня ты, Сухой бурьян задушит деревья и цветы. Будь проклят, враг поэтов и песен супостат! Венцом, достойным славы, тебя не наградят, Твоя сотрется память, пустым растает сном, Как тает вздох последний в безмолвии ночном». Так молвил старый мастер. Его услышал бог. И стены стали щебнем, и прахом стал чертог. И лишь одна колонна стоит, еще стройна, Но цоколь покосился, и треснула она. А где был сад зеленый, там сушь да зной песков, Ни дерева, ни тени, ни свежих родников. Король забыт – он призрак без плоти и лица. Он вычеркнут из мира проклятием певца. Жница «День добрый, Мария! Так рано уже за работой! Хоть ты влюблена, а работаешь с прежней охотой. Попробуй – в три дня за болотом скоси луговину. Клянусь, я в супруги отдам тебя старшему сыну!» Так молвил помещик, и, речи услышав такие, Как птица, забилось влюбленное сердце Марии. Явилась в руках ее новая, чудная сила. Как пела коса в них, как шумные травы косила! Уж полдень пылает. Жнецы притомились, устали, К ручью потянулись, в тени собрались на привале. Лишь трудятся пчелы, жужжат и не знают покоя. И трудится с ними Мария, не чувствуя зноя. Спускается вечер, разносится звон колокольный, Соседи кричат ей: «Бросай! На сегодня довольно!» Прошло уже стадо, и время косцам расходиться. Но, косу отбив, продолжает Мария трудиться. Вот звезды зажглись, засверкали вечерние росы, Запел соловей, и сильнее запахли покосы. Мария не слушает пенья, без отдыха косит, Без отдыха косу над влажной травою заносит. Так ночь миновала, и солнце взошло над вселенной Не пьет и не ест она, сытая верой блаженной. Но третьим рассветом просторы зажглись луговые, И косу бросает, и радостно плачет Мария. «Здорово, Мария! Скосила? Ну, ты молодчина! Тебя награжу я богато, но замуж за сына... Глупышка! Да это ведь в шутку я дал тебе слово. Как сердце влюбленное сразу поверить готово!» Сказал и пошел. У Марии в глазах потемнело. Прилежные руки бессильно повисли вдоль тела. Все чувства затмились, дыханье пресеклось от боли, Такой, возвращаясь, нашли ее женщины в поле. Текут ее годы в безмолвном, глухом умиранье. И ложечка меда – дневное ее пропитанье. О, пусть на лугу на цветущем ей будет могила! Где в мире есть жница, которая так бы любила! Йозеф Эйхендорф 1788-1857 В путь! В горах ли, на равнине – Вольнее дышит грудь. Все расцветает ныне И все торопит в путь. Ручей с горы стремится, Реке преграды нет, Летит куда-то птица, Но во главе – поэт. Кто не в ладах с судьбою, Кто чахнет от забот – Он всех зовет с собою, В дорогу он зовет. В полях, на горных склонах Поет он, чародей, Сближая разделенных Пространствами людей. И все на сборы скоры, Спешат, как в дом родной И тайно чьи-то взоры Твердят: ты мой, ты мой! В полях ли, на утесах Шумит весна, цветет. Бери дорожный посох И весело – в поход! * * * Грустит пастушья дудка, Ни звука на реке. Лес отозвался чутко На выстрел вдалеке. И там, вдали, закатом Горит холмов гряда. О, если б стать крылатым И улететь – туда! Генрих Гейне 1797-1856 * * * Немолчно звенели кругом соловьи, И солнце смеялось, и липа цвела, И ты приняла поцелуи мои И трепетно к сердцу меня привлекла. Пророчил вьюгу вороний грай, Луч солнца угрюмо глядел с высоты, И мы равнодушно сказали: «Прощай!», И вежливый книксен мне сделала ты, * * * Поднявшись над зеркалом Рейна, Глядится в зыбкий простор Святыня великого Кельна Великий старый собор. И есть в том соборе мадонна, По золоту писанный лик, Чей кроткий свет благосклонно В мой мир одичалый проник. Вкруг девы цветы, херувимы Парят в золотых небесах, И явное сходство с любимой В улыбке, в губах и глазах. * * * Сырая ночь беззвездна. Деревья скрипят на ветру. Я, в плащ закутавшись, еду Один в глухом бору. И мчатся мечты предо мною, Опережают коня, – Как будто на крыльях воздушных К любимой уносят меня. Собаки лают. Привратник Выходит ко мне с фонарем. Я, шпорами бряцая, Врываюсь по лесенке в дом. О, как там тепло и уютно При ласковом свете свечей! И я бросаюсь в объятья Возлюбленной моей. А ветер свистит в деревьях, И дуб говорит седой: «Куда ты, глупый всадник, С твоей безумной мечтой?» * * * Дурные, злые песни, Печали прошлых лет, Я вас похоронил бы, Да только гроба нет. Не спрашивайте, люди, Что сгинуть в нем могло б. Мне гейдельбергской бочки Обширней нужен гроб. Еще нужны носилки, Но из таких досок, Что больше моста в Майнце И вдоль и поперек. Тогда двенадцать братьев Зовите из-за гор – Тех, что сильней и выше, Чем кельнский Христофор. Пусть этот гроб громадный Закинут с крутизны В громадную могилу, В простор морской волны. А знаете вы, люди, На что мне греб такой? В него любовь и горе Сложу я на покой. * * * Не знаю, что стало со мною – Душа моя грустью полна. Мне все не дает покою Старинная сказка одна. День меркнет. Свежеет в долине, И Рейн дремотой объят. Лишь на одной вершине Еще пылает закат. Там девушка, песнь распевая, Сидит высоко над водой. Одежда на ней золотая, И гребень в руке – золотой. И кос ее золото вьется, И чешет их гребнем она, И песня волшебная льется, Так странно сильна и нежна. И, силой плененный могучей, Гребец не глядит на волну. Не смотрит на рифы под кручей Он смотрит туда, в вышину. Я знаю, волна, свирепея, Навеки сомкнется над ним, И это все Лорелея Сделала пеньем своим. * * * Печаль, печаль в моем сердце, А май расцветает кругом! Стою под липой зеленой, На старом валу крепостном. Внизу канал обводный На солнце ярко блестит. Мальчишка едет в лодке, Закинул лесу – и свистит. На том берегу пестреют, Как разноцветный узор, Дома, сады и люди, Луга, и коровы, и бор. Служанки белье полощут, Звенят их голоса. Бормочет мельница глухо, Алмазы летят с колеса. А там – караульная будка Под башней стоит у ворот, И парень в красном мундире Шагает взад и вперед. Своим ружьем он играет, Горит на солнце ружье. Вот вскинул, вот взял на мушку – Стреляй же в сердце мое! * * * Беззвездно черное небо, А ветер так и ревет. В лесу, средь шумящих деревьев, Брожу я всю ночь напролет. Вон старый охотничий домик. В окошке еще светло, Но нынче туда не пойду я – Там все вверх дном пошло. Слепая бабушка в кресле Молча сидит у окна. Сидит, точно каменный идол, Недвижна и страшна. А сын лесничего рыжий, Ругаясь, шагает кругом, Ружьем хватил об стенку, Кому-то грозит кулаком. Красавица дочка за прялкой Не видит пряжи от слез, К ногам ее с тихим визгом Жмется отцовский пес. * * * Когда мне семью моей милой Случилось в пути повстречать, Все были так искренне рады: Отец, и сестренка, и мать. Спросили, как мне живется И как родные живут. Сказали, что я все такой же И только бледен и худ. И я расспросил – о кузинах, О тетках, о скучной родне, О песике, лаявшем звонко, Который так нравился мне. И после о ней – о замужней – Спросил невзначай: где она? И дружески мне сообщили: Родить через месяц должна. И дружески я поздравлял их, И я передал ей привет, Я пожелал ей здоровья И счастья на много лет. «А песик, – вскричала сестренка, – Большим и злющим стал, Его утопили в Рейне, А то бы он всех искусал». В малютке с возлюбленной сходство, Я тот же смех узнаю И те же глаза голубые, Что жизнь загубили мою. * * * Мы возле рыбацкой лачуги Сидели вечерней порой. Уже темнело море, Вставал туман сырой. Вот огонек блестящий На маяке зажгли, И снова белый парус Приметили мы вдали. Мы толковали о бурях, О том, как мореход Меж радостью и страхом, Меж небом и морем живет; О юге, о севере снежном, О зное дальних степей, О странных, чуждых нравах Чужих, далеких людей. Над Гангом звон и щебет, Гигантский лес цветет; Пред лотосом клонит колени Прекрасный, кроткий народ. В Лапландии грязный народец – Нос плоский, рост мал, жабий рот – Сидит у огня, варит рыбу, И квакает, и орет. Задумавшись, девушки смолкли, И мы замолчали давно... А парус пропал во мраке, Стало совсем темно. * * * Красавица рыбачка, Причаливай сюда! Сядь возле меня, поболтаем, Ну что ты робеешь всегда? Не бойся, дай мне руку, Склонись на сердце ко мне. Ты в море привыкла вверяться Изменчивой, бурной волне. А в сердце моем, как в море, И ветер поет, и волна, И много прекрасных жемчужин Таит его глубина. * * * Сердитый ветер надел штаны, Свои штаны водяные, Он волны хлещет, а волны черны, Бегут и ревут как шальные. Потопом обрушился весь небосвод, Гуляет шторм на просторе. Вот-вот старуха-ночь зальет, Затопит старое море! О снасти чайка бьется крылом, Дрожит и спрятаться хочет, И хрипло кричит – колдовским языком Несчастье нам пророчит. * * * В серый плащ укрылись боги, Спят, ленивцы, непробудно, И храпят, и дела нет им, Что швыряет буря судно. А ведь правда, будет буря – Вот скорлупке нашей горе! Не взнуздаешь этот ветер, Не удержишь это море! Ну и пусть рычит и воет, Пусть ревет хоть всю дорогу. Завернусь я в плащ мой верный И усну, подобно богу. * * * Вдали туманной картиной, Как память давних лет, Встает многобашенный город, Вечерней дымкой одет. Под резким ветром барашки Бегут по свинцовой реке. Печально веслами плещет Гребец в моем челноке. Прощаясь, вспыхнуло солнце, И хмурый луч осветил То место, где все потерял я, О чем мечтал и грустил. * * * Дождь, ветер – ну что за погода! И, кажется, снег ко всему. Сижу и гляжу в окошко, В сырую осеннюю тьму. Дрожит огонек одинокий И словно плывет над землей. Старушка, держа фонарик, Бредет по лужам домой. Купила, наверное, в лавке Яиц и масла, муки И хочет старшей внучке На завтра спечь пирожки. А внучка, сонно щурясь, Сидит в качалке, одна. Закрыла нежный румянец Волос золотая волна. * * * Как из тучи светит месяц В темно синей вышине, Так одно воспоминанье Где-то в сердце светит мне. Мы на палубе сидели, Гордо плыл нарядный бот. Над широким, вольным Рейном Рдел закатом небосвод. Я у ног прекрасной дамы Зачарованный сидел. На щеках ее румянцем Яркий луч зари блестел. Волны рдели, струны пели, Вторил арфам звонкий хор. Шире сердце раскрывалось, Выше синий влек простор. Горы, замки, лес и долы Мимо плыли, как во сне, И в глазах ее прекрасных Это все сияло мне. * * * Вчера мне любимая снилась, Печальна, бледна и худа. Глаза и щеки запали, Былой красоты – ни следа. Она вела ребенка, Другого несла на руках. В походке, в лице и движеньях – Униженность, горе и страх. Я шел за ней через площадь, Окликнул ее за углом, И взгляд ее встретил, и тихо И горько сказал ей: «Пойдем! Ты так больна и несчастна, Пойдем же со мною в мой дом. Тебя окружу я заботой, Своим прокормлю трудом. Детей твоих выведу в люди, Тебя ж до последнего дня Буду кормить и лелеять – Ведь ты как дитя у меня. И верь, докучать я не стану, Любви не буду молить. А если умрешь, на могилу Приду я слезы лить». * * * Меня вы редко понимали, И редко понимал я вас, Но только вместе в грязь попали, Друг друга поняли тотчас. * * * На бульварах Саламанки Воздух свежий, благовонный. Там весной, во мгле вечерней Я гуляю с милой донной. Стройный стан обвив рукою И впивая нежный лепет, Пальцем чувствую блаженным Гордой груди томный трепет. Но шумят в испуге липы, И ручей внизу бормочет, Словно чем то злым и грустным Отравить мне сердце хочет. – Ах, сеньора, чует сердце, Исключен я буду скоро. По бульварам Саламанки Не гулять уж нам, сеньора. * * * И если ты станешь моей женой, Все кумушки лопнут от злости. То будет не жизнь, а праздник сплошной: Подарки, театры и гости. Ругай меня, бей – на все я готов, Мы брань прекратим поцелуем. Но если моих не похвалишь стихов, Запомни: развод неминуем! * * * Вот сосед мой дон Энрикец, Саламанкских дам губитель. Только стенка отделяет От меня его обитель. Днем гуляет он, красоток Обжигая гордым взглядом. Вьется ус, бряцают шпоры, И бегут собаки рядом. Но в прохладный час вечерний Он сидит, мечтая, дома, И в руках его гитара, И в груди его истома. И как хватит он по струнам, Как задаст им, бедным, жару! Чтоб тебе холеру в брюхо За твой голос и гитару! * * * Юность кончена. Приходит Дерзкой зрелости пора, И рука смелее бродит Вдоль прелестного бедра. Не одна, вспылив сначала, Мне сдавалась, ослабев. Лесть и дерзость побеждала Ложный стыд и милый гнев. Но в блаженствах наслажденья Прелесть чувства умерла. Где вы, сладкие томленья, Робость юного осла? * * * Пока изливал я вам скорбь и печали, Вы все, безнадежно зевая, молчали, Но только я в рифмах заворковал Наговорили вы кучу похвал, * * * Ты красива, ты богата, Ты хозяйственна притом. В лучшем виде хлев и погреб, В лучшем виде двор и дом, Сад подчищен и подстрижен, Всюду польза и доход. Прошлогодняя солома У тебя в постель идет. Но увы, ни губ, ни сердца Все ты к делу не приткнешь, И кровати половина Пропадает ни за грош. * * * Зазвучали все деревья, Птичьи гнезда зазвенели. Кто веселый капельмейстер В молодой лесной капелле? То, быть может, серый чибис, Что стоит, кивая гордо? Иль педант, что там кукует Так размеренно и твердо? Или аист, что серьезно, С важным видом дирижера, Отбивает такт ногою В песне радостного хора? Нет, во мне самом укрылся Капельмейстер окрыленный, Он в груди стучит, ликуя, – То амур неугомонный. * * * Снова в сердце жар невольный, Отошла тоска глухая, Снова нежностью томимый, Жадно пью дыханье мая. Вновь брожу по всем аллеям Ранней, позднею порою, – Может быть, под чьей-то шляпкой Облик милый мне открою! Над рекой стою зеленой, На мосту слежу часами: Может быть, проедет мимо И скользнет по мне глазами! Снова в плеске водопада Слышу ропот, грусти полный. Сердцу чуткому понятно Все, о чем тоскуют волны. И затерян я мечтами В дебрях царства золотого, И смеются в парке птицы Над глупцом, влюбленным снова, * * * Бродят звезды-златоножки, Чуть ступают в вышине, Чтоб невольным шумом землю Не смутить в глубоком сне. Лес, прислушиваясь, замер, Что ни листик – то ушко! Холм уснул и, будто руку, Тень откинул далеко. Чу!.. Какой-то звук!.. И эхо Отдалось в душе моей. Был ли то любимой голос Или только соловей? * * * Я вновь мучительно оторван От сердца горячо любимой. Я вновь мучительно оторван, – О, жизни бег неумолимый! Грохочет мост, гремит карета, Внизу поток шумит незримый. Оторван вновь от счастья, света, От сердца горячо любимой. А звезды мчатся в темном небе, Бегут, моей пугаясь муки... Прости! Куда ни бросит жребий, Тебе я верен и в разлуке! * * * Влачусь по свету желчно и уныло. Тоска в душе, тоска и смерть вокруг. Идет ноябрь, предвестник зимних вьюг, Сырым туманом землю застелило. Последний лист летит с березы хилой, Холодный ветер гонит птиц на юг. Вздыхает лес, дымится мертвый луг, И – боже мой! – опять заморосило. * * * На пустынный берег моря Ночь легла. Шумит прибой. Месяц выглянул, и робко Шепчут волны меж собой: «Этот странный незнакомец – Что он, глуп или влюблен? То ликует и смеется, То грустит и плачет он». И, лукаво улыбаясь, Молвит месяц им в ответ: «Он и глупый и влюбленный, И к тому же он поэт», Успокоение Мы спим, как Брут, – мы любим всхрапнуть. Но Брут очнулся – и Цезарю в грудь Вонзил кинжал, от сна воспрянув. Рим пожирал своих тиранов. Не римляне мы, мы курим табак. Иной народ – иной и флаг, И всяк своим могуч и славен. Кто Швабии по клепкам равен? Мы – немцы, мы чтим тишину и закон. Здоров и глубок наш растительный сон. Проснемся – и жажда уж просит стакана. Мы жаждем, но только не крови тирана. Как липа и дуб, мы верны и горды, Мы тем и горды, что дубово тверды, В стране дубов и лип едва ли Потомков Брута вы встречали. А если б – о, чудо! – родился наш Брут, Так Цезаря для него не найдут. И где нам Цезаря взять? Откуда? Вот репа у нас – превосходное блюдо! В Германии тридцать шесть владык (Не правда ль, счет не столь велик!), Звездой нагрудной каждый украшен, Им воздух мартовских Ид не страшен. Зовем их отцами, отчизной своей Зовем страну, что с давних дней Князьям отдана в родовое владенье. Сосиски с капустой для нас объеденье! Когда наш отец на прогулку идет, Мы шляпы снимаем – владыке почет! Немца покорности учат с пеленок, Это тебе не римский подонок! * * * Землю губит злой недуг. Расцветет – и вянет вдруг Все, что свежестью влекло, Что прекрасно и светло. Видно, стал над миром косным Самый воздух смертоносным От миазмов ядовитых Предрассудков неизжитых. Налетев слепою силой, Розы женственности милой От весны, тепла и света Смерть уносит в день расцвета. Гордо мчащийся герой В спину поражен стрелой. И, забрызганные ядом, Лавры достаются гадам. Чуть созревшему вчера – Завтра гнить придет пора, И, послав проклятье миру, Гений разбивает лиру. О, недаром от земли Звезды держатся вдали, Чтоб земное наше зло Заразить их не могло. Нет у мудрых звезд желанья Разделить с людьми страданья, Позабыть, как род людской, Свет и счастье, жизнь, покой. Нет желанья вязнуть в тине, Погибать, как мы, в трясине Или жить в помойной яме, Полной смрадными червями. Их приют в лазури тихой Над земной неразберихой, Над враждой, нуждой и смертью, Над проклятой коловертью. Сострадания полны, Молча смотрят с вышины. И слезинка золотая Наземь падает, блистая. 1649–1793 – ??? Невежливей, чем британцы, едва ли Цареубийцы на свете бывали. Король их Карл, заточен в Уайтхолл, Бессонную ночь перед казнью провел: Глумясь, у ворот веселился народ, И с грохотом строили эшафот. Французы немногим учтивее были: В простом фиакре Луи Капета Они на плаху препроводили, Хотя, по правилам этикета, Даже и при такой развязке Надо возить короля в коляске. Еще было хуже Марии-Антуанетте: Бедняжке совсем отказали в карете. Ее в двуколке на эшафот Повез не придворный, а санкюлот. Дочь Габсбурга рассердилась немало И толстую губку надменно поджала. Французам и бриттам сердечность чужда. Сердечен лишь немец во всем и всегда. Он будет готов со слезами во взоре Блюсти сердечность и в самом терроре. А оскорбить монарха честь Его не вынудит и месть, Карета с гербом, с королевской короной, Шестеркою кони под черной попоной, Весь в трауре кучер, и плача притом, Взмахнет он траурно-черным кнутом – Так будет король наш на плаху доставлен И всепокорнейше обезглавлен. Невольничий корабль 1 Сам суперкарго мингер ван Кук Сидит, погруженный в заботы. Он калькулирует груз корабля И проверяет расчеты. «И гумми хорош, и перец хорош – Всех бочек больше трех сотен. И золото есть, и кость хороша, И черный товар добротен. Шестьсот чернокожих задаром я взял На берегу Сенегала. У них сухожилья – как толстый канат, А мышцы – тверже металла. В уплату пошло дрянное вино, Стеклярус да сверток сатина. Тут виды – процентов на восемьсот, Хотя б умерла половина. Да, если триста штук доживет До гавани Рио-Жанейро, По сотне дукатов за каждого мне Заплатит Гонзалес Перейро». Так предается мингер ван Кук Мечтам, но в эту минуту Заходит к нему корабельный хирург Герр ван дер Смиссен в каюту. Он сух, как палка. Малиновый нос И три бородавки под глазом. «Ну, эскулап мой! – кричит ван Кук, – Не скучно ль моим черномазым?» Доктор, отвесив поклон, говорит: «Не скрою печальных известий. Прошедшей ночью весьма возросла Смертность среди этих бестий. На круг умирало их по двое в день, А нынче семеро пали – Четыре женщины, трое мужчин. Убыток проставлен в журнале. Я трупы, конечно, осмотру подверг – Ведь с этими шельмами горе: Прикинется мертвым, да так и лежит С расчетом, что вышвырнут в море. Я цепи со всех покойников снял И утром, поближе к восходу, Велел, как мною заведено, Дохлятину выкинуть в воду. На них налетели, как мухи на мед, Акулы – целая масса. Я каждый день их снабжаю пайком Из негритянского мяса. С тех пор, как бухту покинули мы, Они плывут подле борта. Для этих каналий вонючий труп Вкуснее всякого торта. Занятно глядеть, с какой быстротой Они учиняют расправу. Та в ногу вцепится, та – в башку, А этой лохмотья по нраву. Нажравшись, они подплывают опять И пялят в лицо мне глазищи, Как будто хотят изъявить свой восторг По поводу лакомой пищи». Но тут ван Кук со вздохом сказал: «Какие ж вы приняли меры? Как нам убыток предотвратить Иль снизить его размеры?» И доктор ответил: «Свою беду Накликали черные сами. От их дыханья в трюме смердит Хуже, чем в свалочной яме. Но часть, безусловно, подохла с тоски – Им нужен какой-нибудь роздых. От скуки безделья лучший рецепт – Музыка, танцы и воздух». Ван Кук вскричал: «Дорогой эскулап! Совет ваш стоит червонца. В вас Аристотель воскрес, педагог Великого македонца! Клянусь, даже первый в Дельфте мудрец, Сам президент комитета По улучшенью тюльпанов – и тот Не дал бы такого совета! Музыку! Музыку! Люди, наверх! Ведите черных на шканцы, И пусть веселятся под розгами те, Кому неугодны танцы!» 2 В бездонной лазури мильоны звезд Горят над простором безбрежным. Глазам красавиц подобны они, Загадочным, грустным и нежным. Они, любуясь, глядят в океан, Где, света подводного полны, Фосфоресцируя в розовой мгле, Шумят сладострастные волны. На судне свернуты паруса, Оно лежит без оснастки, Но палуба залита светом свечей – Там пенье, музыка, пляски. На скрипке пиликает рулевой, Доктор на флейте играет, Юнга неистово бьет в барабан, Кок на трубе завывает. Сто негров, танцуя, беснуются там – От грохота, звона и пляса Им душно, им жарко, и цепи, звеня, Впиваются в черное мясо. От бешеной пляски судно гудит, И, с темным от похоти взором, Иная из черных красоток, дрожа, Сплетается с голым партнером. Надсмотрщик – maоtre de plaisir, – Он хлещет каждое тело, Чтоб не ленились танцоры плясать И не стояли без дела. И ди-дель-дум-дей, и шнед-дере-денг! На грохот, на гром барабана Чудовища вод, пробуждаясь от сна, Плывут из глубин океана. Спросонья акулы тянутся вверх, Ворочая туши лениво, И одурело таращат глаза На небывалое диво. И видят, что завтрака час не настал, И, чавкая сонно губами, Протяжно зевают – их пасть, как пила, Усажена густо зубами. И шнед-дере-денг, и ди-дель-дум-дей – Все громчей и яростней звуки! Акулы кусают себя за хвост От нетерпенья и скуки. От музыки их, вероятно, тошнит, От этого гама и звона. «Не любящим музыки тварям не верь», – Сказал поэт Альбиона. И ди-дель-дум-дей, и шнед-дере-денг – Все громчей и яростней звуки! Стоит у мачты мингер ван Кук, Скрестив молитвенно руки. «О, господи, ради Христа пощади Жизнь этих грешников черных! Не гневайся, боже, на них, ведь они Глупей скотов безнадзорных. Помилуй их ради Христа, за нас Испившего чашу позора! Ведь если их выживет меньше трехсот, Погибла моя контора!» Аффронтенбург (Замок оскорблений) Прошли года! Но замок тот Еще до сей поры мне снится: Я вижу башню пред собой, Я вижу слуг дрожащих лица, И ржавый флюгер, в вышине Скрипевший злобно и визгливо. Едва заслышав этот скрип, Мы все смолкали боязливо. И долго после мы за ним Следили, рта раскрыть не смея, – За каждый звук могло влететь От старого брюзги Борея. Кто был умней – совсем замолк. Там никогда не знали смеха, Там и невинные слова Коварно искажало эхо. В саду у замка старый сфинкс Дремал на мраморе фонтана, И мрамор вечно был сухим, Хоть слезы пил он непрестанно. Проклятый сад! Там нет скамьи, Там нет заброшенной аллеи, Где я не лил бы горьких слез, Где сердце не терзали змеи. Там не нашлось бы уголка, Где скрыться мог я от бесчестий, Где не был уязвлен одной Из грубых или тонких бестий. Лягушка, подглядев за мной, Донос строчила жабе серой, А та, набравши сплетен, шла Шептаться с тетушкой виперой. А тетка с крысой – две кумы, И, спевшись, обе шельмы вскоре Спешили в замок – всей родне Трезвонить о моем позоре. Рождались розы там весной, Но не могли дожить до лета: Их отравлял незримый яд, И розы гибли до расцвета. И бедный соловей зачах – Безгрешный обитатель сада, Он розам пел свою любовь И умер от того же яда. Ужасный сад! Казалось, он Отягощен проклятьем бога. Там сердце среди бела дня Томила темная тревога. Там все глумилось надо мной, Там призрак мне грозил зеленый. Порой мне чудились в кустах Мольбы, и жалобы, и стоны. В конце аллеи был обрыв, Где, разыгравшись на просторе, В часы прилива, в глубине Шумело Северное море. Я уходил туда мечтать, Там были беспредельны дали. Тоска, отчаянье и гнев Во мне, как море, клокотали. Отчаянье, тоска и гнев, Как волны, шли бессильной сменой, Как эти волны, что утес Дробил, взметая жалкой пеной. За вольным бегом парусов Следил я жадными глазами, Но замок проклятый меня Держал железными тисками. О телеологии Для движенья – труд не лишний! – Две ноги нам дал всевышний, Чтоб не стали мы все вместе, Как грибы, торчать на месте. Жить в застое род людской Мог бы и с одной ногой. Дал господь два глаза нам, Чтоб мы верили глазам. Верить книгам да рассказам Можно и с единым глазом. Дал два глаза нам всесильный, Чтоб могли мы видеть ясно, Как, на радость нам, прекрасно Он устроил мир обильный. А средь уличного ада Смотришь в оба поневоле, Чтоб не стать куда не надо, Чтоб не отдавить мозоли. Мы ведь горькие страдальцы, Если жмет ботинок пальцы. Две руки даны нам были, Чтоб вдвойне добро творили, Но не с тем, чтоб грабить вдвое, Прикарманивать чужое, Набивать свои ларцы, Как иные молодцы. (Четко их назвать и ясно Очень страшно и опасно. Удавить! Да вот беда: Всё большие господа, Меценаты, филантропы, Люди чести, цвет Европы! А у немцев нет сноровки Для богатых вить веревки.) Нос один лишь дал нам бог, Два нам были бы не впрок: Сунув их в стакан – едва ли Мы б вина не разливали. Бог нам дал один лишь рот, Ибо два – большой расход. И с одним сыны земли Наболтали, что могли. А двуротый человек Жрал и лгал бы целый век. Так – пока во рту жратва, Не бубнит людское племя, А имея сразу два – Жри и лги в любое время. Нам господь два уха дал. В смысле формы – идеал! Симметричны и равны К чуть-чуть не столь длинны, Как у серых незлонравных Наших родственников славных. Дал господь два уха людям, Зная, что любить мы будем То, что пели Моцарт, Глюк... Будь на свете только стук, Грохот рези звуковой, Геморроидальный вой Мейербера – для него Нам хватило б одного. Тевтелинде в поученье Врал я так на всех парах, Но она сказала: «Ах! Божье обсуждать решенье, Сомневаться, прав ли б о г, – Ах, преступник, ах, безбожник! Видно, захотел сапог Быть умнее, чем сапожник! Но таков уж нрав людской: Чуть заметим грех какой – Почему да почему? Друг, я верила б всему! Мне понятно то, что бог Мудро дал нам пару ног, Глаз, ушей и рук по паре, Что в одном лишь экземпляре Подарил нам рот и нос, Но ответь мне на вопрос: Почему творец светил Столь небрежно упростил Ту срамную вещь, какой Наделен весь пол мужской, Чтоб давать продленье роду И сливать вдобавок воду? Друг ты мой, иметь бы вам Дубликаты для раздела Сих важнейших функций тела. Ведь они, по всем правам, Сколь для личности важны, Столь, равно, и для страны. Девушку терзает стыд От сознанья, что разбит Идеал ее, что он Так банально осквернен. И тоска берет Психею: Ведь какой свершила тур, А под лампой стал пред нею Мэнкен-Писсом бог Амур». Но на сей резон простой Я ответил ей: «Постой! Скуден женский ум и туг! Ты не видишь, милый друг, Смысла функций, в чьем зазорном, Отвратительном, позорном, Ужасающем контрасте – Вечный срам двуногой касте. Пользу бог возвел в систему: В смене функции машин Для потребностей мужчин Экономии проблему Разрешил наш властелин, Нужд вульгарных и священных, Нужд пикантных и презренных Существо упрощено, Воедино сведено. Та же вещь мочу выводит И потомков производит, В ту же дудку жарит всяк – И профессор и босяк, Грубый перст и пальчик гибкий Оба рвутся к той же скрипке. ........ Каждый пьет, и жрет, и дрыхнет, И все тот же фаэтон Смертных мчит за Флегетон». Песнь песней Женское тело – те же стихи! Радуясь дням созиданья, Эту поэму вписал Господь В книгу судеб мирозданья. Был у Творца великий час, Его вдохновенье созрело. Строптивый, капризный материал Оформил он ярко и смело. Воистину женское тело – песнь, Высокая песнь песней! Какая певучесть и стройность во всем! Нет в мире строф прелестней. Один лишь вседержитель мог Такую сделать шею И голову дать – эту главную мысль - Кудрявым возглавьем над нею. А груди! Задорней любых эпиграмм Бутоны их роз на вершине. И как восхитительно к месту пришлась Цезура посредине. А линии бедер: как решена Пластическая задача! Вводная фраза, где фиговый лист – Тоже большая удача. А руки и ноги! Тут кровь и плоть, Абстракции тут не годятся, Губы – как рифмы, но могут притом Шутить, целовать и смеяться. Сама Поэзия во всем, Поэзия – все движенья. На гордом челе этой песни печать Божественного свершенья. Господь, я славлю гений твой И все его причуды, В сравненье с тобой, небесный поэт, Мы жалкие виршеблуды. Сам изучал я песнь твою, Читал ее снова и снова, Я тратил, бывало, и день и ночь, Вникая в каждое слово. Я рад ее вновь и вновь изучать, И в том не вижу скуки. Да только высохли ноги мои От этакой науки. * * * Как медлит время, как ползет Оно чудовищной улиткой! А я лежу не шевелясь, Терзаемый все той же пыткой. Ни солнца, ни надежды луч Не светит в этой темной келье, И лишь в могилу, знаю сам, Отправлюсь я на новоселье. Быть может, умер я давно, И лишь видения былого Толпою пестрой по ночам В мозгу моем проходят снова. Иль для языческих богов, Для призраков иного света Ареной оргий гробовых Стал череп мертвого поэта? Из этих страшных, сладких снов, Бегущих в буйной перекличке, Поэта мертвая рука Стихи слагает по привычке. * * * Цветы, что Матильда в лесу нарвала И, улыбаясь, принесла, Я с тайным ужасом, с тоскою Молящей отстранил рукою. Цветы мне говорят, дразня, Что гроб раскрытый ждет меня, Что, вырванный из жизни милой, Я – труп, не принятый могилой. Мне горек аромат лесной! От этой красоты земной, От мира, где радость, где солнце и розы, Что мне осталось? – Только слезы. Где счастья шумная пора? Где танцы крыс в Grand Opйra? Я слышу теперь, в гробовом молчанье, Лишь крыс кладбищенских шуршанье. О, запах роз! Он прошлых лет Воспоминанья, как балет, Как рой плясуний на подмостках В коротких юбочках и в блестках, Под звуки цитр и кастаньет Выводит вновь из тьмы на свет. Но здесь их песни, пляски, шутки Так раздражающи, так жутки, Цветов не надо. Мне тяжело Внимать их рассказам о том, что прошло, Звенящим рассказам веселого мая. Я плачу, прошлое вспоминая, * * * В мозгу моем пляшут, бегут и шумят Леса, холмы и долины. Сквозь дикий сумбур я вдруг узнаю Обрывок знакомой картины. В воображенье встает городок, Как видно, наш Годесберг древний. Я вновь на скамье под липой густой Сижу перед старой харчевней. Так сухо во рту, будто солнце я съел, Я жаждой смертельной измаян! Вина мне! Из лучшей бочки вина! Скорей наливайте, хозяин! Течет, течет в мою душу вино, Кипит, растекаясь по жилам, И тушит попутно в гортани моей Пожар, зажженный светилом. Еще мне кружку! Я первую пил Без должного восхищенья, В какой-то рассеянности тупой. Вино, я прошу прощенья! Смотрел я на Драхенфельс, в блеске зари Высокой романтики полный, На отраженье руин крепостных, Глядящихся в рейнские волны. Я слушал, как пел виноградарь в саду И зяблик – в кустах молочая. Я пил без чувства и о вине Не думал, вино поглощая. Теперь же я, сунув нос в стакан, Вино озираю сначала И после уж пью. А могу и теперь, Не глядя, хлебнуть как попало. Но что за черт! Пока я пью, Мне кажется, стал я двоиться, Мне кажется, точно такой же, как я, Пьянчуга напротив садится. Он бледен и худ, ни кровинки в лице, Он выглядит слабым и хворым, И так раздражающе смотрит в глаза, С насмешкой и горьким укором. Чудак утверждает, что он – это я, Что мы с ним одно и то же, Один несчастный больной человек В бреду, на горячечном ложе, Что здесь не харчевня, не Годесберг, А дальний Париж и больница... Ты лжешь мне, бледная немочь, ты лжешь! Не смей надо мною глумиться! Смотри, я здоров и, как роза, румян, Я так силен – просто чудо! И если рассердишь меня, берегись! Тебе придется худо! «Дурак!» – вздохнул он, плечами пожав, И это меня взорвало. Откуда ты взялся, проклятый двойник? Я начал дубасить нахала. Но странно, свое второе «я» Наотмашь я бью кулаками, А шишки наставляю себе И весь покрыт синяками. От этой драки внутри у меня Все пересохло снова. Хочу вина попросить – не могу, В губах застревает слово. Я грохаюсь об пол и, словно сквозь сон, Вдруг слышу: «Примочки к затылку И снова микстуру – по ложке в час, Пока не кончит бутылку». * * * В часах песочная струя Иссякла понемногу. Сударыня ангел, супруга моя, То смерть меня гонит в дорогу. Смерть из дому гонит меня, жена, Тут не поможет сила. Из тела душу гонит она, Душа от страха застыла. Не хочет блуждать неведомо где, С уютным гнездом расставаться, И мечется, как блоха в решете, И молит: «Куда ж мне деваться?» Увы, не поможешь слезой да мольбой, Хоть плачь, хоть ломай себе руки! Ни телу с душой, ни мужу с женой Ничем не спастись от разлуки. * * * Цветами цвел мой путь весенний, Но лень срывать их было мне. Я мчался, в жажде впечатлений, На быстроногом скакуне. Теперь, уже у смерти в лапах, Бессильный, скрюченный, больной, Я слышу вновь дразнящий запах Цветов, не сорванных весной. Из них одна мне, с юной силой, Желтофиоль волнует кровь. Как мог я сумасбродки милой Отвергнуть пылкую любовь! Но поздно! Пусть поглотит Лета Бесплодных сожалений гнет И в сердце вздорное поэта Забвенье сладкое прольет. * * * Завидовать жизни любимцев судьбы Смешно мне, но я поневоле Завидовать их смерти стал – Кончине без муки, без боли. В роскошных одеждах, с венком на челе, В разгаре веселого пира, Внезапно скошенные серпом, Они уходят из мира. И, в праздничном платье, в убранстве из роз, До старости бодры и юны, С улыбкой покидают жизнь Все фавориты Фортуны. Сухотка их не извела, У мертвых приличная мина. Достойно вводит их в свой круг Царевна Прозерпина. Завидный жребий! А я семь лет, С недугом тяжким в теле, Терзаюсь – и не могу умереть, И корчусь в моей постели. О господи, пошли мне смерть, Внемли моим рыданьям! Ты сам ведь знаешь, у меня Таланта нет к страданьям. Прости, но твоя нелогичность, господь, Приводит в изумленье. Ты создал поэта-весельчака И портишь ему настроенье! От боли веселый мой нрав зачах, Ведь я уже меланхолик! Кончай эти шутки, не то из меня Получится католик! Тогда я вой подниму до небес По обычаю добрых папистов. Не допусти, чтоб так погиб Умнейший из юмористов! * * * Мой день был ясен, ночь моя светла, Всегда венчал народ мой похвалами Мои стихи. В сердцах рождая пламя, Огнем веселья песнь моя текла. Цветет мой август, осень не пришла, Но жатву снял я, – хлеб лежит скирдами. И что ж? Покинуть мир с его дарами, Покинуть все, чем эта жизнь мила! Рука дрожит. Ей лира изменила. Ей не поднять бокала золотого, Откуда прежде пил я своевольно. О, как страшна, как мерзостна могила! Как сладостен уют гнезда земного! И как расстаться горестно и больно! Enfant perdu [1] Как часовой, на рубеже Свободы Лицом к врагу стоял я тридцать лет. Я знал, что здесь мои промчатся годы, И я не ждал ни славы, ни побед. Пока друзья храпели беззаботно, Я бодрствовал, глаза вперив во мрак. (В иные дни прилег бы сам охотно, Но спать не мог под храп лихих вояк.) Порой от страха сердце холодело (Ничто не страшно только дураку!) – Для бодрости высвистывал я смело Сатиры злой звенящую строку. Ружье в руке, всегда на страже ухо – Кто б ни был враг, ему один конец! Вогнал я многим в мерзостное брюхо Мой раскаленный, мстительный свинец. Но что таить! И враг стрелял порою Без промаха – забыл я ранам счет. Теперь – увы! я все равно не скрою – Слабеет тело, кровь моя течет... Свободен пост! Мое слабеет тело... Один упал – идут другие вслед. Я не сдаюсь! Мое оружье цело! Но в этом сердце крови больше нет. Германия. Зимняя сказка Предисловие Я написал эту поэму в январе месяце нынешнего года, и вольный воздух Парижа, просквозивший мои стихи, чрезмерно заострил многие строфы. Я не преминул немедленно смягчить и вырезать все несовместимое с немецким климатом. Тем не менее, когда в марте месяце рукопись была отослана в Гамбург моему издателю, последний поставил мне на вид некоторые сомнительные места. Я должен был еще раз предаться роковому занятию – переделке рукописи, и тогда-то серьезные тона померкли или были заглушены веселыми бубенцами юмора. В злобном нетерпении я снова сорвал с некоторых голых мыслей фиговые листочки и, может быть, ранил иные чопорно-неприступные уши. Я очень сожалею об этом, но меня утешает сознание, что и более великие писатели повинны в подобных преступлениях. Я не имею в виду Аристофана, так как последний был слепым язычником, и его афинская публика, хотя и получила классическое образование, мало считалась с моралью. Уже скорее я мог бы сослаться на Сервантеса и Мольера: первый писал для высокой знати обеих Кастилий, а второй – для великого короля и великого версальского Двора! Ах, я забываю, что мы живем в крайне буржуазное время, и с сожалением предвижу, что многие дочери образованных сословий, населяющих берега Шпрее, а то и Альстера, сморщат по адресу моих бедных стихов свои более или менее горбатые носики. Но с еще большим прискорбием я предвижу галдеж фарисеев национализма, которые разделяют антипатии правительства, пользуются любовью и уважением цензуры и задают тон в газетах, когда дело идет о нападении на иных врагов, являющихся одновременно врагами их высочайших повелителей. Наше сердце достаточно вооружено против негодования этих доблестных лакеев в черно-красно-золотых ливреях. Я уже слышу их пропитые голоса: «Ты оскорбляешь даже наши цвета, предатель отечества, французофил, ты хочешь отдать французам свободный Рейн!» Успокойтесь! Я буду уважать и чтить ваши цвета, если они этого заслужат, если перестанут быть забавой холопов и бездельников. Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершине немецкой мысли, сделайте его стягом свободного человечества, и я отдам за него кровь моего сердца. Успокойтесь! Я люблю отечество не меньше, чем вы. Из-за этой любви я провел тринадцать лет в изгнании, но именно из-за этой любви возвращаюсь в изгнание, может быть, навсегда, без хныканья и кривых страдальческих гримас. Я французофил, я друг французов, как и всех людей, если они разумны и добры; я сам не настолько глуп или зол, чтобы желать моим немцам или французам, двум избранным великим народам, свернуть себе шею на благо Англии и России, к злорадному удовольствию всех юнкеров и попов земного шара. Успокойтесь! Я никогда не уступлю французам Рейна, уже по той простой причине, что Рейн принадлежит мне. Да, мне принадлежит он по неотъемлемому праву рождения, – я вольный сын свободного Рейна, но я еще свободнее, чем он: на его берегу стояла моя колыбель, и я отнюдь не считаю, что Рейн должен принадлежать кому-то другому, а не детям его берегов. Эльзас и Лотарингию я не могу, конечно, присвоить Германии с такой же легкостью, как вы, ибо люди этих стран крепко держатся за Францию, благодаря законам равенства и тем свободам, которые так приятны буржуазной душе, но для желудка масс оставляют желать многого. А между тем Эльзас и Лотарингия снова примкнут к Германии, когда мы закончим то, что начали французы, когда мы опередим их в действии, как опередили уже в области мысли, если мы взлетим до крайних ее выводов и разрушим рабство в его последнем убежище – на небе, когда бога, живущего на земле в человеке, мы спасем от его униженья, когда мы станем освободителями бога, когда бедному, обездоленному народу, осмеянному гению и опозоренной красоте мы вернем их прежнее величие, как говорили и пели наши великие мастера и как хотим этого мы, – мы, молодые. Да, не только Эльзас и Лотарингия, но вся Франция станет нашей, вся Европа, весь мир, – весь мир будет немецким! О таком назначении и всемирном господстве Германии я часто мечтаю, бродя под дубами. Таков мой патриотизм. В ближайшей книге я вернусь к этой теме с крайней решимостью, с полной беспощадностью, но, конечно, и с полной лояльностью. Я с уважением встречу самые резкие нападки, если они будут продиктованы искренним убеждением. Я терпеливо прощу и злейшую враждебность. Я отвечу даже глупости, если она будет честной. Но все мое молчаливое презрение я брошу беспринципному ничтожеству, которое из жалкой зависти или нечистоплотных личных интересов захочет опорочить в общественном мнении мое доброе имя, прикрывшись маской патриотизма, а то, чего доброго, религии или морали. Иные ловкачи так умело пользовались для этого анархическим состоянием нашей литературно-политической прессы, что я только диву давался. Поистине, Шуфтерле не умер, он еще жив и много лет уже стоит во главе прекрасно организованной банды литературных разбойников, которые обделывают свои делишки в богемских лесах нашей политической прессы, сидят, притаившись, за каждым кустом, за каждым листком, и повинуются малейшему свисту своего достойного атамана. Еще одно слово. «Зимняя сказка» замыкает собою «Новые стихотворения», которые в данный момент выходят в издательстве Гофмана и Кампе. Чтобы добиться выхода поэмы отдельной книгой, мой издатель должен был представить ее на особое рассмотрение властей предержащих, и новые варианты и пропуски являются плодом этой высочайшей критики. Гамбург, 17 сентября 1844 года Генрих Гейне Прощание с Парижем Прощай, Париж, прощай, Париж, Прекрасная столица, Где все ликует и цветет, Поет и веселится! В моем немецком сердце боль, Мне эта боль знакома, Единственный врач исцелил бы меня – И он на севере, дома. Он знаменит уменьем своим, Он лечит быстро и верно, Но, признаюсь, от его микстур Мне уж заранее скверно. Прощай, чудесный французский народ, Мои веселые братья! От глупой тоски я бегу, чтоб скорей Вернуться в ваши объятья. Я даже о запахе торфа теперь Вздыхаю не без грусти, Об овцах в Люнебургской степи, О репе, о капусте. О грубости нашей, о табаке, О пиве, пузатых бочках, О толстых гофратах, ночных сторожах, О розовых пасторских дочках. И мысль увидеть старушку-мать, Признаться, давно я лелею. Ведь скоро уже тринадцать лет, Как мы расстались с нею. Прощай, моя радость, моя жена, Тебе не понять эту муку. Я так горячо обнимаю тебя – И сам тороплю разлуку. Жестоко терзаясь, – от счастья с тобой, От высшего счастья бегу я. Мне воздух Германии нужно вдохнуть, Иль я погибну, тоскуя. До боли доходит моя тоска, Мой страх, мое волненье. Предчувствуя близость немецкой земли, Нога дрожит в нетерпенье. Но скоро, надеюсь, я стану здоров, Опять в Париж прибуду И к Новому году тебе привезу Подарков целую груду. Глава 1 То было мрачной порой ноября. Хмурилось небо сурово. Дул ветер. Холодным, дождливым днем Вступал я в Германию снова. И вот я увидел границу вдали, И сразу так сладко и больно В груди защемило. И, что таить, – Я прослезился невольно. Но вот я услышал немецкую речь, И даже выразить трудно: Казалось, что сердце кровоточит, Но сердцу было так чудно! То пела арфистка – совсем дитя, И был ее голос фальшивым, Но чувство правдивым. Я слушал ее, Растроганный грустным мотивом. И пела она о муках любви, О жертвах, о свиданье В том лучшем мире, где душе Неведомо страданье. И пела она о скорби земной, О счастье, так быстро летящем, О райских садах, где потонет душа В блаженстве непреходящем. То старая песнь отреченья была, Легенда о радостях неба, Которой баюкают глупый народ, Чтоб не просил он хлеба. Я знаю мелодию, знаю слова, Я авторов знаю отлично: Они без свидетелей тянут вино, Проповедуя воду публично. Я новую песнь, я лучшую песнь Теперь, друзья, начинаю: Мы здесь, на земле, устроим жизнь На зависть небу и раю. При жизни счастье нам подавай! Довольно слез и муки! Отныне ленивое брюхо кормить Не будут прилежные руки. А хлеба хватит нам для всех, – Закатим пир на славу! Есть розы и мирты, любовь, красота И сладкий горошек в приправу. Да, сладкий горошек найдется для всех, А неба нам не нужно, – Пусть ангелы да воробьи Владеют небом дружно! Скончавшись, крылья мы обретем, Тогда и взлетим в их селенья, Чтоб самых блаженных пирожных вкусить И пресвятого печенья. Вот новая песнь, лучшая песнь! Ликуя, поют миллионы! Умолкнул погребальный звон, Забыты надгробные стоны! С прекрасной Европой помолвлен теперь Свободы юный гений, – Любовь призывает счастливцев на пир, На радостный пир наслаждений. И пусть обошлось у них без попа – Их брак мы считаем законным! Хвала невесте, и жениху, И детям, еще не рожденным! Венчальный гимн эта новая песнь, Лучшая песнь поэта! В моей душе восходит звезда Высокого обета. И сонмы созвездий пылают кругом, Текут огневыми ручьями. В волшебном приливе сил я могу Дубы вырывать с корнями. Живительный сок немецкой земли Огнем напоил мои жилы. Гигант, материнской коснувшись груди, Исполнился новой силы. Глава 2 Малютка все распевала песнь О светлых горних странах. Чиновники прусской таможни меж тем Копались в моих чемоданах. Обнюхали все, раскидали кругом Белье, платки, манишки, Ища драгоценности, кружева И нелегальные книжки. Глупцы, вам ничего не найти, И труд ваш безнадежен! Я контрабанду везу в голове, Не опасаясь таможен. Я там ношу кружева острот Потоньше брюссельских кружев – Они исколют, изранят вас, Свой острый блеск обнаружив. В моей голове сокровища все, Венцы грядущим победам, Алмазы нового божества, Чей образ высокий неведом. И много книг в моей голове, Поверьте слову поэта! Как птицы в гнезде, там щебечут стихи, Достойные запрета. И в библиотеке сатаны Нет более колких басен, Сам Гофман фон Фаллерслебен для вас Едва ли столь опасен. Один пассажир, сосед мой, сказал, И тон его был непреложен: «Пред вами в действии Прусский Союз, – Большая система таможен. Таможенный союз – залог Национальной жизни. Он цельность и единство даст Разрозненной отчизне. Нас внешним единством свяжет он, Как говорят, матерьяльным. Цензура единством наш дух облечет Поистине идеальным. Мы станем отныне едины душой, Едины мыслью и телом, Германии нужно единство теперь И в частностях и в целом». Глава 3 В Ахене, в древнем соборе, лежит Carolus Magnus – Великий, Не следует думать, что это Карл Майер из швабской клики. Я не хотел бы, как мертвый монарх, Лежать в гробу холодном; Уж лучше на Неккаре в Штуккерте жить Поэтом, пускай негодным. В Ахене даже у псов хандра – Лежат, скуля беззвучно: «Дай, чужеземец, нам пинка, А то нам очень скучно!» Я в этом убогом сонливом гнезде Часок пошатался уныло И, встретив прусских военных, нашел, Что все осталось, как было. Высокий красный воротник, Плащ серый, все той же моды. «Мы в красном видим французскую кровь», – Пел Кернер в прежние годы. Смертельно тупой, педантичный народ! Прямой, как прежде, угол Во всех движеньях. И подлая спесь В недвижном лице этих пугал. Шагают, ни дать ни взять, – манекен, Муштра у них на славу! Иль проглотили палку они, Что их обучала уставу? Да, фухтель не вывелся, он только внутрь Ушел, как память о старом. Сердечное «ты» о прежнем «он» Напоминает недаром, И, в сущности, ус, как новейший этап, Достойно наследовал косам! Коса висела на спине, Теперь – висит под носом. Зато кавалерии новый костюм И впрямь придуман не худо: Особенно шлем достоин похвал, А шпиц на шлеме – чудо! Тут вам и рыцарство и старина, Все так романтически дико, Что вспомнишь Иоганну де Монфокон, Фуке, и Брентано, и Тика. Тут вам оруженосцы, пажи, Отличная, право, картина: У каждого в сердце – верность и честь, На заднице – герб господина. Тут вам и турнир, и крестовый поход, Служенье даме, обеты, – Не знавший печати, хоть набожный век, В глаза не видавший газеты. Да, да, сей шлем понравился мне. Он – плод высочайшей заботы. Его изюминка – острый шпиц! Король – мастак на остроты! Боюсь только, с этой романтикой – грех: Ведь если появится тучка, Новейшие молнии неба на вас Притянет столь острая штучка. Советую выбрать полегче убор И на случай военной тревоги – При бегстве средневековый шлем Стеснителен в дороге! На почте я знакомый герб Увидел над фасадом, И в нем – ненавистную птицу, чей глаз Как будто брызжет ядом. О, мерзкая тварь, попадешься ты мне, – Я рук не пожалею! Выдеру когти и перья твои, Сверну проклятой шею! На шест высокий вздерну тебя, Для всех открою заставы И рейнских вольных стрелков повелю Созвать для веселой забавы. Венец и державу тому молодцу, Что птицу сшибет стрелою. Мы крикнем: «Да здравствует король!» – И туш сыграем герою. Глава 4 Мы поздно вечером прибыли в Кельн. Я Рейна услышал дыханье, Немецкий воздух пахнул мне в лицо И вмиг оказал влиянье На мой аппетит. Я омлет с ветчиной Вкусил благоговейно, Но был он, к несчастью, пересолен, – Пришлось заказать рейнвейна. И ныне, как встарь, золотится рейнвейн В зеленоватом стакане. Но лишнего хватишь – ударит в нос, И голова в тумане. Так сладко щекочет в носу! А душа Растаять от счастья готова. Меня потянуло в пустынную ночь – Бродить по городу снова. Дома смотрели мне в лицо, И было желанье в их взгляде Скорей рассказать мне об этой земле, О Кельне, священном граде. Сетями гнусными святош Когда-то был Кельн опутан. Здесь было царство темных людей, Но здесь же был Ульрих фон Гуттен. Здесь церковь на трупах плясала канкан, Свирепствуя беспредельно, Строчил доносы подлые здесь Гохстраатен – Менцель Кельна. Здесь книги жгли и жгли людей, Чтоб вытравить дух крамольный, И пели при этом, славя творца Под радостный звон колокольный. Здесь глупость и злоба крутили любовь Иль грызлись, как псы над костью. От их потомства и теперь Разит фанатической злостью. Но вот он! В ярком сиянье луны Неимоверной махиной, Так дьявольски черен, торчит в небеса Собор над водной равниной. Бастилией духа он должен был стать; Святейшим римским пролазам Мечталось: «Мы в этой гигантской тюрьме Сгноим немецкий разум». Но Лютер сказал знаменитое: «Стой!», И триста лет уже скоро, Как прекратилось навсегда Строительство собора. Он не был достроен – и благо нам! Ведь в этом себя проявила Протестантизма великая мощь, Германии новая сила. Вы, жалкие плуты, Соборный союз, Не вам – какая нелепость! – Не вам воскресить разложившийся труп, Достроить старую крепость. О, глупый бред! Бесполезно теперь, Торгуя словесным елеем, Выклянчивать грош у еретиков, Ходить за подачкой к евреям. Напрасно будет великий Франц Лист Вам жертвовать сбор с выступлений! Напрасно будет речами блистать Король – доморощенный гений! Не будет закончен Кельнский собор, Хоть глупая швабская свора Прислала корабль наилучших камней На построенье собора. Не будет закончен – назло воронью И совам той гнусной породы, Которой мил церковный мрак И башенные своды. И даже такое время придет, Когда без особого спора, Не кончив зданье, соорудят Конюшню из собора. «Но если собор под конюшню отдать, С мощами будет горе. Куда мы денем святых волхвов, Лежащих в алтарном притворе?» Пустое! Ну время ль возиться теперь С делами церковного клира! Святым царям из восточной земли Найдется другая квартира. А впрочем, я дам превосходный совет: Им лучшее место, поверьте, – Те клетки железные, что висят На башне Санкт-Ламберти. А если один из троих пропал – Невелика утрата: Повесьте подле восточных царей Их западного собрата. Глава 5 И, к Рейнскому мосту придя наконец В своем бесцельном блужданье, Я увидал, как старый Рейн Струится в лунном сиянье. «Привет тебе, мой старый Рейн! Ну как твое здоровье? Я часто вспоминал тебя С надеждой и любовью». И странно: кто-то в темной воде Зафыркал, закашлялся глухо, И хриплый старческий голос вдруг Мое расслышало ухо: «Здорово, мой мальчик, я очень рад, Что вспомнил ты старого друга. Тринадцать лет я тебя не видал, Подчас приходилось мне туго. Я в Бибрихе наглотался камней, А это, знаешь, не шутка; Но те стихи, что Беккер творит, Еще тяжелей для желудка. Он девственницей сделал меня, Какой-то недотрогой, Которая свой девичий венок Хранит в непорочности строгой. Когда я слышу глупую песнь, Мне хочется вцепиться В свою же бороду. Я готов В самом себе утопиться. Французам известно, что девственность я Утратил волею рока, Ведь им уж случалось меня орошать Струями победного сока. Глупейшая песня! Глупейший поэт! Он клеветал без стесненья, Скомпрометировал просто меня С политической точки зренья. Ведь если французы вернутся сюда, Ну что я теперь им отвечу? А кто, как не я, молил небеса Послать нам скорую встречу! Я так привязан к французикам был, Любил их милые штучки. Они и теперь еще скачут, ноют И носят белые брючки? Их видеть рад я всей душой, Но я боюсь их насмешек: Иной раз таким подденут стихом, Что не раскусишь орешек. Тотчас прибежит Альфред де Мюссе, Задира желторотый, И первый пробарабанит мне Свои дрянные остроты». И долго бедный старый Рейн Мне жаловался глухо. Как мог, я утешил его и сказал Для ободренья духа: «Не бойся, мой старый, добрый Рейн, Не будут глумиться французы: Они уж не те французы теперь – У них другие рейтузы. Рейтузы их не белы, а красны, У них другие пряжки, Они не скачут, не поют, Задумчивы стали, бедняжки. У них не сходят с языка И Кант, и Фихте, и Гегель. Пьют черное пиво, курят табак, Нашлись и любители кегель. Они филистеры, так же, как мы, И даже худшей породы. Они Генгстенбергом клянутся теперь, Вольтер там вышел из моды. Альфред де Мюссе, в этом ты прав, И нынче мальчишка вздорный, Но ты не горюй: мы запрем на замок Его язычок задорный. Пускай протрещит он плохой каламбур, – Мы штучку похуже устроим: Просвищем, что у прелестных дам Бывало с нашим героем, А Беккер – да ну его, добрый мой Рейн, Не думай о всяком вздоре! Ты песню получше услышишь теперь. Прощай, мы свидимся вскоре». Глава 6 Вслед Паганини бродил, как тень, Свой Spiritus familiaris, То псом, то критиком становясь, – Покойным Георгом Гаррис. Бонапарту огненный муж возвещал, Где ждет героя победа. Свой дух и у Сократа был, И это не признаки бреда. Я сам, засидевшись в ночи у стола В погоне за рифмой крылатой, Не раз замечал, что за мною стоит Неведомый соглядатай. Он что-то держал под черным плащом, Но вдруг – на одно мгновенье – Сверкало, будто блеснул топор, И вновь скрывалось виденье, Он был приземист, широкоплеч, Глаза – как звезды, блестящи. Писать он мне никогда не мешал, Стоял в отдаленье чаще. Я много лет не встречался с ним, Приходил он, казалось, бесцельно, Но вдруг я снова увидел его В полночь на улицах Кельна. Мечтая, блуждал я в ночной тишине И вдруг увидал за спиною Безмолвную тень. Я замедлил шаги И стал. Он стоял за мною. Стоял, как будто ждал меня, И вновь зашагал упорно, Лишь только я двинулся. Так пришли Мы к площади соборной. Мне страшен был этот призрак немой! Я молвил: «Открой же хоть ныне, Зачем преследуешь ты меня В полуночной пустыне? Зачем ты приходишь, когда все спит, Когда все немо и глухо, Но в сердце – вселенские чувства, и мозг Пронзают молнии духа. О, кто ты, откуда? Зачем судьба Нас так непонятно связала? Что значит блеск под плащом твоим, Подобный блеску кинжала?» Ответ незнакомца был крайне сух И даже флегматичен: «Пожалуйста, не заклинай меня, Твой тон чересчур патетичен. Знай, я не призрак былого, не тень, Покинувшая могилу. Мне метафизика ваша чужда, Риторика не под силу. У меня практически трезвый уклад, Я действую твердо и ровно, И, верь мне, замыслы твои Осуществлю безусловно. Тут, может быть, даже и годы нужны, Ну что ж, подождем, не горюя. Ты – мысль, я – действие твое, И в жизнь мечты претворю я. Да, ты судья, а я палач, И я, как раб молчаливый, Исполню каждый твой приговор, Пускай несправедливый. Пред консулом ликтор шел с топором, Согласно обычаю Рима. Твой ликтор, ношу я топор за тобой Для прочего мира незримо. Я ликтор твой, я иду за тобой, И можешь рассчитывать смело На острый этот судейский топор. Итак, ты – мысль, я – дело». Глава 7 Вернувшись домой, я разделся и вмиг Уснул, как дитя в колыбели. В немецкой постели так сладко спать, Притом в пуховой постели! Как часто мечтал я с глубокой тоской О мягкой немецкой перине, Вертясь на жестком тюфяке В бессонную ночь на чужбине! И спать хорошо, и мечтать хорошо В немецкой пуховой постели, Как будто сразу с немецкой души Земные цепи слетели. И, все презирая, летит она ввысь, На самое небо седьмое. Как горды полеты немецкой души Во сне, в ее спальном покое! Бледнеют боги, завидев ее. В пути, без малейших усилий, Она срывает сотни звезд Ударом мощных крылий. Французам и русским досталась земля, Британец владеет морем. Зато в воздушном царстве грез Мы с кем угодно поспорим. Там гегемония нашей страны, Единство немецкой стихии. Как жалко ползают по земле Все нации другие! Я крепко заснул, и снилось мне, Что снова блуждал я бесцельно В холодном сиянье полной луны По гулким улицам Кельна. И всюду за мной скользил по пятам Тот черный, неумолимый. Я так устал, я был разбит – Но бесконечно шли мы! Мы шли без конца, и сердце мое Раскрылось зияющей раной, И капля за каплей алая кровь Стекала на грудь непрестанно. Я часто обмакивал пальцы в кровь И часто, в смертельной истоме, Своею кровью загадочный знак Чертил на чьем-нибудь доме. И всякий раз, отмечая дом Рукою окровавленной, Я слышал, как, жалобно плача, вдали Колокольчик звенит похоронный. Меж тем побледнела, нахмурясь, луна На пасмурном небосклоне. Неслись громады клубящихся туч, Как дикие черные кони. И всюду за мной скользил по пятам, Скрывая сверканье стали, Мой черный спутник. И долго мы с ним Вдоль темных улиц блуждали. Мы шли и шли, наконец глазам Открылись гигантские формы: Зияла раскрытая настежь дверь – И так проникли в собор мы. В чудовищной бездне парила ночь, А холод был – как в могиле, И, только сгущая бездонную тьму, Лампады робко светили. Я медленно брел вдоль огромных подпор В гнетущем безмолвии храма И слышал только мерный шаг, За мною звучавший упрямо. Но вот открылась в блеске свечей В убранстве благоговейном, Вся в золоте и драгоценных камнях Капелла трех королей нам. О чудо! Три святых короля, Чей смертный сон так долог, Теперь на саркофагах верхом Сидели, откинув полог. Роскошный и фантастичный убор Одел гнилые суставы, Прикрыты коронами черепа, В иссохших руках – державы. Как остовы кукол, тряслись костяки, Покрытые древней пылью. Сквозь благовонный фимиам Разило смрадной гнилью. Один из них тотчас задвигал ртом И начал без промедленья Выкладывать, почему от меня Он требует уваженья. Во-первых, потому, что он мертв, Во-вторых, он монарх державный, И, в-третьих, он святой. Но меня Не тронул сей перечень славный, И я ответил ему, смеясь: «Твое проиграно дело! В преданья давней старины Ты отошел всецело. Прочь! Прочь! Ваше место – в холодной земле, Всему живому вы чужды, А эти сокровища жизнь обратит Себе на насущные нужды. Веселая конница будущих лет Займет помещенья собора. Убирайтесь! Иль вас раздавят, как вшей, И выметут с кучей сора!» Я кончил и отвернулся от них, И грозно блеснул из мрака Немого спутника грозный топор, Он понял все, без знака, Приблизился и, взмахнув топором, Пока я медлил у двери, Свалил и расколошматил в пыль Скелеты былых суеверий. И жутко, отдавшись гулом во тьме, Удары прогудели. Кровь хлынула из моей груди, И я вскочил с постели. Глава 8 От Кельна до Гагена стоит проезд Пять талеров прусской монетой. Я не попал в дилижанс, и пришлось Тащиться почтовой каретой. Сырое осеннее утро. Туман. В грязи увязала карета. Но жаром сладостным была Вся кровь моя согрета. О, воздух отчизны! Я вновь им дышал, Я пил аромат его снова. А грязь на дорогах! То было дерьмо Отечества дорогого. Лошадки радушно махали хвостом, Как будто им с детства знаком я. И были мне райских яблок милей Помета их круглые комья. Вот Мюльгейм. Чистенький городок. Чудесный нрав у народа! Я проезжал здесь последний раз Весной тридцать первого года. Тогда природа была в цвету, И весело солнце смеялось, И птицы пели любовную песнь, И людям сладко мечталось. Все думали: «Тощее рыцарство нам Покажет скоро затылок. Мы им вослед презентуем вина Из длинных железных бутылок. И, стяг сине-красно-белый взметнув, Под песни и пляски народа, Быть может, и Бонапарта для нас Из гроба поднимет Свобода». О, господи! Рыцари все еще здесь! Иные из этих каналий Пришли к нам сухими, как жердь, а у нас Толщенное брюхо нажрали. Поджарая сволочь, сулившая нам Любовь, Надежду, Веру, Успела багровый нос нагулять, Рейнвейном упившись не в меру. Свобода, в Париже ногу сломав, О песнях и плясках забыла. Ее трехцветное знамя грустит, На башнях повиснув уныло. А император однажды воскрес, Но уже без огня былого, Британские черви смирили его, И слег он безропотно снова. Я сам провожал катафалк золотой, Я видел гроб золоченый. Богини победы его несли Под золотою короной. Далёко, вдоль Елисейских полей, Под аркой Триумфальной, В холодном тумане, по снежной грязи Тянулся кортеж погребальный. Фальшивая музыка резала слух, Все музыканты дрожали От стужи. Глядели орлы со знамен В такой глубокой печали. И взоры людей загорались огнем Оживших воспоминаний. Волшебный сон империи вновь Сиял в холодном тумане. Я плакал сам в тот скорбный день Слезами горя немого, Когда звучало «Vive l'Empereur!» [2], Как страстный призыв былого. Глава 9 Из Кельна в семь сорок пять утра Я снова пустился в дорогу, И в Гаген мы прибыли около трех. Теперь – закусим немного! Накрыли. Весь старонемецкий стол Найдется здесь, вероятно, Сердечный привет тебе, свежий салат, Как пахнешь ты ароматно! Каштаны с подливкой в капустных листах, Я в детстве любил не вас ли? Здорово, моя родная треска, Как мудро ты плаваешь в масле! Кто к чувству способен, тому всегда Аромат его родины дорог. Я очень люблю копченую сельдь, И яйца, и жирный творог. Как бойко плясала в жиру колбаса! А эти дрозды-милашки, Амурчики в муссе, хихикали мне, Лукавые строя мордашки. «Здорово, земляк! – щебетали они. – Ты где же так долго носился? Уж верно, ты в чужой стороне С чужою птицей водился?» Стояла гусыня на столе, Добродушно-простая особа. Быть может, она любила меня, Когда мы были молоды оба. Она, подмигнув значительно мне, Так нежно, так грустно смотрела! Она обладала красивой душой, Но у ней было жесткое тело. И вот наконец поросенка внесли, Он выглядел очень мило. Доныне лавровым листом у нас Венчают свиные рыла! Глава 10 За Гагеном скоро настала ночь, И вдруг холодком зловещим В кишках потянуло. Увы, трактир Лишь в Унне нам обещан. Тут шустрая девочка поднесла Мне пунша в дымящейся чашке. Глаза были нежны, как лунный свет, Как шелк – золотые кудряшки. Ее шепелявый вестфальский акцент, – В нем было столько родного! И пунш перенес меня в прошлые дни, И вместе сидели мы снова, О братья вестфальцы! Как часто пивал Я в Геттингене с вами! Как часто кончали мы ночь под столом, Прижавшись друг к другу сердцами! Я так сердечно любил всегда Чудесных, добрых вестфальцев! Надежный, крепкий и верный народ, Не врут, не скользят между пальцев. А как на дуэли держались они, С какою львиной отвагой! Каким молодцом был каждый из них С рапирой в руке иль со шпагой! И выпить и драться они мастера, А если протянут губы Иль руку в знак дружбы – заплачут вдруг, Сентиментальные дубы! Награди тебя небо, добрый народ, Твои посевы утроив! Спаси от войны и от славы тебя, От подвигов и героев! Господь помогай твоим сыновьям Сдавать успешно экзамен. Пошли твоим дочкам добрых мужей И деток хороших, – amen! [3] Глава 11 Вот он, наш Тевтобургский лес! Как Тацит в годы оны, Классическую вспомним топь, Где Вар сгубил легионы. Здесь Герман, славный херусский князь, Насолил латинской собаке. Немецкая нация в этом дерьме Героем вышла из драки. Когда бы Герман не вырвал в бою Победу своим блондинам, Немецкой свободе был бы капут, И стал бы Рим господином. Отечеству нашему были б тогда Латинские нравы привиты, Имел бы и Мюнхен весталок своих, И швабы звались бы квириты. Гаруспекс новый, наш Генгстенберг Копался б в кишечнике бычьем. Неандер стал бы, как истый авгур, Следить за полетом птичьим. Бирх-Пфейфер тянула бы скипидар, Подобно римлянкам знатным, – Говорят, что от этого запах мочи У них был очень приятным. Наш Раумер был бы уже не босяк, Но подлинный римский босякус. Без рифмы писал бы Фрейлиграт, Как сам Horatius Flaccus [4]. Грубьян-попрошайка папаша Ян – Он звался б теперь грубиянус. Me Hercule! [5] Масман знал бы латынь, Наш Marcus Tullius Masmanus! Друзья прогресса мощь свою Пытали б на львах и шакалах В песке арен, а не так, как теперь, – На шавках в мелких журналах. Не тридцать шесть владык, а один Нерон давил бы нас игом, И мы вскрывали бы вены себе, Противясь рабским веригам. А Шеллинг бы, Сенекой став, погиб, Сраженный таким конфликтом, Корнелиус наш услыхал бы тогда: Cacatum non est pictum [6]. Слава господу! Герман выиграл бой, И прогнаны чужеземцы, Вар с легионами отбыл в рай, А мы по-прежнему – немцы. Немецкие нравы, немецкая речь, – Другая у нас не пошла бы. Осел – осел, а не asinus, А швабы – те же швабы. Наш Раумер – тот же немецкий босяк, Хоть дан ему орден, я слышал, И шпарит рифмами Фрейлиграт: Из него Гораций не вышел. В латыни Масман – ни в зуб толкнуть. Бирх-Пфейфер склонна к драмам, И ей не надобен скипидар, Как римским галантным дамам. О Герман, благодарим тебя! Прими поклон наш низкий! Мы в Детмольде памятник ставим тебе, Я участвую сам в подписке, Глава 12 Трясется ночью в лесу по камням Карета. Вдруг затрещало. Сломалась ось, и мы стоим. Как быть, – удовольствия мало! Почтарь слезает, спешит в село, А я, притаясь под сосною, В глухую полночь, один в лесу, Прислушиваюсь к вою. Беда! Это волки воют кругом Голодными голосами. Их огненные глаза горят, Как факелы, за кустами. Узнали, видно, про мой приезд, И в честь мою всем собором Иллюминировали лес И распевают хором. Приятная серенада! Я Сегодня гвоздь представленья! Я принял позу, отвесил поклон И стал подбирать выраженья. «Сограждане волки! Я счастлив, что мог Такой удостоиться чести: Найти столь избранный круг и любовь В столь неожиданном месте. Мои ощущенья в этот миг Нельзя передать словами. Клянусь, я вовеки забыть не смогу Часы, проведенные с вами. Я вашим доверием тронут до слез, И в вашем искреннем вое Я с удовольствием нахожу Свидетельство дружбы живое. Сограждане волки! Вы никогда Не верили лживым писакам, Которые нагло трезвонят, что я Перебежал к собакам, Что я отступник и принял пост Советника в стаде бараньем. Конечно, разбором такой клеветы Мы заниматься не станем. Овечья шкура, что я иногда Надевал, чтоб согреться, на плечи, Поверьте, не соблазнила меня Сражаться за счастье овечье. Я не советник, не овца, Не пес, боящийся палки, – Я ваш! И волчий зуб у меня, И сердце волчьей закалки! Я тоже волк и буду всегда По-волчьи выть с волками! Доверьтесь мне и держитесь, друзья! Тогда и господь будет с вами». Без всякой подготовки я Держал им речи эти. Кольб, обкорнав слегка, пустил Их во «Всеобщей газете». Глава 13 Над Падерборном солнце в тот день Взошло, сощурясь кисло. И впрямь, освещенье глупой земли – Занятье, лишенное смысла. Едва осветило с одной стороны, К другой несется поспешно. Тем временем та успела опять Покрыться тьмой кромешной. Сизифу камня не удержать, А Данаиды напрасно Льют воду в бочку. И мрак на земле Рассеять солнце не властно. Предутренний туман исчез, И в дымке розоватой У самой дороги возник предо мной Муж, на кресте распятый. Мой скорбный родич, мне грустно до слез Глядеть на тебя, бедняга! Грехи людей ты хотел искупить – Дурак! – для людского блага. Плохую шутку сыграли с тобой Влиятельные персоны, Кой дьявол тянул тебя рассуждать Про церковь и законы? На горе твое, печатный станок Еще известен не был. Ты мог бы толстую книгу издать О том, что относится к небу. Там все, касающееся земли, Подвергнул бы цензор изъятью, – Цензура бы тебя спасла, Не дав свершиться распятью. И в проповеди нагорной ты Разбушевался не в меру, А мог проявить свой ум и талант, Не оскорбляя веру. Ростовщиков и торгашей Из храма прогнал ты с позором, И вот, мечтатель, висишь на кресте, В острастку фантазерам! Глава 14 Холодный ветер, голая степь. Карета ползет толчками. Но в сердце моем поет и звенит: «О солнце, гневное пламя!» Я слышал от няни этот припев, Звучащий так скорбно и строго. «О солнце, гневное пламя!» – он был Как зов лесного рога. То песнь о разбойнике, жившем встарь Нельзя веселей и счастливей. Его повешенным нашли В лесу на старой иве. И приговор к стволу прибит Был чьими-то руками. То Фема свершила свой праведный суд, – «О солнце, гневное пламя!». Да, гневное солнце следило за ним И злыми его делами. Предсмертный вопль Оттилии был: «О солнце, гневное пламя!» Как вспомню я песню, так вспомню тотчас И няню мою дорогую, Землистое, все в морщинах, лицо, И так по ней затоскую! Она из Мюнстера родом была И столько знала сказаний, Историй о привиденьях, легенд, Народных песен, преданий. С каким я волненьем слушал рассказ О королевской дочке, Что, золотую косу плетя, В степи сидела на кочке. Ее заставляли пасти гусей, И вечером, бывало, В деревню пригнав их, она у ворот Как будто на миг застывала. Там лошадиная голова Висела на частоколе. Там пал ее конь на чужой стороне, Оставив принцессу в неволе. И плакала королевская дочь: «Ах, Фалада, как же мне тяжко!» И голова отвечала ей: «Бедняжка моя ты, бедняжка! « И плакала королевская дочь: «Когда бы матушка знала!» И голова отвечала ей: «Она и жить бы не стала». Я слушал старушку, не смея дохнуть, И тихо, с видом серьезным Она начинала о Ротбарте быль, Об императоре грозном. Она уверяла, что он не мертв, Что это вздор ученый, Что в недрах одной горы он живет С дружиной вооруженной. Кифгайзером эта гора названа, И в ней пещера большая. В высоких покоях светильни горят, Торжественно их освещая. И в первом покое – конюшня, а в ней, Закованные в брони, Несметной силою стоят Над яслями гордые кони. Оседлан и взнуздан каждый конь, Но не приметишь дыханья. Не ржет ни один и не роет земли, Недвижны, как изваянья. В другом покое – могучая рать: Лежат на соломе солдаты, – Суровый и крепкий народ, боевой, И все, как один, бородаты. В оружии с головы до ног Лежат, подле воина воин, Не двинется, не вздохнет ни один, Их сон глубок и спокоен А в третьем покое – доспехов запас, Мушкеты, бомбарды, пищали, Мечи, топоры и прочее все, Чем франки врагов угощали А пушек хоть мало – отличный трофей Для стародавнего трона И, черные с красным и золотым, Висят боевые знамена В четвертом – сам император сидит, Сидит он века за веками На каменном троне, о каменный стол Двумя опираясь руками И огненно-рыжая борода Свободно до полу вьется То сдвинет он брови, то вдруг подмигнет, Не знаешь, сердит иль смеется И думу думает оп или спит, Подчас затруднишься ответом Но день придет – и встанет он, Уж вы поверьте мне в этом! Он добрый свой поднимет стяг И крикнет уснувшим героям «По коням! По коням!» – и люди встают Гремящим, сверкающим строем И на конь садятся, а кони ржут, И роют песок их копыта, И трубы гремят, и летят молодцы, И синяя даль им открыта Им любо скакать и любо рубить, Они отоспались на славу А император велит привести Злодеев на суд и расправу,– Убийц, вонзивших в Германию нож, В дитя с голубыми глазами, В красавицу с золотою косой, – «О солнце, гневное пламя!». Кто в замке, спасая шкуру, сидел И не высовывал носа, Того на праведный суд извлечет Карающий Барбаросса. Как нянины сказки поют и звенят, Баюкают детскими снами! Мое суеверное сердце твердит: «О солнце, гневное пламя!» Глава 15 Тончайшей пылью сеется дождь, Острей ледяных иголок Лошадки печально машут хвостом, В поту и в грязи до челок Рожок почтальона протяжно трубит В мозгу звучит поминутно «Три всадника рысью летят из ворот» На сердце стало так смутно Меня клонило ко сну Я заснул И мне приснилось не в пору, Что к Ротбарту в гости я приглашен В его чудесную гору Но вовсе не каменный был он на вид, С лицом вроде каменной маски, И вовсе не каменно-величав, Как мы представляем по сказке Он стал со мной дружелюбно болтать, Забыв, что ему я не пара, И демонстрировал вещи свои С ухватками антиквара Он в зале оружия мне объяснил Употребленье палиц, Отер мечи, их остроту Попробовал на палец Потом, отыскав павлиний хвост, Смахнул им пыль, что лежала На панцире, на шишаке, На уголке забрала И, знамя почистив, отметил вслух, С сознаньем важности дела, Что в древке не завелся червь И шелка моль не проела Когда же мы в то помещенье пришли, Где воины спят на соломе, Я в голосе старика услыхал Заботу о людях я доме «Тут шепотом говори, – он сказал, – А то проснутся ребята, Как раз прошло столетье опять, И нынче им следует плата» И кайзер тихо прошел по рядам, И каждому солдату Он осторожно, боясь разбудить, Засунул в карман по дукату Потом тихонько шепнул, смеясь Моему удивленному взгляду «По дукату за каждую сотню лет Я положил им награду» В том зале, где кони его вдоль стен Стоят недвижным рядом, Старик взволнованно руки потер С особенно радостным взглядом Он их немедля стал считать, Похлопывая по ребрам, Считал, считал и губами вдруг Задвигал с видом недобрым «Опять не хватает, – промолвил он, С досады чуть не плача,– Людей и оружья довольно у нас, А вот в конях – недостача Барышников я уже разослал По свету, чтоб везде нам Они покупали лучших коней, По самым высоким ценам Составим полный комплект – и в бой! Ударим так, чтоб с налета Освободить мой немецкий народ, Спасти отчизну от гнета» Так молвил кайзер И я закричал «За дело, старый рубака! Не хватит коней – найдутся ослы, Когда заварится драка» И Ротбарт отвечал, смеясь «Но дело еще не поспело Не за день был построен Рим, Что не разбили, то цело Кто нынче не явится – завтра придет, Не поздно то, что рано, И в Римской империи говорят Chi va piano va sano [7]» Глава 16 Внезапный толчок пробудил меня, Но вновь охвачен дремой, Я к кайзеру Ротбарту был унесен В Кифгайзер, давно знакомый. Опять, беседуя, мы шли Сквозь гулкие анфилады. Старик расспрашивал меня, Разузнавал мои взгляды. Уж много лет он не имел Вестей из мира людского, Почти со времен Семилетней войны Не слышал живого слова Он спрашивал как Моисей Мендельсон? И Картин? Не без интереса Спросил, как живет госпожа Дюбарри, Блистательная метресса «О кайзер, – вскричал я, – как ты отстал! Давно погребли Моисея И его Ревекка, и сын Авраам В могилах покоятся, тлея Вот Феликс, Авраама и Лии сынок, Тот жив, это парень проворный! Крестился и, знаешь, пошел далеко Он капельмейстер придворный! А старая Каршин давно умерла, И дочь ее Кленке в могиле Гельмина Чези, внучка ее, Жива, как мне говорили Дюбарри – та каталась, как в масле сыр, Пока обожатель был в чине – Людовик Пятнадцатый, – а умерла Старухой на гильотине Людовик Пятнадцатый с миром почил, Как следует властелину Шестнадцатый с Антуанеттой своей Попал на гильотину Королева хранила тон до конца, Держалась как на картине А Дюбарри начала рыдать, Едва подошла к гильотине» Внезапно кайзер как вкопанный стал И спросил с перепуганой миной «Мой друг, объясни ради всех святых, Что делают гильотиной?» «А это, – ответил я, – способ нашли Возможно проще и чище Различного званья ненужных людей Переселять на кладбище Работа простая, но надо владеть Одной интересной машиной Ее изобрел господин Гильотен – Зовут ее гильотиной Ты будешь пристегнут к большой доске, Задвинут между брусками Вверху треугольный топорик висит, Подвязанный шнурками Потянут шнур – и топорик вниз Летит стрелой, без заминки Через секунду твоя голова Лежит отдельно в корзинке» И кайзер вдруг закричал «Не смей Расписывать тут гильотину! Нашел забаву! Не дай мне господь И видеть такую машину! Какой позор1 Привязать к доске Короля с королевой! Да это Прямая пощечина королю! Где правила этикета? И ты-то откуда взялся, нахал? Придется одернуть невежу! Со мной, голубчик, поберегись, Не то я крылья обрежу! От злости желчь у меня разлилась, Принес же черт пустозвона! И самый смех твой – измена венцу И оскорбленье трона'« Старик мой о всяком приличье забыл, Как видно, дойдя до предела Я тоже вспылил и выложил все, Что в сердце накипело «Герр Ротбарт, – крикнул я, – жалкий миф! Сиди в своей старой яме! А мы без тебя уж, своим умом, Сумеем управиться сами! Республиканцы высмеют нас Отбреют почище бритвы! И верно дурацкая небыль в венце – Хорош полководец для битвы! И знамя твое мне не по нутру Я в буршестве счел уже вздорным Весь этот старогерманский бред О красно-золото-черном Сиди же лучше в своей дыре, Твоя забота – Кифгайзер А мы если трезво на вещи смотреть, На кой нам дьявол кайзер?» Глава 17 Да, крепко поспорил с кайзером я – Во сне лишь, во сне, конечно С царями рискованно наяву Беседовать чистосердечно! Лишь в мире своих идеальных грез, В несбыточном сновиденье Им немец может сердце открыть, Немецкое высказать мненье Я пробудился и сел Кругом Бежали деревья бора Его сырая голая явь Меня протрезвила скоро Сердито качались вершины дубов, Глядели еще суровей Березы в лицо мне И я вскричал «Прости меня, кайзер, на слове! Прости мне, о Ротбарт, горячность мою! Я знаю ты умный, ты мудрый, А я – необузданный, глупый драчун Приди, король рыжекудрый! Не нравится гильотина тебе – Дай волю прежним законам Веревку – мужичью и купцам, А меч – князьям да баронам. Лишь иногда меняй прием И вешай знать без зазренья, А прочих, на выбор, слегка обезглавь – Ведь все мы божьи творенья. Восстанови уголовный суд, Введенный Карлом с успехом, Распредели опять народ По сословиям, гильдиям, цехам. Священной империи Римской верни Былую жизнь, если надо, Верни нам самую смрадную гниль, Всю рухлядь маскарада. Верни все прелести средних веков, Которые миром забыты, – Я все стерплю, пускай лишь уйдут Проклятые гермафродиты, Это штиблетное рыцарство, Мешанина с нелепой прикрасой, Готический бред и новейшая ложь, А вместе – ни рыба ни мясо Ударь по театральным шутам! Прихлопни балаганы, Где пародируют старину! Приди, король долгожданный!» Глава 18 Минден – грозная крепость. Он Вооружен до предела. Но с прусскими крепостями я Неохотно имею дело. Мы прибыли в сумерки По мосту Карета, гремя, прокатила Зловеще стонали бревна под ней, Зияли рвы, как могила. Огромные башни с вышины Грозили мне сурово, Ворота с визгом поднялись И с визгом обрушились снова. Ах, сердце дрогнуло мое! Так сердце Одиссея, Когда завалил пещеру циклоп, Дрожало, холодея. Капрал опросил нас кто мы? и куда? Какую преследуем цель мы? «Я – врач глазной, зовусь «Никто», Срезаю гигантам бельмы». В гостинице стало мне дурно совсем, Еда комком застревала Я лег в постель, но сон бежал, Давили грудь одеяла. Над широкой пуховой постелью с боков – По красной камчатной гардине, Поблекший золотой балдахин И грязная кисть посредине. Проклятая кисть! Она мне всю ночь, Всю ночь не давала покою Она дамокловым мечом Висела надо мною. И вдруг, змеей оборотясь, Шипела, сползая со свода «Ты в крепость заточен навек, Отсюда нет исхода!» «О, только бы возвратиться домой, – Шептал я в смертельном испуге, – В Париж, в Faubourg Poissoniere, К моей любимой супруге!» Порою кто-то по лбу моему Рукой проводил железной, Как будто цензор вычеркивал мысль, И мысль обрывалась в бездну. Жандармы в саванах гробовых, Как призраки, у постели Теснились белой, страшной толпой, И где-то цепи гремели. И призраки повлекли меня В провал глухими тропами, И вдруг к отвесной черной скале Я был прикован цепями. Ты здесь, проклятая, грязная кисть! Я чувствовал, гаснет мой разум Когтистый коршун кружил надо мной, Грозя мне скошенным глазом. Он дьявольски схож был с прусским орлом, Он в грудь мне когтями впивался, Он хищным клювом печень рвал – Я плакал, стонал, я метался. Я мучился долго, но крикнул петух, И кончился бред неотвязный Я в Миндене, в потной постели, без сил Лежал под кистью грязной. Я с экстренной почтой выехал прочь И с легким чувством свободы Вздохнул на Бюкебургской земле, На вольном лоне природы. Глава 23 С великой Венецией Гамбург не мог Поспорить и в прежние годы, Но в Гамбурге погреб Лоренца есть, Где устрицы – высшей породы. Мы с Кампе отправились в сей погребок, Желая в уюте семейном Часок-другой почесать языки За устрицами и рейнвейном. Нас ждало приятное общество там Меня заключили в объятья Мой старый товарищ, добрый Шофпье, И многие новые братья. Там был и Вилле Его лицо – Альбом на щеках бедняги Академические враги Расписались ударами шпаги. Там был и Фукс, язычник слепой И личный враг Иеговы Он верит лишь в Гегеля и заодно Еще в Венеру Кановы. Мой Кампе в полном блаженстве был, Попав в амфитрионы, Душевным миром сиял его взор, Как светлый лик мадонны. С большим аппетитом я устриц глотал, Рейнвейном пользуясь часто, И думал «Кампе – большой человек, Он – светоч издательской касты! С другим издателем я б отощал, Он выжал бы все мои силы, А этот мне даже подносит вино, – Я буду при нем до могилы. Хвала творцу! Он, создав виноград, За муки воздал нам сторицей, И Юлиус Кампе в издатели мне Дарован его десницей. Хвала творцу и силе его Вовеки, присно и ныне1 Он создал для нас рейнвейн на земле И устриц в морской пучине Он создал лимоны, чтоб устриц мы Кропили лимонным соком Блюди мой желудок, отец, в эту ночь, Чтоб он не взыграл ненароком!» Рейнвейн размягчает душу мою, Сердечный разлад усмиряя, И будит потребность в братской любви, В утехах любовного рая. И гонит меня из комнат блуждать По улицам опустелым И душу тянет к иной душе И к платьям таинственно белым. И таешь от неги и страстной тоски В предчувствии сладкого плена Все кошки серы в темноте И каждая баба – Елена. Едва на Дрейбан я свернул, Взошла луна горделиво, И я величавую деву узрел, Высокогрудое диво. Лицом кругла и кровь с молоком, Глаза – что аквамарины! Как розы щеки, как вишня рот, А нос оттенка малины. На голове полотняный колпак, – Узорчатой вязью украшен, Он возвышался подобно стене, Увенчанной тысячью башен. Льняная туника вплоть до икр, А икры – горные склоны, Ноги, несущие мощный круп, – Дорийские колонны. В манерах крайняя простота, Изящество светской свободы Сверхчеловеческий зад обличал Созданье нездешней природы. Она подошла и сказала мне «Привет на Эльбе поэту! Ты все такой же, хоть много лет Гонял по белому свету Кого ты здесь ищешь? Веселых гуляк, Встречавшихся в этом квартале? Друзей, что бродили с тобой по ночам И о прекрасном мечтали? Их гидра стоглавая – жизнь – унесла, Рассеяла шумное племя Тебе не найти ни старых подруг, Ни доброе старое время Тебе не найти ароматных цветов, Пленявших сердце когда-то, Их было здесь много, но вихрь налетел, Сорвал их – и нет им возврата Увяли, осыпались, отцвели, – Ты молодость ищешь напрасно Мой друг, таков удел на земле Всего, что светло и прекрасно» «Да кто ты, – вскричал я, – не прошлого ль тень? Но плотью живой ты одета1 Могучая женщина, где же твой дом? Доступен ли он для поэта?» И женщина молвила, тихо смеясь «Поверь, ты сгущаешь краски Я девушка с нравственной, тонкой душой, Совсем иной закваски Я не лоретка парижская, нет! К тебе лишь сошла я открыто,– Богиня Гаммония пред тобой, Гамбурга меч и защита! Но ты испуган, ты поражен, Воитель в лике поэта Идем же, иль ты боишься меня? Уж близок час рассвета» И я ответил, громко смеясь: «Ты шутишь, моя красотка! Ступай вперед! А я за тобой, Хотя бы к черту в глотку!» ........ Глава 26 Богиня раскраснелась так, Как будто ей в корону Ударил ром Я с улыбкой внимал Ее печальному тону «Я старюсь Тот день, когда Гамбург возник, Был днем моего рожденья В ту пору царица трески, моя мать, До Эльбы простерла владенья Carolus Magnus – мой славный отец – Давно похищен могилой Он даже Фридриха прусского мог Затмить умом и силой В Ахене – стул, на котором он был Торжественно коронован, А стул, служивший ему по ночам, Был матери, к счастью, дарован От матери стал он моим Хоть на вид Он привлекателен мало, На все состоянье Ротшильда я Мой стул бы не променяла Вон там он, видишь, стоит в углу, – Он очень стар и беден, Подушка сиденья изодрана вся, И молью верх изъеден Но это пустяк, подойди к нему И снять подушку попробуй Увидишь в сиденье дыру и под ней, Конечно, сосуд, но особый То древний сосуд магических сил, Кипящих вечным раздором И если ты голову сунешь в дыру, Предстанет грядущее взорам Грядущее родины бродит там, Как волны смутных фантазмов, Но не пугайся, если в нос Ударит вонью миазмов» Она засмеялась, но мог ли искать Я в этих словах подковырку? Я кинулся к стулу, подушку сорвал И сунул голову в дырку Что я увидел – не скажу, Я дал ведь клятву все же1 Мне лишь позволили говорить О запахе, но – боже' – Меня и теперь воротит всего При мысли о смраде проклятом, Который лишь прологом был, – Смесь юфти с тухлым салатом И вдруг – о, что за дух пошел1 Как будто в сток вонючий Из тридцати шести клоак Навоз валили кучей Мерзавцы, сгнившие давно, Смердя историческим смрадом, Полунегодяи, полумертвецы, Сочились последним ядом И даже святого пугала труп, Как призрак, встал из гроба Налитая кровью народов и стран, Раздулась гнилая утроба Чумным дыханьем весь мир отравить Еще раз оно захотело, И черви густою жижей ползли Из почерневшего тела И каждый червь был новый вампир, И гнусно смердел, издыхая, Когда в него целительный кол Вонзала рука роковая Зловонье крови, вина, табака, Веревкой кончивших гадин, – Такой аромат испускает труп Того, кто при жизни был смраден Зловонье пуделей, мопсов, хорьков, Лизавших плевки господина, Околевавших за трон и алтарь Благочестиво и чинно То был живодерни убийственный смрад, Удушье гнили и мора, Средь падали издыхала там Светил «Исторических» свора Я помню ясно, что сказал Сент-Жюст в Комитете спасенья «Ни в розовом масле, ни в мускусе нет Великой болезни целенья» Но этот грядущий немецкий смрад – Я утверждаю смело – Превысил всю мне привычную вонь, В глазах у меня потемнело, Я рухнул без чувств и потом, пробудясь И с трудом разобравшись в картине, Увидел себя на широкой груди, В объятиях богини Блистал ее взор, пылал ее рот, Дрожало могучее тело Вакханка, ликуя, меня обняла И в диком экстазе запела «Есть в Фуле король – свой бокал золотой, Как лучшего друга, он любит Тотчас пускает он слезу, Чуть свой бокал пригубит И просто диво, что за блажь Измыслить он может мгновенно! Издаст, например, неотложный декрет, Тебя под замок да на сено! Не езди на север, берегись короля, Что в Фуле сидит на престоле, Не суйся в пасть ни жандармам его, Ни Исторической школе Останься в Гамбурге! Пей да ешь, – Душе и телу отрада! Почтим современность устриц и вин, – Что нам до грядущего смрада! Накрой же сосуд, чтоб не портила вонь Блаженство любовных обетов! Так страстно женщиной не был любим Никто из немецких поэтов! Целую тебя, обожаю тебя, Меня вдохновляет твой гений, Ты вызвал предо мной игру Чарующих видений! Я слышу рожки ночных сторожей, И пенье, и бубна удары Целуй же меня! То свадебный хор – Любимого славят фанфары Въезжают вассалы на гордых конях, Пред каждым пылает светильник, И радостно факельный танец гремит, – Целуй меня, собутыльник! Идет милосердный и мудрый сенат, – Торжественней не было встречи! Бургомистр откашливается в платок Готовясь к приветственной речи Дипломатический корпус идет, Блистают послы орденами От имени дружественных держав Они выступают пред нами Идут раввины и пасторы вслед – Духовных властей депутаты. Но, ах! и Гофман, твой цензор, идет, Он с ножницами, проклятый! И ножницы уже звенят; Он ринулся озверело И вырезал лучшее место твое – Кусок живого тела». Глава 27 О дальнейших событьях той ночи, друзья, Мы побеседуем с вами Когда-нибудь в нежный лирический час, Погожими летними днями Блудливая свора старых ханжей Редеет, милостью бога Они гниют от болячек лжи И дохнут – туда им дорога Растет поколенье новых людей Со свободным умом и душою, Без наглого грима и подлых грешков, – Я все до конца им открою Растет молодежь – она поймет И гордость и щедрость поэта, – Она расцветет в жизнетворных лучах Его сердечного света Безмерно в любви мое сердце, как свет, И непорочно, как пламя, Настроена светлая лира моя Чистейших граций перстами На этой лире бряцал мой отец, Творя для эллинской сцены, – Покойный мастер Аристофан, Возлюбленный Камены На этой лире он некогда пел Прекрасную Базилею, – Ее Писфетер женою назвал И жил на облаке с нею. В последней главе поэмы моей Я подражаю местами Финалу «Птиц». Это лучшая часть В лучшей отцовской драме. «Лягушки» – тоже прекрасная вещь. Теперь, без цензурной помехи, Их на немецком в Берлине дают Для королевской потехи. Бесспорно, пьесу любит король! Он поклонник античного строя. Отец короля предпочитал Квакушек нового кроя. Бесспорно, пьесу любит король! Но, живи еще автор, – признаться, Я не советовал бы ему В Пруссию лично являться. На Аристофана живого у нас Нашли бы мигом управу, – Жандармский хор проводил бы его За городскую заставу. Позволили б черни хвостом не вилять, А лаять и кусаться. Полиции был бы отдан приказ В тюрьме сгноить святотатца. Король! Я желаю тебе добра, Послушай благого совета: Как хочешь, мертвых поэтов славь, Но бойся живого поэта! Берегись, не тронь живого певца! Слова его – меч и пламя. Страшней, чем им же созданный Зевс, Разит он своими громами. И старых и новых богов оскорбляй, Всех жителей горнего света С великим Иеговой во главе, - Не оскорбляй лишь поэта. Конечно, боги карают того, Кто был в этой жизни греховен, Огонь в аду нестерпимо горяч, И серой смердит от жаровен, - Но надо усердно молиться святым: Раскрой карманы пошире, И жертвы на церковь доставят тебе Прощенье в загробном мире. Когда ж на суд низойдет Христос И рухнут врата преисподней, Иной пройдоха улизнет, Спасаясь от кары господней. Но есть и другая геенна. Никто Огня не смирит рокового! Там бесполезны и ложь и мольба, Бессильно прощенье Христово. Ты знаешь грозный Дантов ад, Звенящие гневом терцины? Того, кто поэтом на казнь обречен, И бог не спасет из пучины. Над буйно поющим пламенем строф Не властен никто во вселенной. Так берегись! Иль в огонь мы тебя Низвергнем рукой дерзновенной. Детлеф фон Лилиенкрон 1844-1909 Сенбернар Два часа гляжу в окошко, От стекла не отлипая, Но напрасно, все напрасно – Как сквозь землю провалился Этот чертов сенбернар. Наконец-то вот он, вот он! Топ да топ на важных лапах, Топ да топ – язык как знамя – Топ да топ, идет степенный Желтый с белым сенбернар. Рядом – юная красотка В легком летнем белом платье, А в ее руке точеной Поводок – и ей послушный Выступает сенбернар. Вот она уже у двери, Вот она в моих объятьях, И, меж нас просунув морду, Трется и хвостом виляет Умный, верный сенбернар. Мартовский день Тучки в небе, тени на равнине, Контур леса тает в дымке синей, Воздух полон криком журавлиным, Весь распахан шумным птичьим клином. Жаворонки вьются над лугами В первом шуме, в первом вешнем гаме. Девушка, девчушка в лентах алых, Счастье где-то в странах небывалых. Было счастье, с тучками уплыло. Удержал бы, да не тут-то было. Вечер Еще октябрь, а снег уже идет. Леса грустят им тяжек зимний гнет. Идет зима и сеет смерть везде, И это смерть страданью и нужде. Чу! Вдалеке – оленя трубный зов. Я так и вижу: вскинув груз рогов, Расширив ноздри, пышущий теплом, Он ломит сквозь кусты и бурелом. Да, жизнь жива, но что за грустный вид: По край дороги старушонка спит. Сбирала хворост, чтоб согреть жилье, Умаялась – и сон сморил ее. Необоримый, вечный сон. Так что ж, Свою охапку в небо ты снесешь? Закат на мертвой алый сплел венок, Сняв поцелуем прах с недвижных ног. Альбрехт Гаусгофер 1903-1945 Смерть деспота Когда почуял деспот Ши-хуан-ди, Что ополчиться на него готово Духовное наследие былого, Он приказал смести его с пути. Все книги он велел собрать и сжечь, А мудрецов – убить. На страх народу Двенадцать лет, властителю в угоду, Вершили суд в стране огонь и меч, Но деспоту настало время пасть, А те, кто выжили, учиться стали, И мыслили, и книги вновь писали, И новая пришла на смену власть, Китай расцвел. И никакая сила Ни мудрецам, ни книгам не грозила. Сожженные книги Когда пророка полчища впервые, Упрямой волей вдаль устремлены, Всемирным грабежом опьянены, Зажгли пожар в стенах Александрии, Вождя неверных кто-то вопросил: – Ужель, как всё, чему несем мы кару, И книги обрекаешь ты пожару? – И так ответил воин темных сил: – Излишни эти книги, если есть В Коране то, что можно в них прочесть, И вредны, если пишут в них иное, Всё сжечь! – И что ж, забыт навеки он, Но и сквозь вечность вы, Гомер, Платон, Хоть сожжены, идете в вечном строе. Воробьи Порой моя тюремная решетка Приманивает с воли двух гостей: То уличный задира воробей И с ним его пернатая красотка, У них любовь: то споры, то смешки, То клювом в клюв – и как начнут шептаться! Соперник и не пробуй подобраться, Конфликт решится битвой, по-мужски. Как странно здесь, в цепях, в тюремной щели, Глядеть на них, свободных! Но за мной Следит глазок блестящий и живой – Чирикнули, вспорхнули, улетели. И вновь один я, вновь гляжу в окно... Зачем мне птицей быть не суждено! Альфред Шмидт-Засс 1901-1943 Песнь о жилище мертвецов Дом номер три на Плётце. Не светит никогда Над ним звезда, и птица не залетит сюда. Псы лают. Визг засова. Час ужаса ночного – И кто-то плачет снова В жилище мертвецов. Висит топор голодный, сталь матово блестит, Он рубит превосходно, но не бывает сыт. Лай в отдаленье замер, То смерть прошла вдоль камер, Назначив жертвы снова В жилище мертвецов. Прикован к жестким доскам, кто там лежит без сна, Всю ночь терзаясь в муках, хоть ночь длинна, длинна. Псы лают. Визг засова. Час ужаса ночного – И кто-то плачет снова В жилище мертвецов. Кто в мыслях обнимает детей, жену и мать, Хотя ему вовеки семьи не увидать. Лай в отдаленье замер, То смерть прошла вдоль камер, Назначив жертвы снова В жилище мертвецов. Кому лишь деревянный дается нож в обед, Кто зеркала не знает, на ком подтяжек нет. Псы лают. Визг засова. Час ужаса ночного – И кто-то плачет снова В жилище мертвецов. Кто – труп живой в оковах – сквозь узкий коридор На краткую прогулку выходит в тесный двор, Лай в отдаленье замер, То смерть прошла вдоль камер, Назначив жертвы снова В жилище мертвецов. Не верь пустой надежде, ты, брошенный в тюрьму, Не человек ты больше, ты – номер, ты – Т. У. Псы лают. Визг засова, Час ужаса ночного – И кто-то плачет снова В жилище мертвецов. Ах, сторож, ты не знаешь, какая благодать Хоть взгляд живой увидеть, хоть слово услыхать. Лай в отдаленье замер, То смерть прошла вдоль камер, Назначив жертвы снова В жилище мертвецов. Гни спину – клей пакеты да набивай табак. И вот закат последний, а завтра – вечный мрак. Псы лают. Визг засова, Час ужаса ночного – И кто-то плачет снова В жилище мертвецов. Вдруг чей-то крик за дверью, сквозь гулкий коридор: «Кончай возню! Раздеться и веселей во двор!» Лай в отдаленье замер, То смерть прошла вдоль камер, Назначив жертвы снова В жилище мертвецов. Кто за людское счастье боролся с юных лет, Тому здесь нет пощады и даже гроба нет. Псы лают. Визг засова. Час ужаса ночного – И кто-то плачет снова В жилище мертвецов. Но если трубы грянут: «Вставайте все на суд!» И те, кто обезглавлен, они придут, придут! За то, что претерпели, Что сдаться не хотели, За стойкость в правом деле Судья им все простит. Их головы на шеях кой-как опять сидят, Проходят длинным строем, блестит их светлый взгляд. За то, что претерпели, Что сдаться не хотели, За стойкость в правом деле Народ их свято чтит. Кто создал эту песню – и музыку сложил. Он спел ее в сочельник, а больше он не жил. Так песню подхватите И всех вы помяните, Кто борется доныне В жилище мертвецов. Тюрьма Плётцензее. Камера смертников. 1943 Иоганнес Р. Бехер 1891-1958 * * * Ответь, ужель мы нежность языка Узнали в первом материнском слове Лишь для того, чтобы в потоках крови Все нежное забылось на века! Ужель сплотил язык немецкий нас, Чтобы вражда разъединила снова, Чтоб немец лгал, толкуя немца слово, И смысл его в бессмыслице угас! Иль не довольно плакать на могилах, И крови прах пропитывать земной, И тосковать покинутым и сирым? Иль вы лжецов остановить не в силах, Вы все, кого лишь обольщают миром, Чтоб друг на друга повести войной? Высокие строенья Я строю стихи. Я строгаю в них строки. Я в ритм обращаю металл и гранит, Чтоб фразы воздвиглись, легки и высоки, В Грядущее, в Вечность, в лазурный Зенит. Вам, зодчие, вам, архитекторы, слава! Строители – вам! Основатели – вам! Вовеки да зиждется ваша держава И каждый ваш, гением созданный, храм! Я строю стихи. Эти строфы – опоры. Над ними, как купол, я Мысль подниму. Те строфы – как хмель, обвивающий хоры, А эти ворвутся, как свет в полутьму. Услышьте, ответьте через века мне, Вы, шедшие в Вечность по сферам небес, Стратеги симфоний, разыгранных в камне, Вершители явленных в камне чудес! Я строю стихи, сочетаю, слагаю, Я мыслю и числю, всходя в облака. Я строю стихи, я стихи воздвигаю, Чтоб гимном всемирным наполнить века. Белое чудо Посвящается гению Мориса Утрилло Белы березы, и белы седины, Бело крыло, и грудь, как снег, бела, И платье бело, и белы куртины, И белым стужа землю замела. Белы ракушки, и белы рубашки, И бел налет на плесени, и мел, И небо в зной, и на волнах барашки, И на пути горючий камень бел. А за окном белеют занавески, Как лед в горах, как яблонь цвет живой, Как в лунной мгле поля и перелески, Иль краски все убил он, белый твой? Гранит и мрамор, шаткие ступени, Сухих костей чуть желтоватый цвет, Цвет камбалы, и белый цвет сирени, И все – мечта, и ей предела нет. В молочной тьме – белеющее море, Крик чайки, пляж – как снега полоса, И голос флейты в соловьином хоре, И лунный свет, и ночь, и паруса. Иль белый твой – для красок возрожденье? О, цвет весны!.. О, сны в лучах луны!.. Сады плывут, как белое виденье... О, белый мир! О, чудо белизны! Волшебный лес Вслед незнакомцам, проложившим в чаще Свой лыжный путь, лечу сквозь белый лес. Весь в колеях, узорчат снег блестящий, Но вот их след бледнеет – он исчез. И лишь за мной, чернея, лента вьется Дорогой в неоткрытые края. А белый лес ко мне теснее жмется. Сбивает снег с ветвей рука моя. И лес растет, встает громадой белой, Под снеговою толщей погребен. И я кричу, но звук оледенелый В молчанье замер, как надгробный звон. В еще безвольном солнечном сиянье Снегов лесных не тает волшебство, Но тишина звучит, как обещанье, Что солнца жар испепелит его. О, странный бег без времени, без цели! Спешишь домой, но в сердце длится бег. Волшебный лес, где звуки онемели, Увлек тебя в волшебный плен навек. Я слышу звон веселых песен мая И птичий гам под солнцем теплых дней, По временам пушистый ком сбивая С настороженных, вспугнутых ветвей. Бах Еще готовясь, медлит звуков хор. Надвинется – и отступает снова. Но колокол дает сигнал: готово! И звуки вышли, двинулись в простор, Идут, как горы, – ввысь! Им нет преграды, Они в тебе, во мне, и мы в плену, Мы в эхо, в отзвук обратиться рады. Ведут – возводят нас на крутизну, Откуда виден мир – и все вокруг, И все, что в нас, вошло в границы вдруг. Нам дан порядок; тот ничтожно мал, А тот велик, и всё – в едином строе. Великое созвучье мировое! Великий век! Войди в его хорал! Из итальянской поэзии Франческо Петрарка 1304-1374 * * * Благословляю месяц, день и час, Год, время года, место и мгновенье, Когда поклялся я в повиновенье И стал рабом ее прекрасных глаз; Благословляю первый их отказ, И первое любви прикосновенье; Того стрелка благословляю рвенье, Чей лук и стрелы в сердце ранят нас; Благословляю все, что мне священно, Что я пою и славлю столько лет, И боль и слезы–все благословенно,– И каждый посвященный ей сонет, И мысли, где царит она бессменно, Где для другой вовеки места нет. * * * Меж созданных великим Поликлетом И гениями всех минувших лет – Меж лиц прекрасных не было и нет Сравнимых с ним, стократно мной воспетым, Но мой Симоне был в раю – он светом Иных небес подвигнут и согрет, Иной страны, где та пришла на свет, Чей образ обессмертил он портретом. Нам этот лик прекрасный говорит, Что на земле – небес она жилица, Тех лучших мест, где плотью дух не скрыт, И что такой портрет не мог родиться, Когда художник с неземных орбит Сошел сюда – на смертных жен дивиться. * * * О, если бы так сладостно и ново Воспеть любовь, чтоб, дивных чувств полна, Вздыхала и печалилась она В раскаянии сердца ледяного Чтоб влажный взор она не так сурово Ко мне склоняла, горестно бледна, Поняв, какая тяжкая вина Быть равнодушной к жалобам другого Чтоб ветерок, касаясь на бегу Пунцовых роз, пылающих в снегу, Слоновой кости обнажал сверканье, Чтобы на всем покоился мой взгляд, Чем краткий век мой счастлив и богат, Чем старости мне скрашено дыханье * * * Как в лоне вечности, где час похож на час, Нет блага высшего, чем лицезренье бога, Так слаще мне мой хлеб, светлей моя дорога, И радостнее жизнь, когда я вижу вас. Но целомудрие глядит из ваших глаз, Вы брови хмурите насмешливо и строго, И мне не перейти заветного порога. «Страдай не жалуясь!» – вот гордый ваш приказ. И вы у ходите, – могу ль не разрыдаться? Я знаю, твари есть, способные питаться Водой иль воздухом, иль запахом цветка, Или глотать огонь, – им нет ни в чем закона. А мне, чтоб мог я жить – клянусь, моя мадонна, – Довольно видеть вас – хотя б издалека. * * * Есть существа, способные в упор Смотреть на солнце Есть еще другие Они при свете не в своей стихии, Их вызывает только тьма из нор Иных влечет завороженный взор В огонь, на блеск, увиденный впервые, И вот они сгорают в нем, живые, – Так я стремлюсь на собственный костер В лучах моей мадонны я слабею, Я от нее не защищен и тьмою (Господь послал жестокий жребий мне), – В слезах, в печали следую за нею, Она владеет нераздельно мною, И я хочу сгореть в ее огне * * * Как в чей-то глаз, прервав игривый лёт, На блеск влетает бабочка шальная И падает, уже полуживая, А человек сердито веки трет, Так взор прекрасный в плен меня берет, И в нем такая нежность роковая, Что, разум и рассудок забывая, Их слушаться Любовь перестает. Я знаю сам, что презираем ею, Что буду солнцем этих глаз убит, Но с давней болью сладить не умею. Так сладостно любовь меня слепит, Что о чужих обидах сожалею, Но сам же в смерть бегу от всех обид. * * * Мой друг Сенуччо, хочешь, нарисую, Чем занят я в моем уединенье: Горю, томлюсь, и длится наважденье – Живу Лаурой, ею существую. И вижу то блестящую, живую, То в радостном, то в грустном настроенье То вспыхнувшую гневом на мгновенье, То гордую, то скромную, простую. Вот улыбнулась тихо, вот запела, Стрелою взора сердце мне пронзила, Тут подошла, там отвернулась хмуро. Так я мечтаю, так брожу без дела, Но мысль о той, в ком сладостная сила, Велит терпеть лукавый гнет Амура. * * * Когда б моим я солнцем был пригрет – Как Фессалия видела в смущенье Спасающейся Дафны превращенье, Так и мое узрел бы дольный свет. Когда бы знал я, что надежды нет На большее слиянье (о, мученье!), Я твердым камнем стал бы в огорченье, Бесчувственным для радостей и бед. И, мрамором ли став, или алмазом, Бросающим скупую жадность в дрожь, Иль яшмою, ценимой так высоко, Я скорбь мою, я все забыл бы разом И не был бы с усталым старцем схож, Гигантской тенью застившим Марокко. * * * Когда, мне улыбаясь, нежный лик Бледнел, любовным окружен туманом, Плененный благородством постоянным, Я сам бледнел в счастливый этот миг. И понял я, какой в раю язык Сближает всех в общенье непрестанном, И то постиг, не внемля чувств обманам, Чего никто на свете не постиг. Вид ангела, сочувствия движенье, Все проявленья женщины влюбленной Я счел бы гневом, думая о ней. Она, потупив гордый взгляд в смущенье, Сказала, мнилось: чем же отвлеченный Уходит друг, какого нет верней? * * * Чиста, как лучезарное светило, Меж двух влюбленных донна шла, и с ней Был царь богов небесных и людей, И справа я, а слева солнце было. Но взор она веселый отвратила Ко мне от ослепляющих лучей. Тут не молчать – молить бы горячей, Чтобы ко мне она благоволила! Я ревновал, что рядом – Аполлон, Но ревность мигом радостью сменилась, Когда соперник мой был посрамлен. Внезапно туча с неба опустилась, И, побежденный, скрыл за тучей он Лицо в слезах – и солнце закатилось, * * * Так не бежит от бури мореход, Как, движимый высоких чувств обетом, От мук спасенье видя только в этом, Спешу я к той, чей взор мне сердце жжет. И смертного с божественных высот Ничто таким не ослепляет светом, Как та, в ком черный смешан с белым цветом, В чьем сердце стрелы золотит Эрот. Стыжусь глядеть: то мальчик обнаженный. И он не слеп – стрелок вооруженный, Не нарисован – жив он и крылат, Открыл он то мне, что от всех таилось, И все, что о любви мной говорилось, Мне рассказал моей мадонны взгляд. * * * Щебечут птицы, плачет соловей, Но ближний дол закрыт еще туманом, А по горе, стремясь к лесным полянам, Кристаллом жидким прыгает ручей. И та, кто всех румяней и белей, Кто в золоте волос – как в нимбе рдяном, Кто любит Старца и чужда обманам, Расчесывает снег его кудрей. Я, пробудясь, встречаю бодрым взглядом Два солнца – то, что я узнал сызмала, И то, что полюбил, хоть нелюбим. Я наблюдал их, восходящих рядом, И первое лишь звезды затмевало, Чтоб самому затмиться пред вторым. * * * Семнадцать лет, вращаясь, небосвод Следит, как я безумствую напрасно. Но вот гляжу в себя – и сердцу ясно, Что в пламени уже заметен лед. Сменить привычку – говорит народ – Трудней, чем шерсть! И пусть я сердцем гасну, Привязанность в нем крепнет ежечасно, И мрачной тенью плоть меня гнетет. Когда же, видя, как бегут года, Измученный, я разорву кольцо Огня и муки – вырвусь ли из ада? Придет ли день, желанный мне всегда, И нежным станет строгое лицо, И дивный взор ответит мне как надо. * * * Дыханье лавра, свежесть, аромат – Моих усталых дней отдохновенье,– Их отняла в единое мгновенье Губительница всех земных отрад Погас мой свет и тьмою дух объят – Так, солнце скрыв, луна вершит затменье И в горьком, роковом оцепененье Я в смерть уйти от этой смерти рад Красавица, ты цепи сна земного Разорвала, проснувшись в кущах рая, Ты обрела в творце своем покой И если я недаром верил в слово, Для всех умов возвышенных святая, Ты будешь вечной в памяти людской, * * * Ты погасила, Смерть, мое светило, Увял нездешней красоты цветок, Обезоружен, слеп лихой стрелок, Я тягостен себе, мне все постыло. Честь изгнала, Добро ты потопила, Скорблю один, хоть всех постигнул рок. Растоптан целомудрия росток, И что, какая мне поможет сила? Мир пуст и дик. Земля и Небеса Осиротевший род людской оплачут – Луг без цветов, без яхонта кольцо. Кто понимал, что в ней – земли краса? Лишь я один да Небеса, что прячут От нас ее прекрасное лицо. * * * Виски мне серебрит, лицо желтит Природа, Но я служу любви, как в прежние года. Она в моей душе не вянет никогда, Ее зеленый луг не знает смены года. Скорей потухнут все светила небосвода, Чем опостылеет мне сладкая страда, Чем цепи нежные я сброшу навсегда И станет мне мила ненужная свобода. Нет, обрести покой могу я только там, Где плоть, и кровь, и кость земле сырой отдам, Где милые глаза не оживят их снова. Ничто не исцелит мой сладостный недуг, Я в сердце уязвлен, а от сердечных мук – Лаура или смерть – лекарства нет иного. * * * Последний день – веселых помню мало – Усталый день, как мой остатний век' Недаром сердце – чуть согретый снег – Игралищем предчувствий мрачных стало Так мысль и кровь, когда нас бурей смяло, Как в лихорадке, треплет жизни бег Был радостей неполных кончен век, Но я не знал, что время бед настало Ее прекрасный взор – на небесах, Сияющий здоровьем, жизнью, светом А мой убог – пред ним лишь дольный прах Но черных искр я ободрен приветом «Друзья! До встречи в благостных краях – Не в вашем мире горестном, а в этом!» * * * Мне зеркало сказало напрямик: «Твой взор потух, твои скудеют силы, Твой дух поник усталый и остылый, Не обольщайся, ты уже старик. Так примирись! Кто принял и постиг Закон вещей, тот дальше от могилы». И кончился мой долгий сон бескрылый, Так от воды огонь стихает вмиг. Идет к концу. Пора считать минуты. Нам только раз дается жизнь земная, Но тем сильней в душе звучит хвала Ей, сбросившей пленительные путы, Ей, кто была единственной живая И славу женщин всех отобрала. Из французской поэзии Жоашен дю Белле 1522-1560 Песня сеятеля пшеницы Для вас, гостей, летящих На крыльях шелестящих, – Для вестников тепла, Веселых ветров мая, Играющих, порхая, Чтоб нива расцвела, – Для вас цветы-малютки, Фиалки, незабудки, И розы – много роз, И белых роз, и красных, Душистых и атласных, Я в сеялке принес. Ты, легкий, шаловливый, Порхай, зефир, над нивой И освежай меня, Пока, трудясь упорно, Я развеваю зерна В дыханье жарком дня. * * * Не стану воспевать, шлифуя стих скрипучий, Архитектонику неведомых миров, С великих тайн срывать их вековой покров, Спускаться в пропасти и восходить на кручи. Не живописи блеск, не красоту созвучий, Не выспренний предмет ищу для мерных строф. Лишь повседневное всегда воспеть готов, Я – худо ль, хорошо ль – пишу стихи на случай. Когда мне весело, мой смех звучит и в них, Когда мне тягостно, печалится мой стих, – Так все делю я с ним, свободным и беспечным. И, непричесанный, без фижм и парика, Незнатный именем, пусть он войдет в века Наперсником души и дневником сердечным. * * * Нет, ради греков я не брошу галльских лар, Горация своим не возглашу законом, Не стану подражать Петрарковым канцонам И «Сожаленья» петь, как пел бы их Ронсар. Пускай дерзают те, чей безграничен дар, Кто с первых опытов отмечен Аполлоном. Безвестный, я пойду путем непроторенным, Но без глубоких тайн и без великих чар. Я удовольствуюсь бесхитростным рассказом О том, что говорят мне чувство или разум, Пускай предметы есть важнее – что с того! И лирой скромною я подражать не буду Вам, чьи творения во всем подобны чуду И гению дарят бессмертья торжество. * * * Вовеки прокляты год, месяц, день и час, Когда, надеждами прельстясь необъяснимо, Решил я свой Анжу покинуть ради Рима, И скрылась Франция от увлажненных глаз. Недоброй птице внял – и первый в жизни раз Отцовский дом сменил на посох пилигрима. Не понимал, что рок и мне грозит незримо, Когда Сатурн и Марс в союзе против нас. Едва сомнение мой разум посещало, Желанье чем-нибудь опять меня прельщало, И доводы его рассеять я не смог, Хотя почувствовал, что, видно, песня спета, Когда при выходе – зловещая примета! – Лодыжку повредил, споткнувшись о порог. * * * Кто влюбчив, тот хвалы возлюбленным поет; Кто выше ставит честь, тот воспевает славу; Кто служит королю – поет его державу, Монаршим милостям ведя ревнивый счет. Кто музам отдал жизнь, тот славит их полет; Кто доблестен, твердит о доблестях по праву; Кто возлюбил вино, поет вина отраву, А кто мечтателен, тот сказки создает. Кто злоречив, живет лишь клеветой да сплетней; Кто подобрей, острит, чтоб только быть заметней, Кто смел, тот хвалится бесстрашием в бою; Кто сам в себя влюблен, лишь о себе хлопочет; Кто льстив, тот в ангелы любого черта прочит; А я – я жалуюсь на злую жизнь мою. * * * Когда глядишь на Рим, в неистовой гордыне Грозивший некогда земле и небесам, И видишь то, чем стал театр, иль цирк, иль храм, И все ж пленяешься величьем форм и линий, – Дивясь развалинам, их каменной пустыне, Суди, каким он был, дошедший тенью к нам, Когда прославленным в искусстве мастерам Обломки пыльные примером служат ныне. И, видя каждый день, как Рим вокруг тебя, Останки древностей раскопанных дробя, Возводит множество божественных творений, Ты постигаешь вдруг в угаре зыбких дней, Что Вечный город свой из пепла и камней Стремится возродить бессмертный Рима гений. * * * Я не люблю двора, но в Риме я придворный. Свободу я люблю, но должен быть рабом. Люблю я прямоту – льстецам открыл свой дом; Стяжанья враг, служу корыстности позорной. Не лицемер, учу язык похвал притворный; Чту веру праотцев, но стал ее врагом. Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом; Друг добродетели, терплю порок тлетворный. Покоя жажду я – томлюсь в плену забот. Ищу молчания – меня беседа ждет. К веселью тороплюсь – мне скука ставит сети. Я болен, но всегда в карете иль верхом. В мечтах я музы жрец, на деле – эконом. Ну можно ли, Морель, несчастней быть на свете! * * * Увы! Где прежняя насмешка над фортуной, Где сердце, смелое в любые времена, И жажда гордая бессмертья, где она? Неведомый толпе – где этот пламень юный? Где песни у реки в прохладе ночи лунной, Когда была душа беспечна и вольна, И хороводу муз внимала тишина Под легкий звон моей кифары тихоструйной? Увы, теперь не то, я угнетен судьбой. Владевший некогда и ею и собой, Я ныне раб невзгод и угрызений сердца. Забыв о будущем, я разлюбил свой труд, Потух мой жар, я нищ, и музы прочь бегут, В умолкнувшем навек почуяв иноверца. * * * Надменно выступать, надменно щурить взор, Едва цедить слова, едва кивать при встрече Иль шею втягивать подобострастно в плечи, Тому, кто выше вас, твердя: «Son servitor!» [8] «Messere si!» [9]– вставлять в любезный разговор, Добавить «е cosi» [10] для уснащенья речи, Хвастливо, будто сам ты был в кровавой сече, Италию делить, ведя застольный спор; Сеньору целовать протянутую руку, И, помня римскую придворную науку, Таить свою нужду и бравый делать вид, – Вот добродетели того двора, откуда Приезжий, обнищав, больной, одетый худо, Без бороды, домой во Францию спешит. * * * Кто может, мой Байель, под небом неродным И жить и странствовать ловцом удачи мнимой И в призрачной борьбе с судьбой неодолимой Брести из двери в дверь по чуждым мостовым. Кто может позабыть все то, что звал своим, Любовь к семье своей, любовь к своей любимой, К земле, от прошлых дней вовек неотделимой, И даже не мечтать о возвращенье к ним – Тот камнем порожден, провел с волками детство, Тот принял от зверей жестокий дух в наследство, Тигрицы молоко сосал он детским ртом! Да нет, и дикий зверь бежит с охоты в нору, А уж домашние, так те в любую пору, Где б ни были они, спешат к себе, в свой дом. * * * Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок, Банкира улещать, хоть толку никакого, Час целый взвешивать пред тем, как молвить слово, Замкнув парижскую свободу на замок; Ни выпить лишнего, ни лишний съесть кусок, Придерживать язык в присутствии чужого, Пред иностранцами разыгрывать немого, Чтоб гость о чем-нибудь тебя спросить не мог; Со всеми жить в ладу, насилуя природу; Чем безграничнее тебе дают свободу, Тем чаще вспоминать, что можешь сесть в тюрьму, Хранить любезный тон с мерзавцами любыми – Вот, милый мой Морель, что за три года в Риме Сполна усвоил я, к позору своему. * * * Бог мой, ну до чего противен даже вид Придворных обезьян, весь помысел которых – Монарху подражать в одежде, в разговорах И в том, как смотрит он, как ходит и сидит. Над кем-то он съязвил – глумится весь синклит, Солгал – и эти лгут, прибавя сплетен ворох, Хоть солнце углядят ему в ночных просторах, А днем найдут луну, как только он велит. Король приветствовал кого-то добрым взглядом – Все ну его ласкать, хоть сами брызжут ядом. Кому-то взгляд косой – и все спиной к нему. Но я бы, кажется, их растерзал на месте, Когда за королем, в восторге рабской лести, Они смеются все, не зная почему. * * * Пока Кассандре ты поешь хвалы над Сеной, Где правнук Гектора тобой, Гомеру вслед, И Нестор Франции – Монморанси – воспет, Где милостью король тебя дарит бессменной, Я у латинских вод, как Рима данник пленный, Грущу о Франции, о дружбе прошлых лет, О тех, кого любил, кого со мною нет, И о земле Анжу, изгнаннику священной. Грущу о тех садах, о рощах и лугах, О виноградниках, о милых берегах Моей родной реки. И внемлет мне в пустыне Лишь гордый мир камней, недвижный, неживой, С которым связан я надеждой роковой Достигнуть большего, чем я сумел доныне. * * * Блажен, кто странствовал подобно Одиссею, В Колхиду парус вел за золотым руном И, мудрый опытом, вернулся в отчий дом Остаток дней земных прожить с родней своею; Когда же те места я посетить сумею, Где каждый камешек мне с детских лет знаком, Увидеть комнату с уютным камельком, Где целым княжеством, где царством я владею?.. За это скромное наследие отцов Я отдал бы весь блеск прославленных дворцов И все их мраморы – за шифер кровли старой, И весь латинский Тибр, и гордый Палатин – За галльский ручеек, за мой Лире один, И весь их шумный Рим – за домик над Луарой. * * * Ни бушевавшие в стенах твоих пожары, Ни полчища твоих бесчисленных врагов, Ни те, кто сбросили позор твоих оков, Ни гунны дикие, ни готы, ни скамары, Ни переменчивых судеб твоих удары, Ни злоба десяти завистливых веков, Ни ненависть людей, ни мщение богов, Ни сам ты, на себя обрушивавший кары, Ни африканских бурь губительный налет, Ни бог извилистый – разливом бурных вод, Внезапным, точно смерть, в беспечном буйстве пира, – Настолько не могли тебя унизить, Рим, Чтобы, разрушенный, величием своим В самом ничтожестве не восхищал ты мира. * * * Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи, Идет гора воды, и брызжет, и ревет, И сотни черных волн швыряет в небосвод, И разбивается о твердь скалы могучей; Как ярый аквилон, родясь на льдистой круче, И воет, и свистит, и роет бездну вод, Размахом темных крыл полмира обоймет И падает, смирясь, на грудь волны зыбучей; Как пламень, вспыхнувший десятком языков, Гудя, взметается превыше облаков И гаснет, истощась, – так, буйствуя жестоко, Шел деспотизм – как вихрь, как пламень, как вода, И, подавив ярмом весь мир, по воле рока Здесь утвердил свой трон, чтоб сгинуть навсегда. * * * Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг живет? Проснувшись, облачась по всем законам моды, Час размышляет он, как сократить расходы И как долги отдать, а плату взять вперед. Потом он мечется, он ищет, ловит, ждет, Хранит любезный вид, хоть вспыльчив от природы, Сто раз переберет все выходы и входы, Замыслив двадцать дел, и двух не проведет. То к папе на поклон, то письма, то доклады, То знатный гость пришел и – рады вы, не рады – Наврет с три короба он всякой чепухи. Те просят, те кричат, те требуют совета, И это каждый день, и, веришь, нет просвета... Так объясни, Панжас, как я пишу стихи? * * * Отчизна доблести, искусства и закона, Я вскормленник твоих, о Франция, сосцов! И, как ягненок мать зовет в глуши лесов, К тебе взываю здесь, вблизи чужого трона Ужели своего мне не раскроешь лона, Дитя не возвратишь под материнский кров? Откликнись, Франция, на горький этот зов! Но вторит эхо мне, а ты не слышишь стона Брожу среди зверей, безлюдный лес вокруг, И в жилах стынет кровь, и холод зимних вьюг, Дрожа, предчувствую в осеннем листопаде Ты всех ягнят своих укрыла от зимы, От голода, волков и от морозной тьмы, – За что же гибну я, ужель я худший в стаде? * * * Да, было, было так – я жил самим собой, О большем не мечтал, и не влекли лукаво Меня ни почести, ни золото, ни слава, – Читал, писал стихи и счастлив был судьбой Но бог злокозненный разрушил мой покой, Чтоб волю продал я, чтобы лишился права Жить по влечению своей души и нрава, Без зависти к тому, как преуспел другой Он не хотел, чтоб я, клонясь к летам суровым, Жил мирно под своим, пускай не знатным, кровом, Любовью родственной и дружеской согрет Он мне велел в слезах, на бреге чужеземном, Свободу вспоминать в круженье подъяремном И в темном декабре – весны моей расцвет * * * Да, да, мой друг Винэ, немилостивы Оры Я стал ничтожеством, растратил столько сил А цели не достиг и жизни не вкусил, И молодость ушла, и уж не сдвинуть горы Нужда и хворь, надежд несбывшихся укоры, – Всю ночь терзаешься, а после день не мил, И так тоска гнетет, так этот Рим постыл! Уж лучше бы стоять, как истукан Марфоры, Не чувствовать обид, не знать, окаменев, Что значит высокопоставленного гнев, – Как было бы тогда мое перо свободно! Да, да, Винэ, лишь те по праву короли, Кому ни сам король, ни все цари земли Не запретят писать о чем и как угодно * * * Как будущий моряк внимает па борту Рассказам моряка, с которым все бывало, Который испытал и штиль и злобу шквала, И, сытый горечью, спасался на плоту, Внимай и ты, Ронсар, хотя твой ум я чту, Хоть старшего учить, я знаю, не пристало, Но я ведь по морям постранствовал немало И лишь с недавних пор мой челн уже в порту А в море гибельном, что называют Римом, И рифам счета нет, и мелям еле зримым, И путеводную тебе не бросят нить Ты, слушая сирен, утратишь ум и силы, Харибды избежишь, но не уйдешь от Сциллы, Коль не научишься при всяком ветре плыть * * * Когда, родной язык сменив на чужестранный, В стихах заговорил я по-латыни вдруг, Причина, мой Ронсар, не в том, что Рим вокруг, Не в шуме древних струй, бегущих с гор Тосканы, Но в том, что здесь я раб немой и безымянный, Томлюсь, как Прометей, – пойми, три года мук! Что без надежд живу, и верь, мой добрый друг, Виной жестокий рок, увы, не взор желанный Но если от тоски в какой-то тяжкий миг Овидий перешел на варварский язык, Чтоб быть услышанным – так пусть простит мне муза Мое предательство, – ведь у латинских рек, Хотя б велик ты был, как Римлянин иль Грек, Никто, Ронсар, никто не слушает француза * * * Когда б я ни пришел, ты, Пьер, твердишь одно Что, видно, я влюблен, что сохну от ученья, Что книги да любовь – нет худшего мученья От них круги в глазах и в голове темно Но верь, не в книгах суть, и уж совсем смешно, Что ты любовные припутал огорченья, – От службы вся беда, от ней все злоключенья, Мне над конторкою зачахнуть суждено С тобой люблю я, Пьер, беседовать, но если Ты хочешь, чтобы я не ерзал, сидя в кресле, Не раздражай меня невежеством своим! Побрей меня, дружок, завей, а ради скуки Ты б лучше сплетничал, не трогая науки, Про папу и про все, о чем толкует Рим * * * Ронсар, я видел Рим – античные громады, Театра мощный круг, открытый всем ветрам, Руины там, где был чертог, иль цирк, иль храм, И древних форумов стояли колоннады, Дворцы в развалинах, где обитают гады, Щетинится бурьян и древний тлеет хлам, И те, что высятся наперекор векам, Сметающим с земли и племена и грады. Ну, словом, я видал все то, чем славен Рим, Чем он и стар и нов, велик, неповторим, Но я в Италии не видел Маргариты, Той, кто пленительна и так одарена, Что совершенствами превысила она Все, чем столетия и страны знамениты. * * * Пока мы тратим жизнь и длится лживый сон, Которым на крючок надежда нас поймала, Пока при дяде я, Панжас – у кардинала, Маньи – там, где велит всесильный Авансон, – Ты служишь королям, ты счастьем вознесен, И славу Генриха умножил ты немало Той славою, Ронсар, что гений твой венчала За то, что Францию в веках прославил он Ты счастлив, друг! А мы среди чужой природы, На чуждом берегу бесплодно тратим годы, Вверяя лишь стихам все, что терзает нас Так на чужом пруду, пугая всю округу, Прижавшись крыльями в отчаянье друг к другу, Три лебедя кричат, что бьет их смертный час * * * Морель, ты слушаешь? Прошу тебя, ответь! Как быть? Остаться здесь, под гнетом постоянным, Или во Францию, к родным лесам, к полянам Бежать немедленно, чуть солнце станет греть? Остаться – значит жизнь растрачивать и впредь, Опять за свой же труд себе платить обманом, Опять расчетом жить, неверным и туманным, А мы ведь, строя жизнь, должны вперед смотреть Так что ж, иль продолжать надеяться на что-то? Или три года прочь? Три года снять со счета? Я остаюсь, Морель! Нет, еду! Да иль нет? Как ехать и притом не ехать ухитриться? Я волка за уши держу, как говорится, Ну дай же мне, Морель, какой-нибудь совет! * * * Тебе хвалы (Ронсар) слагал я без числа И сам прославлен был в твоем хвалебном списке Без просьб – лишь потому, что мы сердцами близки, У нас рождается взаимная хвала Но зложелатели следят из-за угла, Завистники на нас шипят, как василиски Смотри-ка, Дю Белле с Ронсаром в переписке, Боками чешутся, как будто два осла Но наши похвалы вредить не могут людям, А где закон (Ронсар), что мы в ответе будем, Коль хвалишь ты меня, а я тебя хвалю? Как золотом (Ронсар), торгуют похвалами, Но, право, похвалы сравню я с векселями, Которых стоимость равняется нулю * * * Тебе совет, мои друг послушай старика, Хоть сам не промах ты и глупость судишь строго, Как сделать, чтоб стихи – пусть ода, пусть эклога – Не прогневили тех, чья должность высока Попридержи язык, умерь его слегка, Когда заводишь речь про короля иль бога У бога, знаешь сам, усердных стражей много, А что до королей, у них длинна рука Не задевай того, кто хвастает отвагой, – Его кольнешь пером, а он проколет шпагой Захочешь спорить с ним – прикрой ладонью рот Кто сам блеснуть бы рад словцом твоим в салонах, Услышав брань глупцов, тобою оскорбленных, И глазом не моргнув, тебя же осмеет * * * Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду Высокой истине не шел наперекор, Не принуждал перо кропать постыдный вздор, Прислуживаясь к тем, кто делает погоду А я таю свой гнев, насилую природу, Чтоб нестерпимых уз не отягчить позор, Не смею вырваться душою на простор И обрести покой иль чувству дать свободу Мой каждый шаг стеснен – безропотно молчу Мне отравляют жизнь, и все ж я не кричу О мука – все терпеть, лишь кулаки сжимая! Нет боли тягостней, чем скрытая в кости! Нет мысли пламенней, чем та, что взаперти! И нет страдания сильней, чем скорбь немая, * * * Ты Дю Белле чернишь: мол, важничает он, Не ставит ни во что друзей. Опомнись, милый, Ведь я не князь, не граф, не герцог (бог помилуй!), Не титулован я и в сан не возведен, И честолюбью чужд, и тем не уязвлен, Что не отличен был ни знатностью, ни силой, Зато мой ранг– он мой, и лишь недуг постылый, Лишь естество мое диктует мне закон. Чтоб сильным угодить, не стану лезть из кожи. Низкопоклонствовать, как требуют вельможи, Как жизнь теперь велит, – забота не моя. Я людям не грублю, мной уважаем каждый; Кто поклонился мне, тому отвечу дважды. Но мне не нужен тот, кому не нужен я. * * * Жить надо, жить, мой Горд, – годов недолог счет! Еще у старости не время брать уроки Так дорог жизни дар, и так ничтожны сроки, – Бессилен и король замедлить их приход Весна изменит нам, придет зимы черед, А зиму вновь умчат весенние потоки, Но вечно спят в земле и вечно одиноки Те, от кого лазурь закрыл могильный свод Так что ж, не быть людьми? Как рыбы жить, как звери? Нет, выше голову! Веселью настежь двери! Пусть боги радости царят у нас в дому! Безумен, кто отверг надежное, земное В расчете призрачном на бытие иное И сам противустал желанью своему * * * Пускай ты заключен всего лишь на пять лет, Добро пожаловать, о мир благословенный! От христианских чувств – найду ли стих нетленный Во славу стершему следы великих бед? Пусть бесится вражда! О, если бы в ответ Все то, что ты сулишь, нам дал творец вселенной, Чтоб ты гордиться мог тебя достойной сменой И прочный, долгий мир пришел тебе вослед Но если с наших плеч ты снял усилий бремя, Чтобы стяжатель мог иметь для козней время И земли наживать, черня и грабя Честь, Чтобы судейский плут, наглея с каждым годом, Присвоил мира плод, взлелеянный народом, – Тогда исчезни, мир, и грянь войною, месть! * * * Пришелец в Риме не увидит Рима, И тщетно Рим искал бы в Риме он Остатки стен, порталов и колонн – Вот все, чем слава римская хранима Во прахе спесь А время мчится мимо, И тот, кто миру диктовал закон, Тысячелетьям в жертву обречен, Сам истребил себя неумолимо Для Рима стать гробницей мог лишь Рим Рим только Римом побежден одним И, меж руин огромных одинок, Лишь Тибр не молкнет О неверность мира! Извечно зыбкий вечность превозмог, Незыблемый лежит в обломках сиро * * * Когда мне портит кровь упрямый кредитор, Я лишь сложу стихи – и бешенство пропало. Когда я слышу брань вельможного нахала, Мне любо, желчь излив, стихами дать отпор. Когда плохой слуга мне лжет и мелет вздор, Я вновь пишу стихи – и злости вмиг не стало; Когда от всех забот моя душа устала, Я черпаю в стихах и бодрость и задор. Стихами я могу слагать хвалы свободе, Стихами лень гоню назло моей природе, Стихам вверяю все, что затаил в душе. Но если от стихов мне столько пользы разной И вносят жизнь они в мой век однообразный, Зачем ты бросить их советуешь, Буше? * * * Не ведая того, что я узнал потом – Как может быть судьба ко мне неблагосклонна, – Я шел необщею дорогой Аполлона, К святому движимый его святым огнем. Но вскоре божество покинуло мой дом, Везде докучная мешала мне препона, И в тусклый мир, где все и гладко и законно, Нужда ввела меня исхоженным путем. Вот почему (Лоррен) я сбился с той дороги, Какой идет Ронсар туда, где правят боги, И все же, ровный путь увидев пред собой, Без риска утомить дыханье, сердце, руки, Я следую туда, куда в трудах и в муке Идет он подвига неторною тропой. * * * Ученым степени дает ученый свет, Придворным землями отмеривают плату, Дают внушительную должность адвокату, И командирам цепь дают за блеск побед. Чиновникам чины дают с теченьем лет, Пеньковый шарф дают за все дела пирату, Добычу отдают отважному солдату, И лаврами не раз увенчан был поэт. Зачем же ты, Жодель, тревожишь Музу плачем, Что мы обижены, что ничего не значим? Тогда ступай себе другой дорогой, брат: Лишь бескорыстному служенью Муза рада. И стыдно требовать поэзии наград, Когда Поэзия сама себе награда. * * * С тех пор как я пресек вещей обычный ход, Сменив на мутный Тибр жилище родовое, Три раза начинал движенье круговое Светильник яркий дня, свершая свой полет. Но так я рвусь домой, в привычный обиход, Во Францию (Морель), в Париж, где все родное, Что для меня здесь год – как вся осада Трои, И медлит время здесь, вращая небосвод. Да, медлит и томит, и жизнь мертва, убога, Убога и мертва, и холод Козерога Не сократит мой день, и Рак не скрасит ночь. Мне худо здесь (Морель), и с каждым днем все хуже, Вдали от Франции и от тебя, мой друже, Все скучно, все претит, и жить уже невмочь. * * * Великий Лаэртид был морем отделен От милой родины, а предо мною кручи Враждебных Апеннин, хребтом подперших тучи, Закрывших от меня французский небосклон. Мой плодороден край, блуждал в бесплодных он, Суров был труд его, мой нежен труд певучий, Палладе он служил, а мною правит случай, Он хитроумен был, я хитрости лишен. Храня его добро, его родные ждали, Меня никто не ждет, мой дом хранят едва ли, Он в гавань наконец привел свою ладью, А мне во Францию заказаны все тропы, Он отомстил врагам бесчестье Пенелопы, А я не в силах мстить врагам за честь мою. * * * Кто на ученость бьет, пускай за Гесиодом Летит мечтой (Паскаль!) на Фебов холм двойной. Пусть, наготу омыв Кастальскою волной, Считает, что теперь любим он всем народом. Я страстью не горю к велеречивым одам И не выстукиваю стих мой озорной. Над рифмой ногти грызть не стану в час ночной И силы истощать, плетясь вослед рапсодам. Что я пишу, Паскаль, должно глупцам на страх Стихами в прозе быть иль прозою в стихах, Хотя бы слава мне досталась небольшая. Но кто лишь слабость рифм нашел в строфах моих, Быть может, похвалой почтит мой скромный стих, Когда потрудится, мне тщетно подражая. * * * Ты помнишь, Лагеи, я собирался в Рим И ты мне говорил (мы у тебя сидели): «Запомни, Дю Белле, каким ты был доселе, Каким уходишь ты, и воротись таким». И вот вернулся я – таким же, не другим. Лишь то, что волосы немного поседели, Да чаще хмурю бровь, и дальше стал от цели, И только мучаюсь, все мучаюсь одним. Одно грызет меня и гложет сожаленье. Не думай, я не вор, не грешен в преступленье. Но сам обрек себя на трехгодичный плен, Сам обманул себя надеждою напрасной И растерял себя из жажды перемен, Когда уехал в Рим из Франции прекрасной. * * * Ты хочешь, мой Дилье, войти в придворный круг? Умей понравиться любимцам именитым. Средь низших сам держись вельможей, сибаритом, К монарху приспособь досуг и недосуг. В беседе дружеской не раскрывайся вдруг И помни главное: поближе к фаворитам! Рукою руку мой – и будешь сильным, сытым, Не брезгай быть слугой у королевских слуг! Не стой за ближнего, иль прослывешь настырным, Не вылезай вперед, кажись, где надо, смирным, Оглохни, онемей, будь слеп к чужой игре. Не порицай разврат, не будь ему свидетель, Являй угодливость и плюй на добродетель – Таков, Дилье, залог успеха при дворе. * * * Сэв, как бежал Эней с развалин Илиона – Из ада в рай земной, – так шел я к тем тропам, Где после льдистых гор внизу открылись нам Дома и площади родного мне Лиона, Где проложила путь гостеприимный Сона, Чтоб, как Венеция, как Лондон, Амстердам, Он цвел ремеслами на зависть городам, Торговлей движимый и мудростью закона И удивлялся я, что, как цветам весной, Там счета не было мелькавшим предо мной Купцам, печатникам, менялам, шерстобитам, И был я поражен огромностью мостов, Когда на их горбы глядел, сойдя с хребтов, И средь богатых мыз катил в возке открытом * * * Де-Во, как в океан, воды не прибавляя, Чтоб раствориться в нем, десятки рек спешат, Так все, чем этот мир, обширный мир богат, Стекается в Париж, его не затопляя Обилием искусств он Греция вторая, Величием своим он только Риму брат, Диковин больше в нем, чем в Африке, стократ, Голконду он затмил, богатства собирая Видали многое глаза мои, де-Во, Уже их удивить не может ничего, Но, глядя на Париж, дивлюсь ему как чуду И тем обиднее, что даже здесь, мой друг, Запуганный народ, обилье праздных рук, Распутство, нищета, и грязь, и ложь повсюду * * * Невежде проку нет в искусствах Аполлона, Таким сокровищем скупец не дорожит, Проныра от него подалее бежит, Им Честолюбие украситься не склонно; Над ним смеется тот, кто вьется возле трона, Солдат из рифм и строф щита не смастерит, И знает Дю Белле: не будешь ими сыт, Поэты не в цене у власти и закона. Вельможа от стихов не видит барыша, За лучшие стихи не купишь ни шиша, Поэт обычно нищ и в собственной отчизне. Но я не откажусь от песенной строки, Одна поэзия спасает от тоски, И ей обязан я шестью годами жизни. Пьер Ронсар 1523–1585 * * * Едва Камена мне источник свой открыла И рвеньем сладостным на подвиг окрылила, Веселье гордое мою согрело кровь И благородную зажгло во мне любовь. Плененный в двадцать лет красавицей беспечной, Задумал я в стихах излить свой жар сердечный, Но, с чувствами язык французский согласив, Увидел, как он груб, неясен, некрасив, Тогда для Франции, для языка родного, Трудиться начал я отважно и сурово. Я множил, воскрешал, изобретал слова, И сотворенное прославила молва. Я, древних изучив, открыл свою дорогу, Порядок фразам дал, разнообразье слогу, Я строй поэзии нашел – и волей муз, Как Римлянин и Грек, великим стал француз. * * * Не знаю, Дю Белле, пленил слепой божок Сердца прекрасных муз иль так он с ними строг, Но следуют за ним они совсем как свита. И кто не вздумает любовью пренебречь, Тому дают они божественную речь, И вся наука их влюбленному открыта. Но кто отверг любовь – несчастный человек! Отвергнут музами он будет сам навек, Они не одарят его искусством слова, Он к хороводу их не будет приобщен, И влагу зачерпнуть уже не сможет он Для губ нелюбящих из родника святого. Я сам свидетель в том, и ты, мой друг, заметь: Едва хочу богов иль смертного воспеть, Немеет мой язык, мне слово не дается. Когда ж любви хвалу творят мои уста, Развязан мой язык, проходит немота, И песня без помех сама из сердца льется. Из книги «Любовь к Кассандре» * * * Кто хочет зреть, как бог овладевает мною, Как осаждает он и как теснит в бою, Как, честь свою блюдя, позорит честь мою, Как леденит и жжет отравленной стрелою, Кто видел, как велит он юноше, герою, Бесплодно заклинать избранницу свою, Пускай придет ко мне: стыда не утаю, Обиды сладостной от глаз чужих не скрою. И видевший поймет, как дух надменный слаб Пред яростным стрелком, как сердце – жалкий раб – Трепещет, сражено его единым взглядом, И он поймет, зачем пою тому хвалу, Кто в сердце мне вонзил волшебную стрелу И опалил меня любви смертельным ядом. * * * Скорей погаснет в небе звездный хор И станет море каменной пустыней, Скорей не будет солнца в тверди синей, Не озарит луна земной простор, Скорей падут громады снежных гор, Мир обратится в хаос форм и линий, Чем назову я рыжую богиней Иль к синеокой преклоню мой взор Я карих глаз живым огнем пылаю, Я серых глаз и видеть не желаю, Я враг смертельный золотых кудрей Я и в гробу, холодный и безгласный, Не позабуду этот блеск прекрасный Двух карих глаз, двух солнц души моей * * * Когда одна, от шума в стороне Бог весть о чем рассеянно мечтая, Задумчиво сидишь ты, всем чужая, Склонив лицо как будто в полусне, Хочу тебя окликнуть в тишине, Твою печаль развеять, дорогая, Иду к тебе, от страха замирая, Но голос, дрогнув, изменяет мне Лучистый взор твой встретить я не смею, Я пред тобой безмолвен, я немею, В моей душе смятение царит Лишь тихий вздох, прорвавшийся случайно, Лишь грусть моя, лишь бледность говорит, Как я люблю, как я терзаюсь тайно * * * Гранитный пик над голой крутизной, Глухих лесов дремучие громады, В горах поток, прорвавший все преграды, Провал, страшащий темной глубиной, Своим безлюдьем, мертвой тишиной Смиряют в сердце, алчущем прохлады, Любовный жар, палящий без пощады Мою весну, цветущий возраст мой. И, освежен, упав на мох зеленый, Беру портрет, на сердце утаенный, Бесценный дар, где кисти волшебством, О Денизо, сумел явить твой гений Всех чувств родник, источник всех томлений, Весь мир восторгов в образе живом, * * * Когда ты, встав от сна богиней благосклонной, Одета лишь волос туникой золотой, То пышно их завьешь, то, взбив шиньон густой, Распустишь до колен водною нестесненной – О, как подобна ты другой, пеннорожденной, Когда, волну волос то заплетя косой, То распуская вновь, любуясь их красой, Она плывет меж нимф по влаге побежденной! Какая смертная тебя б затмить могла Осанкой, поступью, иль красотой чела, Иль томным блеском глаз, иль даром нежной речи, Какой из нимф речных или лесных дриад Дана и сладость губ, и этот влажный взгляд, И золото волос, окутавшее плечи! Стансы Если мы во храм пойдем – Преклонясь пред алтарем, Мы свершим обряд смиренный, Ибо так велел закон Пилигримам всех времен Восхвалять творца вселенной Если мы в постель пойдем, Ночь мы в играх проведем, В ласках неги сокровенной, Ибо так велит закон Всем, кто молод и влюблен, Проводить досуг блаженный Но как только захочу К твоему припасть плечу, Иль с груди совлечь покровы, Иль прильнуть к твоим губам, – Как монашка, всем мольбам Ты даешь отпор суровый Для чего ж ты сберегла Нежность юного чела, Жар нетронутого тела – Чтоб женой Плутона стать, Чтоб Харону их отдать У стигийского предела? Час пробьет, спасенья нет – Губ твоих поблекнет цвет, Ляжешь в землю ты сырую, И тогда я, мертвый сам, Не признаюсь мертвецам, Что любил тебя живую Все, чем ныне ты горда, Все истлеет без следа – Щеки, лоб, глаза и губы Только желтый череп твой Глянет страшной наготой И в гробу оскалит зубы Так живи, пока жива, Дай любви ее права – Но глаза твои так строги! Ты с досады б умерла, Если б только поняла, Что теряют недотроги. О, постой, о, подожди! Я умру, не уходи! Ты, как лань, бежишь тревожно... О, позволь руке скользнуть На твою нагую грудь Иль пониже, если можно! * * * «В твоих кудрях нежданный снег блеснет, В немного зим твой горький путь замкнется, От мук твоих надежда отвернется, На жизнь твою безмерный ляжет гнет; Ты не уйдешь из гибельных тенет, Моя любовь тебе не улыбнется, В ответ на стон твой сердце не забьется, Твои стихи потомок осмеет. Простишься ты с воздушными дворцами, Во гроб сойдешь ославленный глупцами, Не тронув суд небесный и земной». Так предсказала нимфа мне мой жребий, И молния, свидетельствуя в небе, Пророчеством блеснула надо мной. * * * До той поры, как в мир любовь пришла И первый свет из хаоса явила, – Несозданны, кишели в нем светила Без облика, без формы, без числа Так, праздная, темна и тяжела, Во мне душа безликая бродила, Но вот любовь мне сердце охватила, Его лучами глаз твоих зажгла. Очищенный, приблизясь к совершенству, Дремавший дух доступен стал блаженству, И он в любви живую силу пьет, Он сладостным томится притяженьем. Душа моя, узнав любви полет, Наполнилась и жизнью и движеньем. * * * Как молодая лань, едва весна Разбила льда гнетущие оковы, Спешит травы попробовать медовой, Покинет мать и мчится вдаль одна. И в тишине, никем не стеснена, То в лес уйдет, то луг отыщет новый, То свежий ключ найдет в тени дубровы И прыгает, счастлива и вольна, Пока над ней последний час не грянет, Пока стрела беспечную не ранит, Свободной жизни положив предел, Так жил и я – и дни мои летели, Но вдруг, блеснув в их праздничном апреле, Твой взор мне в сердце кинул сотню стрел. * * * Всю боль, что я терплю в недуге потаенном, Стрелой любви пронзен, о Феб, изведал ты, Когда, в наш мир сойдя с лазурной высоты, У Ксанфа тихого грустил пред Илионом. Ты звуки льстивых струн вверял речным затонам, Зачаровал и лес, и воды, и цветы, Одной не победил надменной красоты, Не преклонил ее сердечной муки стоном. Но, видя скорбь твою, бледнел лесной цветок, Вскипал от слез твоих взволнованный поток, И в пенье птиц была твоей любви истома. Так этот бор грустит, когда брожу без сна, Так вторит имени желанному волна, Когда я жалуюсь Луару у Вандома. * * * Дриаду в поле встретил я весной. Она в простом наряде, меж цветами, Держа букет небрежными перстами, Большим цветком прошла передо мной. И, словно мир покрылся пеленой, Один лишь образ реет пред очами. Я грустен, хмур, брожу без сна ночами, Всему единый взгляд ее виной. Я чувствовал, покорный дивной силе, Что сладкий яд ее глаза струили, И замирало сердце им в ответ. Как лилия, цветок душистый мая, Под ярким солнцем гибнет, увядая, Я, обожженный, гасну в цвете лет. * * * В твоих объятьях даже смерть желанна! Что честь и слава, что мне целый свет, Когда моим томлениям в ответ Твоя душа заговорит нежданно. Пускай в разгроме вражеского стана Герой, что Марсу бранный дал обет, Своею грудью, алчущей побед, Клинков испанских ищет неустанно, Но, робкому, пусть рок назначит мне Сто лет бесславной жизни в тишине И смерть в твоих объятиях, Кассандра, – И я клянусь: иль разум мой погас, Иль этот жребий стоит даже вас, Мощь Цезаря и слава Александра. * * * Когда, как хмель, что, ветку обнимая, Скользит, влюбленный, вьется сквозь листы, Я погружаюсь в листья и цветы, Рукой обвив букет душистый мая, Когда, тревог томительных не зная, Ищу друзей, веселья, суеты, – В тебе разгадка, мне сияешь ты, Ты предо мной, мечта моя живая! Меня уносит к небу твой полет, Но дивный образ тенью промелькнет, Обманутая радость улетает, И, отсверкав, бежишь ты в пустоту... Так молния сгорает на лету, Так облако в дыханье бури тает. * * * Хочу три дня мечтать, читая «Илиаду». Ступай же, Коридон, и плотно дверь прикрой И, если что-нибудь нарушит мой покой, Знай: на твоей спине я вымещу досаду. Мы принимать гостей три дня не будем кряду, Мне не нужны ни Барб, ни ты, ни мальчик твой. – Хочу три дня мечтать наедине с собой, А там опять готов испить безумств отраду. Но если вдруг гонца Кассандра мне пришлет, Зови с поклоном в дом, пусть у дверей не ждет, Беги ко мне, входи, не медля на пороге! К ее посланнику я тотчас выйду сам. Но если б даже бог явился в гости к нам, Захлопни дверь пред ним, на что нужны мне боги! * * * Когда прекрасные глаза твои в изгнанье Мне повелят уйти – погибнуть в цвете дней, И Парка уведет меня в страну теней, Где Леты сладостной услышу я дыханье, – Пещеры и луга, вам шлю мое посланье, Вам, рощи темные родной страны моей Примите хладный прах под сень своих ветвей, Меж вас найти приют – одно таю желанье И, может быть, сюда придет поэт иной, И, сам влюбленный, здесь узнает жребий мой И врежет в клен слова – печали дар мгновенный «Певец вандомских рощ здесь жил и погребен, Отвергнутый, любил, страдал и умер он Из-за жестоких глаз красавицы надменной» Из книги «Оды» * * * Пойдем, возлюбленная, взглянем На эту розу, утром ранним Расцветшую в саду моем. Она, в пурпурный шелк одета, Как ты, сияла в час рассвета И вот – уже увяла днем. В лохмотьях пышного наряда – О, как ей мало места надо! – Она мертва, твоя сестра. Пощады нет, мольба напрасна, Когда и то, что так прекрасно, Не доживает до утра. Отдай же молодость веселью! Пока зима не гонит в келью, Пока ты вся еще в цвету, Лови летящее мгновенье – Холодной вьюги дуновенье, Как розу, губит красоту. Ручью Беллери О Беллери, ручей мой славный, Прекрасен ты, как бог дубравный, Когда, с сатирами в борьбе, Наполнив лес веселым эхом, Не внемля страстной их мольбе, Шалуньи нимфы с громким смехом, Спасаясь, прячутся в тебе. Ты божество родного края, И твой поэт, благословляя, Тебе приносит дар живой – Смотри козленок белоснежный! Он видит первый полдень свой, Но два рожка из шерсти нежной Уже торчат над головой В тебя глядеть могу часами, – Стихи теснятся в душу сами, И шепчет в них твоя струя, В них шелест ив твоих зеленых, Чтоб слава скромного ручья Жила в потомках отдаленных, Как будет жить строфа моя Ты весь овеян тенью свежей, Не сушит зной твоих прибрежий, Твой темен лес, твой зелен луг И дышат негой и покоем Стада, бродящие вокруг, Пастух, сморенный летним зноем, И вол, с утра влачивший плуг, Не будешь ты забыт веками, Ты царь над всеми родниками, И буду славить я всегда Утес, откуда истекая, Струей обильной бьет вода И с мерным шумом, не смолкая, Спешит неведомо куда Гастинскому лесу Тебе, Гастин, в твоей тени Пою хвалу вовеки, – Так воспевали в оны дни Лес Эриманфа греки И, благодарный, не таю Пред новым поколеньем, Что юность гордую мою Поил ты вдохновеньем, Давал приют любви моей И утолял печали, Что музы волею твоей На зов мой отвечали, Что, углубясь в живую сень, Твоим овеян шумом, Над книгой забывал я день, Отдавшись тайным думам. Да будешь вечно привлекать Сердца своим нарядом, Приют надежный предлагать Сильванам и наядам, Да посвятят тебе свой дар Питомцы муз и лени, Да святотатственный пожар Твоей не тронет сени! Моему слуге Мне что-то скучно стало вдруг, Устал от книг и от наук, – Трудны Арата «Феномены»! Так не пойти ль расправить члены? Я по лугам затосковал Мой бог! Достоин ли похвал, Кто, радость жизни забывая, Корпит над книгами, зевая! Скучать – кой толк, я не пойму, От книг один ущерб уму, От книг забота сердце гложет, А жизнь кончается, быть может Сегодня ль, завтра ль – все равно Быть в Орке всем нам суждено, А возвратиться в мир оттуда – Такого не бывает чуда! Эй, Коридон, живее в путь! Вина покрепче раздобудь, Затем, дружище, к фляге белой Из листьев хмеля пробку сделай И с коробком вперед ступай. Говядины не покупай! Она вкусна, но мясо летом Осуждено ученым светом. Купи мне артишоков, дынь, К ним сочных персиков подкинь, Прибавь холодные напитки Да сливок захвати в избытке. В тени, у звонкого ручья, Их на траве расставлю я Иль в диком гроте под скалою Нехитрый завтрак мой устрою. И буду яства уплетать, И буду громко хохотать, Чтоб сердцу не было так жутко, Оно ведь знает, хворь – не шутка! Наскочит смерть, и сразу – хлоп: Мол, хватит пить, пора и в гроб! * * * Не держим мы в руке своей Ни прошлых, ни грядущих дней, – Земное счастье так неверно! И завтра станет прахом тот, Кто королевских ждал щедрот И пресмыкался лицемерно. А за порогом вечной тьмы Питий и яств не просим мы И забываем погреб винный. О закромах, где мы давно Скопили тучное зерно, Не вспомним ни на миг единый. Но не помогут плач и стон. Готовь мне ложе, Коридон, Пусть розы будут мне постелью! И да спешат сюда друзья! Чтоб усмирилась желчь моя, Я эту ночь дарю веселью Зови же всех, давно пора! Пускай придут Жодель, Дора, Питомцы муз, любимцы наши, И до зари под пенье лир Мы будем править вольный пир, Подъемля пенистые чаши Итак, начнем струей святой Наполни кубок золотой, – Мой первый тост Анри Этьенну За то, что в преисподней он Нашел тебя, Анакреон, И нам вернул твою камену Анакреон, мы все, кто пьет, – Беспечный и беспутный сброд, Силен под виноградной сенью, Венера, и Амур-стрелок, И Бахус, благодатный бог, Твой гений славим пьяной ленью, * * * Когда грачей крикливых стая, Кружась, готовится в отлет И, небо наше покидая, Пророчит осени приход, Юпитер кравчего зовет, И влаге тот велит пролиться, И, значит, хмурый небосвод Надолго тучами замглится И будет Феба колесница Сквозь мрак лететь к весне другой, А ты спеши в свой дом укрыться И, чуждый суете людской, Блаженствуй в горнице сухой, Пока мертва земля нагая, – Трудолюбивою рукой Тебя достойный стих слагая Как я, возжаждай – цель благая! – Ужасный превозмочь закон, Которым Жница роковая Весь мир тиранит испокон. И, чтоб греметь сквозь даль времен, Трудись упорно. В час досуга С тобою здесь Тибулл, Назон И лютня, дум твоих подруга. Когда бушует дождь иль вьюга, А в дверь стучится бог шальной, И ни любовницы, ни друга, – Одушевленных струн игрой Гони мечтаний грустный рой. Когда ж ты стих довел до точки, Усталый мозг на лад настрой Бургундским из трехлетней бочки. * * * Эй, паж, поставь нам три стакана, Налей их ледяным вином. Мне скучно! Пусть приходит Жанна, Под лютню спляшем и споем, Чтобы гремел весельем дом. Пусть Барб идет, забот не зная, Волос копну скрутив узлом, Как итальянка озорная. Был день – и вот уже прошел он. А завтра, завтра, старина... Так пусть бокал мой будет полон, Хочу упиться допьяна! Мне только скука и страшна. А Гиппократ – да врет он, право, Я лишь тогда и мыслю здраво, Когда я много пью вина. * * * Да, я люблю мою смуглянку, Мою прелестную служанку, Люблю, нимало не стыдясь, Хоть неравна такая связь. Ни полководцы с буйной кровью Их рангу чуждою любовью, Ни мудрецы, ни короли Ни разу не пренебрегли. Геракл, прославленный молвою, Когда Иолу взял он с бою, Плененный пленницей своей, Тотчас же покорился ей. Ахилл, гроза державной Трои, Пред кем склонялись и герои, Так в Бризеиду был влюблен, Что стал рабом рабыни он. Сам Агамемнон, царь надменный, Пред красотой Кассандры пленной Сложив оружие свое, Признал владычицей ее. Так, мощью наделен великой, Амур владыкам стал владыкой, Ни одному царю не друг, Он ищет не друзей, но слуг. И страсти нежной раб смиренный, Юпитер, властелин вселенной, В угоду мальчику тайком Сатиром делался, быком, Чтоб с женщиной возлечь на ложе. Он мог богинь любить – но что же? Презрев высокий свой удел, И женщин он любить хотел. В любви богинь одни печали, Один обман мы все встречали, Кто жаждет подлинной любви – В простых сердцах ее лови. А недруг мой пускай хлопочет, Пускай любовь мою порочит, Пускай, стыдясь любви такой, Поищет где-нибудь другой! На выбор своей гробницы Вам я шлю эти строки – Вы, пещеры, потоки, Ты, спадающий с круч Горный ключ. Вольным пажитям, нивам, Рощам, речкам ленивым, Шлю бродяге ручью Песнь мою. Если, жизнь обрывая, Скроет ночь гробовая Солнце ясного дня От меня, Пусть не мрамор унылый Вознесут над могилой, Не в порфир облекут Мой приют, – Пусть, мой холм овевая, Ель шумит вековая. Долго будет она Зелена. Моим прахом вскормленный, Цепкий плющ, как влюбленный, Пусть могильный мой свод Обовьет. Пьяным соком богатый, Виноград узловатый Ляжет сенью сквозной Надо мной. Чтобы в день поминальный, Как на праздник прощальный, Шел пастух и сюда Вел стада, Чтобы в скорбном молчанье Совершил он закланье, Поднял полный бокал И сказал: «Здесь, во славе нетленной, Спит под сенью священной Тот, чьи песни поет Весь народ. Не прельщался он вздорной Суетою придворной И вельможных похвал Не искал, Не заваривал в келье Приворотное зелье, Не был с древним знаком Волшебством. Но Камены недаром Петь любили с Ронсаром В хороводном кругу На лугу. Дал он лире певучей Много новых созвучий, Отчий край возвышал, Украшал. Боги, манной обильной Холм осыпьте могильный. Ты росой его, май, Омывай, Чтобы спал, огражденный Рощей, речкой студеной, Свежей влагой, листвой Вековой, Чтоб к нему мы сходились И, как Пану, молились, Помня лиры его Торжество». Так, меня воспевая, Кровь тельца проливая, Холм обрызжут кругом Молоком. Я же, призрак туманный, Буду, миртом венчанный, Длить в блаженном краю Жизнь мою – В дивном царстве покоя, Где ни стужи, ни зноя, Где не губит война Племена. Там, под сенью лесною, Вечно веет весною, Дышит грудь глубоко И легко. Там Зефиры спокойны, Мирты горды и стройны, Вечно свежи листы И цветы. Там не ведают страсти Угнетать ради власти, Убивать, веселя Короля. Братским преданный узам, Мертвый служит лишь музам, Тем, которым служил, Когда жил. Там услышу, бледнея, Гневный голос Алкея, Сафо сладостных од Плавный ход. О, как счастлив живущий Под блаженною кущей, Собеседник певцам, Мудрецам! Только нежная лира Гонит горести мира И забвенье обид Нам дарит. * * * Когда средь шума бытия В Вандомуа скрываюсь я, Бродя в смятении жестоком, Тоской, раскаяньем томим, Утесам жалуюсь глухим, Лесам, пещерам и потокам. Утес, ты в вечности возник, Но твой недвижный, мертвый лик Щадит тысячелетий ярость. А молодость моя не ждет, И каждый день и каждый год Меня преображает старость. О лес, ты с каждою зимой Теряешь волос пышный свой, Но год пройдет, весна вернется, Вернется блеск твоей листвы, А на моем челе – увы! – Задорный локон не завьется. Пещеры, я любил ваш кров, – Тогда я духом был здоров, Кипела бодрость в юном теле, Теперь, окостенев, я стал Недвижней камня ваших скал, И силы в мышцах оскудели. Поток, бежишь вперед, вперед, – Волна придет, волна уйдет, Спешит без отдыха куда-то... И я без отдыха весь век И день и ночь стремлю свой бег В страну, откуда нет возврата. Судьбой мне краткий дан предел, Но я б ни лесом не хотел, Ни камнем вечным стать в пустыне, – Остановив крылатый час, Я б не любил, не помнил вас, Из-за кого я старюсь ныне. * * * Ах, если б смерть могли купить И дни продлить могли мы златом, Так был бы смысл и жизнь убить На то, чтоб сделаться богатым, – Чтоб жизнь была с судьбой в ладу, Тянула время как хотела, И чтобы смерть, пускай за мзду, Не уносила дух из тела. Но ведь не та у денег стать, Чтоб нам хоть час, да натянули, – Так что за толк нагромождать Подобный хлам в своем бауле? Нет, лучше книга, мой Жамен, Чем пустозвонная монета: Из книг, превозмогая тлен, Встает вторая жизнь поэта. Жаворонок Какой поэт в строфе шутливой Не воспевал тебя, счастливый, Веселый жаворонок мой? Ты лучше всех певцов на ветках, Ты лучше всех, что, сидя в клетках, Поют и летом и зимой. Как хороши твои рулады, Когда, полны ночной прохлады, В лучах зари блестят поля, И пахарь им взрезает чрево, И терпит эту боль без гнева, Тебя заслушавшись, земля. Едва разбужен ранним утром, Росы обрызган перламутром, Уже чирикнул ты: кви-ви! И вот летишь, паря, взвиваясь, В душистом воздухе купаясь, Болтая с ветром о любви. Иль сереньким падешь комочком В ложбинку, в ямку под кусточком, Чтобы яйцо снести туда; Положишь травку иль пушинку Иль сунешь червячка, личинку Птенцам, глядящим из гнезда. А я лежу в траве под ивой, Внимая песенке счастливой, И, как сквозь сон, издалека Мне слышен звонкий смех пастушки, Ягнят пасущей у опушки, Ответный голос пастушка. И мыслю, сердцем уязвленный: Как счастлив ты, мой друг влюбленный! Заботам неотвязным чужд, Не знаешь ты страстей боренья, Красавиц гордого презренья, Вседневных горестей и нужд. Тебе все петь бы да резвиться, Встречая солнце, к небу взвиться (Чтоб весел был и человек, Начав под песню труд прилежный), Проститься с солнцем трелью нежной, – Так мирный твой проходит век. А я, в печали неизменной, Гоним красавицей надменной, Не знаю дня ни одного, Когда б, доверившись обману, Обманом не терзал я рану Больного сердца моего, * * * Природа каждому оружие дала: Орлу – горбатый клюв и мощные крыла, Быку – его рога, коню – его копыта. У зайца быстрый бег, гадюка ядовита, Отравлен зуб ее. У рыбы – плавники, И, наконец, у льва есть когти и клыки. В мужчину мудрый ум она вселить умела. Для женщин мудрости Природа не имела И, исчерпав на нас могущество свое, Дала им красоту – не меч и не копье. Пред женской красотой мы все бессильны стали. Она сильней богов, людей, огня и стали. Реке Луар Журчи и лейся предо мною, Влеки жемчужную струю, Неиссякающей волною Питая родину мою. Гордись: ты с нею изначала На все сроднился времена. Такой земли не орошала Из рек французских ни одна. Здесь жили встарь Камены сами, Здесь Феб и грезил и творил, Когда он миру их устами Мое искусство подарил. Здесь, погруженный в лень святую, Бродя под сенью диких лоз, Он встретил нимфу молодую В плаще из золотых волос И красотой ее пленился, Помчался бурно ей вослед, Догнал ее и насладился, Похитив силой юный цвет. И, нежным именем богини Прибрежный именуя грот, О ней преданье и доныне Лелеет в памяти народ. И я в твои бросаю воды Букет полурасцветших роз, Чтоб ты поил живые всходы Страны, где я счастливый рос, Внемли, Луар, мольбе смиренной: Моей земле не измени, Твоей волной благословенной Ей изобилье сохрани. Кругом разлившись без предела, Не затопляй ее стада, Не похищай у земледела Плоды заветного труда. Но влагой, серебру подобной, Сердца живые веселя, Струись, прозрачный и беззлобный, И воскрешай весной поля, Соловей Мой друг залетный, соловей! Ты вновь на родине своей, На той же яблоневой ветке Близ темнолиственной беседки, И, громкой трелью ночь и день Родную наполняя сень, Спор воскрешаешь устарелый – Борьбу Терея с Филомелой. Молю (хоть всю весну потом Люби и пой, храня свой дом!) Скажи обидчице прелестной, Когда померкнет свод небесный И выйдет в сад гулять она, Что юность лишь на миг дана, Скажи, что стыдно ей, надменной, Гордиться красотой мгновенной, Что в январе, в урочный срок Умрет прекраснейший цветок, Что май опять нам улыбнется И красота цветку вернется, Но что девичья красота Однажды вянет навсегда, Едва подходит срок жестокий, Что перережут лоб высокий, Когда-то гордый белизной, Морщины в палец глубиной, И станет высохшая кожа На скошенный цветок похожа, Серпом задетый. А когда Избороздят лицо года, Увянут краски молодые, Поблекнут кудри золотые, Скажи, чтоб слезы не лила О том, что молодость прошла, Не взяв от жизни и природы Того, что в старческие годы, Когда любовь нам не в любовь, У жизни мы не просим вновь. О соловей, ужель со мною Она не встретится весною В леске густом иль средь полей, Чтоб у возлюбленной моей, Пока ты сдавишь радость мая, Ушко зарделось, мне внимая? * * * Прекрасной Флоре в дар – цветы. Помоне – сладкие плоды, Леса – дриадам и сатирам, Кибеле – стройная сосна, Наядам – зыбкая волна, И шорох трепетный – Зефирам. Церере – тучный колос нив, Минерве – легкий лист олив, Трава в апреле – юной Хлоре, Лавр благородный – Фебу в дар, Лишь Цитерее – томный жар И сердца сладостное горе, * * * Мой боярышник лесной, Ты весной У реки расцвел студеной, Будто сотней цепких рук Весь вокруг Виноградом оплетенный. Корни полюбив твои. Муравьи Здесь живут гнездом веселым, Твой обглодан ствол, но все ж Ты даешь В нем приют шумливым пчелам. И в тени твоих ветвей Соловей, Чуть пригреет солнце мая, Вместе с милой каждый год Домик вьет, Громко песни распевая. Устлан мягко шерстью, мхом Теплый дом, Свитый парою прилежной. Новый в нем растет певец, Их птенец, Рук моих питомец нежный. Так живи, не увядай, Расцветай, – Да вовек ни гром небесный, Ни гроза, ни дождь, ни град Не сразят Мой боярышник прелестный. Моему ручью Полдневным зноем утомленный, Как я люблю, о мой ручей, Припасть к твоей волне студеной, Дышать прохладою твоей, Покуда Август бережливый Спешит собрать дары земли, И под серпами стонут нивы, И чья-то песнь плывет вдали. Неистощимо свеж и молод, Ты будешь божеством всегда Тому, кто пьет твой бодрый холод, Кто близ тебя пасет стада. И в полночь на твои поляны, Смутив весельем их покой, Всё так же нимфы и сильваны Сбегутся резвою толпой. Но пусть, ручей, и в дреме краткой Твою не вспомню я струю, Когда, истерзан лихорадкой, Дыханье смерти узнаю. * * * Как только входит бог вина, Душа становится ясна. Гляжу на мир, исполнясь мира, И златом я и серебром – Каким ни захочу добром – Богаче Креза или Кира. Чего желать мне? Пой, пляши, – Вот все, что нужно для души. Я хмелем кудри убираю, И что мне почестей дурман! Я громкий титул, важный сан Пятой надменной попираю. Нальем, друзья, пусть каждый пьет! Прогоним скучный рой забот, Он губит радость, жизнь и силу. Нальем! Пускай нас валит хмель! Поверьте, пьяным лечь в постель Верней, чем трезвым лечь в могилу. * * * Большое горе – не любить, Но горе и влюбленным быть, И все же худшее не это. Гораздо хуже и больней, Когда всю душу отдал ей И не нашел душе ответа. Ни ум, ни сердце, ни душа В любви не стоят ни гроша. Как сохнет без похвал Камена, Так все красотки наших дней: Люби, страдай, как хочешь млей, Но денег дай им непременно. Пускай бы сдох он, бос и гол, Кто первый золото нашел, Из-за него ничто не свято. Из-за него и мать не мать, И сын в отца готов стрелять, И брат войной идет на брата. Из-за него разлад, раздор, Из-за него и глад, и мор, И столько слез неутолимых. И, что печальнее всего, Мы и умрем из-за него, Рабы стяжательниц любимых. * * * Венера как-то по весне Амура привела ко мне (Я жил тогда анахоретом), И вот что молвила она: «Ронсар, возьмись-ка, старина, Мальчишку вырастить поэтом». Я взял ученика в свой дом, Я рассказал ему о том, Как бог Меркурий, первый в мире, Придумал лиру, дал ей строй, Как под Киленскою горой Он первый стал играть на лире. И про гобой я не забыл: Как он Минервой создан был И в море выброшен, постылый; Как флейту создал Пан-старик, Когда пред ним речной тростник Расцвел из тела нимфы милой. Я оживлял, как мог, рассказ, Убогой мудрости запас Я истощал, уча ребенка. Но тот и слушать не хотел, Лишь дерзко мне в глаза глядел И надо мной смеялся звонко. И так вскричал он наконец: «Да ты осел, а не мудрец! Великой я дождался чести: Меня, меня учить он стал! Я больше знаю, пусть я мал, Чем ты с твоею школой вместе». И, увидав, что я смущен, Ласкаясь, улыбнулся он И сам пустился тут в рассказы Про мать свою и про отца, Про их размолвки без конца И про любовные проказы. Он мне поведал свой устав, Утехи, тысячи забав, Приманки, шутки и обманы, И муку смертных и богов, И негу сладостных оков, И сердца горестные раны. Я слушал – и дивился им, И песням изменил моим, И позабыл мою Камену, Но я запомнил тот урок И песню ту, что юный бог Вложил мне в сердце, им в замену. * * * Исчезла юность, изменила, Угасла молодая сила, И голова моя седа. Докучный холод в зябких членах, И зубы выпали, и в венах Не кровь, но ржавая вода. Прости, мой труд, мои досуги, Простите, нежные подруги, – Увы, конец мои недалек, – Мелькнуло все, как сновиденье, И лишь остались в утешенье Постель, вино да камелек. Мой мозг и сердце обветшали, – Недуги, беды и печали, И бремя лет тому виной. Где б ни был, дома ли, в дороге, Нет-нет – и обернусь в тревоге: Не видно ль смерти за спиной? И ведь недаром сердце бьется: Придет, посмотрит усмехнется И поведет тебя во тьму, Под неразгаданные своды, Куда для всех открыты входы, Но нет возврата никому. Из книги «Любовь к Мари» * * * Когда я начинал, Тиар, мне говорили, Что человек простой меня и не поймет, Что слишком темен я Теперь наоборот Я стал уж слишком прост, явившись в новом стиле Вот ты учен, Тиар, в бессмертье утвердили Тебя стихи твои А что ж мои спасет? Ты знаешь все, скажи какой придумать ход, Чтоб наконец они всем вкусам угодили? Когда мой стиль высок, он, видишь, скучен, стар, На низкий перейду – кричат, что груб Ронсар, – Изменчивый Протей мне в руки не дается Как заманить в капкан, в силки завлечь его? А ты в ответ, Тиар «Не слушай никого И смейся, друг, над тем, кто над тобой смеется» * * * Мари, перевернув рассудок бедный мой, Меня, свободного, в раба вы превратили, И отвернулся я от песен в важном стиле, Который «низкое» обходит стороной Но если бы рукой скользил я в час ночной По вашим прелестям – по ножкам, по груди ли, Вы этим бы мою утрату возместили, Меня не мучило б отвергнутое мной Да, я попал в беду, а вам и горя мало, Что Муза у меня бескрылой, низкой стала И в ужасе теперь французы от нее, Что я в смятении, хоть вас люблю, как прежде, Что, видя холод ваш, изверился в надежде И ваше торжество – падение мое. * * * Ты всем взяла: лицом и прямотою стана, Глазами, голосом, повадкой озорной. Как розы майские – махровую с лесной – Тебя с твоей сестрой и сравнивать мне странно. Я сам шиповником любуюсь неустанно, Когда увижу вдруг цветущий куст весной. Она пленительна – все в том сошлись со мной, Но пред тобой, Мари, твоя бледнеет Анна. Да, ей, красавице, до старшей далеко. Я знаю, каждого сразит она легко, – Девичьим обликом она подруг затмила. В ней все прелестно, все, но, только входишь ты, Бледнеет блеск ее цветущей красоты, Так меркнут при луне соседние светила. * * * Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую1 Налей нам, Коридон, кипящую струю Я буду чествовать красавицу мою, Кассандру иль Мари – не все ль равно какую? Но девять раз, друзья, поднимем круговую, – По буквам имени я девять кубков пью А ты, Белло, прославь причудницу твою, За юную Мадлен прольем струю живую Неси на стол цветы, что ты нарвал в саду, Фиалки, лилии, пионы, резеду, – Пусть каждый для себя венок душистый свяжет Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь. Быть может, завтра нам уж не собраться вновь, Сегодня мы живем, а завтра – кто предскажет? * * * Да женщина ли вы? Ужель вы так жестоки, Что гоните любовь? Все радуется ей. Взгляните вы на птиц, хотя б на голубей, А воробьи, скворцы, а галки, а сороки? Заря спешит вставать пораньше на востоке, Чтобы для игр и ласк был каждый день длинней. И повилика льнет к орешнику нежней, И о любви твердят леса, поля, потоки. Пастушка песнь поет, крутя веретено, И тоже о любви. Пастух влюблен давно, И он запел в ответ. Все любит, все смеется, Все тянется к любви и жаждет ласки вновь. Так сердце есть у вас? Неужто не сдается И так упорствует и гонит прочь любовь? * * * Любовь – волшебница Я мог бы целый год С моей возлюбленной болтать, не умолкая, Про все свои любви – и с кем и кто такая, Рассказывал бы ей хоть ночи напролет Но вот приходит гость, и я уже не тот, И мысль уже не та, и речь совсем другая То слово путая, то фразу обрывая, Коснеет мой язык, а там совсем замрет Но гость ушел, и вновь, исполнясь жаром новым, Острю, шучу, смеюсь, легко владею словом, Для сердца нахожу любви живой язык Спешу ей рассказать одно, другое, третье... И, просиди мы с ней хоть целое столетье, Нам, право, было б жаль расстаться хоть на миг. * * * Храни вас бог, весны подружки Хохлатки, ласточки-резвушки, Дрозды, клесты и соловьи, Певуньи-пташки голосисты, Чьи трели, щебеты и свисты Вернули жизнь в леса мои Храни вас бог, цветы-малютки Фиалки, смолки, незабудки, И те, что были рождены В крови Аякса и Нарцисса, Анис, горошек, тмин, мелиса, – Привет вам, спутники весны! Храни вас бог, цветные стайки Влюбленных в пестрые лужайки, Нарядных, шустрых мотыльков, И сотни пчелок хлопотливых, Жужжащих на лугах, на нивах Среди душистых лепестков Сто тысяч раз благословляю Ваш хор, сопутствующий маю, Весь этот блеск и кутерьму, И плеск ручьев, и свист, и трели – Все, что сменило вой метели, Державшей узника в дому * * * Мари-ленивица! Пора вставать с постели! Вам жаворонок спел напев веселый свой, И над шиповником, обрызганным росой, Влюбленный соловей исходит в нежной трели Живей! Расцвел жасмин, и маки заблестели. Не налюбуетесь душистой резедой! Так вот зачем цветы кропили вы водой, Скорее напоить их под вечер хотели! Как заклинали вы вчера глаза свои Проснуться ранее, чем я приду за вами, И все ж покоитесь в беспечном забытьи, – Сон любит девушек, он не в ладу с часами! Сто раз глаза и грудь вам буду целовать, Чтоб вовремя вперед учились вы вставать. Амуретта Вы слышите, все громче воет вьюга Прогоним холод, милая подруга Не стариковски, ежась над огнем, – С любовной битвы вечер свой начнем, На этом ложе будет место бою1 Скорей обвейте шею мне рукою И дайте в губы вас поцеловать Забудем все, что вам внушала мать, Стыдливый стан я обниму сначала Зачем вы причесались, как для бала? В часы любви причесок не терплю, Я ваши косы мигом растреплю Но что же вы? Приблизьте щечку смело! У вас ушко, я вижу, покраснело О, не стыдитесь и не прячьте глаз – Иль нежным словом так смутил я вас? Нет, вам смешно, не хмурьтесь так сурово! Я лишь сказал – не вижу в том дурного! – Что руку вам я положу на грудь Вы разрешите ей туда скользнуть? О, вам играть угодно в добродетель! Затейница! Амур мне в том свидетель Вам легче губы на замок замкнуть, Чем о любви молить кого-нибудь Парис отлично разгадал Елену Из вас любая радуется плену, Иная беззаветно влюблена, Но похищеньем бредит и она. Так испытаем силу – что вы, что вы! Упали навзничь, умереть готовы! О, как я рад – не поцелуй я вас, Вы б надо мной смеялись в этот час, Одна оставшись у себя в постели. Свершилось то, чего вы так хотели! Мы повторим, и дай нам бог всегда Так согреваться в лучшие года, * * * Меж тем как ты живешь на древнем Палатине И внемлешь говору латинских вод, мой друг, И, видя лишь одно латинское вокруг, Забыл родной язык для чопорной латыни, Анжуйской девушке служу я в прежнем чине, Блаженствую в кольце ее прекрасных рук, То нежно с ней бранюсь, то зацелую вдруг, И, по пословице, не мудр, но счастлив ныне. Ты подмигнешь Маньи, читая мой сонет: «Ронсар еще влюблен! Ведь это просто чудо!» Да, мой Белле, влюблен, и счастья выше нет. Любовь напастью звать я не могу покуда. А если и напасть – попасть любви во власть, Всю жизнь готов терпеть подобную напасть. Веретено Паллады верный друг, наперсник бессловесный, Ступай, веретено, спеши к моей прелестной, Когда соскучится, разлучена со мной, Пусть сядет с прялкою на лесенке входной, Запустит колесо, затянет песнь, другую, Прядет – и гонит грусть, готовя нить тугую Прошу, веретено, ей другом верным будь Я не беру Мари с собою в дальний путь Ты в руки попадешь не девственнице праздной, Что предана одной заботе неотвязной – Пред зеркалом менять прическу без конца, Румянясь и белясь для первого глупца, – Нет, скромной девушке, что лишнего не скажет, Весь день прядет иль шьет, клубок мотает, вяжет, С двумя сестренками вставая на заре, Зимой у очага, а летом во дворе Мое веретено, ты родом из Вандома, Там люди хвастают, что лень им незнакома Но верь, тебя в Анжу полюбят, как нигде, – Не будешь тосковать, качаясь на гвозде Нет, алое сукно из этой шерсти нежной Она в недолгий срок соткет рукой прилежной, Так мягко, так легко расстелется оно, Что в праздник сам король наденет то сукно Идем же, встречено ты будешь, как родное, Веретено, с концов тщедушное, худое, Но станом круглое, с приятной полнотой, Кругом обвитое тесемкой золотой Друг шерсти, ткани друг, отрада в час разлуки, Певун и домосед, гонитель зимней скуки, Спешим! В Бургейле ждут с зари и до зари О, как зардеется от радости Мари! Ведь даже малый дар, залог любви нетленной, Ценней, чем все венцы и скипетры вселенной * * * Ах, чертов этот врач! Опять сюда идет! Он хочет сотый раз увидеть без рубашки Мою любимую, пощупать все и ляжки, И ту, и эту грудь, и спину, и живот Так лечит он ее? Совсем наоборот Он плут, он голову морочит ей, бедняжке, У всей их братии такие же замашки Влюбился, может быть, так лучше пусть не врет! Ее родители, прошу вас, дорогие,– Совсем расстроил вас недуг моей Марии! – Гоните медика, влюбленную свинью' Неужто не ясна вам вся его затея? Да ниспошлет господь, чтоб наказать злодея, Ей исцеление, ему – болезнь мою. * * * Как роза ранняя, цветок душистый мая, В расцвете юности и нежной красоты, Когда встающий день омыл росой цветы, Сверкает, небеса румянцем затмевая, Вся прелестью дыша, вся грация живая, Благоуханием поит она сады, Но солнце жжет ее, но дождь сечет листы, И клонится она, и гибнет, увядая, – Так ты, красавица, ты, юная, цвела, Ты небом и землей прославлена была, Но пресекла твой путь ревнивой Парки злоба. И я в тоске, в слезах на смертный одр принес В кувшине – молока, в корзинке – свежих роз, Чтоб розою живой ты расцвела из гроба. * * * Ты плачешь, песнь моя? Таков судьбы запрет Кто жив, напрасно ждет похвал толпы надменной Пока у черных волн не стал я тенью пленной, За труд мой не почтит меня бездушный свет Но кто-нибудь в веках найдет мой тусклый след И на Луар придет, как пилигрим смиренный, И не поверит он пред новой Ипокреной, Что маленькой страной рожден такой поэт Мужайся, песнь моя! Достоинствам живого Толпа бросает вслед язвительное слово, Но богом, лишь умрет, становится певец, Живых нас топчет в грязь завистливая злоба, Но добродетели, сияющей из гроба, Сплетают правнуки без зависти венец. Из «Посланий» Гасгинскому лесорубу Послушай, лесоруб, зачем ты лес мой губишь? Взгляни, безжалостный, ты не деревья рубишь. Иль ты не видишь? Кровь стекает со ствола, Кровь нимфы молодой, что под корой жила. Когда мы вешаем повинных в краже мелкой Воров, прельстившихся грошового безделкой, То святотатца – нет! Бессильны все слова: Бить, резать, жечь его, убийцу божества! О храм пернатых, лес! Твоей погибшей сени Ни козы легкие, ни гордые олени Не будут посещать. Прохладною листвой От солнца ты не дашь защиты в летний зной. С овчаркой не придет сюда пастух счастливый, Не бросит бич в траву, не ляжет в тень под ивой, Чтоб, вырезав ножом свирель из тростника, Жанетте песнь играть, глядеть на облака. Ты станешь, лес, немым, утратит эхо голос. Где, зыблясь медленно, деревьев пышный волос Бросал живую тень, – раскинутся поля, Узнает борону и острый плуг земля, И, тишину забыв, корявый, черный, голый, Ты отпугнешь дриад и фавнов рой веселый. Прощай, о старый лес, Зефиров вольных друг! Тебе доверил я и лиры первый звук, И первый мой восторг, когда, питомец неба, Услышал я полет стрелы звенящей Феба И, Каллиопы жрец, ее восьми сестер Узнал и полюбил разноголосый хор, Когда ее рука мне розы в дар сплетала, Когда меня млеком Эвтерпа здесь питала. Простите, чащ моих священные главы, Ковры заветные нетронутой травы, Цветы, любимые случайным пешеходом. Теперь среди полей, под знойным небосводом, Густым шатром ветвей от солнца не укрыт, Убийцу вашего, усталый, он бранит. Прощай, отважного венчающий короной, О дуб Юпитера, гигант темно-зеленый, Хранивший род людской в былые времена. Прощай! Ничтожные забыли племена, Что дедов ты кормил, и черствые их внуки Кормильца обрекли на гибель и на муки. Несчастен человек, родившийся на свет! О, прав, стократно прав философ и поэт, Что к смерти иль концу все сущее стремится, Чтоб форму утерять и в новой возродиться. Где был Темпейский дол, воздвигнется гора, Заутра ляжет степь, где был вулкан вчера, И будет злак шуметь на месте воли и пены. Бессмертно вещество, одни лишь формы тленны. Кардиналу де Колиньи Блажен, кому дано быть скромным земледелом, Трудиться над своим наследственным наделом, Дожив до старости, иметь свой дом и кров, Не быть нахлебником у собственных сынов, Не сменой королей, но жизнию природы, Теченьем лет и зим спокойно числить годы Блажен, кто Бахусу дары свои несет, Цереру, солнце чтит, вращающее год, Кто Ларам молится, домашним властелинам, Кто спит под звон ручьев, бегущих по долинам, Кому их музыка милее, чем труба, Кровавой битвы гул и с бурями борьба Блажен, кто по полю идет своей дорогой, Не зрит сенаторов, одетых красной тогой, Не зрит ни королей, ни принцев, ни вельмож, Ни пышного двора, где только блеск и ложь Ступай же, кто не горд! Как нищий, как бродяга, Пади пред королем, вымаливая блага! А мне, свободному, стократно мне милей Невыпрошенный хлеб, простор моих полей; Милей, к ручью склонясь, внимать струе певучей, Следить за прихотью рифмованных созвучий, Таинственных Камен подслушивать игру, Мычащие стада встречая ввечеру, Глядеть, как шествуют быки, бегут телята, Милее мне пахать с восхода до заката, Чем сердце суетой бесплодной волновать И, королю служа, свободу продавать. Шалость В дни, пока златой наш век Царь бессмертных не пресек, Под надежным Зодиаком Люди верили собакам Псу достойному герой Жизнь и ту вверял порой Ну, а ты, дворняга злая, Ты, скребясь о дверь и лая, Что наделал мне и ей, Нежной пленнице моей, В час, когда мы, бедра в бедра, Грудь на грудь, возились бодро, Меж простынь устроив рай, – Ну зачем ты поднял лай? Отвечай, по крайней мере, Что ты делал возле двери, Что за черт тебя принес, Распроклятый, подлый пес? Прибежали все на свете Братья, сестры, тети, дети, – Кто сказал им, как не ты, Чем мы были заняты, Что творили на кушетке1 Раскудахтались соседки А ведь есть у милой мать, Стала милую хлестать – Мол, таких вещей не делай! Я видал бедняжку белой, Но от розги вся красна Стала белая спина. Кто, скажи, наделал это? Недостоин ты сонета! Я уж думал: воспою Шерстку пышную твою. Я хвалился: что за песик! Эти ушки, этот носик, Эти лапки, этот хвост! Я б вознес тебя до звезд, Чтоб сиял ты с небосклона Псом, достойным Ориона. Но теперь скажу я так: Ты не друг, ты просто враг. Ты паршивый, пес фальшивый, Гадкий, грязный и плешивый. Учинить такой подвох! Ты – плодильня вшей и блох, От тебя одна морока, Ты – блудилище порока, Заскорузлой шерсти клок. Пусть тебя свирепый дог Съест на той навозной куче. Ты не стоишь места лучше, Если ты, презренный пес, На хозяина донес. Из книги «Сонеты к Елене» * * * Кассандра и Мари, пора расстаться с вами! Красавицы, мой срок я отслужил для вас. Одна жива, другой был дан лишь краткий час – Оплакана землей, любима небесами. В апреле жизни, пьян любовными мечтами, Я сердце отдал вам, но горд был ваш отказ. Я горестной мольбой вам докучал не раз, Но Парка ткет мой век небрежными перстами. Под осень дней моих, еще не исцелен, Рожденный влюбчивым, я, как весной, влюблен, И жизнь моя течет в печали неизменной. И хоть давно пора мне сбросить панцирь мой, Амур меня бичом, как прежде, гонит в бой – Брать гордый Илион, чтоб овладеть Еленой. * * * Уж этот мне Амур – такой злодей с пеленок! Вчера лишь родился, а нынче – столько мук! Отнять у матери и сбыть буяна с рук, Пускай за полцены, – на что мне злой ребенок! И кто подумал бы – хватило же силенок: Приладил тетиву, сам натянул свой лук! Продать, скорей продать! О, как заплакал вдруг... Да я ведь пошутил, утешься, постреленок! Я не продам тебя, напротив, не тужи: К Елене завтра же поступишь ты в пажи, Ты на нее похож кудрями и глазами. Вы оба ласковы, лукавы и хитры. Ты будешь с ней играть, дружить с ней до поры, А там заплатишь мне такими же слезами. * * * Когда, старушкою, ты будешь прясть одна, В тиши у камелька свой вечер коротая, Мою строфу споешь и молвишь ты, мечтая «Ронсар меня воспел в былые времена» И, гордым именем моим поражена, Тебя благословит прислужница любая, – Стряхнув вечерний сон, усталость забывая, Бессмертную хвалу провозгласит она Я буду средь долин, где нежатся порты, Страстей забвенье пить из волн холодной Леты, Ты будешь у огня, в бессоннице ночной, Тоскуя, вспоминать моей любви моленья Не презирай любовь! Живи, лови мгновенья И розы бытия спеши срывать весной * * * Когда в ее груди пустыня снеговая И, как бронею, льдом холодный дух одет, Когда я дорог ей лишь тем, что я поэт, К чему безумствую, в мученьях изнывая? Что имя, сан ее и гордость родовая – Позор нарядный мой, блестящий плен? О нет! Поверьте, милая, я не настолько сед, Чтоб сердцу не могла вас заменить другая Амур вам подтвердит, Амур не может лгать Не так прекрасны вы, чтоб чувство отвергать! Как не ценить любви? Я, право, негодую! Ведь я уж никогда не стану молодым, Любите же меня таким, как есть, – седым, И буду вас любить, хотя б совсем седую * * * Ты помнишь, милая, как ты в окно глядела На гаснущий Монмартр, на темный дол кругом И молвила «Поля, пустынный сельский дом, – Для них покинуть Двор – нет сладостней удела! Когда б я чувствами повелевать умела, Я дни наполнила 6 живительным трудом, Амура прогнала б, молитвой и постом Смиряя жар любви, не знающий предела» Я отвечал тогда «Погасшим не зови Незримый пламень тот, что под золой таится И старцам праведным знаком огонь в крови Как во дворцах, Амур в монастырях гнездится Могучий царь богов, великий бог любви, Молитвы гонит он и над постом глумится» * * * Оставь страну рабов, державу фараонов, Приди на Иордан, на берег чистых вод, Покинь цирцей, сирен и фавнов хоровод, На тихий дом смени тлетворный вихрь салонов Собою правь сама, не знай чужих законов, Мгновеньем насладись, – ведь молодость не ждет! За днем веселия печали день придет, И заблестит зима, твой лоб снегами тронув Ужель не видишь ты, как лицемерен Двор? Он золотом одел Донос и Наговор, Унизил Правду он и сделал Ложь великой На что нам лесть вельмож и милость короля? В страну богов и нимф – беги в леса, в поля, Орфеем буду я, ты будешь Эвридикой. * * * Чтобы цвести в веках той дружбе совершенной – Любви, что к юной вам питал Ронсар седой, Чей разум потрясен был вашей красотой, Чей был свободный дух покорен вам, надменной, Чтобы из рода в род и до конца вселенной Запомнил мир, что вы повелевали мной, Что кровь и жизнь моя служили вам одной, Я ныне приношу вам этот лавр нетленный Пребудет сотни лет листва его ярка, – Все добродетели воспев в одной Елене, Поэта верного всесильная рука Вас сохранит живой для тысяч поколений Вам, как Лауре, жить и восхищать века, Покуда чтут сердца живущий в слове гений * * * Чтоб источал ручей тебе хвалу живую, Мной врезанную вклен, – да к небу возрастет! Призвав на пир богов, разлив вино и мед, Прекрасный мой ручей Елене я дарую. Пастух, не приводи отары в сень лесную Мутить его струю! Пускай у этих вод Над сотнями цветов шумит зеленый свод, – Елены именем ручей я именую! Здесь путник отдохнет в прохладной тишине, Мечтая, вспомнит он, быть может, обо мне, И будет им опять хвала Елене спета. Он сам полюбит здесь, как я в былые лета, И, жадно ртом припав к живительной волне, Почувствует огонь, питающий поэта. * * * Когда хочу хоть раз любовь изведать снова, Красотка мне кричит: «Да ведь тебе сто лет! Опомнись, друг, ты стал уродлив, слаб и сед, А корчишь из себя красавца молодого. Ты можешь только ржать, на что тебе любовь? Ты бледен, как мертвец, твой век уже измерен, Хоть прелести мои тебе волнуют кровь, Но ты не жеребец, ты шелудивый мерин. Взглянул бы в зеркало: ну право, что за вид! К чему скрывать года, тебя твой возраст выдал: Зубов и следу нет, а глаз полузакрыт, И черен ты лицом, как закопченный идол». Я отвечаю так: не все ли мне равно, Слезится ли мой глаз, гожусь ли я на племя, И черен волос мой иль поседел давно, – А в зеркало глядеть мне вовсе уж не время. Но так как скоро мне в земле придется гнить И в Тартар горестный отправиться, пожалуй, Пока я жить хочу, а значит, и любить, Тем более что срок остался очень малый. Гимн Франции Извечно Грецию венчает грек хвалой, Испанец храбрый горд испанскою землей, Влюблен в Италию феррарец сладкогласный, Но я, француз, пою о Франции прекрасной. Для изобилия природой создана, Все вожделенное сынам дает она. В ее таилищах разнообразны руды, Там золота найдешь нетронутые груды, Металлов залежи, железо, серебро, – Не счесть земли моей сокрытое добро Один металл идет на памятник герою, Другой становится изогнутой трубою Иль, обращенный в меч, когда настанет срок, Надменному врагу преподает урок Пройди по городам лучом светил небесных Сияют нам глаза француженок прелестных В, них слава Франции моей воплощена! Там – царственной руки сверкнет нам белизна, Там – гордый мрамор плеч, кудрями обрамленных, Там грудь мелькнет – кумир поэтов и влюбленных А красота ручьев, источников, озер, Дубы, шумящие на склонах темных гор, Два моря, что хранят, как два могучих брата, Родную Францию с полудня и с заката! И вы, ушедшие в зеленые леса, Сатиры, фавны, Пан – пугливых нимф гроза, И вы, рожденные для неги и прохлады, Подруги светлых вод, причудницы наяды, – Поэт, я отдаю вам сердца нежный пыл О, трижды счастлив тот, кто с вами дружен был, Кто жадной скупости душой не предавался, Кто блеска почестей пустых не добивался, Но, книги полюбив, как лучший дар богов, Мечтал, когда умрет, воскреснуть для веков А наши города, в которых мощь искусства Воспитывает ум и восхищает чувства И где безделие, ленивой скуки друг, Не может усыпить ревнителя наук! То мраморный дворец твои пленяет взоры, То уходящие в лазурный свод соборы, Где мудрый каменщик свой претворил устав, В бесформенной скале их зорко угадав Все подчиняется руке искусства властной! Я мог бы долго петь о Франции прекрасной Двумя Палладами любимая страна, Рождает каждый век избранников она, Средь них ученые, художники, поэты, Чьи кудри лаврами нетленными одеты, Вожди, чьей доблести бессмертье суждено Роланд и Шарлемань, Лотрек, Байард, Рено И ныне, первый бард, чьей рифмою свободной Прославлен жребий твой на лире благородной, Слагаю новый гимн я в честь родной земли, Где равно счастливы народ и короли Амадису Жамену Три времени, Жамен, даны нам от рожденья Мы в прошлом, нынешнем и в будущем живем День будущий, – увы' – что знаешь ты о нем? В догадках не блуждай, оставь предрассужденья Дней прошлых не зови – ушли, как сновиденья, И мы умчавшихся вовеки не вернем Ты можешь обладать лишь настоящим днем, Ты слабый властелин лишь одного мгновенья Итак, Жамен, лови, лови наставший день! Он быстро промелькнет, неуловим как тень, Зови друзей на пир, чтоб кубки зазвучали! Один лишь раз, мой друг, сегодня нам дано, Так будем петь любовь, веселье и вино, Чтоб отогнать войну, и время, и печали, Принцу Франциску, входящему в дом поэта Убранством золотым мои не блещут стены, Ни в мрамор, ни в порфир мой дом не облечен, Богатой росписью не восхищает он, Не привлекают взор картины, гобелены Но зодчий Амфион в нем дар явил отменный Не умолкает здесь певучей лиры звон, Здесь бог единственный, как в Дельфах, Аполлон, И царствуют одни прекрасные Камены Любите, милый принц, простых сердец язык, Лишь преданность друзей – сокровище владык, Оно прекраснее, чем все богатства мира Величие души, закон и правый суд – Все добродетели – в глуши лесов живут. Но редко им сродни роскошная порфира! Реке Луар Ответь мне, злой Луар (ты должен отплатить Признанием вины за все мои хваленья'), Решив перевернуть мой челн среди теченья, Ты попросту меня задумал погубить! Когда бы невзначай пришлось мне посвятить Любой из лучших рек строфу стихотворенья, Ну разве Нил и Ганг, – какие в том сомненья? Дунай иль Рейн меня хотели б утопить? Но я любил тебя, я пел тебя, коварный, Не знал я, что вода – сосед неблагодарный, Что так славолюбив негодный злой Луар Признайся, на меня взъярился ты недаром Хотел ты перестать отныне быть Луаром, Чтоб зваться впредь рекой, где утонул Ронсар Кардиналу Шарлю Лорренскому Во мне, о монсеньер, уж нет былого пыла, Я не пою любви, скудеет кровь моя, Душою не влекусь к утехам бытия, И старость близится, бесплодна и уныла Я к Фебу охладел, Венера мне постыла, И страсти эллинской – таить не стану я – Иссякла радостно кипевшая струя, – Так пеной шумною вина уходит сила Я точно старый конь предчувствуя конец, Он силится стяжать хозяину венец, На бодрый зов трубы стремится в гущу боя, Мгновенья первые летит во весь опор, А там слабеет вдруг, догнать не может строя И всаднику дарит не лавры, а позор. * * * Когда лихой боец, предчувствующий старость, Мечом изведавший мечей враждебных ярость, Не раз проливший кровь, изрубленный в бою За веру, короля и родину свою, Увидит, что монарх, признательный когда-то, В дни мирные забыл отважного солдата, – Безмерно раздражен обидою такой, Он в свой пустынный дом уходит на покой И, грустно думая, что обойден наградой, Исполнен горечью, и гневом, и досадой, И негодует он, и, руки ввысь воздев, На оскорбителя зовет господень гнев, И, друга повстречав, на все лады клянется, Что королю служить вовеки не вернется, Но только возвестит гремящая труба, Что снова близится кровавая борьба, Он, забывая гнев, копью врага навстречу, Как встарь, кидается в губительную сечу * * * Я к старости клонюсь, вы постарели тоже. А если бы нам слить две старости в одну И зиму превратить – как сможем – в ту весну, Которая спасет от холода и дрожи? Ведь старый человек на много лет моложе, Когда не хочет быть у старости в плену. Он этим придает всем чувствам новизну, Он бодр, он как змея в блестящей новой коже. К чему вам этот грим – вас только портит он, Вы не обманете бегущих дней закон: Уже не округлить вам ног, сухих, как палки, Не сделать крепкой грудь и сладостной, как плод. Но время – дайте срок! – личину с вас сорвет, И лебедь белая взлетит из черной галки. * * * А что такое смерть? Такое ль это зло, Как всем нам кажется? Быть может, умирая, В последний, горький час дошедшему до края, Как в первый час пути, – совсем не тяжело? Но ты пойми – не быть! Утратить свет, тепло, Когда порвется нить и бледность гробовая По членам побежит, все чувства обрывая, – Когда желания уйдут, как все ушло. Там не попросишь есть! Ну да, и что ж такого? Лишь тело просит есть, еда – его основа, Она ему нужна для поддержанья сил. А дух не ест, не пьет. Но смех, любовь и ласки? Венеры сладкий зов? Не трать слова и краски, Зачем любовь тому, кто умер и остыл? * * * Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада Я приближаюсь, глух, изглодан, черен, слаб, И смерть уже меня не выпустит из лап. Я страшен сам себе, как выходец из ада. Поэзия лгала! Душа бы верить рада, Но не спасут меня ни Феб, ни Эскулап. Прощай, светило дня! Болящей плоти раб, Иду в ужасный мир всеобщего распада. Когда заходит друг, сквозь слезы смотрит он, Как уничтожен я, во что я превращен. Он что-то шепчет мне, лицо мое целуя, Стараясь тихо снять слезу с моей щеки. Друзья, любимые, прощайте, старики! Я буду первый там, и место вам займу я. Эпитафия Здесь погребен Ронсар. Камен заставил он Прийти во Францию, покинув Геликон. За Фебом шествовал он с лирой дерзновенной, Но одержала смерть победу над Каменой. Жестокой участи он избежать не мог. Земля покоит прах, а душу принял бог. Кристоф Плантен 1514–1589 * * * Что нужно на земле? – Удобный, чистый дом, Хорошее вино, хороший сад фруктовый, Не больше двух детей, гостям уют готовый, Хорошая жена, не шумная притом; Не знаться с тяжбами, долгами и судом, Довольствоваться тем, что день приносит новый, И незаметно жить, забыв мирские ковы, Наполнив дни простым размеренным трудом; Не жаждать почестей, в желаньях помнить меру, Не быть рабом страстей, хранить живую веру, Ценить покой души, как божью благодать, Любить жену, детей, животных и растенья. Иметь свободный ум и смелые сужденья – И можешь у себя спокойно смерти ждать. Оливье де Маньи 1529-1561 * * * Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне? Когда конец войне на стонущей планете? Когда настанет мир на этом грешном свете, Чтобы вздохнул народ в измученной стране? Я вижу вновь убийц пешком и на коне, Опять войска, войска, и гул, и крики эти, И нас, как прежде, смерть заманивает в сети, И только стоны, кровь и города в огне. Так ставят короли на карту наши жизни. Когда же мы падем, их жертвуя отчизне, Какой король вернет нам жизнь и солнца свет? Несчастен, кто рожден в кровавые минуты, Кто путь земной прошел во дни народных бед. Нам чашу поднесли, но полную цикуты. * * * Не следует пахать и сеять каждый год: Пусть отдохнет земля, под паром набухая. Тогда мы вправе ждать двойного урожая, И поле нам его в урочный срок дает. Следите, чтобы мог вздохнуть и ваш народ, Чтоб воздуху набрал он, плечи расправляя. И, тяготы свои на время забывая, В другой раз легче он их бремя понесет. Что кесарево, сир, да служит вашей славе. Но больше требовать, поверьте, вы не вправе. Умерьте сборщиков бессовестную рать, Чтобы не смели те, кто алчны и жестоки, Три шкуры драть с людей, высасывать их соки, Стригите подданных – зачем их обдирать? Этьен Жодель 1532-1573 * * * Я двигался в горах извилистой тропой По Верхним Альпам – там, где глыбистые кручи, Подняв рогатые верхи, пронзают тучи, И снег слепит глаза блестящей белизной. Но нечто странное творилось предо мной, Такое, что узреть не доводил мне случай: Под солнцем таял снег, и стужу плетью жгучей Сквозь этот дикий мир гнал шедший с неба зной. Я был свидетелем таких чудес впервые: Там – снег и лед в огне, враждебной им стихии, Здесь я – в дыханье льдов, где жар томит меня. Но снег застыл опять. И солнце, полыхая, Весь окоем зажгло от края и до края, А я от холода дрожал среди огня. * * * Вы первая, кому я посвятил, мадам, Мой разум, душу, страсть и пламенные строки, В которых говорю, какой огонь высокий Дарит незрячий бог попавшим в плен сердцам. Под именем другим я вам хвалу воздам, Ваш образ воспою и близкий и далекий, И так сложу стихи, чтоб даже сквозь намеки Вы были узнаны, краса прекрасных дам. А если вы никем покуда не воспеты, И божества никем не явлены приметы – Не гневайтесь! Амур таинственным огнем, Таким огнем не мог наполнить грудь другую, И он не мог найти в другой или в другом Подобную любовь и красоту такую. Стихи-изменники, предательский народ! Зачем я стал рабом каким служу я силам? Дарю бессмертье вам, а вы мне с видом милым Все представляете совсем наоборот. Что в ней хорошего, скажите наперед? Зачем я перед ней горю любовным пылом? Что в этом существе, моей душе постылом, Всегда мне нравится, всегда меня влечет? Ведь это из-за вас, предательские строки, Я навязал себе такой удел жестокий Вы украшаете весь мир, но как вы злы! Из черта ангела вы сделали от скуки, И то я слепну вдруг для этой ложной муки, То прозреваю вновь для лживой похвалы. Жак Гревен 1538-1570 * * * Без них ты ни на шаг – им власть над всем дана, Над всею Францией, от хижины до трона. Нас учат выполнять их волю неуклонно, Их цветом общества должна считать страна. Но ежели корысть – ох, как она сильна! - Поманит кошельком – их чести нет урона, Коль полубог земной пойдет в обход закона. А мы, боясь, молчим – такие времена! Народ у нас как мяч, – то красный вдруг, то белый, Летит, куда швырнут. Так вихрь остервенелый Кружит увядший лист. И эти господа Ломают, гнут людей, насилуют и грабят И ни за что ярем проклятый не ослабят, Как будто бога нет и Страшного суда. Филипп Депорт 1546–1606 * * * Друг одиночества ночного, мирный Сон! Не ты ль хранишь покой всего миротворенья, Страдающим сердцам даришь часы забвенья, Вливаешь силы в тех, кто жизнью оскорблен. Ты глух ко мне, хоть Ночь объемлет небосклон, На черной четверне летя в свои владенья. На свете я один лишен отдохновенья, Хотя простерт на всех твой благостный закон. Где мир твой и покой, где образы былого, Из волн Забвения всплывающие снова, Чтоб сердце обновить, смывая жизни муть? О, Ночи вещий брат, мой враг, мучитель ярый, Молю тебя, зову – ты спишь иль сходишь карой И страхом леденишь пылающую грудь. Жан Лафонтен 1621-1695 Мельник, его сын и осел Послание г-ну де Мокруа Эллада – мать искусств, за это ей хвала. Из греческих земель и басня к нам пришла. От басни многие кормились, но едва ли Они до колоска всю ниву обобрали. Доныне вымысел – свободная страна. Не вся захвачена поэтами она. Их бредни разные я вспоминать не стану. Но слушай, что Малерб рассказывал Ракану. Они, кого венчал Горациев венец, Кого сам Феб учил и дал нам в образец, Гуляли как-то раз одни в безлюдной роще (Друзьям наедине высказываться проще). И говорил Ракан: «Мой друг, скажите мне, Вы знаете людей, я верю вам вполне. Вы испытали все, видали тронов смену, И в вашем возрасте уж знают жизни цену. Какой мне путь избрать? Подумайте о том. Вы знаете мои способности, наш дом, Родню, ну, словом, все, что нужно для сужденья. В провинции ль засесть, где наши все владенья, Идти ли в армию, держаться ли двора? Добра без худа нет, как худа без добра. В войне услады есть, а в браке – огорченья. Когда б мой личный вкус мне диктовал решенья, Мне цель была б ясна. Но двор, семья, друзья – Всем надо угодить, в долгу пред всеми я». И так сказал Малерб: «Вы просите совета? Я баснею, мой друг, отвечу вам на это. Мне довелось прочесть, что где-то на реке Какой-то мельник жил в каком-то городке. У мельника был сын – на возрасте детина, И был у них осел – рабочая скотина. Но вот случилось так, что продавать осла Нужда на ярмарку обоих погнала. Чтоб лучше выглядел и не устал с дороги, Осла подвесили, жгутом опутав ноги, Как люстру, подняли и дружно понесли, Но люди со смеху сгибались до земли. «Вот это зрелище! Вот это смех! Видали? Осел совсем не тот, кого ослом считали!» И понял мельник мой, что впрямь смешон их вид. Осел развязан, снят и на земле стоит. Войдя во вкус езды на человечьих спинах, Он плачется на всех наречиях ослиных, Напрасно: малый сел, старик идет пешком. Навстречу три купца с откормленным брюшком. Один кричит: «Эй, ты! Не стыд ли пред народом? Сопляк! Обзавелся слугой седобородым, Так пусть и едет он, шагать ты сам не хвор!» Наш мельник не привык вступать с купцами в спор. Он сыну слезть велит и на осла садится. Как вдруг навстречу им смазливая девица. Подружку тычет в бок с язвительным смешком: «Такому молодцу да чтоб идти пешком! А тот болван сидит, как на престоле папа! Теленок на осле, а на теленке – шляпа! И мнит себя орлом!» А мельник хмуро вслед: «Ишь телка! Кто ж видал телка, который сед?» Но дальше – пуще! Все хохочут, и в досаде Старик, чтоб их унять, сажает сына сзади. Едва отъехали шагов на тридцать – глядь, Идет компания, как видно, погулять. Один опять кричит: «Вы оба, видно, пьяны! Не бейте вы его, он свалится, чурбаны! Он отслужил свое, не так силен, как встарь. Торопятся, скоты, чтоб эту божью тварь Продать на ярмарке, спустить ее на шкуру!» Мой мельник думает: «Нет, можно только сдуру Стараться на земле со всеми быть в ладу, А все ж на этот раз я способ уж найду. Сойдем-ка оба мы, авось удастся проба!» И, придержав осла, с него слезают оба. Осел, освободясь, пустился чуть не в бег. Идет навстречу им какой-то человек. «Вот новость, – молвит он, – я не видал доселе, Чтобы осел гулял, а мельники потели! Кто должен груз тащить – хозяин иль осел? Ты в раму вставил бы скотину, мукомол: И польза в башмаках, и твой осел сохранней. Николь – наоборот: недаром пел он Жанне, Что сядет на осла. Да ты ведь сам осел!» И молвил мельник мой: «Какой народ пошел! Я, спору нет, осел, безмозглая скотина, Но пусть меня хулят иль хвалят – все едино: Я впредь решаю сам, что делать, – вот мой сказ!» Он сделал, как решил, и вышло в самый раз. А вы – молитесь вы хоть Марсу, хоть Приапу, Женитесь, ратуйте за короля иль папу, Служите, странствуйте, постройте храм иль дом, – За что вас порицать – найдут, ручаюсь в том. Очки Уже не раз давал я клятвенный обет Оставить наконец монашенок в покое. И впрямь, не странно ли пристрастие такое? Всегда один типаж, всегда один сюжет! Но Муза мне опять кладет клобук на столик. А дальше что? Клобук. Тьфу, черт, опять клобук! Клобук, да и клобук – всё клобуки вокруг. Ну что поделаешь? Наскучило до колик. Но ей, проказнице, такая блажь пришла: Искать в монастырях амурные дела. И знай пиши, поэт, хотя и без охоты! А я вам поклянусь: на свете нет писца, Который исчерпать сумел бы до конца Все эти хитрости, уловки, извороты. Я встарь и сам грешил, но вот... да что за счеты! Писать так уж писать! Жаль, публика пуста: Тотчас пойдет молва, что дело неспроста, Что рыльце у него у самого в пушку, мол. Но что досужий плут про нас бы ни придумал, Положим болтовне, друзья мои, конец. Перебираю вновь забытые страницы. Однажды по весне какой-то молодец Пробрался в монастырь во образе девицы. Пострел наш от роду имел пятнадцать лет. Усы не числились в ряду его примет. В монастыре себя назвав сестрой Коллет, Не стал наш кавалер досуг терять без дела: Сестра Агнесса в барыше! Как в барыше? Да так: сестра недоглядела, И вот вам грех на сестриной душе. Сперва на поясе раздвинута застежка, Потом на свет явился крошка, В свидетели историю беру, Похож как вылитый на юношу-сестру. Неслыханный скандал! И это где – в аббатстве! Пошли шушукаться, шептать со всех сторон: «Откуда этот гриб? Вот смех! В каком ей братстве Случилось подцепить подобный шампиньон? Не зачала ль она, как пресвятая дева?» Мать аббатиса вне себя от гнева. Всему монастырю бесчестье и позор! Преступную овцу сажают под надзор. Теперь – найти отца! Где волк, смутивший стадо? Как он проник сюда? Где притаился вор? Перед стенами – ров, и стены все – что надо. Ворота – крепкий дуб, на них двойной запор. «Какой прохвост прикинулся сестрою? – Вопит святая мать. – Не спит ли средь овец Под видом женщины разнузданный самец? Постой, блудливый волк, уж я тебя накрою! Всех до одной раздеть! А я-то хороша!» Так юный мой герой был пойман напоследок. Напрасно вертит он мозгами так и эдак, Увы, исхода нет, зацапали ерша! Источник хитрости – всегда необходимость. Он подвязал, – ну да? – он подвязал тогда, Он подвязал, – да что? – ну где мне взять решимость И как назвать пристойно, господа, Ту вещь, которую он скрыл не без труда. О, да поможет мне Венерина звезда Найти название для этой хитрой штуки! Когда-то, говорят, совсем уже давно, Имелось в животе у каждого окно – Удобство для врачей и польза для науки! Раздень да посмотри и все прочтешь внутри. Но это – в животе, а что ни говори, Куда опасней сердце в этом смысле. Проделайте окно в сердцах у наших дам – Что будет, господи, не оберешься драм: Ведь это все равно что понимать их мысли! Так вот Природа-мать – на то она и мать, – Уразумев житейских бед причины, Дала нам по шнурку, чтоб дырку закрывать И женщины могли спокойно и мужчины. Но женщины свой шнур – так рассудил Амур – Должны затягивать немножко чересчур, Всё потому, что сами сплоховали: Зачем окно свое некрепко закрывали! Доставшийся мужскому полу шнур, Как выяснилось, вышел слишком длинным И тем еще придал нахальный вид мужчинам. Ну словом, как ни кинь, а каждый видит сам: Он длинен у мужчин и короток у дам. Итак, вы поняли – теперь я буду краток, – Что подвязал догадливый юнец: Машины главный штырь, неназванный придаток, Коварного шнурка предательский конец. Красавец нитками поддел его так ловко, Так ровно подогнул, что все разгладил там, Но есть ли на земле столь крепкая веревка, Чтоб удержать глупца, когда, – о, стыд и срам! – Он нагло пыжится, почуяв близость дам. Давайте всех святых, давайте серафимов – Ей-богу, все они не стоят двух сантимов, Коль постных душ не обратят в тела Полсотни девушек, раздетых догола, Причем любви богиня им дала Всё, чтоб заманивать мужское сердце в сети: И прелесть юных форм, и кожи дивный цвет, – Все то, что солнце жжет открыто в Новом Свете, Но в темноте хранит ревнивый Старый Свет. На нос игуменья напялила стекляшки, Чтоб не судить об этом деле зря. Кругом стоят раздетые монашки В том одеянии, что, строго говоря, Для них не мог бы сшить портной монастыря. Лихой молодчик наш глядит, едва не плача, Ему представилась хорошая задача! Тела их, свежие, как снег среди зимы, Их бедра, их грудей округлые холмы, Ну, словом, тех округлостей пружины, Которые нажать всегда готовы мы, В движенье привели рычаг его машины, И, нить порвав, она вскочила наконец – Так буйно рвет узду взбешенный жеребец – И в нос игуменью ударила так метко, Что сбросила очки. Проклятая наседка, Лишившись языка при виде сих примет – Глядеть на них в упор ей доводилось редко, – Как пень, уставилась на роковой предмет. Такой оказией взбешенная сверх меры, Игуменья зовет старух-овец на суд, К ней молодого волка волокут, И оскорбленные мегеры Выносят сообща суровый приговор: Опять выходят все во двор, И нарушитель мира посрамленный, Вновь окружаемый свидетельниц кольцом, Привязан к дереву, к стволу его лицом, А к зрителям – спиной и продолженьем оной. Уже не терпится старухам посмотреть, Как по делам его проучен будет пленник: Одна из кухни тащит свежий веник, Другая – розги взять – бегом несется в клеть, А третья гонит в кельи поскорее Сестер, которые моложе и добрее, Чтоб не пустил соблазн корней на той земле, Но чуть, пособница неопытности смелой, Судьба разогнала синклит осатанелый, Вдруг едет мельник на своем осле – Красавец, женолюб, но парень без подвоха, Отличный кегельщик и славный выпивоха. «Ба! – говорит, – ты что? Вот это так святой! Да кто связал тебя и по какому праву? Чем прогневил сестер? А ну, дружок, открой! Или кобылку здесь нашел себе по нраву? Бьюсь об заклад, на ней поездил ты на славу. Нет, я уж понял все, мой нюх не подведет, Ты парень хоть куда, пускай в кости и тонок, Такому волю дай – испортит всех девчонок». «Да что вы, – молвил тот, – совсем наоборот: Лишь только потому я в затрудненье тяжком, Что много раз в любви отказывал монашкам, И не связался бы, клянусь вам, ни с одной За груду золота с меня величиной. Ведь это страшный грех! Нет, против божьих правил И сам король меня пойти бы не заставил». Лишь хохоча в ответ на все, что он сказал, Мальчишку мельник быстро отвязал И молвил: «Идиот! Баранья добродетель! Видали дурака? Да нет, господь свидетель, Взять нашего кюре: хоть стар, а все удал. А ты! Дай место мне! Я мастер в этом деле. Неужто от тебя любви они хотели? Привязывай меня да убирайся, брат, Они получат всё и, верь мне, будут рады, А мне не надобно ни платы, ни награды, Игра и без того пойдет у нас на лад. Всех обработаю, не лопнул бы канат!» Юнец послушался без повторенья просьбы, Заботясь об одном: платиться не пришлось бы. Он прикрутил его к стволу и был таков. Вот мельник мой стоит, большой, широкоплечий, Готовя для сестер прельстительные речи, Стоит в чем родился и всех любить готов. Но, словно конница, несется полк овечий. Ликует каждая. В руках у них не свечи, А розги и хлысты. Свою мужскую стать Несчастный не успел им даже показать, А розги уж свистят. «Прелестнейшие дамы! – Взмолился о н. – За что? Я женщинам не враг! И зря вы сердитесь, я не такой упрямый И уплачу вам все, что должен тот дурак. Воспользуйтесь же мной, я покажу вам чудо! Отрежьте уши мне, коль это выйдет худо! Клянусь, я в ту игру всегда играть готов, И я не заслужил ни розог, ни хлыстов». Но от подобных клятв, как будто видя черта, Лишь пуще бесится беззубая когорта. Одна овца вопит: «Так ты не тот злодей, Что к нам повадился плодить у нас детей! Тем хуже: получай и за того бродягу!» И сестры добрые нещадно бьют беднягу. Надолго этот день запомнил мукомол. Покуда молит он и, корчась, чуть не плачет, Осел его, резвясь и травку щипля, скачет. Не знаю, кто из них к чему и как пришел, Что мельник делает, как здравствует осел, – От этаких забот храни меня создатель! Но если б дюжина монашек вас звала, За все их белые лилейные тела Быть в шкуре мельника не стоит, мой читатель. Неразрешимая задача Добившись благосклонности одной дамы, герцог Филипп Добрый так пленился ее золотыми волосами, что основал в их честь Орден Золотого Руна. Из старинной хроники Один не столько злой, сколь черномазый бес, Большой шутник, охотник до чудес, Помог влюбленному советом. Назавтра тот владел любви своей предметом. По договору с бесом наш герой Любви пленительной игрой Мог до отказа насладиться. Бес говорил: «Строптивая девица Не устоит, ты можешь верить мне. Но знай: в уплату сатане Не ты служить мне станешь, как обычно, А я тебе. Ты мне даешь наказ, Я выполняю самолично Все порученья и тотчас Являюсь за другими. Но у нас Условие с тобой – одно на каждый раз: Ты должен быстро говорить и прямо, Не то прощай твоя красотка дама. Промедлишь – и не видеть ей Ни тела, ни души твоей. Тогда берет их сатана по праву, А сатана уж их отделает на славу». Прикинув так и сяк, вздыхатель мой Дает согласие. Приказывать – не штука, Повиноваться – вот где мука! Их договор подписан. Наш герой К своей возлюбленной спешит и без помехи С ней погружается в любовные утехи, Возносится в блаженстве до небес, Но вот беда: проклятый бес Торчит всегда над их постелью. Ему дают одну задачу за другой: Сменить июльский зной метелью, Дворец построить, мост воздвигнуть над рекой. Бес только шаркнет, уходя, ногой И тотчас возвращается с поклоном. Наш кавалер счет потерял дублонам, Стекавшимся в его карман. Он беса стал гонять с котомкой в Ватикан За отпущеньями грехов, больших и малых. И сколько бес перетаскал их! Как ни был труден или долог путь, Он беса не смущал ничуть. И вот мой кавалер уже в смятенье, Он истощил воображенье, Он чувствует, что мозг его Не выдумает больше ничего. Чу!.. что-то скрипнуло... Рогатый? И в испуге Он обращается к подруге, Выкладывает ей что было, все сполна. «Как, только-то? – ему в ответ она. – Ну, мы предотвратим угрозу, Из сердца вытащим занозу. Велите вы ему, когда он вновь придет, Пусть распрямит вот это вот. Посмотрим, как пойдет у дьявола работа». И дама извлекает что-то, Едва заметное, из лабиринта фей, Из тайного святилища Киприды, – То, чем был так пленен властитель прошлых дней, Как говорят, видавший виды, Что в рыцарство возвел предмет забавный сей И Орден учредил, чьи правила так строги, Что быть в его рядах достойны только боги. Любовник дьяволу и молвит: «На, возьми, Ты видишь, вьется эта штука. Расправь ее и распрями, Да только поживее, ну-ка!» Захохотал, вскочил и скрылся бес. Он сунул штучку под давильный пресс. Не тут-то было! Взял кузнечный молот, Мочил в рассоле целый день, Распаривал, сушил и в щелочь клал и в солод, На солнце положил, а после – в тень: Испробовал и жар и холод. Ни с места! Проклятую нить Не разогнешь ни так, ни эдак. Бес чуть не плачет напоследок – Не может волос распрямить! Напротив: чем он дольше бьется, Тем круче завитушка вьется. «Да что же это может быть? – Хрипит рогач, на пень садясь устало. – Я в жизни не видал такого матерьяла, Тут всей латынью не помочь!» И он к любовнику приходит в ту же ночь. «Готов оставить вас в покое, Я побежден и это признаю. Бери-ка штучку ты свою, Скажи мне только: что это такое?» И тот в ответ: «Сдаешься, сатана! Ты что-то быстро потерял охоту! А я бы мог всем бесам дать работу, У нас ведь эта штучка не одна!» Эпиграмма на узы брака Жениться? Как не так! Что тягостней, чем брак? На рабство променять свободной жизни блага! Второй вступивший в брак уж верно был дурак, А первый – что сказать? – был просто бедолага. Афродита Каллипига Сюжет заимствован у Атенея Когда-то задницы двух эллинок-сестер У всех, кто видел их, снискали девам славу. Вопрос был только в том, чтоб кончить важный спор – Которой первенство принадлежит по праву? Был призван юноша, в таких делах знаток, Он долго сравнивал и все решить не мог, Но выбрал наконец меньшую по заслугам И сердце отдал ей. Прошел недолгий срок, И старшей – брат его счастливым стал супругом. И столько радости взаимной было там, Что, благодарные, воздвигли сестры храм В честь их пособницы Киприды Дивнозадой, – Кем строенный, когда – не знаю ничего, Но и среди святынь, прославленных Элладой, С благоговением входил бы я в него. Послание мадам де ла Саблиер Теперь, когда я стар, и муза вслед за мной Вот-вот перешагнет через рубеж земной, И разум – факел мой – потушит ночь глухая, Неужто дни терять, печалясь и вздыхая, И жаловаться весь оставшийся мне срок На то, что потерял все, чем владеть бы мог. Коль Небо сохранит хоть искру для поэта Огня, которым он блистал в былые лета, Ее использовать он должен, помня то, Что золотой закат – дорога в ночь, в Ничто. Бегут, бегут года, ни сила, ни моленья, Ни жертвы, ни посты – ничто не даст продленья. Мы жадны до всего, что может нас развлечь, И кто так мудр, как вы, чтоб этим пренебречь? А коль найдется кто, я не из той породы! Солидных радостей чуждаюсь от природы И злоупотреблял я лучшими из благ. Беседа ни о чем, затейливый пустяк, Романы да игра, чума республик разных, Где и сильнейший ум, споткнувшись на соблазнах, Давай законы все и все права топтать, – Короче, в тех страстях, что лишь глупцам под стать, И молодость и жизнь я расточил небрежно. Нет слов, любое зло отступит неизбежно, Чуть благам подлинным предастся человек. Но я для ложных благ впустую тратил век. И мало ль нас таких? Кумир мы сделать рады Из денег, почестей, из чувственной услады. Танталов от роду, нас лишь запретный плод С начала наших дней и до конца влечет. Но вот уже ты стар, и страсти не по летам, И каждый день и час тебе твердит об этом, И ты последний раз упился б, если б мог, Но как предугадать последний свой порог? Он мал, остатний срок, хотя б он длился годы! Когда б я мудрым был (но милостей природы Хватает не на всех), увы, Ирис, увы! О, если бы я мог разумным быть, как вы, Уроки ваши я б использовал частично. Сполна – никак нельзя! Но было бы отлично Составить некий план, не трудный, чтоб с пути Преступно не было при случае сойти. Ах, выше сил моих – совсем не заблуждаться! Но и за каждою приманкою кидаться, Бежать, усердствовать, – нет, этим всем я сыт! «Пора, пора кончать! – мне каждый говорит. – Ты на себе пронес двенадцать пятилетий, И трижды двадцать лет, что ты провел на свете, Не видели, чтоб ты спокойно прожил час. Но каждый разглядит, видав тебя хоть раз, Твой нрав изменчивый и легкость в наслажденье. Душой во всем ты гость и гость лишь на мгновенье, В любви, в поэзии, в делах ли – все равно. Об этом всем тебе мы скажем лишь одно: Меняться ты горазд – в манере, жанре, стиле. С утра Теренций ты, а к вечеру Вергилий, Но совершенного не дал ты ничего. Так стань на новый путь, испробуй и его. Зови всех девять муз, дерзай, любую мучай! Сорвешься – не беда, другой найдется случай. Не трогай лишь новелл, – как были хороши!» И я готов, Ирис, признаюсь от души, Совету следовать – умен, нельзя умнее! Вы не сказали бы ни лучше, ни сильнее. А может, это ваш, да, ваш совет опять? Готов признать, что я – ну как бы вам сказать? – Парнасский мотылек, пчела, которой свойства Платон примеривал для нашего устройства. Созданье легкое, порхаю много лет Я на цветок с цветка, с предмета на предмет. Не много славы в том, но много наслаждений. В храм Памяти – как знать? – и я б вошел как гений, Когда б играл одно, других не щипля струн. Но где мне! Я в стихах, как и в любви, летун И свой пишу портрет без ложной подоплеки: Не тщусь признанием свои прикрыть пороки. Я лишь хочу сказать, без всяких «ах!» да «ох!», Чем темперамент мой хорош, а чем он плох. Как только осветил мне жизнь и душу разум, Я вспыхнул, я узнал влечение к проказам, И не одна с тех пор пленительная страсть Мне, как тиран, свою навязывала власть. Недаром, говорят, рабом желаний праздных Всю жизнь, как молодость, я загубил в соблазнах. К чему шлифую здесь я каждый слог и стих? Пожалуй, ни к чему: авось похвалят их? Ведь я последовать бессилен их совету. Кто начинает жить, уже завидев Лету? И я не жил: я был двух деспотов слугой, И первый – праздный шум, Амур – тиран другой. Что значит жить, Ирис? Вам поучать не внове. Я даже слышу вас, ответ ваш наготове. Живи для высших благ, они к добру ведут. Используй лишь для них и свой досуг, и труд, Чти всемогущего, как деды почитали Заботься о душе от всех Филид подале, Гони дурман любви, бессильных клятв слова - Ту гидру что всегда в людских сердцах жива. Франсуа Мари Аруэ Вольтер 1694-1778 Четверостишие, сочиненное в день кончины Покуда был живым – сражаясь до конца, Учил я разуму невежду и глупца. Но и в загробной тьме, все тот же, что и всюду, Я тени исцелять от предрассудков буду. Шарль Нодье 1780-1844 Стиль «У нас в Маре стихов плохих Кто хочешь накропает кучи. Плохой и мне по силам стих, Но захоти я сделать лучше, Я хуже стал бы делать их». Так наставлял Шапель сурово, И я могу его понять: Когда стихи идут без зова, Тогда ложится в память слово, Но что за чушь их сочинять! Да, есть канон, – но в том ли сила, Чтоб сделать строчку без греха, Чтоб мысль, остановясь уныло, Свой бег свободный подчинила Банальным правилам стиха, Иль проза, чье касанье грубо, Чей дух бескрыл, хоть вездесущ, На рифмах расцвела сугубо, Как на стволе громадном дуба Растет и крепнет ловкий плющ. Когда, не ведая стеснений, Но Время чувствуя в себе, Без правил, без ограничений, От полноты творящий гений Уступит разве лишь судьбе, Тогда слышна и зрима в слове Душа, и чувство дышит в нем. И чистый пламень наготове Из пустоты родиться внове И ночь сменить ярчайшим днем. И стих, живой, могучий, страстный» Летит звенящею стрелой, И, жизни общей сопричастный, Он жжет сердца, над каждым властный, Как солнце – над холодной мглой. Но вдруг... его остановили! Освободите пленный стих! Он только меркнет от усилий, У слов ни смысла нет, ни крылий, Когда не слышно сердце в них. Я враг блестящих украшений И чту в искусстве простоту, Лишь в ней я вижу красоту. Поэмам сотен поколений Я сердца возглас предпочту. Так бросим пышные затеи, Для музы грим – пустой расход. Ей лишь естественность идет. Тогда поэт, пророк идеи, Срывает стих как зрелый плод. Альфред де Виньи 1797-1863 Смерть волка Под огненной луной крутились вихрем тучи, Как дым пожарища. Пред нами бор дремучий По краю неба встал зубчатою стеной Храня молчание, мы по траве лесной, По мелколесью шли в клубящемся тумане, И вдруг под ельником, на небольшой поляне, Когда в разрывы туч пробился лунный свет, Увидели в песке когтей могучих след. Мы замерли, и слух и зренье напрягая, Стараясь не дышать. Чернела ночь глухая. Кусты, равнина, бор молчали в мертвом сне. Лишь флюгер где-то ныл и плакал в вышине, Когда ночной зефир бродил под облаками И башни задевал воздушными шагами, И даже старый дуб в тени нависших скал, Казалось, оперся на локоть и дремал. Ни шороха. Тогда руководивший нами Старейший из ловцов нагнулся над следами, Почти припав к земле. И этот человек, Не знавший промаха во весь свой долгий век, Сказал, что узнает знакомую повадку: По глубине следов, их форме и порядку Признал он двух волков и двух больших волчат, Прошедших только что, быть может, час назад. Мы ружья спрятали, чтоб дула не блестели, Мы вынули ножи и, раздвигая ели, Пошли гуськом, но вдруг отпрянули: на нас Глядели в темноте огни горящих глаз. Во мгле, пронизанной потоком зыбким света, Играя, прыгали два легких силуэта, Как пес, когда визжит и вертится волчком Вокруг хозяина, вернувшегося в дом. Мог выдать волчью кровь лишь облик их тревожный, И каждый их прыжок, бесшумный, осторожный, Так ясно говорил, что их пугает мрак, Где скрылся человек, непримиримый враг. Отец стоял, а мать сидела в отдаленье, Как та, чью память Рим почтил в благоговенье И чьи сосцы в лесной хранительной сени Питали Ромула и Рема в оны дни. Но волк шагнул и сел. Передних лап когтями Уперся он в песок. Он поводил ноздрями И словно размышлял: бежать или напасть? Потом оскалил вдруг пылающую пасть, И, свору жадных псов лицом к лицу встречая, Он в горло первому, охрипшее от лая, Свои вонзил клыки, готовый дать отпор, Хоть выстрелы его дырявили в упор И хоть со всех сторон ножи остервенело Ему наперекрест распарывали тело, – Разжаться он не дал своим стальным тискам, Покуда мертвый враг не пал к его ногам. Тогда он, кинув пса, обвел нас мутным оком. По шерсти вздыбленной бежала кровь потоком, И, пригвожден к земле безжалостным клинком, Он видел только сталь холодную кругом. Язык его висел, покрыт багровой пеной, И, судорогой вдруг пронизанный мгновенной, Не думая о том, за что и кем сражен, Упал, закрыл глаза и молча умер он. Я на ружье поник, охваченный волненьем. Погоню продолжать казалось преступленьем. Сначала медлила вдали его семья, И будь они вдвоем – в том клятву дал бы я, – Великолепная и мрачная подруга В беде не бросила б отважного супруга, Но, помня долг другой, с детьми бежала мать, Чтоб выучить сынов таиться, голодать, И враждовать с людьми, и презирать породу Четвероногих слуг, продавших нам свободу, Чтобы для нас травить за пищу и за кров Былых владетелей утесов и лесов. И скорбно думал я: «О царь всего земного, О гордый человек, – увы, какое слово, И как ты, жалкий, сам его сумел попрать! Учись у хищников прекрасно умирать! Увидев и познав убожество земное, Молчаньем будь велик, оставь глупцам иное. Да, я постиг тебя, мой хищный, дикий брат. Как много рассказал мне твой последний взгляд! Он говорил усвой в дороге одинокой Веленья мудрости суровой и глубокой И тот стоический и гордый строй души, С которым я рожден и жил в лесной глуши. Лишь трус и молится и хнычет безрассудно. Исполнись мужества, когда боренье трудно, Желанья затаи в сердечной глубине И, молча отстрадав умри, подобно мне». Виктор Гюго 1802-1885 Что слышится в горах О беспредельность! Случалось ли всходить вам на гору порой – Туда, где царствуют безмолвье и покой? У Зундских берегов иль на скалах Бретани Кипела ли вода под вами в океане? Склонясь над зеркалом безбрежной синевы, К великой тишине прислушались ли вы? Вы б услыхали то, что слух мой приковало Под небом, на краю гигантского провала, Где был мой дух немым восторгом обуян, И здесь была земля, а там был океан, И голос зазвучал, какой еще от века Не волновал души смущенной человека. Сперва то был глухой, широкий, смутный гул, Как будто жаркий вихрь в лесу деревья гнул. То песней лился он, то обращался в шепот, То рос, как шум грозы, как дальний конский топот, Как звон оружия, когда гремит труба И жатвы новой ждут разверстые гроба. Он ширился, гремел, струясь вокруг вселенной, Он лился музыкой нездешне вдохновенной, – В надмирной глубине, что синевой цвела, Волнами обтекал небесные тела, Изменчивый и все ж хранящий постоянство, Как форма и число, как время и пространство. И необъятный строй блистающих светил, Как в воздухе земля, в стихни звуков плыл. Повсюду – без конца, без меры, без начала – Неизъяснимая гармония звучала. И, зачарованный эфирных арф игрой, Как в море, я тонул в том голосе порой. Но, чутко вслушавшись, я вдруг услышал ясно В одном – два голоса, звучавшие согласно: Всемирный гимн творцу вздымая в небеса, Земля и океан сливали голоса, Но розно слышались в том ропоте глубоком – Так две струи, скрестясь, текут одним потоком. И первый был от волн – гимн славы, песнь хвалы, И пели эту песнь шумящие валы. Другой был от земли – глухая песнь печали, И в нем людские все наречия звучали. И каждый человек, и каждый в море вал Неповторимый звук в великий хор вплетал. Тот гимн, бушующим рожденный океаном, Дышал и радостью, и миром несказанным. Как струны арф твоих, ликующий Сион, Восторженной хвалой творенье славил он. Пред ликом божиим, в дыханье буйном шквала, Пучина грозная все громче ликовала, Не молкло пенье волн – лишь падала одна, Подхватывая песнь, другая шла волна. Но вдруг, как ярый лев при виде Даниила, Свой неуемный рык пучина прекратила, И, глядя на закат, узрел я над водой Десницу божию на гриве золотой. И в голосе другом – как визг железа ржавый, Вплетался он в аккорд фанфары величавой; Так конь в испуге ржет, так стонут и скрипят, Впуская грешников, затворы адских врат; Так медную струну пилит смычок железный – Проклятье таинствам, последний крик над бездной, Как вызов, брошенный велениям судьбы, Брань, богохульства, плач, угрозы и мольбы, Все в общий гул слилось – так птиц полночных стая Шумит, над сонною долиной пролетая. Но что же было то? Мне не забыть вовек: То плакала Земля и плакал Человек. Два этих голоса, два непостижных зова То умолкали вдруг, то возникали снова. «Природа!» – рокотал один сквозь бездну лет, И «Человечество!» – гремел другой в ответ. И я задумался. Мой дух на той вершине Обрел крыла, каких не обретал доныне. Еще подобный свет не озарял мой путь. И долго думал я, пытаясь заглянуть В ту бездну, что внизу, под зыбью волн таилась, И в бездну, что во тьме души моей раскрылась. Я вопрошал себя о смысле бытия, О цели и пути всего, что вижу я, О будущем души, о благе жизни бренной. И я постичь хотел, зачем творец вселенной Так нераздельно слил, отняв у нас покой, Природы вечный гимн и вопль души людской. Эжезипп Моро 1810-1838 Жану-парижанину Импровизация во время представления «Дон-Жуана» Моцарта О парижанин Жан! На своего патрона, Красуясь в ложе, ты взираешь благосклонно: Рукоплескать ему ты можешь – это так, Но подражать – едва ль, понять его – никак! Ты руки утомил, фехтуя на рапирах; Твой пистолет прошиб три сотни кукол в тирах; Играя тросточкой, ты сбил ребенка с ног; Заплакать он посмел – негоднику пинок! Ты, женщину раздев и брызгая слюною, Бормочешь: «Дон-Жуан доволен был бы мною». О, наглость!.. Дон-Жуан? Нет, ты не Дон-Жуан! Он знал в любви огонь, он был в любви титан. Он – проклятый гигант, ты – карлик, хоть пролаза: Он из геенны был, а ты – из Понтуаза; Он пел, он бунтовал, а ты – фигляр и враль. Стихом тебя давить – и то бумаги жаль!.. Великий птицелов, перехитрив Севилью, Пленил Эльвиру он, Ленору, Инезилью, Вечерних мотыльков, чья родина – Мадрид, Чью прелесть поцелуй убьет иль опалит, Чьей золотой пыльцой, летящей с тонких крылий, Могли б озолотить соборы двух Кастилий. Влюбленный в ангела, прекрасного, как день, По хрупкой лестнице, ловя за тенью тень, От неба к небу он по радужным ступеням Марии мог достичь и пасть к ее коленям, И, даже с громом в бой вступая, как с людьми, Он старому брюзге сказал бы: «Не греми!» А твой привычный путь – по желобу, с веревкой, За дочкой дворника, за кухонной плутовкой; Дуэнья, что глядит в глаза твои с мольбой Близ жертвы, чья краса растоптана тобой, Не мнет молитвенник смятенною рукою: Лохмотья – плащ ее, зовется нищетою, А птицу, что в силки обманом ты завлек, Манит не песнь твоя, а только кошелек. В тебе ни капли нет той крови, что пылала От взгляда женщины под солнцем Эскурьяла, Той крови пламенной, что Сида создала И, даже оскудев, Жуана дать могла! Да, пьян от голода, храпя на дне канавы, Народ способен вдруг восстать для бурной славы И на бодливого бурбонского быка Обрушить бешенство победного клинка! Но ты... шуми, и пей, и буйствуй в лупанаре, И похоть разжигай огнем продажной твари, Позорь мужей, буянь средь мирных горожан, Играй, блуди – ты все ж обыкновенный Жан! О, если бы плебей, расстрелянный тобою, Во мраморе воскрес над гранью гробовою И с боем полночи, покинув пьедестал, Когда померкнул газ и мертвый мрак настал, В угрюмое кафе, что ты почтил визитом, Направил грузный шаг, гудя по гулким плитам, - На подлом лбу твоем напечатлеть позор, - Не в кровь бы обмакнул перчатку командор, Но, каменной рукой отшлепав щеки мрази Оставил бы на них клеймо из черной грязи, И голос громовой вещал бы грозный стих: «Геенны нет тебе, виновник бед моих! Живи в презрении – господь не беспощаден! Он предназначил гром не для презренных гадин. Нежившим стариком ты сброшен будешь в ад, И со свету тебя спихнут ногою в зад!..» Теофиль Готье 1811–1872 Дрозд В лесу поет и свищет птица – Фрак черен, башмачки желты. На ветках иней серебрится, Но не спугнет ее мечты. То дрозд, веселый пустомеля. Он, не спросясь календаря, Встречает песенкой апреля Скупое солнце января. Пусть Арв желтеет в синей Роне, И дождь, и стужа до костей, И в блекло-голубом салоне Камин приветствует гостей; Пусть в мантиях из горностая, Как судьи, горы и холмы Глядят, параграф обсуждая О беззакониях зимы, – Он чистит перышки, он скачет, Свистит, не ведая забот. Хоть ветер воет, небо плачет, Он знает, что и май придет. Зовет зарю вставать с постели, Ворчит, что ленится она. Найдет подснежник в зимней прели И спросит: ну, а где ж весна? Он смотрит в мрак и лучезарный Восход предчувствует за ним. Так в храме за стеной алтарной Провидит бога пилигрим. Его инстинкт не промахнется, Он чует истину всегда, И глуп, скажу я, кто смеется Над философией дрозда. Уютный вечер Зима собачья – снег и лужи! Все кучера дрожат от стужи. Дал бог нам день! Не лучше ль стул к огню придвинуть, В камин побольше дров подкинуть – И царствуй, лень! В углу тахта зовет к уюту, Манит припасть хоть на минуту К ее груди И, как подруга в миг разлуки, Твердит, протягивая руки: «Не уходи!» Как тело нимфы, розоватый Колпак с бахромкой, чуть примятой, Скосился вбок Над белым шаром лампы медной, И лампа круг бросает бледный На потолок. В тиши лишь маятник неспящий Стучит, качая диск блестящий, Да, словно зверь, Завоет ветер, и дозором Пройдет по темным коридорам, И рвется в дверь. Я зван в посольство, но пойду ли? Вон свесил рукава на стуле Мой черный фрак. Пластрон в торжественности бальной Мерцает белизной крахмальной Сквозь полумрак. Ботинки узкого фасона Зевают, щурясь полусонно На блеск огня, И гладки, без единой складки, Лоснятся лайкою перчатки И ждут меня. Однако время! О, мученье: Глазеть, вливаясь в их теченье, На строй карет С гербами выскочек безродных, На прелести красоток модных, Везомых в свет; У двери став с любезной миной, Следить за хлынувшей лавиной Дельцов, вельмож, Девиц, кокоток именитых В корсажах, на груди открытых, И в платьях клеш, – Прыщавых спин, покрытых газом, Бесцветных глаз, где дремлет разум, Не вспыхнет смех, – Персон, известных всей Европе, Безликих лиц в калейдоскопе, Кружащем всех. А там стоят богачки-вдовы, Глядят, как ястреба иль совы, Тебе в лицо! Шепнешь ли ей, хотя б украдкой, В ушко под непослушной прядкой Одно словцо? Нет, не пойду – что толку в этом? Пошлю записку ей с букетом, И уж тогда Я гнев ее обезоружу. Она, клянусь, и в дождь и в стужу Придет сюда. Со мной здесь Гейне, Тэн, Гонкуры, Не могут снег и сумрак хмурый Проникнуть в дом. А вечер быстро пронесется, И на подушке мысль прервется И станет сном. Шарль Бодлер 1821–1867 Альбатрос Временами хандра заедает матросов, И они ради праздной забавы тогда Ловят птиц Океана, больших альбатросов, Провожающих в бурной дороге суда. Грубо кинут на палубу, жертва насилья, Опозоренный царь высоты голубой, Опустив исполинские белые крылья, Он, как весла, их тяжко влачит за собой. Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам, Стал таким он бессильным, нелепым, смешным! Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим, Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним. Так, поэт, ты паришь под грозой, в урагане, Недоступный для стрел, непокорный судьбе, Но ходить по земле среди свиста и брани Исполинские крылья мешают тебе. Маяки Рубенс, море забвенья, бродилище плоти, Лени сад, где в безлюбых сплетениях тел, Как воде в половодье, как бурям в полете, Буйству жизни никем не поставлен предел. Леонардо да Винчи, в бескрайности зыбкой Морок тусклых зеркал, где, сквозь дымку видны, Серафимы загадочной манят улыбкой В царство сосен, во льды небывалой страны. Рембрандт, скорбная, полная стонов больница, Черный крест, почернелые стены и свод, И внезапным лучом освещенные лица Тех, кто молится Небу среди нечистот. Микеланджело, мир грандиозных видений, Где с Гераклами в вихре смешались Христа, Где, восстав из могил, исполинские тени Простирают сведенные мукой персты. Похоть фавна и ярость кулачного боя, – Ты, великое сердце на том рубеже, Где и в грубом есть образ высокого строя, – Царь галерников, грустный и желчный Пюже. Невозвратный мираж пасторального рая, Карнавал, где раздумий не знает никто, Где сердца, словно бабочки, вьются, сгорая, – В блеск безумного бала влюбленный Ватто. Гойя – дьявольский шабаш, где мерзкие хари Чей-то выкидыш варят, блудят старики, Молодятся старухи, и в пьяном угаре Голой девочке бес надевает чулки. Крови озеро в сумраке чащи зеленой, Милый ангелам падшим безрадостный дол, – Странный мир, где Делакруа исступленный Звуки Вебера в музыке красок нашел. Эти вопли титанов, их боль, их усилья, Богохульства, проклятья, восторги, мольбы – Дивный опиум духа, дарящий нам крылья, Перекличка сердец в лабиринтах судьбы. То пароль, повторяемый цепью дозорных, То приказ по шеренгам безвестных бойцов, То сигнальные вспышки на крепостях горных, Маяки для застигнутых бурей пловцов. И свидетельства, боже, нет высшего в мире, Что достоинство смертного мы отстоим, Чем прибой, что в веках нарастает все шире, Разбиваясь об Вечность пред ликом твоим, На картину Эжена Делакруа «Тассо в темнице» Поэт в тюрьме, больной, небритый, изможденный, Топча ногой листки поэмы нерожденной, Следит в отчаянье, как в бездну, вся дрожа, По страшной лестнице скользит его душа. Кругом дразнящие, хохочущие лица, В сознанье дикое, нелепое роится, Сверлит Сомненье мозг, и беспричинный Страх, Уродлив, многолик, его гнетет впотьмах. И этот, запертый в дыре тлетворной гений, Среди кружащихся, глумящихся видений, – Мечтатель, ужасом разбуженный от сна, Чей потрясенный ум безумью отдается, – Вот образ той Души, что в мрак погружена И в четырех стенах Действительности бьется. К портрету Оноре Домье Художник мудрый пред тобой, Сатир пронзительных создатель. Он учит каждого, читатель, Смеяться над самим собой. Его насмешка не проста. Он с прозорливостью великой Бичует Зло со всею кликой, И в этом – сердца красота. Он без гримас, он не смеется, Как Мефистофель и Мельмот. Их желчь огнем Алекто жжет, А в нас лишь холод остается. Их смех – он никому не впрок, Он пуст, верней бесчеловечен. Его же смех лучист, сердечен, И добр, и весел, и широк. На картину Эдуарда Мане «Лола из Валенсии» Меж рассыпанных в мире привычных красот Всякий выбор, мой друг, представляется спорным. Но Лола – драгоценность, где розовый с черным В неожиданной прелести нам предстает. Соответствия Природа – некий храм, где от живых колонн Обрывки смутных фраз исходят временами. Как в чаще символов, мы бродим в этом храме, И взглядом родственным глядит на смертных он. Подобно голосам на дальнем расстоянье, Когда их стройный хор един, как тень и свет, Перекликаются звук, запах, форма, цвет, Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье. Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад, Как плоть ребенка, свеж, как зов свирели, нежен. Другие царственны, в них роскошь и разврат, Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен, – Так мускус и бензой, так нард и фимиам Восторг ума и чувств дают изведать нам. Предрассветные сумерки Казармы сонные разбужены горнистом. Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом. Вот беспокойный час, когда подростки спят, И сон струит в их кровь болезнетворный яд, И в мутных сумерках мерцает лампа смутно, Как воспаленный глаз, мигая поминутно, И, телом скованный, придавленный к земле, Изнемогает дух, как этот свет во мгле. Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний, Овеян трепетом бегущих в ночь видений. Поэт устал писать, а женщина – любить. Вон поднялся дымок и вытянулся в нить. Бледны, как труп, храпят продажной страсти жрицы, Тяжелый сон налег на синие ресницы. А нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь, Встает и силится скупой очаг раздуть, И, черных дней страшась, почуяв холод в теле, Родильница кричит и корчится в постели. Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг, Как будто в горле кровь остановила крик. В сырой, белесой мгле дома, сливаясь, тонут, В больницах сумрачных больные тихо стонут, И вот предсмертный бред их муку захлестнул. Разбит бессонницей, уходит спать разгул. Дрожа от холода, заря влачит свой длинный Зелено-красный плащ над Сеною пустынной, И труженик Париж, подняв рабочий люд, Зевнул, протер глаза и принялся за труд. Пейзаж Чтоб целомудренно стихи слагать в Париже, Хочу, как звездочет, я к небу жить поближе, В мансарде с небольшим оконцем, чтобы там, В соседстве с тучами, внимать колоколам, Когда плывет их звон широкими кругами, Иль, щеки подперев задумчиво руками, Глядеть – и слышать смех иль песни в мастерских, А в мешанине стен и кровель городских То церкви узнавать, то колоколен шпили, Как мачты в мареве из копоти и пыли, И Сену там внизу, и небо в вышине, Или о вечности мечтать, как в полусне. Люблю глядеть во мглу, лишь улицы притихнут И в окнах огоньки, а в небе звезды вспыхнут, Змеится по небу из труб идущий дым, И ворожит луна сияньем золотым. Так пролетит весна, а за весною лето, За осенью зима придет, в снега одета, И плотно ставни я закрою наконец, Чтоб возвести в ночи блистающий дворец. Я буду грезить вновь о знойных дальних странах, О ласках, о садах, о мраморных фонтанах, О пенье райских птиц, о блеске синих вод, О всем, что детского в Идиллии цветет. Мятеж, бушующий на площадях столицы, Не оторвет меня от начатой страницы. И, неге творчества предав свою мечту, Там в сердце собственном я солнце обрету, Себе весну создам я волею своею И воздух мыслями палящими согрею. Лебедь Виктору Гюго 1 Андромаха! Полно мое сердце тобою! Этот грустный, в веках позабытый ручей, Симоэнт, отражавший горящую Трою И величие вдовьей печали твоей, Это, в залежах памяти спавшее, слово Вспомнил я, Карузель обойдя до конца. Где ты, старый Париж? Как все чуждо и ново! Изменяется город быстрей, чем сердца. Только память рисует былую картину: Ряд бараков да несколько ветхих лачуг, Бочки, балки, на луже – зеленую тину, Груды плит, штабеля капителей вокруг. Здесь когда-то бывал я в зверинце заезжем. Здесь, в ту пору, когда просыпается Труд И когда подметальщики в воздухе свежем Бурю темную к бледному небу метут, – Как-то вырвался лебедь из клетки постылой. Перепончатой лапою скреб он песок. Клюв был жадно раскрыт, но, гигант белокрылый, Он из высохшей лужи напиться не мог. Бил крылами и, грязью себя обдавая, Хрипло крикнул, в тоске по родимой волне: «Гром, проснись же! Пролейся, струя дождевая!» Как напомнил он строки Овидия мне, Жизни пасынок, сходный с душою моею, – Ввысь глядел он, в насмешливый синий простор, Содрогаясь, в конвульсиях вытянув шею, Словно богу бросал исступленный укор. 2 Изменился Париж мой, но грусть неизменна. Все становится символом – краны, леса, Старый город, привычная старая Сена – Сердцу милые, скал тяжелей голоса! Даже здесь – перед Лувром – все то же виденье: Белый Лебедь в безумье немой маеты; Как изгнанник – смешной и великий в паденье, Пожираемый вечною жаждой, и ты, Андромаха, в ярме у могучего Пирра, Над пустым саркофагом, вовеки одна, В безответном восторге поникшая сиро, После Гектора – горе! – Элена жена. Да и ты, негритянка, больная чахоткой, Сквозь туман, из трущобы, где слякоть и смрад, В свой кокосовый рай устремившая кроткий, По земле африканской тоскующий взгляд, – Все вы, все, кто не знает иного удела, Как оплакивать то, что ушло навсегда, И кого милосердной волчицей пригрела, Чью сиротскую жизнь иссушила беда. И душа моя с вами блуждает в тумане, В рог трубит моя память, и плачет мой стих О матросах, забытых в глухом океане, О бездомных, о пленных, о многих других... Малабарской девушке Ты в бедрах царственна, а руки, а походка – Им позавидует и белая красотка. Черны твои глаза, как нагота черна. Мечту художника дразнить ты рождена. Тебя твой кинул бог на этот берег райский, Чтоб разжигала ты резной чубук хозяйский, Да отгоняла мух, да воскуренья жгла, Чтоб воду из ключа соседнего брала И рано поутру, когда поют платаны, С базара в дом несла кокосы и бананы. Потом, свободная, ты бродишь босиком И песни дикие поешь глухим баском. Увидев красный плащ зари над океаном, Циновку стелешь ты, чтоб снам предаться странным Где сотни бабочек и райских птиц – как ты, Всегда причудливых, похожих на цветы. Счастливое дитя! Зачем в Париж огромный, В водоворот людской, под серп судьбины темной, Вверяя жизнь рукам беспечных моряков, От тамариндовых бежишь ты берегов? Полуодетая, в негреющем муслине, Дрожа, ты будешь там глядеть на снег, на иней, Иль, плача, вспоминать свободу юных лет, Когда твой стан сожмет мучительный корсет. Отбросы будешь есть, начнешь дружить с развратом, Нездешних прелестей торгуя ароматом, Да изредка во сне прогорклый наш туман Преображать в мечту, в кокосы, в океан. Душа вина В ночи душа вина играла соком пьяным И пела: «Человек! Изведай власть мою! Под красным сургучом, в узилище стеклянном, Вам, обездоленным, я братства песнь пою. Я знаю, на холме, рассохшемся от зноя, Так много нужно сил, терпенья и труда, Чтоб родилось живым и душу обрело я, И, благодарное, я друг ваш навсегда. Мне любо литься в рот и в горло всех усталых, Я бурно радуюсь, пускаясь в этот путь. Чем скучный век влачить в застуженных подвалах, Не лучше ль мертвым лечь в согревшуюся грудь. Когда в воскресный день звенит от песен город, И, грудь твою тесня, щебечут в ней мечты, И пред тобой стакан, и твой расстегнут ворот, И локти на столе, – недаром счастлив ты! Глаза твоей жены зажгу я прежним светом И сыну твоему верну я цвет лица. Как масло мускулам, я нужно вам, атлетам, Рожденным, чтоб с судьбой бороться до конца. Я ниспаду в тебя амброзией растений, Зерном, что сотворить лишь Зодчий мира мог, Чтобы от наших встреч, от наших наслаждений Взошла Поэзия, как редкостный цветок». Вино мусорщика В рыжем зареве газа, где злобным крылом Ветер бьет фонари и грохочет стеклом, Где, на грязных окраинах корни пуская, Закипает грозой мешанина людская, Ходит мусорщик старый, в лохмотья одет, Не глядит на людей и совсем как поэт За столбы задевает, и что-то бормочет, И поет, и плевать на полицию хочет. Ибо замыслов гордых полна голова: Он бесправным, униженным дарит права, Он злодеев казнит и под злым небосклоном Человечество учит высоким законам. Да, голодный, забывший про сытный обед, Изнуренный работой и бременем лет, Жизнь проживший не лучше бездомной собаки, Он – отрыжка парижской зловонной клоаки, – Он вина причастился и бочкой пропах. С ним друзья, закаленные в славных боях. Их усы – как в походах истертые стяги, А кругом триумфальные арки и флаги, И толпа, и цветы – ослепительный сон! И в сверкающей оргии труб и знамен, Криков, песен и солнца, под гром барабанный Их народ прославляет, победою пьяный. Так – пускай человек обездолен и гол – Есть вино, драгоценный и добрый Пактол, Зажигающий кровь героическим жаром, Покоряющий нас этим царственным даром. Тем, кто жизнью затравлен, судьбой оскорблен, Бог послал в запоздалом раскаянье сон, А потом – это детище Солнца святое – Подарили им люди вино золотое. Продажная муза Любовница дворцов, о муза горьких строк! Когда метет метель, тоскою черной вея, Когда свистит январь, с цепи спустив Борея, Для зябких ног твоих где взять хоть уголек? Когда в лучах луны дрожишь ты, плечи грея, Как для тебя достать хотя б вина г л о т о к, – Найти лазурный мир, где в жалкий кошелек Кладет нам золото неведомая фея. Чтоб раздобыть на хлеб, урвав часы от сна, Не веруя, псалмы ты петь принуждена, Как служка маленький, размахивать кадилом, Иль акробаткой быть и, обнажась при всех, Из слез невидимых вымучивая смех, Служить забавою журнальным воротилам. Полночные терзания Как иронический вопрос – Полночный бой часов на башне: Минувший день, уже вчерашний, Чем был для нас, что нам принес? – День гнусный: пятница! К тому же Еще тринадцатое! Что ж, Ты, может быть, умен, хорош, А жил как еретик иль хуже. Ты оскорбить сумел Христа, Хоть он, господь наш, – бог бесспорный! Живого Креза шут придворный, – Среди придворного скота Что говорил ты, что представил, Смеша царя нечистых сил? Ты все, что любишь, поносил И отвратительное славил. Палач и раб, служил ты злу, Ты беззащитность жалил злобой, Зато воздал ты быколобой Всемирной глупости хвалу. В припадке самоуниженья Лобзал тупую Косность ты, Пел ядовитые цветы И блеск опасный разложенья. И, чтоб забыть весь этот бред, Ты, жрец надменный, ты, чья лира В могильных, темных ликах мира Нашла Поэзии предмет Пьянящий, полный обаянья, – Чем ты спасался? Пил да ел? – Гаси же свет, покуда цел, И прячься в ночь от воздаянья! Крышка На суше, на море – одно везде и всюду: Под сводом знойных ли, холодных ли небес, Венеру славит он, Христа ли чтит иль Будду, Безвестный нищий он иль знаменитый Крез, Бродяга, домосед, крестьянин, горожанин, Лентяй ли, труженик, священник иль бандит, Повсюду человек, издревле оболванен, На небо в ужасе мистическом глядит. А небо, что оно? Не потолок ли склепа, Плафон для оперы, в которой все нелепо, Где веселы шуты, хоть кровью пол залит, Гроза распутника, надежда пилигрима Иль крышка на котле, где мелко, еле зримо, Все человечество громадное бурлит? * * * Люблю тот век нагой, когда, теплом богатый, Луч Феба золотил холодный мрамор статуй. Мужчины, женщины, проворны и легки, Ни лжи не ведали в те годы, ни тоски. Лаская наготу, горячий луч небесный Облагораживал их механизм телесный, И в тягость не были земле ее сыны, Средь изобилия Кибелой взращены, Волчицей ласковой, равно, без разделенья, Из бронзовых сосцов поившей все творенья. Мужчина, крепок, смел и опытен во всем, Гордился женщиной и был ее царем, Любя в ней свежий плод без пятен и без гнили, Который жаждет сам, чтоб мы его вкусили. А в наши дни, поэт, когда захочешь ты Узреть природное величье наготы Там, где является она без облаченья, Ты в ужасе глядишь, исполнясь отвращенья, На чудищ без одежд. О, мерзости предел! О, неприкрытое уродство голых тел! Те скрючены, а те раздуты или плоски. Горою животы, а груди словно доски, Как будто их детьми, расчетлив и жесток, Железом пеленал корыстный Пользы бог. А бледность этих жен, что вскормлены развратом И высосаны им в стяжательстве проклятом, А девы, что, впитав наследственный порок, Торопят зрелости и размноженья срок! И все же в племени, уродливом телесно, Есть красота у нас, что древним неизвестна, Есть лица, что хранят сердечных язв печать, – Я красотой тоски готов ее назвать. Но это – наших муз ущербных откровенье. Оно в болезненном и дряхлом поколенье Не погасит восторг пред юностью святой, Перед ее теплом, весельем, прямотой, Глазами ясными, как влага ключевая, – Пред ней, кто, все свои богатства раздавая, Дарит, как небо, всем, как птицы, как цветы, Свой аромат, и песнь, и прелесть чистоты. Идеал Нет, нашим женщинам, виньеточным сиренам, Столетья пошлого испорченным плодам, В высоких башмачках и в юбке с модным треном, Я сердца, мрачного, как бездна, не отдам. Пускай щебечущих красавиц золотушных, Поэт хлорозных дев, рисует Гаварни. Цветы, возросшие в оранжереях душных, Мой рыжий идеал не заслонят они. Вам, леди Макбет, вам, великой в преступленье, Могу я посвятить моей души томленье, Вам, кинутой в снега Эсхиловой мечте, Тебе, святая Ночь, создание титана, Дочь Микеланджело, изогнутая странно В доступной лишь губам Гигантов наготе. Осенняя песня 1 И вновь промозглый мрак овладевает нами – Где летней ясности живая синева? Как мерзлая земля о гроб в могильной яме, С подводы падая, стучат уже дрова. Зима ведет в мой дом содружеством знакомым Труд каторжанина, смятенье, страх, беду, И станет сердце вновь застывшим красным комом, Как солнце мертвое в арктическом аду. Я слушаю, дрожа, как падают поленья – Так забивают гвоздь, готовя эшафот. Мой дух шатается, как башня в миг паденья, Когда в нее таран неутомимый бьет. И в странном полусне я чувствую, что где-то Сколачивают гроб – но где же? но кому? Мы завтра зиму ждем, вчера скончалось лето, И этот мерный стук – отходная ему. 2 Люблю зеленый блеск в глазах с разрезом длинным, В твоих глазах – но все сегодня горько мне. И что твоя любовь, твой будуар с камином В сравнении с лучом, скользнувшим по волне. И все ж люби меня! Пускай, сердечной смутой Истерзанный, я зол, я груб – люби меня! Будь матерью, сестрой, будь ласковой минутой Роскошной осени иль гаснущего дня. Игра идет к концу! Добычи жаждет Лета. Дай у колен твоих склониться головой, Чтоб я, грустя во тьме о белом зное лета, Хоть луч почувствовал – последний, но живой. Падаль Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните ли вы Ту лошадь дохлую под ярким белым светом Среди рыжеющей травы? Полуистлевшая, она, раскинув ноги, Подобно девке площадной, Бесстыдно, брюхом вверх, лежала у дороги, Зловонный выделяя гной. И солнце эту гниль палило с небосвода, Чтобы останки сжечь дотла, Чтоб слитое в одном великая Природа Разъединенным приняла. И в небо щерились уже куски скелета, Живым подобные цветам. От смрада на лугу, в душистом зное лета, Едва не стало дурно вам. Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи Над мерзкой грудою вились, И черви ползали и копошились в брюхе, Как черная густая слизь. Все это двигалось, вздымалось и блестело, Как будто, вдруг оживлено, Росло и множилось чудовищное тело, Дыханья смутного полно. И этот мир струил таинственные звуки, Как ветер, как бегущий вал, Как будто сеятель, подъемля плавно руки, Над нивой зерна развевал. То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий, Как первый очерк, как пятно, Где взор художника провидит стан богини, Готовый лечь на полотно. Из-за куста на нас, худая, вся в коросте, Косила сука злой зрачок И выжидала миг, чтоб отхватить от кости И лакомый сожрать кусок. Но вспомните, и вы, заразу источая, Вы трупом ляжете гнилым, Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая, Вы, лучезарный серафим. И вас, красавица, и вас коснется тленье, И вы сгниете до костей, Одетая в цветы под скорбные моленья, Добыча гробовых гостей. Скажите же червям, когда начнут, целуя, Вас пожирать во тьме сырой, Что тленной Красоты – навеки сберегу я И форму, и бессмертный строй. Вечерние сумерки Вот вечер благостный, преступной братьи друг, Подходит, крадучись. Померкло небо вдруг, Огромный свой альков задернув шелком плотным, И сразу человек становится животным. О вечер, как тебе невыразимо рад Кто честно трудится, чьи руки говорят: «Мы поработали!» Ты всех зовешь к покою: Томимых скукою, затравленных тоскою, Мыслителя, чей взор от книг не оторвать, Рабочих, рухнувших устало на кровать. А духи зла меж тем, прервав короткий роздых, Проснулись – как дельны, заполонили воздух, Шныряют, шебаршат близ окон, у дверей... И среди пляшущих под ветром фонарей Вновь проституция зажгла у входов плошки, И в муравейнике все ожили дорожки. Она, как враг, не спит, ища во мгле пути, Чтоб выжать, высосать, сетями оплести Столицу мерзкую, погрязнувшую в блуде, – Так червь съедает все, что запасают люди. Прохожий, вслушайся! там ресторан жужжит, Тут воет кабаре или оркестр визжит. А там вовсю картеж идет в угрюмом баре За ломберным столом, где плут и шлюха в паре. И вор, не знающий ни часа без забот, С отмычкой и ножом готовится в поход – Ограбить дом иль банк, проткнуть кассиру глотку, Чтоб день-другой пожить да приодеть красотку. О, в этот смутный час не поникай, мой дух! Для звуков городских закрой свой чуткий слух! То час, когда больным страдать еще тяжеле. За горло ночь берет и душит их в постели. Окончен путь земной, и смерть зовет во тьму. В палатах жалобы и стон, и кой-кому Уж не склоняться впредь над суповою миской, Не греться у огня вдвоем с душою близкой. А много больше тех, кто сгинет без следа, – Не знавших очага, не живших никогда. Игра Вкруг ломберных столов – преклонных лет блудницы. И жемчуг, и металл – на шеях, на руках. Жеманен тел изгиб, насурьмлены ресницы, Во взорах ласковых – безвыходность и страх. Там, над колодой карт, лицо с бескровной кожей. Безгубый рот мелькнул беззубой чернотой. Тут пальцы теребят, сжимаясь в нервной дрожи, То высохшую грудь, то кошелек пустой. Под грязным потолком, от люстр, давно немытых, Ложится желтый свет на груды серебра, На сумрачные лбы поэтов знаменитых, Которым в пот и кровь обходится игра. Так предо мной прошли в угаре ночи душной Картины черные, пока сидел я там Один, вдали от всех, безмолвный, равнодушный, Почти завидуя и этим господам, Еще сберегшим страсть, и старым проституткам, Еще держащимся, как воин на посту, Спешащим промотать, продать в веселье жутком Одни – талант и честь, другие – красоту. И в страхе думал я, смущенный чувством новым, Что это зависть к ним, пьянящим кровь свою, Идущим к пропасти, но предпочесть готовым Страданье – гибели и ад – небытию. Мученица Рисунок неизвестного мастера Среди шелков, парчи, флаконов, безделушек, Картин, и статуй, и гравюр, Дразнящих чувственность диванов, и подушек, И на полу простертых шкур, В нагретой комнате, где воздух – как в теплице; Где он опасен, прян и глух И где отжившие, в хрустальной их гробнице, Букеты испускают дух, – Безглавый женский труп струит на одеяло Багровую живую кровь, И белая постель ее уже впитала, Как воду – жаждущая новь, Подобна призрачной, во тьме возникшей тени (Как бледны кажутся слова!), Под грузом черных кос и праздных украшений Отрубленная голова На столике лежит, как лютик небывалый, И, в пустоту вперяя взгляд, Как сумерки зимой, белесы, тусклы, вялы, Глаза бессмысленно глядят. На белой простыне, приманчиво и смело Свою раскинув наготу, Все обольщения выказывает тело, Всю роковую красоту. Подвязка на ноге глазком из аметиста, Как бы дивясь, глядит на мир, И розовый чулок с каймою золотистой Остался, точно сувенир. Здесь, в одиночестве ее необычайном, В портрете – как она сама Влекущем прелестью и сладострастьем тайным, Сводящим чувственность с ума, – Все празднества греха, от преступлений сладких До ласк, убийственных, как яд, Все то, за чем в ночи, таясь в портьерных складках С восторгом демоны следят. Но угловатость плеч, сведенных напряженьем, И слишком узкая нога, И грудь, и гибкий стан, откинутый движеньем Змеи, завидевшей врага, – Как все в ней молодо! – Ужель, с судьбой в раздоре От скуки злой, от маеты Желаний гибельных остервенелой своре Свою судьбу швырнула ты? А тот, кому ты вся, со всей своей любовью, Живая отдалась во власть, Он мертвою тобой, твоей насытил кровью Свою чудовищную страсть? Схватил ли голову он за косу тугую, Признайся мне, нечистый труп! В немой оскал зубов впился ли, торжествуя, Последней лаской жадных губ? Вдали от лап суда, от ханжеской столицы, От шума грязной болтовни Спи мирно, мирно спи в загадочной гробнице И ключ от тайн ее храни. Супруг твой далеко, но существом нетленным Ты с ним в часы немые сна, И памяти твоей он верен сердцем пленным, Как ты навек ему верна. Тревожное небо Твой взор загадочный как будто увлажнен. Кто скажет, синий ли, зеленый, серый он? Он то мечтателен, то нежен, то я:есток, То пуст, как небеса, рассеян иль глубок. Ты словно колдовство тех вялых белых дней, Когда в дремотной мгле душа грустит сильней, И нервы взвинчены, и набегает вдруг, Будя заснувший ум, таинственный недуг. Порой прекрасна ты, как кругозор земной Под солнцем осени, смягченным пеленой, Как дали под дождем, когда их глубина Лучом встревоженных небес озарена. О, в этом климате, пленяющем навек, В опасной женщине – приму ль я первый снег? И наслаждения острей стекла и льда Найду ли в зимние, в ночные холода? * * * С еврейкой бешеной простертый на постели, Как подле трупа труп, я в душной темноте Проснулся, и к твоей печальной красоте От этой – купленной – желанья полетели. Я стал воображать – без умысла, без цели, – Как взор твой строг и чист, как величава ты, Как пахнут волосы, и терпкие мечты, Казалось, оживить любовь мою хотели. Я всю, от черных кос до благородных ног, Тебя любить бы мог, обожествлять бы мог, Все тело дивное обвить сетями ласки, Когда бы ввечеру, в какой-то грустный час, Невольная слеза нарушила хоть раз Безжалостный покой великолепной маски. Прекрасная ложь Если вижу я, как ты идешь, дорогая, По эстраде, рыдающей музыке в лад, Гармонически плавно и гибко ступая, И глаза твои вдаль безучастно глядят, Если вижу сияние этих печальных, Словно сумрачной кистью начерченных глаз, Если бледный твой лоб средь огней театральных Розовеет зарею в полуночный час, – «Как прекрасна! Как странно свежа! – говорю я. – Иль не смято в ней сердце, как вянущий плод? Иль не знает изысканных ласк поцелуя? Или прошлого тяжесть ее не гнетет?» Что же – плод ли ты, пьяным наполненный соком, Погребальная урна, наперсница слез? Аромат, говорящий о чем-то далеком, Ложе неги, букет увядающих роз? Есть глаза – я видал их, – чей сумрак бездонный Полон грусти, но тайна не скрыта за ней. Без сокровищ ларцы, без святынь медальоны, Даже Неба пустого они холодней! Что мне в них, если ты повергаешь в смятенье, Если сердце уводишь от Правды в Мечту! Ты глупа? Равнодушна? Ты маска? Виденье? Все равно! Обожаю твою красоту! Прекрасная ложь (Вариант перевода) Когда, небрежная, выходишь ты под звуки Мелодий, бьющихся о низкий потолок, И вся ты – музыка, и взор твой, полный скуки, Глядит куда-то вдаль, рассеян и глубок, Когда на бледном лбу горят лучом румяным Вечерних люстр огни, как солнечный рассвет, И ты, наполнив зал волнующим дурманом, Влечешь глаза мои, как может влечь портрет, Я говорю себе: «Она еще прекрасна, И странно – так свежа, хоть персик сердца смят, Хоть башней царственной над ней воздвиглось властно Все то, что прожито, чем путь любви богат». Так что ж ты: спелый плод, налитый пьяным соком, Иль урна, ждущая над гробом чьих-то слез, Иль аромат цветка в оазисе далеком, Подушка томная, корзина поздних роз? Я знаю, есть глаза, где всей печалью мира Мерцает влажный мрак, но нет загадок в них. Шкатулки без кудрей, ларцы без сувенира, В них та же пустота, что в Небесах пустых. А может быть, и ты – всего лишь заблужденье Ума, бегущего от Истины в Мечту? Ты суетна? глупа? ты маска? ты виденье? Пусть, я люблю в тебе и славлю Красоту, Экзотический аромат Осенним вечером, когда, глаза закрыв, Уткнувшись в грудь твою, лежу я молчаливый, Я слышу запах твой, я вижу край счастливый, Где солнце буйствует, а бег минут ленив; И знойный остров твой, и синий твой залив, И птиц, причудливых, как сказочные дивы. Мужчины там сильны, а женщины красивы, И взгляд их черных глаз до странности правдив. Я слышу запах твой – и вижу рай зеленый, И пахнет тамаринд, и воздух благовонный Щекочет ноздри мне. А в море паруса И мачты – сотни мачт, от плаванья усталых, И в хаосе цветов и звуков небывалых – Разноязычные матросов голоса. Старушки Виктору Гюго 1 В дебрях старых столиц, на панелях, бульварах, Где во всем, даже в мерзком, есть некий магнит, Мир прелестных существ, одиноких и старых, Любопытство мое роковое манит. Это женщины в прошлом, уродины эти – Эпонины, Лаисы! Возлюбим же их! Под холодным пальтишком, в дырявом жакете Есть живая душа у хромых, у кривых. Ковыляет, исхлестана ветром, такая, На грохочущий омнибус в страхе косясь, Как реликвию, сумочку в пальцах сжимая, На которой узорная вышита вязь. То бочком, то вприпрыжку – не хочет, а пляшет, Будто дергает бес колокольчик смешной, Будто кукла, сломавшись, ручонкою машет Невпопад! Но у этой разбитой, больной, У подстреленной лани глаза точно сверла, И мерцают, как ночью в канавах вода. Взгляд божественный, странно сжимающий горло, Взгляд ребенка – и в нем удивленье всегда. Гроб старушки – наверное, вы замечали – Чуть побольше, чем детский, и вот отчего Схожий символ, пронзительный символ печали Все познавшая смерть опускает в него. И невольно я думаю, видя спешащий Сквозь толкучку парижскую призрак такой, Что к своей колыбели, другой, настоящей, Он уж близок, он скоро узнает покой. Впрочем, каюсь: при виде фигур безобразных, В геометры не метя, я как-то хотел Подсчитать: сколько ж надобно ящиков разных Для испорченных очень по-разному тел? Их глаза – это слез неизбывных озера, Это горны, где блестками стынет металл, И пленится навек обаяньем их взора Тот, кто злобу судьбы на себе испытал. 2 Ты, весталка, ты, жрица игорного дома, Ты, которою музы гордиться могли. Кто, по имени только суфлеру знакома, Красотою прославила свой Тиволи, – Вами пьян я давно! Но меж хрупких созданий Есть иные, печаль обратившие в мед, Устремившие к небу на крыльях страданий Свой упрямый, как преданность Долгу, полет. Та – изгнанница, жертва суда и закона, Та – от мужа одно лишь видавшая зло, Та – над сыном поникшая грустно мадонна, – Все, чьи слезы лишь море вместить бы могло. 3 Сколько раз я бродил вслед за ними с любовью! Помню, в час, когда жгучую рану свою Обнажает закат, истекающий кровью, Села с краю одна помечтать на скамью Да послушать оркестр, громыхавший металлом, Хоть заемным геройством волнующий грудь, Если в парк, освеженные вечером алым, Горожане приходят часок отдохнуть, И, держась еще правил, пряма, как девица, С благородным, для лавров изваянным лбом, Эта женщина, эта седая орлица Жадно слушала песен воинственный гром. 4 Так сквозь дебри столиц на голгофы крутые Вы без жалоб свершаете трудный свой путь, Вы, скорбящие матери, шлюхи, святые, Для кого-то сумевшие солнцем блеснуть, – Вы, кто славою были и милостью божьей, Никому не нужны! Только спьяна подчас Целоваться к вам лезет бродяга прохожий Да глумливый мальчишка наскочит на вас. Вы, стыдясь за себя, за свои униженья, Робко жметесь вдоль стен, озираясь с тоской, И, созревшим для Вечности, нет утешенья Вам, обломкам великой громады людской. Только я, с соучастием нежным поэта, Наблюдая, как близитесь вы к рубежу, С безотчетной любовью, – не чудо ли это? – С наслаждением тайным за вами слежу. Я дивлюсь вашим новым страстям без упрека. Жизнь измучила вас – я свидетель всего. Я люблю вас во всем, даже в язвах порока, А достоинства ваши – мое торжество. Тени прошлого! О, как мне родственны все вы! Каждый вечер я шлю вам прощальный мой вздох. Что вас ждет, о восьмидестилетние Евы, На которых свой коготь испробовал бог! Сплин Когда на горизонт, свинцовой мглой закрытый, Ложится тусклый день, как тягостная ночь, И давят небеса, как гробовые плиты, И сердце этот гнет не в силах превозмочь, Когда промозглостью загнившего колодца Нас душит затхлый мир, когда в его тюрьме Надежда робкая летучей мышью бьется И головой об свод колотится во тьме, Когда влачат дожди свой невод бесконечный, Затягивая все тяжелой пеленой, И скука липкая из глубины сердечной Бесшумным пауком вползает в мозг больной, И вдруг колокола, рванувшись в исступленье, Истошный, долгий вой вздымают в вышину, Как рои бездомных душ, чье смертное томленье Упорной жалобой тревожит тишину, – Тогда уходит жизнь, и катафалк огромный Медлительно плывет в моей душе немой, И мутная тоска, мой соглядатай темный, Вонзает черный стяг в склоненный череп мой. * * * Я не могу забыть в предместье городском Наш тихий, маленький, такой уютный дом С Венерой гипсовой, с облупленной Помоной, К их белой наготе прильнувший куст зеленый, Где солнце ввечеру – багряное в окне, Ломавшем сноп лучей, – всегда казалось мне На куполе небес, прозрачном и высоком, Раскрытым широко и любопытным оком, Которое следит, сходя за окоем, Как долго, молча мы обедаем вдвоем, И зайчики скользят, играя пестрым блеском, От белой скатерти к линялым занавескам, Прошедшей мимо Я встретил женщину. Изящна и стройна, Придерживая трен рукой своей точеной, В глубоком трауре, печалью воплощенной Средь уличной толпы куда-то шла она. Я вздрогнул и застыл, увидев скорбный рот, Таящий бурю взор и гордую небрежность, Предчувствуя в ней все – и женственность, и нежность, И наслаждение, которое убьет. Внезапный взблеск – и ночь!.. Виденье красоты! Твой взор – он был как жизнь, промчавшаяся мимо. Увижу ль где-нибудь я вновь твои черты? Здесь или только там, где все невозвратимо? Не знала ты, кто я, не ведаю, кто ты, Но оба знали мы: ты мной была б любима! Призрак 2 АРОМАТ Случалось ли, мой друг читатель, вам Блаженствовать и томно длить мгновенья, Бездумно, долго, до самозабвенья Вдыхая мускус или фимиам, Покуда явь не заслонят виденья Былых восторгов, вечно милых нам, – Так губы льнут к безжизненным губам, Чтоб воскресить хоть призрак наслажденья. От черных, от густых ее волос, Как дым кадил, как фимиам альковный, Шел дикий, душный аромат любовный, И бархатное, цвета красных роз, Как бы звуча безумным юным смехом, Отброшенное платье пахло мехом. 3 РАМА Как рама, отделяя полотно, И мастерству высокого полета Вдруг придает особенное что-то, И миру новым кажется оно, Так, с этой красотой сплетясь в одно, Металлы, жемчуг, мебель, позолота, Умелых рук искусная работа – Все было ей, как рама, придано. И все в нее влюбленным ей казалось. Она касаньям шелка отдавалась, Как поцелуям, в жадной наготе. Но в грации причудливой смуглянки, В округлости, в изломах, в остроте Сквозила инфантильность обезьянки. 4 ПОРТРЕТ Болезнь и Смерть потушат неизбежно Огонь любви, нам согревавший грудь, Глаза, что смотрят пламенно и нежно, Уста, где сердце жаждет потонуть. От поцелуев, от восторгов страстных, В которых обновляется душа, Что остается? Капля слез напрасных, Да бледный контур в три карандаша. И Время, старец без души, без чувства, Его крылом безжалостным сотрет, Как я, он в одиночестве умрет... Убийца черный Жизни и Искусства, Ты думаешь, из сердца вырву я Ту, в ком и слава и любовь моя! Сплин Столько помню я, словно мне тысяча лет. Даже старый комод, где чего только нет, – Векселя и любовные письма, портреты, Чей-то локон, шкатулка, счета и билеты, – Стольких тайн, сколько мозг мой, вовек не скрывал, Старый мозг, пирамида, бездонный подвал, Где покойников больше, чем в братской могиле, – Я затерянный склеп, где во мраке и гнили Черви гложут моих мертвецов дорогих, Копошась, точно совесть, в потемках глухих. Я пустой будуар, где у пышной постели Вянут розы, пылятся и блекнут пастели, Праздный ждет кринолин, и молчанье одно Слышит запах флакона, пустого давно. Что длиннее тягучего дня, когда скука В хлопьях снежных, ложащихся мерно, без звука, – Пресыщенья тупого отравленный плод, Как бессмертье, теряя пределы, растет. – Дух живой, так во что ж обратился ты ныне? Ты скала среди проклятой богом пустыни – Окаянной Сахары, в глухой немоте Старый Сфинкс, непонятный людской суете, Не попавший на карту и песней щемящей Провожающий день, навсегда уходящий. Разбитый колокол Есть горечь нежная: в безмолвии ночном Внимать медлительным шагам воспоминаний, Когда трещит камин, и вьюга за окном, И колокольный звон разносится в тумане. Как счастлив колокол! Его гортань крепка. Не сломлен старостью, ревнитель веры смелый, Торжественный призыв бросает он в века, Бесстрашен, как солдат, в сраженьях поседелый. А ты, моя душа, разбита, – и со мной Пытаясь петь в тоске бессонницы ночной, Лишь глухо стонешь ты, как от смертельной боли. Так раненый хрипит, забытый где-то в поле Под грудой мертвых тел, где, вдавлен в кровь и грязь, Он, силясь двинуться, умрет не шевелясь. Парижский сон Константину Гису 1 Никем не виданный, пустынный, Неясным ужасом пьяня, Мне смутной предстает картиной Пейзаж, волнующий меня. В калейдоскоп ночных видений, Рожденных тем далеким сном, Не вторглась пестрота растений Всеоживляющим пятном. Но, горд художническим правом, Лишь воду, мрамор и металл В однообразье величавом Я своевольно сочетал. Везде бассейны, водометы, Дворцы – под самый небосклон. В мерцанье темной позолоты Аркад и лестниц Вавилон. Иль кристаллическим порталом, Слепящим изумленный взгляд, Вдоль стен, сверкающих металлом, Повисший тяжко водопад. Взамен деревьев – колоннады, Взамен купальщиц у воды – Окаменелые наяды И неподвижные пруды. И сотней платов, расстеленных До рубежей, где ночь и мгла, В оправах розово-зеленых Озер лазурных зеркала. Вода без ряби или всплеска, Зажатый в камни окоем, Стекло, ослепшее от блеска Всего, что отразилось в нем, И, безучастный и безбурный, Тот Ганг заоблачных высот, Что благодать из влажной урны Во тьму алмазной бездны льет. Я, зодчим мира став нежданно, Свой утверждая произвол, Над буйной синью океана Туннель сверкающий возвел. Все было радугой и светом, Весь мир в кристальный блеск одет, И лучезарным семицветом Искрился прежний черный цвет. Но ни звезды в пустом эфире, Ни края солнца, даже днем, И вещи в этом странном мире Светились собственным огнем. Затихла движущая сила, Беззвучный, был он только зрим, И страшным новшеством царило Молчанье вечности над ним. 2 Проснувшись, увидал я снова, Сквозь блеск в очах, мое жилье И вновь отчаянья былого В душе почуял острие. А полдень погребальным звоном Входил в сознание мое, Накрыв угрюмым небосклоном Глухое, злое бытие. Путешествие 1 Для мальчишки, влюбленного в карту, в эстампы, Как его ненасытность, земля велика. Все громадно при свете мигающей лампы, В свете памяти даже громадность мелка. Пробил час – мы изведали язвы людские И с презреньем спешим унести поскорей Горечь сердца в баюканье влажной стихии, Беспредельность желаний в предельность морей. Тот бросает свой дом, чтоб укрыться в туманах, Тот бежит от проклятой отчизны, а тот От жестокой Цирцеи, от запахов пряных – Заблудившийся в женских глазах звездочет. Чтоб животным не стать на прельстительном ложе, Он спешит небеса и пространства встречать. Зной и холод оттиснутся бронзой на коже И сотрут поцелуев постыдных печать. Но лишь тот путешественник, странник по крови, Кто плывет, чтобы плыть, – без тревог, без забот: Все равно, что-нибудь да окажется внове, Так куда – неизвестно, но только вперед! В нем желанья растут и уходят, как тени, И, как пленник – Свободу, предчувствует он Необъятный, изменчивый мир наслаждений, Для которых язык не находит имен. 2 Как волчок или шар, в нашей пляске нелепой Все мы кружимся, скачем. Нас даже во сне Любопытство терзает, как Ангел свирепый, Вечно звезды бичующий там, в вышине. Странный жребий! Бежать к убегающей цели, К ней, везде, и нигде, и всегда никакой, Слепо веря при этом, почти с колыбели, Что найдем в лихорадочном беге покой. О, душа! О, корабль, в Икарию плывущий! Окрик с мостика: «Вахтенный! Видишь, земля!» Пылкий голос: «Там слава, там райские кущи! Там Любовь...» Это риф на пути корабля! Каждый остров, замеченный в дымке туманной, Кто из нас Эльдорадо своим не считал? И фантазия буйствует в оргии пьяной, Чтобы утром наткнуться на линию скал. Бесноватый любовник земель небывалых! Заковать тебя в цепи иль рыбам швырнуть, Открыватель Америк, в миражах и шквалах Пролагающий горький, как море, свой путь! Так бродяга, храпящий в грязи, под забором, Мнит, воззрившись на небо, что рай недалек, Видя Капуи брег зачарованным взором Там, где в жалкой лачуге блеснул огонек. 3 Пилигримы чудесного! Больше, чем море, Собрала ваша память бесценных даров. Раскрывайте ларцы ваших славных историй, Где горят ожерелья из звезд и ветров! Мы без пара и паруса странствовать будем! Разгоните тоску городской маеты! Покажите картины бескрайности людям, Растянув их умы, как на раме холсты! Что вы видели? 4 – Видели звезды и зори, Волны, волны, мы видели также пески, Но порой и средь бурь, в разыгравшемся море, Изнывали, как здесь, от смертельной тоски. Величавое солнце над зыбью лиловой, Городов величавость на рдяной заре Опьяняли наш дух невозможностью новой Потонуть в многоцветной небесной игре. Ни в роскошных Пальмирах, ни в бездне зыбучей – Мы ни в чем не встречали такой красоты, Как во всем, что из облака делает случай, И желанье рвалось из земной тесноты. В наслажденьях желанье и крепнет и зреет, Так деревьям дают удобрения рост, И меж тем как грубеет кора и стареет, Ветви тянутся к солнцу и выше, до звезд! – Значит, больше в них силы, чем в самых огромных Кипарисах? – А вот, чтоб судить вы могли, Вот вам зеркало мира в набросках альбомных, Вам, влюбленным во все, что мелькнуло вдали! Что мы видели? Идола с хоботом в храме, Трон в алмазах, блиставший, как некий кумир, И такие дворцы раскрывались пред нами, Что на них разорился б любой ваш банкир. Красок пиршество, праздник одежд и уборов, Женщин, красящих зубы и ногти ноги, Обвиваемых ласковой коброй жонглеров... 5 – А еще? А еще? – О ребячьи мозги! Не забыть бы о главном: как дома, в отчизне, Не ища, мы встречали, куда б ни пришли, Тот же грех на бессмысленной лестнице жизни, Те же язвы на всех протяженьях Земли. Подлость женщины, глупой и чванной рабыни, Преуспевшей в искусстве торговли собой. Грубость, алчность, разврат и обжорство в мужчине, Обращаемом в рабство своей же рабой, Кровь и пытки, казнимую завистью славу, Обреченных рыданья и смех палача, Власть без удержу – всех самодержцев отраву, И народ на коленях, просящий бича, Сто религий, как наша, с ключами от рая Для покорных, подвижников целый синклит, Тех, что спят, сладострастье души распаляя, На гвоздях, как на ложе любви – сибарит. Пьяный гением предков гигант, неспособный Сумасшествие вечных страстей побороть, – Человечество стонет в агонии злобной: «Проклинаю тебя, мой двойник, мой Господь!» И не много таких, кто отбились от стада, Кто умней, но чей разум безумье влечет, Для кого в безграничных наркозах отрада. – Вот о нашей планете правдивый отчет. 7 Горек плод путешествий: понять, что от века Тесен мир, одинаков и весь – как тиски, Что в веках и пространствах лицо человека Это страшный оазис в пустыне тоски! Так бежать? Иль остаться? Беги, если бремя Невтерпеж, иль останься и прячься, как крот, Чтоб тебя обошло, не заметило Время, Враг всезрящий и лютый. И кто-то пойдет Вечным Жидом, апостолом, вдаль, без дороги, Вплавь, куда ни закинет прилив иль отлив, Только 6 вырваться вон! А иной без тревоги Проживет, в первой встрече врага умертвив. Но когда он пяту нам поставит на спину, Братья, крикнем: «Вперед!» – и на всех парусах, Как ходили в Голконду в Китай, Кохинхину - Ветер в гриве и все горизонты в глазах! - Морем тьмы поплывем, непроглядной, бездонной, Точно юноши, радуясь: плыть в никуда! Чу! Не хор ли чарующий, пусть похоронный, Он поет: «Приходите, кто жаждет плода Ароматного Лотоса, чистого сока, По которому ваши тоскуют сердца! Опьяняйтесь его волшебством у истока, Этой братской сиесте не будет конца!» Мы узнаем по голосу милые тени, Это наши Пилады. И голос другой - Той, которой мы здесь целовали колени: «Жар души близ Электры своей успокой!» 8 Старый кормщик, о Смерть! Ты всегда у кормила! Мы тоскуем, вели поднимать якоря! Если море и небо черны, как чернила, То сердца наши ярче горят, чем заря! Напои нас твоим примиряющим ядом! Нас терзает тоска по другому пути! Все равно чем он кончится – Раем иль Адом, Только б новое там, в Неизвестном, найти! Жозе Мариа де Эредиа 1842–1905 Фонтану «India» Когда в безлюдной мгле фонтан журчит слышней, И воздух мягкий свеж, и в сон ушла долина, И мысли, как вода из полного кувшина, Выплескиваются из недр души моей, И в лунном волшебстве доступней и теплей Резцом рожденный стан под складками муслина, – В своем безумии прелестном неповинна, Мечта спешит найти любимый облик в ней. О, роза Индии! Не твой ли мир девичий Навек разбил Колумб, презрев чужой обычай Тебя ль баюкала влюбленная волна? О Куба, спящая в спокойствии глубоком, Средь пальм, клонящихся к немолкнущим потокам, Где ночь сиянием и шепотом полна! Желание И мне бы жить в краю, где, чуждые наветам, Героев женщины рождали от богов И солнце, восходя под звон античных строф, Нагие груди муз ласкало ярким светом. Я также мог бы стать в Олимпии атлетом, С Орфеем гордый спор вести в кругу певцов И бога нового почуять тайный зов – Никто искать богов не запрещал поэтам. Но я не в Греции рожден судеб игрой, И форма мудрая, где жил античный строй, С Амуром умерла. Поэт любить не может. Но он упорствует – и все, что создал он, Неукротимою надеждой ослеплен, Навек поглотит Ночь и Время уничтожит. Бюсту Психеи В дворцовом парке, там, где в полдень спит аллея, Где лишь пчела жужжит и поздний дрозд поет, Где сорною травой зарос водопровод Белея мрамором, в тени стоит Психея. Резец Флоренции, афинский дух лелея, Ей жизнь и форму дал. И к ней шиповник льнет, И песнь из губ цветка стремится в небосвод, Как смех серебряный, над сонной чащей рея. Стряхая золото с тычинок, на цветок Спустился, трепеща, лазурный мотылек И сладкий пьет нектар из этой чаши зыбкой. И мнится, в мраморе единство обрели И чистота небес, и красота земли - И дрогнул нежный лик аттической улыбкой. Стефан Малларме 1842–1898 * * * Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы? Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы От счастья пьяны там, меж небом и водой. Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой, – Пусть отражался он так часто в нежном взоре – Не исцелит тоску души, вдохнувшей море, О, ночь! ни лампы свет, в тиши передо мной Ложащийся на лист, хранимый белизной, Ни молодая мать, кормящая ребенка. Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко И в мир экзотики, в лазурь чужих морей, Качая мачтами, неси меня скорей. Поль Верлен 1844-1896 * * * Я также отдал экзотизму дань: Я проникал в гаремы Гюлистана, Я покидал роскошный двор султана Для папских оргий и для римских бань. И в ароматах, в звуках утопая, Я строил замки чувственного рая. С тех пор я поумнел, утих мой пыл, Я знаю жизнь, мечтам не верю вздорным. Не то чтобы я стал совсем покорным Но прыть воображенья укротил За грандиозность я гроша не дам. Галантность мне всю жизнь давалась туго. Спасаюсь от расчетливого друга, От рифм неточных и красивых дам. Искусство поэзии Сначала – музыку! Певучий Придай размер стихам твоим, Чтоб невесом, неуловим, Дышал воздушный строй созвучий. Строфу напрасно не чекань, Пленяй небрежностью счастливой, Стирая в песне прихотливой Меж ясным и неясным грань. Так взор манит из-под вуали, Так брезжит в мареве заря, Так светят звезды ноября, Дрожа во мгле холодной дали. Ищи оттенки, не цвета, Есть полутон и в тоне строгом. В полутонах, как флейта с рогом, С мечтой сближается мечта. Беги рассудочности точной, Вульгарной удали острот – И небо в ужас приведет Дешевой кухни дух чесночный. Сломай риторике хребет! Чтоб стих был твердым, но покорным, Поставь границы рифмам вздорным – Куда ведет их буйный бред? И кто предскажет их проказы? Глухой ли мальчик, негр шальной – Кто создал перлы в грош ценой, Стекляшки выдал за алмазы? Так музыку – всегда, везде! Пусть будет стих твой окрыленный Как бы гонцом души влюбленной К другой любви, к другой звезде! И если утро встанет хмуро, Он, пробудив цветы от сна, Дохнет, как ветер, как весна. Все прочее – литература! Ночное зрелище Ночь. Ливень. Небосвод как будто наземь лег. В него готический вонзает городок, Размытый серой мглой, зубцы и шпиль старинный. На виселице, ввысь торчащей над равниной, Застыв и скорчившись, повисли трупы в ряд. Вороны клювами их, дергая, долбят, И страшен мертвых пляс на фоне черной дали. А волки до костей их ноги обглодали. В лохматый, сажею наляпанный простор Колючий остролист крюки ветвей простер. А там три смертника, расхристанны и дики, Шагают босиком. И конвоиров пики Под пиками дождя в гудящий мрак небес, Сверкая, щерятся, струям наперерез. * * * Пейзаж стремительно бежит меж занавесок. Равнины хмурые – то луг, то перелесок, То небо, то река, то город – мчатся прочь, Как стаи призраков проваливаясь в ночь, То вырвутся столбы и росчерком огромным В сплетенье проволок мелькнут на небе темном. Свистящий в недрах пар, горящий уголь, чад, Колес железный лязг – как будто целый ад Волочит на цепях, кору земную сдвинув, Визжащих, воющих, вопящих исполинов, И вдруг молчанье, лес – и долгий стон сыча. Но что мне в этом всем? У моего плеча Виденье белое, и голос нежный снова Твердит одно, одно волнующее слово. И снова имя то, чьей музыке дана Такая чистота, такая глубина, – Ось мира моего – в уют вагона тесный, В его железный ритм вплетает звук небесный. * * * Я шесть недель прождал, осталось двадцать дней! Да! Меж тревог людских тревоги нет сильней, Нет муки тягостней, чем жить вдали, в разлуке. Писать «люблю тебя», воображать и руки, И губы, и глаза, часами – взор во взор – Вести лишь мысленный, безмолвный разговор С ней, кем озарено твое существованье, И все – без отклика, и каждое желанье, И вздох, с которым к ней прильнуть хотел бы ты, Вверять глухим стенам, молчанью пустоты! Разлука! Месяцы хандры, тоски, досады! Мы вспоминаем всё: слова, движенья, взгляды, В их тусклом хаосе на ощупь ловим нить, Которая могла б надежду возвратить, И лишь отраву пьем в усильях бесполезных. И вдруг язвительней, больней оков железных, Быстрее пуль, и птиц, и ветра южных вод – Сомненья жалкого гнилой и горький плод, Опасный, как кинжал, который смазан ядом, – Рожденное одним припомнившимся взглядом, Безумье ревности охватывает нас. Ужель она лгала? И вот, который раз, Облокотясь на стол, от слова и до слова Письмо, ее письмо, прочитываешь снова И слезы счастья льешь, настолько все оно Любовью, нежностью, тоской напоено. Ну а потом? Потом? Быть может, изменила? Кто знает! И опять томительно, уныло Уходят в вечность дни, как сонная река. Так что же, помнит ли? Или с другим близка? Могла ль она забыть, как пылко обещала? И вновь, устав шагать, читаешь все сначала. Час любви На мглистом небе красный рог луны. Туман как будто пляшет у опушки. Луг задремал, лишь квакают лягушки, И странной дрожью заросли полны. Уже закрылись чаши сонных лилий, В кустарнике мерцают светляки. Как призрачные стражи вдоль реки, Вершины в небо тополя вонзили. Со сна метнулись и куда-то прочь Сквозь душный мрак летят большие птицы. Бесшумно блещут бледные зарницы, И всходит белая Венера. Это Ночь, * * * Попойки в кабаках, любовь на тротуарах, Когда намокший лист летит с платанов старых, Когда разболтанный, как будто сам он пьян, Железа, дерева и грязи ураган, Вихляясь, омнибус гремит кривоколесый, И красный глаз его дрожит во тьме белесой, И каплет с крыш, и льет из водосточных труб, Когда рабочие бредут на вечер в клуб И полицейским в нос дымят их носогрейки, Расквашенный асфальт, осклизлые скамейки, И сырость до костей, и крик вороньих стай, – Все это жизнь моя, моя дорога в рай. Лунный свет Твоя душа – как тот пейзаж Ватто, Где с масками флиртуют бергамаски, Где все поют и пляшут, но никто Не радуется музыке и пляске. Поют под лютню, на минорный лад, Про власть любви, про эту жизнь в усладах, Но сами счастью верить не хотят, А лунный свет, как бы дрожа в руладах Печальной лютни, в ночь томленье льет, И птица, внемля музыке, мечтает, И средь печальных статуй водомет, Восторга полный, водомет рыдает. * * * От лампы светлый круг, софа перед огнем, И у виска ладонь, и счастье быть вдвоем, Когда легко мечтать, любимый взор встречая, И книгу ты закрыл, и вьется пар от чая. И сладко чувствовать, что день умчался прочь, И суету забыть, и встретить вместе ночь, Союзницу любви, хранительницу тайны. Как тянется душа в тот мир необычайный, Считая каждый миг и каждый час кляня, Из тины тусклых дней, опутавших меня. Утренняя молитва Из тьмы, среди сполохов бурных, Восходит в небо сентября В лохмотьях рыжих и пурпурных Кроваво-красная заря. Бледнеет ночь и в блеске тонет, Скатав свой мягкий синий плащ; Продрогший Запад тени гонит, Уже прозрачен и блестящ. Курится луг, росой сверкая, Но свет прорезал облака, И, точно сталь клинка нагая, Под солнцем вспыхнула река. Но вдруг туман завесил дали, Слились вода, листва, трава. И зазвенели, засвистали Невидимые существа. В борьбе меж сумраком и светом Плывет калейдоскоп картин: Там вырос хутор силуэтом, Там осветился дом один, Зажглось окно и луч слепящий, Как молнию, метнуло в лес, Еще безвольный, темный, спящий, Там выплыл шпиль и вдруг исчез, И день встает, росой омытый, На борозде блестит сошник. Но, властный, резкий и сердитый, Раздался петушиный крик, Провозгласив холодный, хмурый, Украденный у дремы час, Час сухарей, скрипящей фуры, Усталых, воспаленных глаз Когда восходит дым из хижин, И лают псы у всех ворот, И, тяжкой долею принижен, Из дома труженик бредет, Меж тем как радостно и строго, Встречая день прогнавший мглу, Во славу любящего бога Колокола поют хвалу. Артюр Рембо 1864-1891 Ощущение В вечерней тишине, полями и лугами, Когда ни облачка на бледных небесах, По плечи в колкой ржи, с прохладой под ногами, С мечтами в голове, и с ветром в волосах, Все вдаль, не думая, не говоря ни слова, Но чувствуя любовь, растущую в груди, Без цели, как цыган, впивая все, что ново, С Природою вдвоем, как с женщиной, идти. Моя цыганщина Засунув кулачки в дырявые карманы, Одет в обтерханную видимость пальто, Раб музы, я бродил и зябнул, но зато Какие чудные мне грезились романы! Не видя дыр в штанах, как Мальчик с пальчик мал, Я гнаться мог всю ночь за рифмой непослушной. Семью окошками, под шорох звезд радушный, Мне кабачок Большой Медведицы мигал. В осенней тихой мгле, когда предметы сини И каплет, как роса, вино ночной теплыни, Я слушал, как луна скользит меж облаков, Иль, сидя на пеньке, следил, как бродят тени, И сочинял стихи, поджав к груди колени, Как струны теребя резинки башмаков. Парижская оргия, или Париж опять заселяется Эй вы, трусы! Всем скопом – гопля на вокзалы! Солнца огненным чревом извергнутый зной Выпил кровь с площадей, где резвились Вандалы. Вот расселся на западе Город святой! Возвращайтесь! Уже отгорели пожары. Обновленная, льется лазурь на дома, На проспекты и храмы, дворцы и бульвары, Где звездилась и бомбами щерилась тьма. Забивайте в леса ваши мертвые замки! Старый спугнутый день гонит черные сны. Вот сучащие ляжками рыжие самки: Обезумейте! В злобе вы только смешны. В глотку им, необузданным сукам, припарки! Вам притоны кричат: обжирайся! кради! Ночь низводит в конвульсиях морок свой жаркий. Одинокие пьяницы с солнцем в груди, Пейте! Вспыхнет заря сумасшедшая снова, Фейерверки цветов рассыпая вкруг вас, Но в белесой дали, без движенья, без слова, Вы утопите скуку бессмысленных глаз. Блюйте в честь Королевы обвислого зада! Раздирайтесь в икоте и хнычьте с тоски Да глазейте, как пляшут всю ночь до упада Сутенеры, лакеи, шуты, старики. В бриллиантах пластроны, сердца в нечистотах! Что попало валите в смердящие рты! Есть вино для беззубых и для желторотых – Иль стянул Победителям стыд животы? Раздувайте же ноздри на запах бутылок! Ночь в отравах прожгите! Плевать на рассвет! Налагая вам руки на детский затылок, «Трусы! будьте безумны! – взывает Поэт. – Даже пьяные, роясь у Женщины в чреве, Вы боитесь, что, вся содрогаясь, бледна, Задохнувшись презреньем, в божественном гневе Вас, паршивых ублюдков, задушит она. Сифилитики, воры, цари, лицедеи, Вся, блудливым Парижем рожденная, мразь! Что ему ваши души, дела и затеи? Он стряхнет вас и кинет на свалку, смеясь. И когда на кишках своих, корчась и воя, Вы растянетесь в яме, зажав кошельки, Девка рыжая с грудью, созревшей для боя, И не глянув на падаль, взметнет кулаки». Насладившийся грозно другой карманьолой, Поножовщиной сытый, в года тишины Ты несешь меж ресниц, точно пламень веселый, Доброту небывалой и дикой весны, Город скорбный, изведавший смертные годы, Торс богини, закинутый в будущий мир, Ты, пред кем распахнуло Грядущее входы, Милый Прошлому, темных столетий кумир, Ныне труп намагниченный, пахнущий тленом, Ты, воскреснув для ужаса, чувствуешь вновь, Как ползут синеватые черви по венам, Как в руке ледяной твоя бьется Любовь. Что с того! И могильных червей легионы Не преграда цветенью священной земли, Так вампир не потушит сиянье Юноны, Звездным золотом плачущей в синей дали. Как ни горько, что стал ты клоакой зловонной, Что любому растленное тело даришь, Что позором возлег средь Природы зеленой, Твой Поэт говорит: «Ты прекрасен, Париж!» Не Поэзия ль в буре тебя освятила? Полный сил, воскресаешь ты, Город-пророк! Смерть на страже, но знамя твое победило, Пробуди для вострубья умолкнувший рог! Твой Поэт все запомнит: слезу Негодяя, Осужденного ненависть, Проклятых боль. Вот он, Женщин лучами любви истязая, Сыплет строфы. Танцуй же, разбойная голь! ........ Всё на прежних местах! Как всегда в лупанарах Продолжаются оргии ночью и днем, И в безумии газ на домах и бульварах В небо мрачное пышет зловещим огнем. Эдмон Ростан 1868-1918 Жану Фабру – поэту насекомых 1 Он знал: клочок земли, пустырь с травою сорной Скрывает столько тайн, что нам и невдомек. Простым отшельником жил беден, одинок И, как Мистраль, ходил в большущей шляпе черной. Упорный труженик, он шел тропой неторной, Он думал лишь над тем, что ясно видеть мог, И звезд не наблюдал. Ему любой жучок Под камнем открывал познанья мир просторный. Он знал, как крылышки под пальцами дрожат. Философ, почестям он предпочел цикад. (Не чтоб возвыситься, к вершинам рвется гений.) Он жизни описал, достойные поэм, И дал живой пример для подражанья всем, Кто лжет, что не читал его произведений. 2 Без брыжей, без манжет – о, сельский наш Бюффон! – Не над коллекцией, на кладбище похожей, Не за столом писал, а если день погожий – В саду, где солнца свет, где стрекот и трезвон. Страницы он росой кропил со всех сторон. «Он выжил из ума!» – ворчал педант прохожий. Но Фабр травинку взял, поколдовал – и что же? Энтомологии дал силу крыльев он. И Слава снизошла. Но Слава от смущенья Теперь нам говорит, как бы прося прощенья: «А что ж мне не сказал никто про старика?» О, дьявол! Как же к ней не доходили слухи О том, кто лишь тогда умел лежать на брюхе, Когда он наблюдал бой сфекса и сверчка! 3 Он понял, обозрев проблем несчетных ряд, Как действует инстинкт и как молчит, беспечный, Как хлопок, шелк и тюль в своей заботе вечной Психея делает, оса иль шелкопряд. О, эти существа, чей сказочен наряд! Там, крохотный Катулл, поет сверчок запечный, Помпил тарантула разит в атаке встречной, Верцингеторикса или Роланда брат. Тут места хватит всем – бойцам и паразитам. Тот подвигом живет, тот – воровским визитом. Гончар, кузнец, портной – кого здесь только нет! Тки, клото! Слоник, ешь – орех твоя отрада! Катай, навозник, шар! От сердца пой, цикада! А ты, ты жди: твой час настанет, трупоед! 4 Он с насекомого мог написать портрет. Их инструменты знал, повадки, нравы, лица. Надкрылий золото держал, но ни крупица Оставить не могла на пальцах Фабра след. Ты ждешь, о Франция, что скажет гордый Швед? Но ветхим стал порог, он может развалиться. Отдай же Фабру долг, ведь ты его должница, Не медли, Франция, уже он стар и сед. Ведь это среди нас, мудрец необычайный, Он на коленях жил, разгадывая тайны. Так если он встает, шатаясь, – подойдем, Поддержим старика, когда, уже слабея, В наставших сумерках он ищет скарабея, И пыль с его колен заботливо стряхнем, 5 (Насекомые говорят Фабру:) На твой апофеоз к тебе мы прилетели, Твои друзья навек, веселая орда. Мы, насекомые Воклюза, мы всегда Хоть чем-нибудь блистать в твоем венце хотели. Вот муравьиный дом среди осенней прели, Вот улей строится, вот соткана звезда Ты знаешь: чудеса творим мы без труда. А помнишь, Фабр, зарю на розовой капелле? Ты помнишь этот день, вершину Мон-Венту, Тот одинокий храм, глядящий в высоту, И сонмы божиих коровок там, на храме? Как розовый коралл, он пред тобой сиял, Ты в одиночестве задумчивом стоял, И нимб живой тебе мы создали крылами. Анри де Ренье 1864-1936 Французский город Встаю – и за город. Уже с зарей не спится. Мои шаги звучат по гулкой мостовой. Вот брызнул первый луч, краснеет черепица, Благоухает сад, одевшийся листвой. Лишь эхо пробудив на улочке замшелой, Я медленно иду. Нет ни души вокруг. Булыжник кончился, и по дороге белой, Предместье миновав, я выхожу на луг, И вот уже стою на отмели размытой. Гляжу назад: внизу, в излучине речной, Спокойный, маленький, заброшенный, забытый, Мой тихий городок лежит передо мной. Здесь видно все: вон пруд, вон мост над речкой сонной, Площадка для игры в лапту, а рядом с ней Церквушка старая, и купол подновленный Блестит над зеленью столетних тополей. Лазурь безоблачна, а воздух так хрустален! Уже неясный шум людей я узнаю, Крик детворы, и стук далеких наковален, И хлопанье валька по мокрому белью. Себя он сам забыл, неслышно прозябая, Он чужд величию, не блещет красотой. Он тихий городок, провинция глухая, Как двести лет назад, невзрачный и простой. Один из множества, он схож, как брат, с другими, В горах, в низинах Ланд найдешь таких, как он. Его французское бесхитростное имя С трудом запомнится в ряду других имен. И все ж, когда весь день брожу я, молчаливый, Неведомо зачем, с мечтой наедине, И солнце скроется, и потемнеют нивы, И притаится лес в прозрачной тишине, Когда, сгустившись, ночь на мир накинет узы, И под ногой шуршит дорога, не пыля, И вдруг уловит слух, как ропщут смутно шлюзы, Как шепчутся, клонясь к каналу, тополя, И мой усталый шаг, замедлясь понемногу, Приводит к городу, и близок отдых мой, И первое окно на темную дорогу От лампы бросит луч, во мраке золотой, – Я, палкой щупая тропинку пред забором, Внезапно чувствую уже овеян сном, Что это Родина, сияя нежным взором, Мне руку протянув, ведет меня в свой дом. Тристан Кленгсор 1874-1966 Искусство поэзии Поэт – чудак, Так думают везде: Нос утонул в густющей бороде, Не сходит с губ улыбка, он в тюрбане, А надушен, а пахнет как! Ни дать, ни взять восточный маг, И курит, курит с самой рани, Чтоб унестись, мечтая на диване, Подальше в царство грез, Откуда он стихи бы нам принес. Меж тем поэт, на тумбе, на скамье ли, Сидит, глазеет на прохожий люд, Глядит, как ходят и бегут, Что нынче женщины надели, Кто весел, кто повесил нос И ноги тащит еле-еле. Кто брюхо выставил, как дыню, напоказ, Кто сделан из одних гримас, Кто на люди выходит без опаски Лишь в маске, кто в морщинах, как в сети. Он ловит каждого в пути, Чтоб меткою чертой, конечно, без огласки На лист перенести. Луи Арагон р. 1897 Из поэмы «Глаза Эльзы» 1 ГЛАЗА ЭЛЬЗЫ В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью, Все миллиарды звезд купаются, как в море. Там обретало смерть безвыходное горе. Там память навсегда я затерял свою. Вот словно стая птиц закрыла небеса, И меркнет океан. Но тень ушла – и снова Глаза твои синей простора голубого Над спелым золотом пшеницы иль овса. Расчистится лазурь, померкшая в тумане, Но все ж синей небес, омывшихся грозой, Твои глаза, мой друг, блестящие слезой. Стекло всегда синей в разломе иль на грани, О свет увлажненный, о мать семи скорбей, Ты призму пронизал семью мечами цвета. Когда рассвет в слезах, день плачется с рассвета, При черной чашечке цветок всегда синей. Две бездны синих глаз, два озера печали, Где чудо явлено – пришествие волхвов, Когда в волнении, увидев дом Христов, Они Марии плащ над яслями узнали. Довольно уст одних, когда пришла весна, Чтоб все слова сказать, все песни спеть любимой, Но мало звездам плыть во мгле неизмеримой, Нужна им глаз твоих бездонных глубина. Ребенок, широко раскрыв глаза, дивится, Когда он узнает прекрасного черты, Но если делаешь глаза большие ты, Не могут и цветы под ливнем так раскрыться, А если молния в лаванде их блеснет, Где празднуют любовь мильоны насекомых, Я вдруг теряю путь среди светил знакомых, Как погибающий в июле мореход. Но радий я извлек из недр породы мертвой, Но пальцы я обжег, коснувшись невзначай. Сто раз потерянный и возвращенный рай, Вся Индия моя, моя Голконда – взор твой. Но если мир сметет кровавая гроза И люди вновь зажгут костры в потемках синих, Мне будет маяком сиять в морских пустынях Твой, Эльза, яркий взор, твои, мой друг, глаза. 2 НОЧЬ ИЗГНАНИЯ Что изгнаннику, если цвета на экране Неверны, – он Париж узнаёт все равно, Пусть он в призраки, в духов не верит давно – Слышу, скажет он, скрипок игру в котловане. Тот блуждающий, скажет он вам, огонек – Это Опера. Если б в глазах воспаленных Унести эти кровли и плющ на балконах, Изумруды, чей блеск в непогодах поблек! Мне знакома, он скажет, и эта скульптура, И плясуньи, и дева, что бьет в тамбурин, И на лицах – мерцанье подводных глубин. Как спросонья, глаза протирает он хмуро. Вижу чудища в свете неоновых лун, Ощущаю под пальцами бледность металлов, И рыданьям моим среди слез и опалов Вторят в Опере стоны раструбов и струн. Предвечерий парижских ты помнишь ли час? Эти розы и странные мальвы на скверах, Домино, точно призраки в сумерках серых, Каждый вечер менявшие платья для нас, Помнишь ночи, – как сердца тоску превозмочь? – Ночи в блесках, как черные очи голубки. Что осталось нам? Тени? Сокровища хрупкие? Лишь теперь мы узнали, как сладостна ночь. Тем, кто любит, прибежище дарит она, И с фиалковым небом парижского мая Шли не раз твои губы в пари, дорогая. Ночи цвета влюбленности! Ночи без сна! За тебя все алмазы сдавал небосвод. Сердце ставил я на кон. Над темным бульваром Фейерверк расцветал многоцветным пожаром – К звездам неба летящий с земли звездомет. Плутовали и звезды, как помнится мне. В подворотнях стояли влюбленные пары, Шаг мечтателей гулкий будил тротуары, Ерник-ветер мечты развевал в тишине. Беспредельность объятий заполнив собой, Мы любили, и в ночь твоих глаз не глядели Золотые глаза непогасшей панели. Освещала ты полночь своей белизной. Есть ли там першероны? В предутренней рани Овощные тележки, как прежде, скрипят И на брюкве развозчики синие спят? Так же лошади скачут в марлийском тумане? И на крюк Сент-Этьен поддевает ларьки, И сверкают бидоны молочниц лукавых, И, распяв неких монстров, на тушах кровавых Укрепляют кокарды, как встарь, мясники? Не молчит ли, кляня свой печальный удел, С той поры, как любовь удалилась в затворы, Граммофон возле нашего дома, который За пять су нам французские песенки пел? В тот потерянный рай возвратимся ли мы, В Лувр, на площадь Согласия, в мир тот огромный? Эти ночи ты помнишь средь Ночи бездомной, Ночи, вставшей из сердца, безутренней тьмы? 3 КАВАРДАК НА СЛЯКОТИ Что за чертово время у нас на земле! Так чудит, точно спутало Ниццу с Шатле, Берег моря с его Променад дез Англе Крайне выглядит странно. Едет грязный обоз, на прохожих пыля. Люди голые ищут себе короля. Люди в золоте мерзнут, как мерзнет земля. Девка ждет хулигана. Птичьи головы вертятся, как флюгера. Продаю. Козыряю девяткой. Игра! Вы бы шли в монастырь, дорогая сестра. Не к лицу вам подмостки. Все слова – точно эхо, упавшее в гроб. Море зелено, точно фасолевый боб, И «Негреско», попав под холодный потоп, Стал бесцветней известки. Что за чертово время! Валит без дорог! Март чихает, и на небо синий клочок Ассигнацией тысячефранковой лег, Принял синий оттенок. Бедный Петер Шлемиль, что же с тенью твоей? Для чего ты запрятал ее от людей? Иль какой-то тебя соблазнил чародей Тень продать за бесценок? Что ж ты, изгнанный чертом с земли, со стены, Ищешь новую тень на дорогах страны, Ты, блуждающий символ ужасной весны Сорок первого года! Ну и время! Часам перепутало счет. Жен спровадило вон иль пустило в расход И твердит, будто волки – любезный народ И добра их порода. Ну и чертово время! Без ордера нет Ни житья, ни рубашки простои, ни конфет, Забирай колбасу, если ищешь букет, Хохочи, если мало! Ну и чертово время! Все в мире – как дым! Прежний друг обернулся врагом, и каким! Черный кажется белым, хороший – плохим. И запретов не стало. 4 ПАСТОРАЛИ Маркиз там ездит на мотоциклетке, Там под бебе рядится старый кот. Сопляк там ходит в дамской вуалетке И, трам-пам-пам, пожарник помпы жжет. Гниют па свалке там слова святые, Слова пустые подняты на щит. Там бродят ножки дочерей Марии, И там спина эстрадницы блестит. Там есть ручные тачки и повозки, Автомобилей там невпроворот. Суют во все свой нос там недоноски, А трус иль плут во сто карат идет. Видальщины, скажу я без обиды, Навидишься у этих берегов! Девиц невидных, потерявших виды, Бандитов видных, с виду добряков, Самоубийц, кидающихся в воду, Тузов без карт, под видом правды ложь, И жизнь идет там через пень колоду, И ценности не ценятся ни в грош. Левик В. Л 36 Избранные переводы. В 2-х томах. Т. 1. Предисл. Л. Озерова. М., «Худож. лит.», 1977. 414 с. Вильгельм Левик – известный советский поэт-переводчик, воссоздавший на русском языке многие шедевры мировой литературы. В первый том вошли переводы стихотворений и поэм немецких поэтов – от великого лирика средневековья Вальтера фон дер Фогельвейде до крупнейшего поэта XX века Иоганнеса Бехера; переводы сонетов Петрарки и стихотворений французских поэтов XVI–XX веков. 70404-156 Л ––––––––––– 166-77 Сб 3 028(01)-77 ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕНИАМИНОВИЧ ЛЕВИК Избранные переводы в двух томах том 1 Редактор А. Парин Художественный редактор Л. Калитовская Технический редактор С. Ефимова Корректоры М. Пастер и М. Чупрова ИБ № 610 Сдано в набор 29/ХII 1976 г. Подписано к печати 23/V 1977 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84x108/32. 13,0 печ. л. 21,84 усл. печ. л. 19,125+1 вкл. = 19,167 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ 3572. Цена 1 р. 90 к. Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19 Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28 Отпечатано в полиграфическом комбинате имени Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Минск, Красная, 23. [1] Потерянное дитя (франц.); прозвище передового во французской армии. [2] Да здравствует император! (франц.) [3] Аминь! (лат.) [4] Гораций Флакк (лат.). [5] Клянусь Геркулесом! (лат.) [6] Пачкотня – не живопись! (лат.) [7] Итальянская пословица, соответствующая русской: «Тише едешь, дальше будешь!» [8] Ваш слуга! (итал.) [9] Да, господин! (итал.) [10] Разговорное восклицание, приблизительно означает «таким образом», «итак». Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



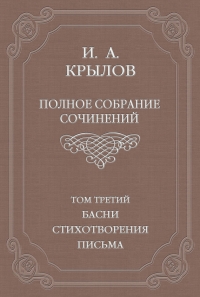


Комментарии к книге «Избранные переводы в двух томах. Том 1», Вильгельм Вениаминович Левик
Всего 0 комментариев