Мастера русского стихотворного перевода Книга первая
Е. Г. Эткинд Поэтический перевод в истории русской литературы
«…Если история литературы должна рассказывать о развитии общества, то ей следует обращать одинаковое внимание на факты, имевшие одинаково важное значение для этого развития, какой бы нации, какой бы литературе ни принадлежало первоначальное появление этих фактов»[1]. Так писал более ста лет назад, в 1856 году, Н. Г. Чернышевский, отмечая пространной рецензией выход в свет издания «Шиллер в переводе русских писателей». По мысли Чернышевского, в переводной литературе следует видеть органическую часть литературы национальной — последнюю нельзя изучить во всем ее объеме, нельзя понять до конца ее общественное значение, игнорируя факты литературы переводной. Ясно и другое: переводную литературу можно правильно понять лишь рассматривая ее в единстве с оригинальным творчеством писателей. В настоящей статье делается попытка такого рассмотрения переводной поэзии в России — в тесной зависимости от развития оригинальной русской литературы, и в частности поэзии; однако, поскольку она служит введением к сборнику русских поэтических переводов более чем за двести лет, упор в ней делается на некоторые особые закономерности переводного творчества в России в XVIII–XX веках.
1
Искусство поэтического перевода начало формироваться в России в середине XVIII века и, развиваясь на протяжении двух столетий, достигло высокого совершенства. Рядом с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым, Маяковским в сознании русского читателя живут Гомер, Анакреон, Лафонтен, Шенье, Парни, Гете, Шиллер, Гейне, Шекспир, Байрон, Бернс, Беранже, Барбье, Уитмен. Оставшись иностранцами, они получили все права русского гражданства.
Невозможное было возможно, Но возможное было мечтой, —сколько раз русские поэты, чье творчество даже и представить себе нельзя без переводов, именно так, как Блок о любви, говорили о своем загадочном искусстве, утверждая эту же диалектику возможного и невозможного! Валерий Брюсов, перу которого принадлежат бесчисленные переводы из поэтов французских и латинских, английских, армянских и еврейских, называл труд поэта-переводчика «бесплодным, неисполнимым» и писал: «Передать создание поэта с одного языка на другой — невозможно; но невозможно и отказаться от этой мечты»[2]. Самуил Маршак, воссоздавший песни Бернса, сонеты Шекспира, философскую лирику Блейка, шотландские народные баллады, говорил: «Перевод лирической поэзии невозможен. Каждый раз это — исключение». За пять десятилетий творческой жизни С. Маршак создал несколько томов таких «исключений», всем своим опытом еще раз подтвердив то, в чем он, собственно, никогда и не сомневался — что «невозможное… возможно».
Пожалуй, ни одно искусство не вызывает у самих художников такого удивления, как поэтический перевод. Нескрываемое удивление перед лицом собственных удач и открытий испытывают даже те поэты, которые много лет отдали перевоплощению иноязычных стихов; в их высказываниях преобладает мысль, которую можно формулировать следующим парадоксом: «Это — есть, но этого не может быть». Остается сделать один только лишний шаг дальше, чтобы сказать: полноценный перевод стихотворения — чудо. Такой шаг делали прежде и делают теперь некоторые простодушные критики, руководствуясь элементарным умозаключением: чудо — это и есть как раз то, что осуществляется вопреки законам реальности и существует наперекор всем логическим, да и вообще рациональным, даже диалектическим нормам.
Искусство поэтического перевода находится на той стадии развития, когда художественная практика обогнала теоретическое осмысление. Отсюда — удивление самих мастеров перед делом своего гения и своих рук. Теория, однако, не может возникнуть без истории; а ведь до сих пор история поэтического перевода не существует ни для одной литературы, в том числе для русской, где он имеет совершенно особое, можно сказать — исключительное значение.
2
История русской поэзии непредставима без тех взаимодействий, в которые она вступала с многочисленными иноземными литературами. Главным, а может быть, и единственным путем, на котором эти взаимодействия осуществлялись, был перевод. В. Брюсов, поэт, историк литературы и переводчик, много размышлявший над проблемами литературных влияний, решительно утверждал, что «подлинное влияние на литературу оказывают иностранные писатели только в переводах»[3]. Академик М. П. Алексеев с еще большей категоричностью однажды заявил: «Нет воздействия иностранного писателя на русского вне перевода. Не может быть воздействия на автора, думающего в формах другого языка»[4].
История русской поэзии подтверждает принципиальную справедливость этой мысли, допуская лишь отдельные исключения — впрочем, редкие и обычно связанные с двуязычием поэта. Так, специфический шевченковский стих ни одному из многочисленных переводчиков «Кобзаря» воспроизвести не удалось, — он впервые утвердился в русской поэзии благодаря отнюдь не переводной «Думе про Опанаса» Э. Багрицкого:
Жеребец поднимет ногу, Опустит другую, Будто пробует дорогу, Дорогу степную…В огромном же большинстве случаев иностранные стиховые формы переселились на русскую почву благодаря деятельности поэтов-переводчиков. Это относится и к александрийскому стиху, который пришел к нам из французской поэзии и оказался столь важным для трагедий XVIII — начала XIX веков и для таких классических жанров, как эпопея, послание, сатира, стихотворный трактат, даже элегия. И к гекзаметру, усвоение и выработка которого дались русской поэзии нелегко и который, утвердившись в «Тилемахиде» В. Тредиаковского (представлявшей собой перевод прозаического романа Фенелона «Приключения Телемаха, сына Улисса»), сыграл в дальнейшем большую роль как для создания русского Гомера в переводах Н. Гнедича и В. Жуковского, так и вообще для повествовательной поэзии — прежде всего в творчестве того же Жуковского[5]. Преимущественно переводной поэзии мы обязаны драматическим пятистопным ямбом, тем размером, которым написаны крупнейшие русские стихотворные пьесы XIX века — пушкинские «Борис Годунов» и маленькие драмы, трилогия А. К. Толстого, «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Островского; он продолжает жить и в современной литературе — например, в исторических трагедиях И. Сельвинского, в драматических сценах «Сухое пламя» Д. Самойлова; этот же размер дал поэтам-переводчикам возможность полноценно пересоздать на русском языке драматургию Марло, Шекспира, Шелли, Байрона, Шиллера, Гете, Клейста. Открыл же для русской литературы пятистопный ямб А. Востоков, заимствовав его у Гете при переводе (в 1810 году) начала трагедии «Ифигения в Тавриде». В примечании к своему переводу Востоков между прочим говорил: «Подлинник писан ямбическим пятистопным стихом древних трагедий. Я старался в переводе соблюсти оный… я… должен был думать о соблюдении смысла и красот подлинника, которые выразить — всякий знает, сколь трудно переводчику, а особливо с такого краткословного языка, каков немецкий, на такой протяжнословный, каков наш русский. При сих трудностях не почел я за нужное задавать себе еще лишнюю трудность, какою не был стеснен и Гете, т. е. александрийские стихи с рифмами»[6]. Стоит заметить, что Востоков аргументировал выбор метра языковыми трудностями, совпадая в этом отношении с Гете, который говорил Эккерману, что немецкому и английскому языкам пятистопный ямб подходит больше, чем шестистопный, то есть александрийский стих: «Наиболее заслуживающим внимания был бы, пожалуй, шестистопный ямб, но он для нас, немцев, чересчур длинен, и нам, при недостатке прилагательных, обыкновенно хватает пяти стоп. Англичанам, вследствие большого количества в их языке односложных слов, нужен еще более короткий стих»[7].
С современной точки зрения Гете был неправ, когда разницу между пятистопным ямбом и шестистопным сводил лишь к различиям языков: французского — с одной стороны, и немецкого и английского — с другой. Разница между этими размерами существенней: она связана с глубинными проблемами стиля, а значит — творческого метода и эстетического мировоззрения в целом. Александрийский стих с его делением на полустишия и парной рифмовкой сообщает и речи, и сюжету гармоническую размеренность и симметрию, белый пятистопник — динамическую непрерывность. Если пьеса написана в подлиннике пятистопным ямбом, то перевод ее александрийским стихом, как то обычно делалось в классицистическую эпоху, ведет к коренной художественной трансформации произведения. В этом смысле метрические опыты Востокова носили характер прогрессивный и представляли собой поиски не только метра, но и — прежде всего — стиля. Когда через десятилетие после востоковского эксперимента, в 1821 году, появились «Орлеанская дева» Жуковского (из Шиллера) и «Пир Иоанна Безземельного» Катенина, а еще через четыре года «Борис Годунов» Пушкина, — пятистопный ямб окончательно утвердился в русской литературе.
К такого же рода приобретениям русской поэзии, пришедшим из иностранных литератур путем перевода, можно отнести и басенный разностопный ямб — русский вариант лафонтеновского стиха; и особый размер, изобретенный Востоковым для перевода сербских народных баллад, впоследствии развитый и усовершенствованный Пушкиным в его — тоже переводных — «Песнях западных славян»; и дольник, который долго не прививался в русской поэзии — его не передавали даже в переводах немецких поэтических произведений, написанных этим размером; впервые он прозвучал (после единичных и оставшихся без продолжения опытов Державина и Жуковского) в 1850 году, в переводе гетевского «Лесного царя» у Аполлона Григорьева, а уж позднее, в конце XIX — начале XX века, стал одной из популярных ритмических форм русской лирики — в поэзии А. Блока, А. Ахматовой и других. Назовем еще свободный стих (верлибр), чуть ли не впервые использованный у нас одним из крупных и плодовитейших поэтов-переводчиков XIX века М. Михайловым в гейневском «Северном море»; Михайлов в 1859 году писал о таких стихах, «освобождающих себя от всяких законов метрики и подчиняющихся единственно музыкальному чувству»: «Эта форма, получившая еще со времен Гете право гражданства в немецкой литературе, у нас очень нова… я не считал себя вправе своевольничать и удержал в своем переводе размер или, лучше сказать, форму подлинника»[8].
Особый тип свободного стиха был разработан Уолтом Уитменом; история этого американского поэта в русской литературе начинается переводом К. Бальмонта (1904–1905), который, игнорируя верлибр, заменял его напевными амфибрахиями и дактилями и разрушал не только ритмику, но и в конечном счете всю поэтику Уитмена; лишь К. Чуковский преодолел боязнь того, что уитменовский стих будет восприниматься читателем как аморфная проза: новаторство К. Чуковского имело далеко идущие последствия, оно позволило расширить рамки русского стиха. Вообще же, чем ближе к нашему времени, тем поэты-переводчики смелее отходили от норм, представлявшихся в прошлом веке для стихосложения незыблемыми. В переводах из Р. Киплинга (А. Оношкович-Яцына, Е. Полонская, М. Фроман, М. Гутнер) зазвучал казалось бы неосуществимый в русской просодии киплинговский паузник. В переводах из классической грузинской поэзии появился небывалый по динамичности и энергии ритм, сочетающий различные варианты хореических и ямбических структур, — так М. Лозинский рискнул передать знаменитого «Мерани» Н. Бараташвили; чтобы оценить дерзость Лозинского, достаточно сопоставить отрывок из его перевода с тем, что несколькими десятилетиями ранее сделал талантливый и далеко не робкий И. Ф. Тхоржевский, который — в соответствии с господствовавшим тогда принципом — даже сказочного коня Мерани переименовал в более привычного для западных читателей Пегаса.
И. Тхоржевский:
Летит мой конь вперед, дорог не разбирая, А черный ворон вслед зловещий крик свой шлет. Лети, мой конь, лети, усталости не зная, И по ветру развей печальной думы гнет!М. Лозинский:
Мчит, несет меня без пути-следа мой Мерани. Вслед доносится злое карканье, окрик враний. Мчись, Мерани мой, несдержим твой скач и упрям, Размечи мою думу черную всем ветрам!Вводя новые формы, поэт-переводчик может, конечно, рассчитывать на успех лишь в том случае, когда общий уровень его национальной поэзии таков, что новаторство уже может привиться, то есть выйти из стадии эксперимента и стать не только окказиональным (использованным в одном-единственном контексте), но и узуальным (используемым в качестве общего, многими поэтами признанного ритмического приема). В «Жалобе пастуха» В. Жуковский попытался было воспроизвести гетевский дольник (1817), — но больше он таких попыток не повторял: ни поэзия, ни читатель не были, видимо, достаточно подготовлены к тому, чтобы воспринять художественную цельность и своеобычность этого говорного, прерывистого ритма. Еще много лет спустя лирику Гейне, крайне редко допускавшую регулярные размеры, переводили, используя привычные, гладкие хореи и ямбы. Русской поэзии пришлось пройти немалый путь, прежде чем резкие метрические сдвиги, используемые Ю. Тыняновым, оказались естественными и художественно впечатляющими:
Девица, стоя у моря, Вздыхала сто раз подряд, — Такое внушал ей горе Солнечный закат…В начале 30-х годов такой стих был уже вполне возможен — ведь за спиной у Тынянова стоял Маяковский, который еще в 1920 году написал стихотворение «Гейнеобразное», кончавшееся так:
Я ученый малый, милая, громыханья оставьте ваши. Если молния меня не убила — то гром мне, ей-богу, не страшен.А стих Маяковского, в свою очередь, оказался возможен благодаря тому, как уже в 1909 году гейневские дольники зазвучали в переводах А. Блока:
Племена уходят в могилу, Идут, проходят года, И только любовь не вырвать Из сердца никогда.Так сплетаются пути оригинальной и переводной поэзии. Не следует думать, что новшества, предлагаемые переводной поэзией, могут идти только по пятам поэзии оригинальной, что прививаться могут только такие иноземные элементы, которые предсказаны собственной, то есть непереводной литературой. Такой взгляд — довольно, впрочем, распространенный — предполагает, что переводы относятся ко второсортной поэзии. Подлинная переводная поэзия — полноправная часть национальной литературы, хотя она и сохраняет свойственные переводу специфические жанровые отличия, жанровые — но не качественные. Нередко бывало так, что переводная вещь становилась в один ряд с самыми известными стихотворениями родной поэзии и, при всей экзотичности своего иноземного колорита, воспринималась читателями как безусловное событие национальной культуры. Любопытным свидетельством в пользу такого преобразования, второго рождения вещи оказываются пародии. Вот лишь один пример из множества возможных. В 1862 году был закрыт журнал «Русская речь», издававшийся Евгенией Тур; по этому случаю Борис Алмазов написал шуточное стихотворение «Похороны „Русской речи“», — привожу из него три строфы:
Пал журнал новорожденный, Орган женского ума, И над плачущей вселенной Воцарилась снова тьма. … … … … … … … … … … … … … … … И с предведеньем во взгляде Жертву сам Катков заклал. «Слава Зевсу и Палладе», — Он Леонтьеву сказал. … … … … … … … … … … … … … … … «Смерть велит умолкнуть злобе, — Жрец Аскоченский сказал, — Мир покойнице во гробе: Преневинный был журнал!»В свое время эта сатира Алмазова пользовалась большим успехом, но ведь его предпосылкой была широкая известность того переводного стихотворения, которое пародируется — «Торжества победителей» Шиллера в переводе Жуковского, исполненном за полстолетия до алмазовской пародии. Если бы читатели не помнили перевода Жуковского, они бы не смеялись, — они бы не знали, что «журнал» подставлен Алмазовым вместо «Приамов град» («Пал Приамов град священный»), Катков — вместо Калхас, Аскоченский — вместо Диомед, и т. д. Недаром отдельные строки «Торжества победителей» цитировались в русской публицистике как общеизвестные и приобрели популярность поговорок: «Нет великого Патрокла, жив презрительный Терсит» — эти стихи сохраняли афористическую жизненность (несмотря на архаизм определения «презрительный»), как и заключительные слова пророчицы Кассандры: «Ныне жребий выпал Трое, завтра выпадет другим…»
Нет, переводная поэзия не относится к литературе второго сорта, если она действительно поэзия, а не убого-ремесленная поделка. Напомним, сколькими крылатыми словами мы обязаны поэзии переводной — их число гораздо значительнее, чем принято думать. «С натуги лопнула и околела» — это стих из лафонтеновской басни о лягушке и воле, очень точно переведенный И. Крыловым; переводом — без всякой натяжки — следует назвать и такие басни, как «Стрекоза и муравей» или «Дуб и трость». Пушкинское «„Все мое“, — сказало злато, „Все мое“, — сказал булат…» — перевод французского четверостишия, и даже стихи «Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой» — перевод из Макферсона. Мы привыкли преуменьшать долю переводной поэзии в нашей национальной литературе; обычно, называя шедевры русского поэтического перевода, ограничиваются стихотворениями «Кубок» Шиллера — Жуковского, «Горные вершины…» Гете — Лермонтова, «На севере диком…» Гейне — Лермонтова, «Не бил барабан перед смутным полком…» Вольфа — Козлова, «Господин Искариотов» и «Знатный приятель» Беранже — Курочкина, «Бог и баядера» и «Коринфская невеста» Гете — А. Толстого и еще несколькими образцами. Шедевров, однако, больше, и почти все они оказали серьезное влияние на развитие нашей словесности. К ним относятся (чтобы назвать только самое значительное) элегии Парни — Батюшкова, пушкинские переводы из Вольтера, Парни, Шенье, крыловские — из Лафонтена, Жуковского — из Уланда и Саути, Шиллера и Гете, Гейбеля и Вальтера Скотта, Баратынского — из Вольтера и Парни, Туманского — из Мильвуа, Полежаева — из Ламартина и Гюго, Бенедиктова — из Барбье, А. Толстого — из Шенье, Байрона, Гейне, Н. Берга — из сербских, чешских и других песен европейских народов, Дурова — из Барбье, Михайлова — из Гейне и Бернса, Фета — из Хафиза, Горация, Ювенала, Мея — из Анакреона и Гейне, Анненского — из древнегреческих трагиков и новофранцузских лириков… Этот перечень, данный лишь для XIX века, далеко не полон. Но уже и он внушителен. Размах и уровень переводной поэзии в России XIX–XX веков позволяет рассматривать эту область словесности в одном масштабе с поэзией оригинальной; необходимо выяснить многочисленные взаимодействия, связывающие их между собой.
А взаимодействий много, — иногда они оказываются сложными и неожиданными. Установлено, например, что в стихах пушкинского Ленского цитируются словосочетания из элегии Мильвуа «Падение листьев», переведенной в 1819 году М. Милоновым («…улетели Златые дни весны моей»); видимо, в этом переводе Пушкин увидел наиболее типичное выражение «темной и вялой» сентиментально-элегической манеры начала века. В стихотворении, посвященном в 1828 году Мицкевичу, Пушкин использовал поэтические формулы из современных ему переводов восточных авторов:
В прохладе сладостных фонтанов И стен, обрызганных кругом, Поэт, бывало, тешил ханов Стихов гремучим жемчугом. На нити праздного веселья Низал он хитрою рукой Прозрачной лести ожерелья И четки мудрости златой.Специальные исследования уже показали и, несомненно, еще покажут, как велико значение тех переводов, которые Тютчев и Лермонтов делали из Гете и Гейне, для их собственной лирики. И дело не только в тех случаях, когда мы сталкиваемся с прямой цитатой — например из Гете: «Ночь хмурая, как зверь стоокий, Глядит из каждого куста» (Тютчев), «И миллионом черных глаз Смотрела ночи темнота Сквозь ветви каждого куста» (Лермонтов, «Мцыри») — «Wo Finsternis aus dem Gestrӓuche Mit hundert schwarzen Augen sah». Нет сомнений, что переводческий опыт Батюшкова во многом определил образный строй его собственной поэзии, что переводы из Вольтера и Парни были для Баратынского школой творчества. Такую же школу прошли — если говорить о поэтах нового времени — Анненский, Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов и другие, а из поэтов советской поры — Заболоцкий, Пастернак, Ахматова, Маршак, Антокольский, Гитович, Мартынов, Самойлов, Слуцкий. Можно ли отделить переводы шотландских и английских народных баллад, детских песен и считалок, песен и эпиграмм Бернса, философской лирики Блейка, сонетов Шекспира от собственного творчества С. Маршака? Маршак-поэт многому научился у Маршака-переводчика. П. Антокольский еще в 20-е годы разработал свой стиль, свою образность, ораторскую и лирическую интонацию; но его переводы из Барбье и Гюго — звено собственного творчества, или, если воспользоваться одним из любимых слов самого Антокольского, его «мастерская». А. Гитович перевел несколько книг древних китайских поэтов; но нельзя не видеть, что, пройдя через творчество Ду Фу и Ли Бо, лирика самого Гитовича изменилась — в ней появились отточенная афористичность, предельный лаконизм, мудрая и мужественная сосредоточенность. В стихотворении «Признание» (1962) А. Гитович писал:.
В этом нет ни беды, Ни секрета: Прав мой критик, Заметив опять, Что восточные классики Где-то На меня Продолжают влиять. Дружба с ними На общей дороге Укрепляется День ото дня, Так что даже Отдельные строки Занимают они У меня.Оценивая перевод, критики говорят в одном случае: хороший, яркий, в другом: плохой, тусклый. Однако часто оценки такого рода нуждаются в оговорке. Переводное произведение может быть безукоризненным, высоко совершенным — и все же пройти мимо литературы, не задев ее, не соприкоснувшись с нею, не оказав на нее ни малейшего влияния; оно может быть далеким от совершенства — и все же сыграть свою, порой даже значительную роль в развитии национальной литературы. В начале XX века В. Брюсов во всеоружии современной ему поэтической техники переводил старого французского преромантика Мильвуа; однако эти переводы не отразились и не могли отразиться на русском литературном процессе 10-х годов, — Мильвуа и его элегические стенания уже принадлежали истории литературы; между тем в переводах таких отнюдь не первоклассных мастеров, как М. Милонов и В. Туманский, Мильвуа стал частью русского литературного процесса начала XIX века. М. Лозинский в 1937 году опубликовал виртуозный перевод Шиллеровой баллады «Поликратов перстень»; но это достижение переводческого искусства оказалось фактом лишь, так сказать, академическим — тогда как перевод Жуковского (1831), уступающий новому в смысле и близости к оригиналу, и техники стиха, и звучности рифм, в свое время способствовал созданию русского Шиллера. В пору, когда возник перевод Лозинского, такая потребность миновала: Шиллер уже был участником нашего литературного процесса, а русская баллада, развиваясь вместе со всей поэзией и в то же время по внутренним законам жанра как такового, дала в конечном итоге «Балладу о синем пакете» и «Балладу о гвоздях» Н. Тихонова, стихи М. Светлова, Э. Багрицкого, В. Луговского, К. Симонова. Тот же В. Брюсов в начале XX века заново перевел прославленную миниатюру Арно «Листок», которую за сто лет до того наперебой переводили В. Жуковский, Д. Давыдов, В. Пушкин, несколько позднее — С. Дуров, которую варьировал и Лермонтов в стихотворении «Дубовый листок оторвался от ветки родимой…»; но тогда, в начале века девятнадцатого, «Листок» читался как аллегория судьбы политического изгнанника, теперь же он оказался просто хорошим стихотворением, и какого бы совершенства ни достиг новый переводчик, его создание было обречено на неучастие в общественной и литературной жизни. С. Раич в 1832 году опубликовал перевод поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» — этот перевод вошел в русскую литературу, потому что сыграл свою роль в становлении жанра романтической поэмы, и, при всех слабостях, оказался где-то неподалеку от «Руслана и Людмилы»; в 1938 году Ариосто был издан в переводе А. Курошевой, которая — в отличие от своего предшественника — с безукоризненной точностью воспроизвела форму Ариостовых октав; и все же работа Курошевой — достояние не современной поэзии, а университетского преподавания, истории итальянской литературы, и не только потому, что перевод не отличался поэтической непосредственностью, но и потому, что сам Лодовико Ариосто в эту эпоху уже был музейным явлением.
Опоздавшие переводы, как правило, проходят бесследно для национальной словесности, — бесследно, даже если они выполнены на уровне самой высокой стиховой техники. Это случается тогда, когда переводимое произведение ходом исторического развития превращается в памятник культурного наследия, а перевод, при всем внешнем совершенстве, неспособен его возродить, вдохнуть в него новую жизнь (иногда самый совершенный перевод уступает более слабому, несравненно менее близкому и точному, но отвечающему требованиям современной литературы).
Впрочем, бывают исключения: воскрешенное поэтическое произведение может неожиданно вступить в живое и плодотворное взаимодействие с текущей литературой, если оно отвечает живым потребностям современного вкуса. Так случилось с бунинским переводом «Песни о Гайавате» Лонгфелло, с сатирами Гейне в переводе Ю. Тынянова, с переводами Б. Пастернака из Гете и Шекспира, с «Витязем в тигровой шкуре» Руставели — Заболоцкого (мы имеем в виду особенно первый вариант перевода, изданный Детгизом в 1938 году), с древними китайцами в переводах А. Гитовича, с японскими танками — В. Марковой, с Байроновым «Дон Жуаном» в переводе Т. Гнедич, с Ронсаром и Ленау — В. Левика. И секрет далеко не только в качестве переводов, блеске стиха; А. Ахматова со свойственным ей мастерством перевела в 50-х годах немало стихотворений Гюго и его драму «Марион Делорм» — они прошли мимо современной литературы, тогда как древняя корейская лирика в переводе той же А. Ахматовой сразу стала фактом нашей поэзии. Риторика Гюго в середине XX века не могла найти отклика в умах и сердцах: современный русский читатель тянется к немногословному, сосредоточенному, предельно искреннему лиризму и отмахивается от внешне эффектной трескотни, как бы она ни была блистательна.
3
Проблема перевода стихов как одна из центральных проблем литературного развития возникла в России в середине XVIII века, в пору формирования и становления классицизма[9], ставшего за краткий срок господствующим творческим методом и стилем русской литературы. Принципы, сложившиеся в то время, определились с большой четкостью и сразу оказались общими для всех авторов, подчинивших себя эстетической норме классицизма. Его теоретики и критики не различали индивидуальных манер отдельных авторов, но лишь стилистические особенности литературных жанров. Для Буало, как и для Сумарокова, важны были различия между одой и элегией, эпической поэмой и сатирой, идиллией и басней, а не между отдельными одо- или баснописцами. Не видя существенных различий ни между национальными культурами, ни между писательскими индивидуальностями, классики выдвигали на первое место мысль, подлежащую совершенному выражению на языке поэзии.
XVIII век не знал понятия плагиата. Г. А. Гуковский писал о «принципиальной анонимности поэтических произведений в XVIII веке…; имя автора, условия появления произведения в свет и в печать — не входят в состав его эстетического облика; оно живет, функционирует, бытует без автора, хотя бы автор и был известен, и имя его было напечатано в соответственном месте…»[10].
Для искусства перевода эта «принципиальная анонимность» имела значение специфическое. Если произведение не имеет автора, если, иначе говоря, несущественно, кто и почему это сказал, а важно лишь, чтó и как сказано, то возникает особое отношение переводчика к автору оригинала. Самый этот автор никому не интересен; имеет значение лишь то, чтó им написано, с какой степенью полноты и совершенства выражена идея, лежащая в основе произведения. Идея же эта является общим достоянием. Если автор оригинала не справился с ее полноценным выражением, может быть даже и не поняв се до конца, задача переводчика — взять на себя довершение того, что автор довершить не сумел. Если перевод того или иного произведения уже осуществлен одним или несколькими предшественниками, — новый переводчик не только имеет право, но и обязан воспользоваться всеми их удачами и продолжить, улучшить их труд. В XVIII веке мы нередко встречаемся со своеобразными «коллективными» переводами, сделанными, однако, без реального сотрудничества. Исследователи русского классицизма приводят многочисленные примеры заимствований, — через несколько десятилетий они рассматривались бы как наказуемые факты литературных хищений.
В основе переводческой эстетики XVIII века — классическое понятие абсолютной художественной ценности идеального произведения, перевод которого должен и может быть — в пределе — переводом объективным, идеально точным, а значит — единственным. Расхождения между языками не могут служить препятствием для абсолютного перевода. Ведь с классической точки зрения слово однозначно, оно носитель объективного смысла, и поэтому найти ему иноязычное соответствие принципиально всегда возможно; затруднением может оказаться только недостаточная развитость языка перевода, то есть его количественная недостаточность.
Господствовавшей в XVIII веке теории идеального, абсолютного перевода не мешали расхождения между национальными культурами — эти расхождения игнорировались, потому что ведь и вообще игнорировались своеобразные черты исторических эпох и национальных характеров. Характерен в этом смысле «Разговор с Анакреонтом» Ломоносова (1757–1764): русский поэт спорит с древнегреческим, опровергая его пристрастие к легкой поэзии во имя высокой, одической традиции, причем спорит он с ним как с современником и единоплеменником, сопоставляя стихи Анакреона в своем переводе с собственными стихами и не обращая внимания на разделяющие их столетия. Анакреон кончает свою оду I словами о том, что
…гусли поневоле Любовь мне петь велят, О вас, герои, боле, Прощайте, не хотят.А Ломоносов отвечает воображаемому собеседнику:
Хоть нежности сердечной В любви я не лишен, Героев славой вечной Я больше восхищен.Не было препятствий и со стороны несходства поэтических индивидуальностей, — своеобразные черты этих индивидуальностей также игнорировались. Наконец, не принимались во внимание и препятствия, возникавшие вследствие несходства языковых пар. Не следует обольщаться современным звучанием известных стихов Сумарокова из его «Епистолы II»:
Что очень хорошо на языке французском, То может в точности быть скаредно на русском. Не мни, переводя, что склад в творце готов; Творец дарует мысль, но не дарует слов. В спряжение речей его ты не вдавайся И свойственно себе словами украшайся. На что степéнь в степéнь последовать ему? Ступай лишь тем путем и область дай уму. Ты сим, как твой творец письмом своим ни славен, Достигнешь до него и будешь сам с ним равен. Хотя перед тобой в три пуда лексикон, Не мни, чтоб помощь дал тебе велику он, Коль речи и слова поставишь без порядка, И будет перевод твой некая загадка, Которую никто не отгадает ввек; То даром, что слова все точно ты нарек. Когда переводить захочешь беспорочно, Не то, — творцов мне дух яви и силу точно.В контексте XVIII века это было не только и даже не столько предостережением против наивного буквализма, сколько утверждением вольного перевода, который призван не воспроизвести переводимого автора, но воссоздать его замысел, не слишком вдаваясь «в спряжение его речей». При этом, как мы видели, замысел рассматривался как нечто объективное, вне автора существующее и обладающее ценностью вполне самостоятельной. В самом деле, большинство крупных классических произведений — эпических поэм и трагедий — представляли собой разработку древних мифов или известных исторических ситуаций, являющихся общим достоянием.
Может быть, переводческая эстетика классицизма приобретает наибольшую наглядность в жанре басни. Многие басенные сюжеты были рассказаны Эзопом (VI–V вв. до н. э.) и вслед за ним Федром (I в. н. э.), а позднее их разработал и развил такой замечательный поэт французского классицизма, как Лафонтен. И вот русские баснописцы, овладевая теми же сюжетами, соревнуются между собой, вступая одновременно в соперничество с Лафонтеном, — они стремятся с наибольшей полнотой и совершенством изложить данный сюжет. И. Барков, Д. Хвостов, В. Тредиаковский, А. Сумароков нередко пишут басни на одну и ту же тему, причем каждого из них ничуть не смущает совпадение не только сюжета, но и целых строк, — ведь басня, как, впрочем, и всякое другое произведение, никому не принадлежит: она есть некий объективный факт литературы. И. Хемницер переводит басни немецкого поэта XVIII века Геллерта и печатает свои переводы, даже не указывая источника; между тем часто переложения Хемницера близки к подлиннику и являются именно переводами. И. Крылов не опасается обвинений в плагиате, — его задача не в создании нового произведения, а в том, чтобы приблизиться к идеалу, каковым может служить либо лафонтеновский оригинал, либо та идея, которую и сам Лафонтен, как считает переводчик, не сумел полно воплотить в басенной форме. С этим и связаны столь частые совпадения крыловского текста с текстами его предшественников, — достаточно сравнить с оригиналом Лафонтена и другими, более ранними русскими переводами хотя бы такую басню, как «Лягушка и Вол».
Пожалуй, лишь в этом одном отношении Крылов сохранил верность ортодоксальному классицизму, — в остальном он до известной степени освободился от его ограниченности. Крылов отбросил столь важную для классицизма и его басни космополитическую безликость. Та сфера, в которой действуют животные Лафонтена, почти нейтральна; авторская речь французского баснописца гибка, изящна, точна, но обобщенно-литературна. Язык же Крылова подлинно народен; сохраняя сюжет и персонажей оригинала, он речевыми и образными средствами переносит место действия в неподдельную русскую деревню. Ю. Нелединский-Мелецкий тоже перевел лафонтеновскую басню о стрекозе и муравье, — но его вариант условно-литературен, абстрактно-нравоучителен.
У него читаем:
Лето целое жужжала Стрекоза, не знав забот; А зима когда настала, Так и нечего взять в рот.А у Крылова:
Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела: Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле…Рассматривая переводные басни Крылова, известный поэт переводчик В. Левик заметил: «Такова в поэзии сила и власть языка, что заговорившие по-русски Жаны и Мадлены внезапно становятся Демьянами и Феклами, изящная французская речь — народным русским говором, и уже никому не придет в голову назвать переводчиком гениального создателя русской народной басни… Стихи написаны на другом языке, и этот язык — такова была воля автора — подчинил себе всю их поэтику… Они в самой сути своей оторвались от чужеязычного образца»[11].
Который же из двух переводов ближе к Лафонтену? В известном смысле — Ю. Нелединского-Мелецкого: у него персонажи безнациональны и нейтрально-обобщенны. Крылов же полнее выражает содержание, заключенное в творчестве великого француза по существу: в других национальных и исторических обстоятельствах, полтора века спустя, его басня вызывает у читателя мысли и чувства, сходные с теми, которые стремился вызвать Лафонтен, сохранявший верность принятой им художественной доктрине последовательного классицизма. Жуковский не отказывал Крылову в звании переводчика, он выразил свою мысль парадоксально, однако и очень верно: «Крылов может быть причислен к переводчикам искусным, и потому точно заслуживает имя стихотворца оригинального».
Впрочем, Жуковский видит в переводческом методе Крылова даже и единственно возможный метод переводить басни. Мотивирует он это тем, что «все языки имеют между собой некоторое сходство в высоком и совершенно отличны один от другого в простом, или, лучше сказать, в простонародном». Поэтому, например, ода может быть переведена «довольно близко, не потеряв своей оригинальности», между тем как басня «будет совершенно испорчена переводом близким. Что же должен делать баснописец-подражатель? Творить в подражании своем красоты, отвечающие тем, которые он находит в подлиннике»[12].
Преодоление классицистической эстетики в переводе можно ясно увидеть на истории русского Гомера. Первоначально русские переводчики ориентировались на французских поэтов XVIII века, которые создавали своего Гомера, изящного и благонравного. Удар де ла Мотт, опубликовавший французскую «Илиаду» в 1715 году, утверждал в предисловии, что перевод «должен быть не только полезным, он должен нравиться», переводчик должен идти на любые переделки, смягчения, перестройки, лишь бы «создать французскую поэму, которая нашла бы своего читателя».
В России сквозь призму французского классического перевода — именно перевода Удара де ла Мотта — увидел «Илиаду» Е. И. Костров, который в 1787 году опубликовал неполных девять песен, переведенных александрийским стихом. Но уже в 1829 году вышел из печати перевод Н. И. Гнедича (который, между прочим, начинал в 1807 году с продолжения классицистической традиции Е. Кострова — перевода александрийским стихом). В 20-е годы, когда Гнедич работал над «Илиадой», классицизм был уже достоянием прошлого: русские поэты далеко ушли от представления о единичности художественного идеала, они увлекались Оссианом, немецкими и английскими поэтами, фольклором разных народов. Гнедич стремился доступными ему средствами языка и стиха воссоздать своеобразные черты древнегреческого рапсода. В предисловии к своему переводу (1824) он полемизировал с давней классицистической концепцией, получившей наиболее полное выражение во Франции. Он цитировал фразу из французского перевода книги английского ученого Вуда (1776): «Надобно подлинник приноравливать к стране и веку, в котором пишут», — и добавлял: «Так некогда думали во Франции, в Англии; так еще многие не перестали думать в России; у нас еще господствуют те односторонние литературные суждения, которые достались нам в наследство от покойных аббатов»[13]. Гнедич протестует против важнейших принципов классицизма. Остановимся на четырех пунктах.
1. Гнедич выступает против классицистической внеисторичности, против абстрактной общечеловечности, против игнорирования как национальных особенностей народов, так и исторического своеобразия эпох. «Мы, с образом мыслей, нам свойственным, судим народ, имевший другой образ мыслей, подчиняем его обязанностям и условиям, какие общество налагает на нас. Забывая даже различие религии, а с нею и нравственности, мы заключаем, что справедливое и несправедливое, нежное и суровое, пристойное и непристойное наше, сегодняшнее, было таким и за три тысячи лет. И вот почему судим ложно о героях Гомеровых. Воображение без понятий не говорит, или темно говорит сердцу»[14].
2. Гнедич отвергает старую классицистическую теорию единичного идеала, согласно которой Гомер — всеобщий образец для подражания. Хотя Гнедич и считает «Илиаду» величайшим произведением человечества, теорию идеала он тем не менее отвергает со всей решительностью. «Гомер, в отношении к нам, не есть образец, до которого дух человеческий в поэзии возвыситься может; но он определяет ту черту, от которой гений древнего человека устремил свой смелый полет, круг, который обнял, и предел, до которого достигнул. В таком отношении поэтические творения Гомера, без сомнения, суть произведения совершеннейшие»[15].
3. Протестуя против того, чтобы приспосабливать Гомера к современному изящному вкусу, Гнедич вступает в косвенный спор с Ударом де ла Моттом. Подобное приспосабливание могло бы принести переводу более шумный успех, но такой успех — фальшив. «Чтобы сохранить свойства сии поэзии древней, столь вообще противоположной тому, чего мы от наших поэтов требуем, переводчику Гомера должно отречься от раболепства перед вкусом гостиных, перед сей прихотливой утонченностью и изнеженностью обществ, которых одобрения мы робко ищем, но коих требования и взыскательность связывают, обессиливают язык». Гнедич считает нужным идти путем наибольшего сопротивления, потому что «требования переменятся, вкус века пройдет, между тем как многие тысячи лет Гомер не проходит»[16].
4. Наконец, Гнедич протестует против классицистического принципа «украшающего перевода»: дело в том, что для Гнедича нет и не может быть необходимости возвышения до идеала, не достигнутого якобы самим автором, или приспособления текста к современному читателю. «Очень легко украсить, а лучше сказать — подкрасить стих Гомера краскою нашей палитры, и он покажется щеголеватее, пышнее, лучше для нашего вкуса; но несравненно труднее сохранить его гомерическим, как он есть, ни хуже, ни лучше. Вот обязанность переводчика, и труд, кто его испытал, не легкий. Квинтилиан понимал его: Facilius est plus facere quam idem: легче сделать более, нежели то же»[17].
Эти четыре положения в целом отвергают всю переводческую систему французского классицизма и утверждают систему новую.
Гнедич тем самым отказывается от собственного недавнего прошлого: по крайней мере до 1807–1808 годов и он был приверженцем классицизма, и он сам пытался переводить «Илиаду» александрийским стихом. Между двумя гнедичевскими переводами — не только двадцать лет, но и пропасть, разделяющая противоположные эстетические воззрения. Для первого варианта характерно пристрастие к традиционному словоупотреблению, — во втором преобладает индивидуальное, характерное. В первом варианте господствует единство стиля, — во втором совмещены высокое с низким. Гекзаметр нелегко одержал победу над александрийским стихом; дискуссия, носившая характер весьма ожесточенный, длилась долго. А. Егунов в своем исследовании русских переводов Гомера разбирает и «Письмо» С. С. Уварова (1813), осуждающего александрийский стих как форму для гомеровских поэм («Когда вместо плавного, величественного экзаметра я слышу скудный и сухой александрийский стих, рифмою прикрашенный, то мне кажется, что я вижу божественного Ахиллеса во французском платье»), и протесты, обрушившиеся на Гнедича со стороны приверженцев классицизма за отказ от александрийского стиха («За сей перевод все старообрядцы на него вооружились и предают его торжественно проклятию, как еретика, они так привыкли плести рифмы, что им кажется непонятно, каким образом обойтись можно без сих погремушек». — Из письма Д. В. Дашкова к Д. Н. Блудову от 15 октября 1813 г.)[18].
Победу гекзаметра можно было зафиксировать лишь спустя пять лет. Этот казалось бы чисто формальный момент стал важнейшим эпизодом в истории русской поэзии, свидетельствовавшим о принципиальных сдвигах в эстетическом мышлении.
Как невозможно в одежду младенца одеть великана… …Или Моцартов сонат рассказать в простом разговоре, Так невозможно александрийским стихом однозвучным В ходе, в падении стоп, в пресеченьи стиха, в сочетаньи Рифм, одинаком в течение целой пространной поэмы… …Выразить с тою же верностью, смелой в рисовке, в смешеньи Света и тени, и с тою же яркостью в красках, всю силу Чувств, всю возвышенность мыслей и блеск, которыми каждый Стих Илиады и каждый стих Енеиды сияет.Так в 1819 году писал об александрийском стихе А. Ф. Воейков, противопоставляя его гекзаметру, который с его точки зрения являет собой «разнообразнейший всех стихотворных древних размеров» и благодаря которому
Можно возвысить свой стих и понизить; быстро промчаться Вихрем, кружащим с свистом и шумом по воздуху листья; Серной скакать с скалы на скалу, с камня на камень, Тихо ступать ступень с ступени по лестнице звуков[19].Характеристика, как видим, общеэстетическая: Воейков, оценивая преимущества гекзаметра перед александрийским стихом, оставлял в стороне историческую специфичность каждой из этих стиховых форм.
4
Своеобразное место в истории русского стихотворного перевода занимает А. X. Востоков, сыгравший особую роль в процессе «деканонизации» русского стиха, его высвобождения из-под влияния французского классицизма. Автор известных научных сочинений о русском языке и стихосложении, Востоков был неутомимым экспериментатором в области метрики и строфики, он положил немало труда на создание новых стиховых форм и доказал их реальную возможность в русской поэзии, которая на протяжении XVIII века была под властью французских силлабических правил. В. К. Кюхельбекер в статье 1817 года «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности» справедливо оценил роль Востокова в развитии литературы: «Несмотря на усилия Радищева, Нарежного и некоторых других, на усилия, которым, быть может, со временем узнают цену, в нашей поэзии даже до начала XIX столетия господствовало учение, совершенно основанное на правилах французской литературы. Стихи без рифм не почитались стихами; одни только Лагарпом одобренные образцы имели у нас достоинство; не хотели верить, чтобы у немцев и англичан могли быть хорошие поэты. Тиранство мнения простиралось так далеко, что не смели принимать никакой другой меры, кроме ямбической. В 1802 году г. Востоков изданием своих „Опытов лирической поэзии“ изумил, можно даже сказать привел в смущение публику; в сей книге увидели многие оды Горациевы, переведенные мерою подлинных стихов латинских. Он показал образцы стихов сафического, альцейского, элегического, и говорил с восторгом о произведениях германской словесности, дотоле неизвестных, или неуважаемых»[20]. Далее Кюхельбекер говорит о Гнедиче и Жуковском, которые «стараются исполнить на деле то, что было начато Востоковым», причем подчеркивает, что «Гнедич вводит у нас героические стихи древних», а Жуковский «не только переменяет внешнюю сторону нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства». Видимо, по мнению Кюхельбекера, Востоков ограничился первой половиной задачи — он прежде всего интересовался необходимостью обновить «внешнюю сторону нашей поэзии».
В этом смысле Востоков сыграл свою историческую роль, — вполне оценить ее можно только с современных позиций. Новаторство Востокова в основном формальное; но в искусстве не существует чистой формы, лишенной содержательности, — поиски новых форм стиха были одновременно поисками и новых стилей и открытием путей для нового поэтического содержания. Следует прежде всего отметить, что Востоков был изобретателем русского драматического пятистопного ямба, о чем уже была речь выше. В переводе из трагедии Гете «Ифигения» (1810) Востоков более точен, чем был бы современный нам поэт-переводчик: его лексические и синтаксические буквализмы носят экспериментальный характер, он пробует возможности русского пятистопного ямба, ищет пути для того, чтобы средствами «протяжнословного» русского языка передать то, что изложено на «краткословном» немецком. Эксперимент Востокова, как известно, увенчался успехом: драматическому белому стиху было суждено великое будущее. Использовав пятистопный ямб, Востоков порвал с французской классической традицией и обратился к другой, в данном случае более плодотворной, — к традиции Шекспира — Шиллера — Гете, то есть к германской поэтической драматургии.
В связи с характерной для Востокова буквалистической тенденцией нужно привести проницательное суждение, высказанное Ю. Д. Левиным в названной выше статье: «Переводческий буквализм, — пишет он, — явление кризисное. Он возникает тогда, когда задачи, которые ставит перед собой переводчик, его стремление передать особенности подлинника, ранее вообще не передававшиеся, превышают языковые и стилистические средства, находящиеся в его распоряжении. Поэтому переводчик делает попытку достигнуть передачи требуемых особенностей за счет механической близости к подлиннику. Не случайно буквальные переводы носят часто экспериментальный характер. Кризис, который они отражают, — это обычно кризис роста переводческой культуры, предшествующий переходу к более высокому ее этапу».[21]
Впрочем, в своих переводах немецкой поэзии А. Востоков редко шел путем калькирования метра. Чаще он пытался использовать стиховые формы, отброшенные классицизмом за пределы большой литературы. Прежде всего это — по определению самого Востокова — «русский сказочный размер»: безрифменный трехударный паузник с неравносложной анакрузой и дактилическими окончаниями. Так перевел он стихотворение Шиллера «Изречения Конфуция», написанное в подлиннике регулярным четырехстопным хореем:
Пространству мера троякая: В долготу бесконечно простирается, В ширину беспредельно разливается, В глубину оно бездонно опускается. … … … … … … … … … … … … … … …В данном случае эксперимент А. Востокова носил характер до известной степени формалистический: используя «русский сказочный размер», он и не думал о необходимости одновременной перестройки всего стилистического состава вещи — он перевел шиллеровские «Изречения Конфуция», «избрав нарочно предмет отвлеченный, дабы показать, что и таковой, довольно чуждый для простонародной музы предмет не обезображивается одеждою русского размера»[22]. О связи формальных экспериментов Востокова с его поисками новых экспрессивно-стилистических возможностей и нового содержания убедительно писал исследователь его творчества В. Н. Орлов: «Старания Востокова обновить русское стихосложение нисколько не носили отвлеченно версификаторского, узко лабораторного характера. Метрический эксперимент был важен и интересен для него не как самоцель, не ради голого изобретательства, а как поиски новых средств поэтической выразительности, свободной от „стеснительных уз“ нивелирующих поэзию норм и шаблонов»[23]. Позднее, в 1825 году, Востоков вернулся к «сказочному стиху» в переводах — на этот раз — сербских народных песен. Эти произведения отличаются целостностью и подлинной художественностью, — недаром Пушкин, переводя «Песни западных славян», воспользовался опытом Востокова. Вот как звучит «сказочный стих» в самом известном из востоковских переводов сербских песен — «Жалобной песне благородной Асан-Агиницы»:
Что белеется у рощи у зеленый? Снег ли то или белые лебеди? Кабы снег, он скоро растаял бы; Кабы лебеди были, улетели бы прочь.Десять лет спустя, в 1834 году, Пушкин начал переводить ту же песню, однако, в отличие от Востокова, ввел хореическую клаузулу:
Что белеется на горе зеленой? Снег ли то, али лебеди белы? Был бы снег — он уже бы растаял, Были б лебеди — они б улетели. То не снег и не лебеди белы…Пушкин принимает тот вариант «сказочного стиха», который разработал Востоков в своих переводах «Сербских песен»: повсюду, кроме приведенного текста, Востоков пользуется хореическим окончанием. (Ср. в песне «Сестра девяти братьев»:
У матери сынов милых девять, Десятая Мизиница дочка. Возрастила их мать, воспитала, До того, что уж молодцам жениться, А девицу пора выдать замуж.)«Сказочный стих», утвержденный Востоковым преимущественно в переводной поэзии, оказался нужен русской литературе. Пушкин предсказывал ему еще более блестящую будущность, полагая, что «со временем мы обратимся к белому стиху»; он пишет: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. X. Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным»[24].
Востоков оценил и художественные возможности русских разностопных размеров, стремясь широко использовать их для передачи тех или иных особенностей чужеязычной поэзии. При этом и здесь для него имели значение не только — и, может быть, даже не столько — вопросы просодии, сколько стиль и интонация. Это мы видим, например, в переводе стихотворения Шиллера «Слова веры» (1797), исполненном в 1812-м и переработанном в 1820 году. Более поздние переводчики — особенно наши современники — ушли далеко вперед в смысле умения воспроизвести внешнюю и внутреннюю форму шиллеровской поэзии, но кое-что они при этом утратили: может быть, главное, в чем они уступают Востокову, — это пафос поиска поэтического эксперимента.
Востоков не только искал, но и нашел в разностопном ямбе источник интонационной энергии. Особый интерес представляют опыты Востокова в области перевода античной поэзии и приживления к русской литературе ее стиховых форм. В его сборнике 1805 года «Опыты лирические» содержится ряд стихотворений, написанных размерами, которые представляют собой имитацию древних логаэдических метров. В предисловии к 1-й части сборника Востоков писал о том, что автор «подвергает суду просвещенных критиков новые размеры, взятые, по примеру немцев, с латинского и греческого. Намерение его было испытать их на русском языке». Эти опыты основаны на убеждении Востокова в том, что русский язык способен воспроизвести все метрические особенности греческой и римской поэзии. И здесь для Востокова дело не только в метрическом эксперименте. В этих оказавшихся на русском языке вполне осуществимыми сложных строфах — особый, подчиненный новому стилистическому заданию синтаксис и специфическая лексика. Для синтаксиса характерна разветвленность сложноподчиненных предложений и многообразие инверсий, подражающих латинскому строю речи (Востоков нашел в этом отношении позднего последователя в лице В. Брюсова — переводчика «Энеиды», стремившегося русскими средствами калькировать специфические особенности латинских конструкций). Не менее важно и стремление Востокова передать движение латинского стиха воспроизведением переносов из стиха в стих и — что еще интереснее — из строфы в строфу. Отношение Востокова к переводу греко-латинской поэзии на русский язык весьма характерно для его литературной позиции переводчика-просветителя. До него делались опыты передачи античных просодических форм, однако эти опыты были компромиссными: поэты-переводчики XVIII века пытались приспособиться к вкусам своего читателя и дать ему возможность без особого напряжения прочитать предлагаемый текст.
Опыты Востокова, оправдав оценку некоторых проницательных современников, предсказали пути развития русского стиха, на протяжении XIX века успешно преодолевшего метрическую норму и вышедшего на простор дольников, акцентных размеров и, в конечном счете, современного свободного стиха. Поэты, двигавшие русский стих по пути его «деканонизации» — Тютчев, Фет, Блок, Хлебников, Цветаева, Маяковский, — зачастую почти не знали ни творчества Востокова, ни его теоретических идей (тем более что весьма важная часть наследия Востокова была впервые по рукописям опубликована В. М. Жирмунским в 1932-м и В. Н. Орловым — в 1935 году). Однако объективно Востоков как поэт-переводчик, как теоретик стихотворного перевода и вообще стиха предуказал эволюцию русских поэтических форм. Востоков, переводчик-просветитель, оказался предшественником многих современных нам поисков и находок в области стихотворного перевода еще и потому, что в своем творчестве он осуществлял характерный для нынешнего этапа переводческого искусства синтез поэзии и научного исследования.
5
«Ни в одной литературе не было поэта, с которым можно бы сравнить Жуковского… Жуковский сообщил переводам своим жизнь и вдохновение оригиналов. Оттого каждый перевод его получал на нашем языке цену и силу самобытного сочинения. Этот самобытный талант доставил ему средство к великому преобразованию литературы нашей»[25]. В этих строках П. А. Плетнев одним из первых формулировал национальное значение переводческой деятельности Жуковского, указав на то, что создание переводов было для него формой оригинального творчества и что своеобразная подражательность, кажущаяся несамостоятельность Жуковского ничуть не умаляла значения его поэзии, способствовавшей «преобразованию литературы нашей» и созданию могучего, многообразного поэтического слога: «Его надобно назвать творцом нового русского языка, которого особенности состоят у него в самых верных выражениях для каждой черты описываемого им предмета, в необыкновенной благозвучности речи, в свободном, но всегда правильном ее течении, в сочетании слов и их украшении, столь неожиданном и увлекательном, что каждая мысль является новым созданием…»[26].
Жуковский и сам не раз указывал на то, что он прежде всего переводчик и что именно в этом его значение для отечественной поэзии. В письме к О. Смирновой от 13 (25) октября 1845 года читаем: «Я не самобытный поэт, а переводчик, — впрочем, весьма замечательный». В письме же к Н. В. Гоголю от 20 января 1850 года он говорит о единстве своего переводческого и лирического творчества: «…у меня почти все чужое, или по поводу чужого, — и все, однако, мое».
А Гоголь писал о Жуковском так: «Не знаешь, как назвать его, — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов… Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем… Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт… Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты… Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данной ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами»[27].
Гоголь формулировал в связи с творчеством Жуковского главный вопрос: «Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность?»
Как же эти противоположные достоинства — высокая объективность и крайняя субъективность — соединились в творчестве Жуковского? Это, разумеется, и центральная проблема Жуковского-переводчика, и одновременно главная проблема вообще романтического перевода, представленного в России, если говорить лишь о больших поэтах, еще и именами молодого Пушкина, Тютчева, Лермонтова, а позднее — И. Анненского, Блока. Жуковский прожил долгую жизнь и проделал значительную эволюцию, — важнейшим фактором его изменения явился поэтический опыт Пушкина; известная надпись на подаренном Пушкину в 1820 году портрете — «Победителю-ученику от побежденного учителя» — была не формулой светской учтивости, но констатацией реального факта. Эта эволюция Жуковского и эта его верность самому себе особенно наглядны на переводах стихотворения Томаса Грея (1716–1771) «Элегия, написанная на сельском кладбище», исполненных в 1802 и 1839 годах, — между этими переводами лежит все творчество Пушкина, а также лирика, баллады, эпические и драматические произведения самого Жуковского. Впоследствии Жуковский печатал в собраниях своих стихотворений оба эти перевода как самостоятельные произведения — факт достаточно примечательный сам по себе, если учесть, что по внешнему, смысловому содержанию они тождественны. Значит, Жуковский считал стилистическое различие между двумя пьесами достаточным основанием для того, чтобы видеть в них не варианты одного и того же, но именно вполне различные вещи, то есть вещи с различным поэтическим содержанием.
Перевод 1802 года имел для творчества Жуковского значение особенное. П. А. Плетнев свидетельствовал, что «Сельское кладбище» сразу поставило Жуковского в ряд лучших русских поэтов. Карамзин — на другой день после появления этого перевода — говоря о Богдановиче, приводил в своем разборе один стих из элегии Жуковского, «как будто это было всем известное место из Ломоносова и Державина»[28].
Понимая это, Жуковский много лет спустя все же создал новый вариант своего знаменитого перевода. Жуковский как бы прямо говорил читателю об изменениях, происшедших в нем и его эстетике, о своих новых позициях в поэзии и поэтическом переводе[29].
Если в первом «Сельском кладбище» встречаются элементы высокой лексики и фразеологии, то это прежде всего объясняется их традиционной прикрепленностью к определенным темам — так говорится о боге, душе, смерти. Однако карамзинистский сентиментализм, боровшийся против жанровой расчлененности классицизма, очень скоро создал свою систему окостеневших стилистических штампов, не менее устойчивых, чем штампы классицизма, — ведь и он представлял собой общий стиль, отнюдь не способствовавший развитию индивидуальных стилистических особенностей того или иного поэта. «Эстетика штампа» свойственна сентиментализму начала века в не меньшей степени, чем классицистической поэзии. В этом смысле можно сказать, что Жуковский перевел элегию Грея на язык сентиментализма вообще, перевел жанр элегии, а не индивидуальное произведение английского поэта, имеющего свой особый, индивидуальный стиль. Все, что противоречило его «жанровому мышлению», он попросту отбрасывал. «Сельское кладбище», приобретя в 1839 году иную стиховую форму (гекзаметр), оказалось радикально перестроенным — оно включилось в другую литературную традицию: поэтическими предками Грея теперь стали Гомер, Фукидид и Вергилий, автор «Эклог». Условность сентименталистских штампов уступила место материальности и конкретности; монотонная напевность симметрично цезурованного шестистопного ямба — плавной, медлительной и раздумчивой повествовательности шестистопного дактиля. В 1802 году, работая над текстом своего перевода, Жуковский стремился не уйти от стилистических «обыкновенностей», а усилить их за счет индивидуальных черт авторского слога. Переводимое им произведение он приближал к некоему идеалу элегии: для этого было нужно подчеркнуть условные черты «элегического слога» и ослабить черты, созданные воображением Грея.
В переводе 1839 года — не «поселяне», а простые крестьяне. И труд этих крестьян уже не носит первоначального условно-идиллического характера. В варианте «Вестника Европы» «поселяне» трудились так:
Как часто их серпы златую ниву жали, И плуг их побеждал упорные поля! Как часто их секир дубравы трепетали, И потом их лица кропилася земля!Сами по себе стихи эти — при всей их традиционности — сильные и звучные, но у Грея нет ни «златой нивы», ни «секир», ни «дубравы». В новом переводе все это заменили синонимы, уточняющие реальный крестьянский быт:
Как часто серпам их Нива богатство свое отдавала; как часто их острый Плуг побеждал упорную глыбу; как весело в поле К трудной работе они выходили; как звучно топор их В лесе густом раздавался, рубя вековые деревья!В позднем переводе «Сельского кладбища» Жуковский ищет возможности передать индивидуальную образность оригинала, а также преодолеть ограниченность языка и выразить «невыразимое». Для этой цели он прибегает к новаторским соединениям слов, к небывалым, им самим создаваемым двойным эпитетам, отчасти, может быть, идущим от его увлечения поэзией Гомера, отчасти же связанным и с традицией Державина: «жук с усыпительно-тяжким жужжаньем», «голос прохладно-душистого утра», «хладно-немое ухо смерти», «вдоль свежей сладко-бесшумной долины жизни». В «Сельском кладбище» 1839 года многолетний поэтический опыт Жуковского использован для нового воспроизведения элегии Томаса Грея. Почему он, однако, новый вариант написал гекзаметром? Ведь в оригинале ничего похожего нет: элегия Грея написана четверостишиями пятистопного ямба с перекрестной рифмой, и вариант 1802 года почти соответствовал форме подлинника.
Для Жуковского гекзаметр был в данном случае метрической формой, стилистически противоположной шестистопному ямбу, который влек за собой все признаки классической традиции. Гекзаметр был стихом, освобожденным от обветшалых штампов классицизма и сентиментализма, — он давал простор для индивидуального творчества; традиция, уже закрепившаяся к этому времени за ним, была плодотворной и ясной. Жуковского в первую очередь интересовали не историко-культурные ассоциации, рождавшиеся этим стихом; он (даже в 1839 году) мыслил еще в жанрово-типологических категориях. Романтики, выдвинувшие свою теорию идеала, искали в ней обоснование права художника на творческую свободу. Классики тоже руководствовались представлением об идеале — они видели таковой в античном искусстве (как они его понимали), и приближением к идеалу было для них простое подражание. Для романтика идеалом является некое духовное совершенство, дающееся человеку лишь в откровении вдохновенного порыва, — то есть субъективное, для каждого художника индивидуальное начало, логически непостижимое, раскрывающееся только гению. Идеал, таким образом, содержится в замысле поэта, а не в воплощении этого замысла. Расхождение между замыслом и произведением — одна из важнейших тем романтического искусства, источник трагедии художника. Очень точно пишет об этом В. Б. Микушевич: «Замысел приобрел в глазах романтиков обособленное значение, поскольку именно замысел заключает в себе идеал данного произведения, и в нем, стало быть, проявляется идеал искусства вообще»[30].
Руководствуясь — вольно или невольно — принципом романтической идеализации, Жуковский усиливает музыкальную стихию в переводимых им стихотворениях иностранных поэтов. Еще в 1832 году Н. А. Полевой обращал внимание «на то, чем отличается Жуковский от всех других поэтов русских: это музыкальность стиха его, певкость, так сказать — мелодическое выражение, сладкозвучие… Его звуки — мелодия, тихое роптание ветерка, легкое веяние зефира по струнам эоловой арфы. Будучи в этом самобытен, Жуковский никогда не утомляет — нет! он очаровывает вас, пленяет дробимостью метра, мелкими трелями своих звуков»[31].
Теория поэтического слова, развернутая Жуковским в 1847–1848 годах, говорит о том, что на протяжении всего творческого пути он в принципе не изменил отношения к поэтическому искусству, и подводит нас к причинам, по которым музыкальная сторона слова оказалась выдвинутой на первый план. Так, в статье 1847 года «О поэте и современном его значении (письмо к Н. В. Гоголю)» Жуковский устанавливает превосходство поэзии над всеми искусствами, потому что слово, по его мнению, «непосредственнее всех их из души истекает». Слово — в понимании и терминологии Жуковского — отрывок «чего-то целого», недостижимого единства «слова божия», логоса; стихотворение — тоже отрывок «чего-то целого», мгновение в потоке душевной жизни человека. Именно в этом понимании и слова и поэтического произведения как «отрывков» рационально непостигаемой «божественной цельности» — корень музыкальных поисков Жуковского: только «музыка слова» способна раскрыть недостижимые глубины духа, которые являются сущностью и мира, и переводимого поэтического творения.
Верный своему эстетическому методу, Жуковский систематически усиливает музыкальный потенциал стиха, то есть его субъективный элемент. Он в большей степени, чем Шиллер, пользуется образно-звуковыми возможностями слова. В результате, например, стихотворение «Торжество победителей», являющееся у Шиллера миниатюрной многоголосной драмой, в которой участвуют многие персонажи, отличающиеся друг от друга речевой манерой (Калхас, Улисс, Неоптолем, Диомид, Нестор, Кассандра), у Жуковского становится патетическим монологом — в его тексте исчезают различия в речи персонажей и остается благозвучная и велеречивая манера лирического рассказчика.
Но вот другая, и как будто неожиданная сторона творчества Жуковского. В 1843 году он писал П. Плетневу, одному из редакторов «Современника»: «Я еще написал две повести ямбами без рифм, в которых с размером стихов старался согласить всю простоту прозы, так чтобы вольность непринужденного рассказа нисколько не стеснялась необходимостью улаживать слова в стопы. Посылаю вам одну из этих статей („Матео Фальконе“) для помещения в „Современнике“. Желаю, чтобы попытка прозы в стихах не показалась вам прозаическими стихами»[32].
«Попытка прозы в стихах» — характерная для Жуковского формула. Еще в начале своего пути, в цитированной выше статье «О басне и баснях Крылова» (1809), он спрашивал: «Что называю дарованием поэта?» — и, ответив, что, прежде всего, воображение, продолжал: «…способность (в особенности необходимая баснописцу) рассказывать просто, приятно, без принуждения, но рассказывать языком стихотворным, то есть украшая без всякой натяжки простой рассказ выражениями высокими, поэтическими вымыслами, картинами и разнообразя его смелыми оборотами»[33].
Значит, рассказ стихотворный — в отличие от простого, то есть прозаического — украшен «высокими выражениями» и «смелыми оборотами», «картинами» и т. д. Жуковский в 1809 году не видит принципиальной, качественной разницы между прозой и стихами, и в этом смысле он на позициях последовательно классицистических: стихи — это украшенная, орнаментированная проза. С такой установкой Жуковского связана его приверженность к переводу прозы стихами.
С другой же стороны, Жуковский как никто владел русским песенным стихом, по самой своей сущности противоположным прозе; даже балладному, повествовательному стиху он постоянно придавал напевно-мелодический характер. Можно сказать, что в этом двойственном отношении к стиху, вообще к поэтическому искусству проявилась противоречивость Жуковского, у которого парадоксально сочетались унаследованные им классицистические идеи и вполне органично усвоенные и им самим разработанные принципы романтизма.
Типологическое художественное мышление Жуковского имело для его времени и свои преимущества. Именно благодаря этой «типологичности» Жуковский сумел построить в русской литературе некий целостный образ западноевропейского, точнее — германского романтизма, о котором он и сам нередко говорил иронически-обобщенно; например, в связи с «Одиссеей»: «Я (во время оно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских) под старость загладил свой грех и отворил для отечественной поэзии дверь эдема, не утраченного ею, но до сих пор для нее запертого…»[34]. Этот целостный образ романтизма как особого художественного мира имел в виду Белинский, когда, оценивая вклад Жуковского в русскую культуру, писал: «Жуковский был переводчиком на русский язык не Шиллера или других каких-нибудь поэтов Германии и Англии: нет, Жуковский был переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрешенного в начале XIX века немецкими и английскими поэтами, преимущественно же Шиллером. Вот значение Жуковского и его заслуга в русской литературе»[35].
Подобно Карамзину, Жуковский считал переводческую деятельность лучшей школой поэта — всякого поэта, как бы он ни был талантлив и своеобразен. Перевод помогает расширению стилистического диапазона, развивает поэтическую речь, обогащает ее за счет открытий иностранных поэтов. Среди друзей-современников были у Жуковского, однако, и противники, даже, можно сказать, творческие антиподы. Так, противоположной точки зрения придерживался П. А. Вяземский. Жуковский не мог бы согласиться с Вяземским, который приравнивал поэтический перевод к «голому, но подробному чертежу», имеющему значение лишь информационное и не способному пробудить в читателе живое эстетическое переживание. Вяземский не раз высказывал свое восхищение талантом Жуковского, но даже и при этих обстоятельствах подчеркивал несогласие с его принципами. «Почву и климат» страны переводимого поэта Вяземский пытался сохранить не столько воссоздавая стилистическую систему подлинника (как делал Жуковский), сколько калькируя фразеологию и синтаксический строй иностранного языка. Теория и практика Вяземского уводили поэтический перевод от того плодотворного пути, по которому шли поэты-романтики и позднее реалисты, создавшие русское искусство перевода стихов. Впрочем, у него нашлись последователи, пусть и не слишком многочисленные. Наиболее видным среди них оказался Фет, в XX веке — Шенгели, отчасти Брюсов, а также ряд поэтов-переводчиков, группировавшихся вокруг издательства «Academia». Однако главное направление русского стихотворного перевода шло мимо школы Вяземского; оно представлено именами Гнедича, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, К. Павловой, А. Толстого, Бенедиктова (переводы из Барбье), Курочкина, а позднее, в XX веке, практикой Блока, Лозинского, Маршака и многих других.
6
«Батюшкову немного недоставало, чтобы он мог перейти за черту, разделяющую большой талант от гениальности. И вот почему он всегда находился под влиянием своего времени. А его время было странное время, — время, в которое новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое дружно жили друг подле друга, не мешая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на веру, по преданию, благоговело перед его богами»[36].
Так писал Белинский о первых полутора десятилетиях своего века и о месте в нем Батюшкова. Как переводчику мы обязаны Батюшкову Эваристом Парни, который был французским поэтом большого темперамента и изящества, близким и к Вольтеру, и к стилю рококо; кроме того, Батюшков обогатил русскую поэзию своими переводами антологической лирики, в которой читателям впервые раскрылся внутренний мир грека, оказавшегося отнюдь не отвлеченной идеей человеческого совершенства, а простым и грешным земным существом, одним из многих представителей рода людского. Отмеченное Белинским сосуществование старого и нового, характерное для всей эпохи, в высшей степени свойственно и Батюшкову. С одной стороны, это старая стилистическая система классицизма — безличная, основанная на привычных словесных соединениях и опустошенных условных метафорах, с другой — новая система, гордость которой в индивидуальной неповторимости словосочетаний, в экспрессии живой образности: и то и другое живет как в оригинальной, так и в переводной поэзии Батюшкова, который явно сознает «гетерогенность» своей стилистики и играет на ней, извлекая из столкновения между старым и новым неожиданные эффекты. Этой стилистической противоречивостью Батюшков отличался от школы Жуковского с ее гармонической цельностью стиля. Эта же особенность Батюшкова предрекает пушкинскую многоплановость.
Батюшкова интересовал не сумрачный мир германского романтизма, как Жуковского, а светлое, легкое искусство французской элегии XVIII века и «нравственное бытие» эллинов, о которых С. С. Уваров в статье (написанной, очевидно, совместно с Батюшковым) говорил: «Для древних жизнь была все: для нас самая жизнь есть только переход к другому, совершеннейшему бытию. Они устремляли неизмеримую силу своего гения на кратковременное поприще настоящего; нас, может быть — против воли, сердце увлекает в невидимый, но известный край, где другое солнце, другое небо нас ожидают»[37]. Таким образом, греческий тип красоты — не абсолютный идеал, каким он был для классиков, а лишь один из возможных типов. Само противопоставление «греки и мы» означает крах классицистической эстетики. Батюшков воплотил свое представление о множественности идеала в оссианических стихотворениях и переводах (например, поэмы Парни «Иснель и Аслега»), а также в переводах из греческой антологии. Воссоздавая стихи эллинских поэтов, Батюшков стремился к раскрытию внутреннего мира древних, далеких от его современника по формам конкретной образности, но близких ему по содержанию мышления. Преобладающее внимание к внутреннему миру ведет к пренебрежению внешней формой: Батюшков и не пытается воспроизвести элегический дистих подлинника, довольствуясь более или менее привычным разностопным ямбом или хореем. Психологический тип сознания (а также музыкальность русского стиха) для него важнее историко-культурной конкретности поэтических форм. Нежелание Батюшкова следовать античным размерам носило, видимо, программный характер: он стремился к музыкальности, гармонии, мелодичности поэзии и такие качества сообщал стиху наиболее эффективными средствами. Вряд ли случайна и другая особенность Батюшкова: подобно Жуковскому, он одним и тем же стихом передает различные формы подлинника, — в переводах из Тибулла он использует александрийский стих вместо древнегреческого элегического дистиха, а в переводе отрывков из «Освобожденного Иерусалима» Тассо или в подражании 4-й канцоне Петрарки («Вечер») тем же александрийцем заменяет итальянский одиннадцатисложный стих.
Перед русской поэзией стояла существенная задача — привести новое содержание в соответствие с формами стиха, которые должны были образовывать с этим содержанием органическое единство. Поиски Батюшкова шли в другом направлении, однако они тоже имели — как показала практика — огромное значение для становления и развития русской поэзии. Такова, например, борьба, которую вел Батюшков за благозвучие, гармонию, мелодичность поэтической речи. В сознании Батюшкова эта борьба носила характер лингвистический: сопоставляя русский язык с итальянским, он решительно предпочитал последний и не всегда отдавал себе ясный отчет в том, что сражается не против того или иного языка, а против определенного, исторически сложившегося поэтического стиля, против известной незрелости стихотворной речи. В письме Н. И. Гнедичу он в 1811 году спрашивал: «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ, что за Ш, ШИЙ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарки, из уст которого чтó слово, то блаженство»[38].
Противопоставление итальянского языка грубому, немузыкальному русскому (а также другим северным языкам — немецкому и английскому) — постоянный мотив батюшковских статей. Это расхождение языков толкает Батюшкова на вывод, который он многократно повторяет: о непереводимости итальянской поэзии на другие языки. В статье об Ариосто и Тассо читаем: «Вы без малейшего усилия следуете за чародеем (Ариосто), вы удивляетесь поэту и в сладостном восторге восклицаете: Какой ум, какое дарование! А я прибавлю: Какой язык! Так, один язык италиянский (из новейших — разумеется), столь обильный, столь живой и гибкий, столь свободный в словосочинении, в выговоре, в ходе своем, один он в состоянии был выражать все игривые мечты и вымыслы Ариоста, и как еще? в теснейших узах стихотворства (Ариост писал октавами). Но перенесите этого чародея в другой век, менее свободный в мыслях, более порабощенный правилам сочинения, основанным на опытности и размышлении, дайте ему язык северного народа, какой заблагорассудите, английский или немецкий, например, и я твердо уверен, что певец Орланда не в силах будет изображать природу так, как он постигал ее и как описал в своей поэме, ибо — еще повторю — поэма его заключает в себе все видимое творение и все страсти человеческие… Язык у стихотворца то же, что крылья у птицы, что материал у ваятеля, что краски у живописца»[39].
Здесь Батюшков в первую очередь говорит о различиях между языками, однако указывает и на различия другого рода — между стилистическими системами («перенесите этого чародея в другой век… более порабощенный правилам сочинения» — видимо, имеется в виду эпоха классицизма XVII–XVIII веков). Так или иначе, перевод Ариосто на «северный язык» кажется Батюшкову немыслимым. И он сам, цитируя в той же статье Тассовы октавы, переводит их для читателя прозой:
«Лежит конь близ всадника, лежит товарищ близ бездыханного товарища, лежит враг близ врага своего, и часто мертвый на живом, победитель на побежденном. Нет молчания, нет криков явственных, но слышится нечто мрачное, глухое — клики отчаяния, гласы гнева, воздыхания страждущих, вопли умирающих»[40].
В том же 1815 году в статье о Петрарке тоже даны переводы прозаические, и Батюшков уже с полной определенностью говорит о непереводимости сонетов и канцон своего любимого лирика. При этом он ссылается на свойства итальянского языка, который характеризует как «очаровательный язык тосканский, исполненный величия, сладости и гармонии неизъяснимой…»[41]. И в связи с поэзией Петрарки пишет: «Стихи Петрарки, сии гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой язык, ибо ни один язык не может выразить постоянной сладости тосканского и особенной сладости музы Петрарковой»[42].
Как бы там ни было, эти декларации не послужили Батюшкову основой для пессимистических заключений: он много и даже, можно сказать, неутомимо переводил стихи — в том числе произведения итальянских поэтов: Петрарки (1810), Тассо, Ариосто. К тому же через два года после цитированных статей он записал в своем дневнике рассуждение, в значительной мере опровергающее предыдущие: «Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно было бы русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французского уха, и наоборот. Гармония, мужественная гармония не всегда прибегает к плавности. Я не знаю плавнее этих стихов:
На светло-голубом эфире Златая плавала луна, и пр.и оды „Соловей“ Державина. Но какая гармония в „Водопаде“ и в оде на смерть Мещерского:
Глагол времен, металла звон![43]»Задача поэта, согласно взгляду Батюшкова, — развивать и обогащать язык, который «у стихотворца то же, что крылья у птицы». При этом Батюшков сопоставляет музыкально-фонетические возможности русского и итальянского, не задумываясь, над специальными ассоциациями, связанными с той или иной стилистической системой. Он оперирует категориями не историческими, не стилистическими, но общеязыковыми: итальянский язык, каким он предстает в творениях великих поэтов, обладает такими средствами художественной выразительности, которые чужды русскому (а также немецкому и английскому). В русском же языке содержатся внутренние возможности, которые можно извлечь на поверхность, которые требуют обнаружения и совершенствования в поэтическом творчестве. Эти возможности можно развить, используя опыт древних итальянцев и отыскав в русском языке равноценные итальянским гармонию и мелодию. Однако, поскольку «каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию», следует найти в русском специфические, одному ему свойственные качества.
Читая 2-ю часть «Опытов в стихах и прозе», Пушкин в ряде мест отмечает гармонию батюшковских стихов. Так, против строк «Воспоминание» (1815 — в позднейших изданиях «Элегия») он пишет: «Последние стихи славны своей гармонией». Пушкин отмечает совершенство гармонии и в таких стихотворениях, как «Таврида», «Мечта», «Мои пенаты» («слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна»), «Радость» («Вот батюшковская гармония»). Против строки из стихотворения «К другу» — «Любви и очи и ланиты» — Пушкин замечает: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков»[44]. Вероятно, Батюшков был бы глубоко удовлетворен такой оценкой «маленького Пушкина», которому, как он писал, «Аполлон дал чуткое ухо», — ведь именно к обогащению русского поэтического языка итальянским звучанием он и стремился. «Итальянские звуки» Пушкин услышал в зияниях — стыке гласных и (любви и), в плавных л (лю—ла), в преобладании на ударных местах того же и. Подобного рода «итальянских звучаний» у Батюшкова встречается немало, в особенности в его переводах с итальянского и подражаниях. Так, в «Радости», отмеченной Пушкиным за гармонию и представляющей собой перевод стихотворения Джамбатисты Касти (1724–1803):
Мне лиру тиискую Камены и грации Вручили с улыбкою… —двухстопный амфибрахий с дактилической клаузулой, избранный Батюшковым для этого перевода, дал ему возможность максимально насытить стих переливами гласных звуков (в особенности благодаря дактилическому окончанию).
Батюшков стремился к гармонии стиха, у иноязычных авторов он искал ее секретов, а в русском языке — особых, специфических свойств и средств для ее достижения. Однако гармония носила у него характер отвлеченный, в его системе это — идеальное свойство стиха.
Дальнейшие поиски русской поэзии шли в направлении точного, стилистически определенного слова, гармонии не вообще, а конкретной для каждой данной мысли, темы, эмоции. Такую конкретную гармонию открыл для русской поэзии Пушкин, который создал множество гармонических форм стиха применительно к разнообразнейшим вариантам смыслового и эмоционального содержания.
7
Новые темы, мысли, нравы, новое содержание требовали иных форм стихового выражения. Резко обострилось противоречие между эстетическими принципами романтического и, позднее, реалистического искусства — и традиционной формой александрийского стиха, которая в былое время считалась наиболее приближенной к отвлеченному, теперь уже развенчанному идеалу стиха.
В 1822 году П. А. Катенин развивает два аргумента, направленных против александрийского стиха; возражения его касаются не александрийского стиха как такового, но художественно неправильного всеобщего его применения, абсолютизации этого стиха как некоего поэтического идеала. Второй аргумент Катенина связан с необходимостью соблюдать единство содержания и формы; всякое содержание, по мнению Катенина, неизбежно требует особой, специфической формы. Споря с Катениным, Орест Сомов выдвинул принципиальное возражение против поисков эквиметрических решений в переводе иноязычных стихов; он отрицал эстетическую функцию стиховых форм, возводя их исключительно к свойствам того или иного языка. Не в форме стихов и не в числе стоп состоит совершенство хорошего перевода, а в том, чтобы сохранить дух и отличительные свойства поэзии подлинника. Орест Сомов не обнаруживает качественного различия между «мерами стиха»; никакая из них не связана для него с традициями, с тем или иным определенным содержанием. В сущности позиция Сомова соответствует позиции его современников — Жуковского и Батюшкова, которые тоже могли бы сказать, что поэт-переводчик «совершенно волен выбирать такую меру, которую почтет за лучшую и удобнейшую». Катенин в этом вопросе более строг, более историчен. Переводческая практика Катенина и, в частности, его отношение к вопросам метра и ритма связаны с его общеэстетической позицией[45].
Как переводчик иностранной поэзии, Катенин активно вводил в русскую литературу ей неведомые, казавшиеся чуждыми ей стили. Таковы, например, два существенных для нашей поэзии нововведения, являющихся, по сути дела, открытиями новых стилей — испанского народного романса и Дантовых терцин.
В споре Катенин — Сомов речь идет не только о вопросах метрических и даже не столько о них, сколько о проблеме строфической организации стихотворного повествования.
Рядом с именем Катенина в истории русской переводной поэзии стоит имя С. П. Шевырева. Шевырев, начинавший с шеллингианства, был видным пропагандистом исторического подхода к развитию русской литературы и как историк поэзии вел решительную борьбу против эстетизирующих действительность классиков. Для него классицизм — это область утешительной иллюзии, успокоительной гармонии, ложной красоты. Шевырев трактует такой классицизм очень широко, распространяя его на обширные области современного искусства, даже на некоторые стороны пушкинской поэзии, в которой он тоже видит чрезмерную ясность, чистоту и классическую гармоничность, отзывающуюся «волшебным обманом». Поэтическая речь, стандартизируясь, превращается в пустую форму, неспособную выражать новые мысли и даже, напротив, заглушающую их. С точки зрения Шевырева губительной для поэзии является языковая инерция, сглаживающая противоречивую сложность мысли, которая нищает, принимая линейность рационалистического суждения. Он требует разрыва с остатками классической традиции и построения новой эстетики, во всем противоположной предыдущей. Борясь за обновление поэтической системы, он сосредоточивает внимание на переводе, который дает наиболее реальную возможность новаторской перестройки русской поэзии. Шевырев исходит из необходимости пересаживать на русскую почву все, что может обогатить родную словесность и что может быть усвоено русским языком. Недостаток силлабо-тонического стихосложения, по Шевыреву, сводится к тому, что оно порождает гладкость, однообразие, изнеживающую ухо монотонность. Шевырев, правда, признает разнообразящую стих функцию пиррихия; но этого, по его мнению, мало: поэтическая гармония требует более звучной «мелодии», растворяющей монотонию.
Шевырев предлагает два направления для реформирования русской просодии в целях передачи всех художественных особенностей итальянской октавы. Первое — ритмическое. Необходимо разнообразить русский стих использованием некоторых ритмических ресурсов силлабики. Второе направление перестройки стиха касается рифмы как таковой. Шевырев видит следующие возможности для осуществления реформы в области рифмы: 1) отказ от педантичного принципа «зрительных рифм» в пользу рифм акустических; 2) допущение составных рифм; 3) допущение глагольных рифм; 4) допущение ассонансов. Шевырев ожидает, что переворот в русской поэзии наступит благодаря усилиям поэтов-переводчиков, которые заимствуют в иностранных литературах то, что может обогатить отечественную. Он и сам приводит образцы новых стиховых форм, предлагая читателям перевод «Освобожденного Иерусалима» и таким образом вступая в борьбу со своими предшественниками Мерзляковым и Раичем, переводившими поэму Тассо[46].
Стихи Шевырева нарочито, так сказать, экспериментально нескладны, или, как он говорил о них сам, резки, жестки, даже грубы. В них есть попытка добиться максимума экспрессии: это выражается в порывистом, порой уродливом синтаксисе, в ломающих инерцию стиха переносах, в необычайных и казалось бы невозможных образах и словосочетаниях.
История поэзии XIX и в особенности XX века показала, что поиски Шевырева были не так уж бесплодны. Например, его идеи касательно рифмы позднее осуществились: «зрительная рифма» оказалась отброшенной, преодоленной; рифмы составные проложили себе дорогу сначала в шуточных и сатирических стихах (Минаев, Саша Черный), а потом несерьезной, даже трагической поэзии; глагольные рифмы утвердились уже в стихах Пушкина; ассонанс завоевал себе прочное положение — в стихах Блока, Есенина, Маяковского, Тихонова он стал равноправен с точной рифмой. Все это было предсказано Шевыревым. Ритмические нововведения Шевырева (соединение ямбов с хореями, внедрение элементов силлабики в тонический стих), сильно видоизменившись, отразились впоследствии в дольнике, акцентном стихе, «тактовике», — в переводе именно итальянских октав они развития не получили. Автор одного из последних переводов «Освобожденного Иерусалима» Дмитрий Мин воспользовался, однако, рядом советов и указаний Шевырева, облегчивших построение октавы. Лексика Мина, образность его перевода и характер рифм вызывают в памяти перевод Шевырева.
В русскую поэзию октава вошла в результате энергичных усилий переводчиков Тассо и — в меньшей степени — Ариосто. Однако решающую роль в «акклиматизации» октавы все же сыграл Пушкин. Созданная, вероятно, независимо от идей Шевырева, поэма Пушкина «Домик в Коломне» (1830) оказалась веским, может быть, самым веским аргументом в борьбе вокруг русской октавы.
Чтобы была русская октава, нужны большие рифменные ресурсы; и они, согласно Пушкину, существуют — нужно только отказаться от классицистической догматики. В этом вопросе Пушкин спорит с Катениным и солидарен с Шевыревым (или предвосхищает его). Пушкина привлекает организованность, упорядоченность октавы, ее целостность и законченность, ее концентрированность. Это строфа, перерастающая в главу: из композиционной единицы, организующей стих, она превращается в сюжетно-композиционный элемент стихотворного повествования. На фоне сжатой энергии октавы каждый элемент стихотворной речи приобретает особую выразительность:
Тут каждый слог замечен и в чести, Тут каждый стих глядит себе героем.Организация стихотворного текста в строфы такого типа, как октавы, означает дальнейшее усиление закономерности: ритмический строй стиха поддержан ритмическим движением поэтического повествования; ритм строк поддержан ритмом строф-главок. Пушкин парадоксально использует свойство этой кристаллической формы: иногда он разрушает целостность октав переносами из строфы в строфу, но таким образом лишь подчеркивает их целостность.
Позиция Пушкина относительно октавы сводится к следующему: художественная ценность октавы несомненна, и это оправдывает ее заимствование для русской поэзии у итальянцев; осуществить такое заимствование можно ценой достаточной свободы в выборе рифм; чтобы итальянская октава привилась на иной почве, нужно научиться сочетать новую для русской поэзии форму с элементами стиха привычными, ставшими уже традицией для русского читателя. Не ломать старое, но прививать новое — вот программа Пушкина. Она расходится с программой Шевырева, которую можно формулировать так: ломать старое, и на пустом месте создавать новое. Расхождение, конечно, серьезное, но и общая платформа достаточно устойчивая: прививать новое.
8
Пушкин, переводя, стремился освободить стихотворение от того, что ему представлялось случайным. Он хотел дать жанр оригинала в чистом, беспримесном виде и потому иногда редактировал оригинал. В этом смысле Пушкин разделял взгляды таких своих учителей, как Батюшков и Жуковский. Но анализ пушкинских переводов до 1825 года (Парни, Шенье) говорит еще об одной особенности подхода Пушкина к поэтическому произведению: он видит в нем прежде всего художественное целое, которое именно как художественное единство и должно быть передано на другой язык. В понимании произведения как системы Пушкин пошел дальше своих учителей. Для Батюшкова и Жуковского единство произведения обеспечивалось субъективным единством авторского переживания; для Пушкина единство носит характер объективный, и оно может быть воссоздано разнообразнейшими средствами, которые вовсе не обязательно повторяют средства, использованные иностранным автором. Поэтому Пушкин так свободен в выборе средств внутри уже понятой им художественной системы. Первая трудность, стоящая перед поэтом-переводчиком, сводится к тому, чтобы эту систему осмыслить как целое. Величайшее завоевание Пушкина — восприятие художественного произведения как целостной системы — было утрачено рядом поэтов начала XX века, в частности В. Брюсовым и другими символистами. Вместе с тем была утрачена и оптимистическая уверенность в том, что, как бы ни были различны языки, национальные традиции, нравы, обычаи, нет и не может быть непереводимых произведений поэзии: непереводимы лишь частности, целое всегда поддается воссозданию.
Одной из самых ярких и, во всяком случае, самых обширных работ Пушкина в области поэтического перевода можно считать те одиннадцать «Песен западных славян», которые переведены из книги Проспера Мериме «Гюзла» (1827).
Мицкевич перевел одно из стихотворений сборника Мериме — «Морлак в Венеции» (1827–1828). Сравнение этого перевода Мицкевича с пушкинскими «Песнями» (особенно со стихотворением «Влах в Венеции») наглядно показывает различия между подходом к своей задаче обоих поэтов — польского и русского. Мицкевич оснастил свой перевод звучными рифмами и, сохранив текстуальную близость к подлиннику, преобразовал повествовательный монолог Мериме в традиционную романтическую балладу. Вот как звучит у Мицкевича последняя строфа стихотворения (в довольно близком русском переводе):
Бывало, встречаешь знакомых в горах, Тебя обласкают, как друга родного, Расспросят о жизни твоей и делах, А тут не услышишь приветного слова. Я здесь — муравей, что из чащи лесной Заброшен в пучину, захлестнут волной. (Перевод М. Живова)Та же заключительная строфа в пушкинском переводе:
Как у нас, бывало, кого встречу, Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!» Здесь не слышу доброго привета, Не дождуся ласкового слова; Здесь я точно бедная мурашка, Занесенная в озеро бурей.У Мицкевича, как можно судить даже по переводу на русский, фольклорность потонула в романтической форме, важнейшая черта которой — строфа-шестистишие одиннадцатисложника, сообщившая стихотворению изысканно-книжный характер. Мицкевич, видимо, сделал это сознательно. Пушкинская концепция была и проще и последовательнее: в его переводе «Влах в Венеции» можно, вероятно, прочитать следы споров, которые вспыхивали между Пушкиным и Мицкевичем по поводу «иллирийских стихотворений» Мериме; Пушкин ничуть не собирался украшать безыскусственные «песни полудикого племени». Преодолевая стилистическую нейтральность текста-«посредника», то есть текста Мериме, он постарался увидеть за ним воображаемый простонародный оригинал. Тщательно реконструируемый Пушкиным, этот «оригинал» отличается от текста Мериме отчетливо фольклорным характером. Просторечность выражается прежде всего в лексике. Весьма последовательно отобраны Пушкиным и разговорно-просторечные синтаксические конструкции, не имеющие аналогий во французском тексте. Разница между переводами Мицкевича и Пушкина не внешняя, а сущностная, — это разница между творческими методами. Верный романтическим принципам, Мицкевич возводит свой перевод к субъективно понятому идеалу романтической баллады. Как Батюшков и Жуковский, как Шиллер и Шамиссо, романтик Мицкевич не осознает культурно-исторической осмысленности внешних элементов поэтической формы; она, эта форма, должна лишь отвечать субъективному вкусу и намерениям поэта в данный момент, отвлеченной идее гармонии и красоты. Пушкин смотрит на форму, и даже на сугубо внешние ее черты, иначе: для него форма насквозь пронизана содержательностью, в ней нет и не может быть ничего нейтрального, заменимого, она, собственно, и есть содержание, ибо голое смысловое содержание, лишенное единственно соответствующей ему формы, для Пушкина оказывается — как это ни парадоксально — пустым, опустошенным, то есть в конечном счете неполноценным «содержанием».
Мицкевич довел до предела романтические черты, заложенные в «Гюзла»; Пушкин постарался начисто их устранить и пробиться к реальному народному творчеству западных славян, просвечивавшему сквозь тексты Мериме. Пушкина в 1828–1834 годах «местный колорит» французских романтиков интересовал меньше всего. Его привлекали не «нравы», не экзотика, не декорации романтической «оперы», но историческое своеобразие минувших эпох, национальные особенности разных народов, иначе — строй сознания людей разных времен и наций. Пушкина в неизмеримо большей степени, чем его предшественников (Востокова или Катенина), занимали вопросы не только просодии, не только стиля, но и воссоздания национальных и исторических характеров, требующих в каждом отдельном случае лишь одного, строго определенного стихового и, шире, стилистического решения.
До Пушкина содержание и форма поэзии были в большей или меньшей степени разъединены, между ними образовывался некий зазор, приводивший к известной автономности элементов внешней формы, — прежде всего это относится к метру, ритму, лексическому строю стихов. Только в реалистическом творчестве Пушкина все без исключения внутренние и внешние элементы произведения оказались сведенными в систему, управляемую всевластными закономерностями. Смысл, стиль, звук — эти три компонента поэтического слова в поэзии Пушкина образовали нерасторжимое единство. Способность к перевоплощению, «протеизм», всемирная отзывчивость Пушкина — результат реалистической концепции искусства слова, ведущей к гармонии содержания и всех элементов внутренней и внешней формы.
9
Первая треть XIX века в России — золотая пора и поэзии в целом, и поэтического перевода. За этот недолгий для истории срок — от рождения до смерти Пушкина — переводческое искусство, только подготовленное творчеством драматургов, одо- и баснописцев прошлого столетия, прошло путь огромный и невиданно стремительный. Оно уже имело таких мастеров, как Жуковский и Батюшков, Баратынский и Иван Козлов, Крылов и Востоков, оно обогатилось стихами Мерзлякова и В. Туманского, Э. Губера — первооткрывателя «Фауста» — и Дельвига, Кюхельбекера и Тютчева, Шевырева, Раича, Катенина и Дмитриева… Оно достигло высокой реалистической зрелости в поэзии Пушкина. Благодаря усилиям многочисленных переводчиков-поэтов в русскую литературу вошли как полноправные ее участники Гомер, Анакреон, Гораций, Тибулл, Вольтер, Парни, Корнель, Андре Шенье, Байрон, Саути, Вальтер Скотт, Томас Мур, Шиллер, Гете, Уланд, Тассо, Ариосто; русская поэзия начала знакомиться с фольклором других народов — благодаря Востокову, Катенину и, конечно, Пушкину. Это была пора радостных открытий множества неведомых дотоле поэтических миров — правда, пока еще только в пределах Европы. Профессионалов-переводчиков в те годы не было; были поэты, которые писали стихи — свои или переводные. У одних собственное творчество преобладало над переводческим, другие больше переводили, чем писали сами, — как Жуковский, И. Козлов, Востоков, Раич, — но каждый из них мог сказать словами Жуковского: «У меня почти все чужое, и все, однако, мое». Последними в этой блестящей плеяде были три поэта, которые внесли немало в историю русского романтического перевода, — Лермонтов, Полежаев, Тютчев. На этом непрерывная традиция оборвалась.
Начиная с 40-х годов русская поэзия переживала серьезный кризис. Герцен считал, что ее вытеснила проза около 1842 года: «Кольцов и Лермонтов, — писал он, — вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела»[47].
Онемела — это, пожалуй, сказано слишком сильно. Факт, однако, таков: поэзия напряженно (и часто безуспешно) искала новых путей — ей нужно было размежеваться с великой прозой этих десятилетий, очень полно выражавшей интересы общества. Одним из вновь обретенных путей было творчество Некрасова, другим — творчество Фета.
Поэтический перевод не стоял на месте — русская литература продолжала обогащаться за счет других национально-поэтических культур. Переводчики развивали дело Пушкина — они пытались завоевать для русского языка и стиха всё новые области. Особенностью наступившей эпохи было то, что перевод все больше отделялся от оригинального творчества, все больше превращался в самостоятельную профессию. Характерны фигуры Струговщикова, Ф. Берга, Костомарова, Мина — и они, и многочисленные их собратья были профессионалами-переводчиками. Пушкин, поставивший в центр внимания национально-исторические особенности переводимого автора, открыл дорогу к переводческой профессии, — в этом смысле названные стихотворцы шли в направлении, предуказанном Пушкиным. Но они не обладали ни достаточным талантом, ни отчетливым сознанием своих художественных задач. Некоторые из них сочли необходимым опровергнуть субъективного, своевольного Жуковского и создать более верное, более отвечающее реальности, чем лирическому чувству, отражение поэзии Гете и Шиллера. Со стороны и Струговщикова и Ф. Миллера это оказалось попыткой с негодными средствами; у каждого из них были удачи, но Жуковского им преодолеть не удалось.
Пушкин тоже спорил с Жуковским: в переводах он, Пушкин, отступал на второй план, предоставляя слово автору, — как поэтическая личность Пушкин был достаточно велик, чтобы найти в себе и Вольтера, и Парни, и Шенье, и Анакреона. У его эпигонов, пытавшихся опровергнуть Жуковского, личность переводчика тоже не доминировала — но лишь потому, что ее у них не было совсем. Струговщиков после Жуковского переводил Шиллера и Уланда, но уже Дружинин беспощадно обличил убогость его стихов. Ф. Миллер, видимо, вполне серьезно полагал, что в читательском сознании перевод Жуковского будет заменен его «Царем лесов»:
Кто скачет сквозь ветер под мраком ночным? Отец запоздавший с малюткой своим. Заботливо сына он к сердцу прижал, От холода ноги его согревал…Как бы Ф. Миллер ни стремился к объективности, такими стихами он никого убедить не мог.
И все же сама по себе тенденция, ориентированная на Пушкина и имевшая конечной целью по возможности достоверней передать средствами русского стиха иноязычных авторов в полном объеме их наследия, была плодотворной. Следует особо отметить издания, осуществленные крупным литературным деятелем второй половины XIX века Н. В. Гербелем, — своды стихов и поэм Шиллера, Байрона, Гете в переводах русских писателей, снабженные тщательно составленными библиографическими указателями и включавшие тексты почти всех художественно значимых переводов одного и того же произведения; в середине 70-х годов Гербель выпустил капитальные антологии славянских, немецких и английских поэтов «в биографиях и образцах», для которых многие стихи были переведены специально. Сам Гербель был поэтом более чем скромного дарования (хотя известный интерес представляют его переводы из славянских поэтов), но его литературно-организационная и редакторская деятельность еще не оценена по заслугам.
В числе поэтов-переводчиков этих десятилетий были незаурядные таланты, поднявшиеся над общим уровнем. Две книги Н. В. Берга — «Сербские народные песни» (1847) и «Песни разных народов» (1854) — открыли русской литературе неизвестные ей фольклорные богатства многих стран; немецкий филолог Якоб Гримм писал в предисловии к «Сербской грамматике» Вука Стефановича: «Если кто-нибудь попробует перевести эти стихи на русский, на богемский, — все их очарование, все их неподражаемое простодушие неминуемо будет ослаблено или улетучится»[48]. Н. В. Берг опроверг скепсис Гримма — в его переводе не только сербские, но и многие другие песни обрели полноценную вторую жизнь. Берг разработал свою теорию перевода народных песен, которую изложил в обширном предисловии к «Песням разных народов», где, между прочим, говорится: «Если станете ловить каждый изгиб, каждую подробность, вы свяжете себе руки. А тут, в народном языке, всего нужнее свобода слова. Нужно, чтобы все было народно, откликалось бы сердцу вашего народа точно так же, как откликается подлинник сердцу того, кому он свой, чтобы ничто чуждое не останавливало, не цепляло»[49]. При этом Берг не поддается соблазну русификации — он ориентируется на пример Пушкина, в частности на его перевод сербской песни «Бог ником дужан не ocтaje» (у Пушкина «Сестра и братья»), в котором поэт жертвует всем, что можно без ущерба опустить, но любой ценой оставляет такие места, которые как «звезды, светящиеся (в) памяти народа»; знаменитый стих о змеях — «Очи пиjу, у траву се Kpиjу» Пушкин передает: «Пьет ей очи, сам уходит к ночи», сохраняя структуру образа и стиха.
Н. Берг должен занять подобающее ему почетное место в истории русской переводной поэзии; особенно велика его доля в процессе усвоения нашей литературой сербского фольклора, — процессе, в котором до Берга участвовали Востоков и Пушкин, а через столетие после Берга — А. Ахматова.
Н. Берг, как сказано, стремился к тому, чтобы «ничто чуждое не останавливало, не цепляло», но он не переходил грань, за которой начинается безудержная русификация, разрушающая подлинник. Между тем такого рода метод был в то время до известной степени распространен. За десять лет до выхода «Сербских народных песен» в «Библиотеке для чтения» (1837, т. 25) появился перевод песни Роберта Бернса «John Barleycorn» («Джон Ячменное Зерно»), принадлежавший, видимо, самому О. И. Сенковскому, — он был озаглавлен «Иван Ерофеич Хлебное Зернышко» и начинался так:
Были три царя на Востоке, Три царя сильных и великих, Поклялись они, бусурмане, Известь Ивана Ерофеича Хлебное Зернышко. И вырыли они глубокую борозду, да сбросили его в нее, И навалили земли на его головушку; И клялись они, бусурмане, Что извели Ивана Ерофеича Хлебное Зернышко…Перевод Сенковского, «Мефистофеля николаевской эпохи» (Герцен), был литературным озорством — он игнорировал пушкинские идеи и открытия и как бы возвращал к антиисторизму XVIII века; развитие переводческого искусства шло, однако, в ином, реалистическом направлении. Два десятилетия спустя русский Бернс родился под пером замечательного мастера М. Михайлова — его перевод песни «Джон Ячменное Зерно» был напечатан в «Современнике» (1856, № 6) и, можно сказать, по принципам примыкал к незадолго до него появившимся «Песням разных народов» Н. Берга.
Вообще же М. Михайлов занял прочное место в русской переводной поэзии. Он не был создателем новых методов или теорий, но в пределах уже утвердившейся реалистической системы сделал многое. Современники были обязаны ему возможностью прочесть в художественно убедительном воссоздании трех великих иностранных поэтов, каждый из которых особенно труден для перевода, потому что близок к фольклорной стихии своего народа: это — Гейне, Беранже[50] и Бернс; сквозь их поэзию русским читателям открылись народные песенные миры Германии, Франции и Шотландии. Можно сказать, что Берг и Михайлов сделали одно общее дело неоценимой важности: они приобщили современников к фольклорно-национальной культуре почти всей Европы. Они не были одиноки: в этом труде участвовали другие литературные деятели — Д. Минаев (сербские и болгарские песни), Н. Гербель (украинские) и такой ярко талантливый поэт, как Л. Мей (волынские думы, песни моравские, руснацкие и др.). Последний — в высшей степени характерная фигура в литературе 50-х годов, когда интерес к отечественному и иностранному фольклору необычайно возрос в филологической науке и поэзии и когда этому интересу отдали серьезную дань многие, подчас весьма чуждые друг другу поэты, даже относившиеся к разным идеологическим лагерям. Увлечение Мея фольклором сказалось не только на его оригинальном творчестве поэта и драматурга, но и — в особенности — на его деятельности переводчика. Недаром Добролюбов и вообще считал, что «в поэтической деятельности г. Мея всего замечательнее переводы, представляющие замечательное разнообразие, которое не лишено, впрочем, некоторого внутреннего единства…»[51]. Это единство — в живом понимании народных черт тех еврейских, польских, украинских, греческих, французских, немецких, моравских песен и стихотворений, которые он, хорошо владея многими языками, переводил с оригинала (в отличие, например, от Д. Минаева, владевшего только французским). При всем своем отличии от поэтов некрасовской школы, Мей как переводчик был близок к ним, — и он тоже переводил Беранже (и других поэтов-песенников — таких, как П. Дюпон и Г. Надо), стремясь, по справедливому замечанию исследователя, «сознательно подчеркнуть тематическую и идейную злободневность своих переводов… Установка на неприкрашенный, „прозаический“, предельно точный язык реальной жизни, особая живость и заразительность веселых „куплетных“ интонаций, задорный, вызывающий тон отличают лучшие из меевских переводов».[52]
Все же наиболее крупной фигурой среди поэтов-переводчиков 50—60-х годов был уже упомянутый М. Михайлов, последовательно воплотивший в переводе, которым он занимался не от случая к случаю, а как профессионал, принципы некрасовской поэтической школы. Михайлов оставил огромное и до сих пор не до конца оцененное наследство — переводы стихотворений и поэм более чем шестидесяти поэтов (античных, западноевропейских, славянских), а также многочисленных народных песен. Он видел главную задачу поэта-переводчика в том, чтобы «познакомить как можно ближе, сколько позволяют его силы, с избранным им подлинником читателей, лишенных возможности узнать сочинение в оригинале»[53], и таким образом расширить кругозор публики, развивать, обогащать и совершенствовать русский поэтический язык. Понимая, что «форма постоянно обусловливается содержанием» и что в ней «не может быть ничего произвольного»,[54] Михайлов считал вредным всякое приспособление к привычным для читателя формам, всякие «обыкновенности», — он резко осуждал переводческую практику Э. Губера (которого «пугала в подлиннике оригинальность образов и выражений»[55]) и Н. Грекова (который «прежде всего заботился о гладкости стиха… везде на первом плане у него гладкость, плавность и текучесть своих собственных стихов»); он видел главное достоинство переводного произведения в том, что оно способно привить своей поэзии далекие от нее и казалось бы неосуществимые в ней образные и метрические новшества: «…сила поэтическая, — писал он в программной статье 1859 года об издании Н. В. Гербеля „Шиллер в переводе русских писателей“, — способна усвоять языку самые, по-видимому, чуждые ему формы. Что, кажется, может быть менее русского, чем пятистопный ямб для драм, усвоенный нам тем же Жуковским в „Орлеанской деве“ и окончательно утвержденный „Борисом Годуновым“ Пушкина и другими драматическими его отрывками? Но вот что значит твердость руки гения, распоряжающегося языком, как покорным своим орудием»[56]. Эта позиция вела к тому, что Михайлов высоко поднимал авторитет поэтов-переводчиков, подобных М. Вронченко, написавшему в предисловии к своему переводу «Фауста» (1844) слова, которые Михайлов рекомендовал «заучить большей части наших поэтов»: «При переводе обращалось внимание: прежде всего на верность и ясность в передаче мыслей, потом на силу и сжатость выражения, а потом на связность и последовательность речи, так что забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним»[57]. В особенности ценил Михайлов деятельность Д. Мина: «По силе стиха, по мастерству, с каким владеет он языком, по глубокому такту, позволяющему ему уловлять и передавать главный характер подлинника, нашего переводчика Данта, Крабба и „Песни о колоколе“ мы не обинуясь назовем первым после Жуковского переводчиком»[58]. Эти оценки Вронченко и Мина (особенно первая) явно преувеличены, они более отвечают абстрактной логике михайловской теории, чем объективной истине. Но Михайлову было особенно важно выдвинуть вперед ценность профессиональной деятельности добросовестного переводчика-просветителя. Заметим, кстати, что, борясь за привитие нового, Михайлов стоял на пушкинской позиции — «новое на основе старого», а не на шевыревской — «новое вопреки старому».
10
Общественный подъем 60-х годов выдвинул новые требования к искусству поэтического перевода, придав и ему политическую актуальность. Он захватил даже такого поэта, как В. Бенедиктов, в успехе которого Белинский видел зловещий признак обывательщины, господствовавшей во вкусах русской публики. Но вот в пору общего подъема Бенедиктов переводит поэму Огюста Барбье «Собачий пир», созданную французским поэтом в 1830 году и обличавшую французских буржуа, которые коварно захватили плоды Июльской революции. И перевод Бенедиктова, дышащий политической страстью, оказывается одним из удивительных творений русского переводческого искусства, — это, несомненно, лучший перевод из Барбье, принадлежавшего к числу поэтов, которых больше всего ценили и переводили наши демократы 50-х и 60-х годов. Бенедиктов перевел поэму Барбье сразу же после смерти Николая I — тирана, которого Герцен метко назвал «тормозом» русской культурной жизни. Услышав «Собачий пир» от самого переводчика, Тарас Шевченко был потрясен; в дневнике своем он записал: «Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье. Непостижимо! Неужели со смертию этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер, — поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю… Я дивился и ушам не верил»[59].
Т. Шевченко был изумлен творческим взлетом Бенедиктова, который «не переводит, а воссоздает Барбье». Но ведь это был взлет не только «певца кудрей». В те же годы после смерти «тормоза» появились переводы В. Курочкина из Беранже — переводы, которые тоже были «воссозданием», или даже «созданием» русского Беранже. Задолго до Курочкина песни Беранже переводил автор популярных водевилей Д. Т. Ленский, но цензура решительно противилась опубликованию произведений, которые «по революционному, нечестивому и безнравственному духу» были «противны цензурным правилам» (так писал петербургский цензор в 1831 году). Некоторые переводы Ленского увидели свет в «Современнике», в 1857 году. Но ни они, ни переводы А. Григорьева не сделали Беранже русским поэтом. Переводы Курочкина, печатавшиеся в журналах середины 50-х годов и впервые вышедшие книгой в 1858 году, сразу завоевали французскому песеннику огромную аудиторию. Метод Курочкина был своеобразным. П. И. Капнист был прав, когда писал: «Обладая легким, гибким и звучным стихом, г. Курочкин посвятил себя преимущественно не переводам, а переделке на русский лад песен Беранже. Сохраняя часто дух подлинника, он очень ловко умеет применять разные куплеты Беранже к нашим современным обстоятельствам, так что, в сущности, Беранже является только сильным орудием, и под прикрытием его имени г. Курочкин преследует свои цели…»[60].
Курочкина меньше всего заботила академическая точность: Беранже и в самом деле был для него, как пишет советский исследователь, «новым русским поэтом из лагеря „Современника“ и „Искры“»[61]. И все же при этом Курочкин был не подражателем, а переводчиком — все 89 песен, воссозданные им с разной степенью близости, не подражания, а именно переводы. Только исходил Курочкин из необходимости произвести на своего, русского читателя такое же впечатление, какое испытывает француз, читая подлинные песни Беранже. Так Курочкин понимал задачи перевода, и Н. Добролюбов соглашался с подобной художественно-политической установкой, когда писал в 1858 году: «Большей частью переводы его верно воспроизводят то общее впечатление, какое оставляется в читателе пьесою Беранже… Курочкин лучший у нас переводчик Беранже… переводы его принадлежат к числу лучших поэтических переводов, существующих в русской литературе»[62].
Соратник Курочкина по «Искре» Д. Минаев, который сам придерживался иных переводческих принципов, тоже отдавал должное создателю русского Беранже, называя его «одним из немногих наших переводчиков, постигших, что перевод иностранных поэтов только тогда имеет цену и значение, когда приобретает достоинство оригинального, самобытного произведения… Переводчик обязан передавать только мысль, впечатление, букет подлинника — иначе он будет бесцветным тружеником, педантом буквы… Внешняя близость к подлиннику только делает всякий перевод безличным… В переводах В. Курочкина из Беранже отразилось именно то самобытное творчество, которое не гонится за точной передачей мелких деталей подлинника, но передает его внутреннюю силу, его душу и его оригинальность»[63].
Прямым антиподом Курочкина был А. А. Фет, который в своем переводческом творчестве стремился к тому, что Д. Минаев называл — может быть, имея в виду именно его — «внешней близостью к подлиннику», и который был именно «педантом буквы», — против таких и сражались поэты-искровцы. В предисловии к своему переводу «Энеиды» Фет сам говорил, что «при переводе мы постоянно исполнены опасения, как бы внешнее совершенство русского стиха не отстало от его буквальности, хотя в решительную минуту выбора, не задумавшись, всегда готовы склонить весы на сторону последней»[64]. Этот принцип был для Фета незыблемым — за более чем 20 лет до перевода «Энеиды» он высказывался еще радикальнее, отвергая гениальный лермонтовский перевод из Гете («Горные вершины») как неверный: «Я всегда был убежден в достоинстве подстрочного перевода и еще более в необходимости возможного совпадения форм, без которого нет перевода»[65].
Позиция Фета отражала его общую установку относительно поэтического слова. Курочкин видел в стихотворении орудие общественной борьбы, а в переводимом иноземном песеннике — политического союзника; Фет, переводя, хотел по-русски воспроизвести красоту, недоступную читателю. Он стремился передать черты языковой формы подлинника, видя в этой форме важнейшую особенность поэтического произведения. «В своих переводах я постоянно смотрю на себя как на ковер, по которому в новый язык въезжает триумфальная колесница оригинала, которого я улучшать — ни-ни», — писал Фет Я. Полонскому 23 января 1888 года. Даже в лучших своих работах Фет предпочитал подстрочную точность, или, как он сам говорил, буквальность, подлинной высокой художественности. По замечанию А. В. Федорова, «Фет справедливо отмечал глубокую связь поэтического образа с его языковой основой, но из этого факта он делал совершенно ложный вывод, оправдывая насилие над языком перевода, допускал навязывание ему совершенно чуждых грамматических форм»[66].
Ни В. Курочкин, ни А. Фет не могли определить дальнейших путей переводческого искусства: каждый из них зашел слишком далеко в реализации собственной системы. Обе эти системы по существу были полемическими по отношению друг к другу.
В целом можно сказать, что поэтический перевод второй половины XIX века развивался по следующим линиям:
1. Политическая: поэты-искровцы (Курочкин, Минаев, Буренин и др.) используют западных авторов для пропаганды своих революционно-демократических идей; под прикрытием громкого иностранного имени они создают русскую политическую поэзию.
2. Общественно-просветительская: профессиональные переводчики (Н. Берг, Михайлов, Мин), литературные деятели широкого плана (Гербель) ставят себе целью познакомить публику со всем многообразием иноязычной поэзии, расширить идейный кругозор читателей, обогатить русскую поэзию новыми художественными формами.
3. Поэтически-просветительская: поэты (Фет, Мей, Майков), работая профессионально в области стихотворного перевода, стремятся донести до русского читателя то представление о красоте, которое свойственно поэтам разных эпох и народов и разным языкам, более или менее далеким от русского.
4. Чисто поэтическая, лирическая: поэты (А. Толстой, Апухтин) выражают собственные поэтические замыслы, переводя близких им иноязычных авторов, — их переводы становятся до конца понятны лишь в контексте их оригинального творчества.
Конечно, эти линии нередко переплетались между собой, сливались и снова расходились. Например, Фет как переводчик А. Шенье и Гейне или Мей, переводивший «Слово о полку Игореве», Шевченко и Мицкевича, становились на путь, который мы назвали лирическим. Михайлов, воссоздавая «Белое покрывало» М. Гартмана или того же Беранже, приближался к политической линии искровцев. Н. Берг, экспериментируя в области русской просодии в переводах, скажем, французских народных песен, приближался к линии поэтически-просветительской. И все же в целом намеченная схема отражает общие направления, по которым распределялись поэты-переводчики рассматриваемой поры.
Каждое из них получило в 80—90-е годы дальнейшее развитие. Так, линии политическая и общественно-просветительская соединились в творчестве И. Ф. и А. А. Тхоржевских, печатавшихся под псевдонимом Иван-да-Марья. В начале 90-х годов Тхоржевские подготовили замечательное издание полного собрания песен Беранже, в котором были использованы переводы Д. Ленского, В. Курочкина, М. Михайлова, Л. Мея и др. и для которого Тхоржевские перевели почти все остальные песни, еще не существовавшие по-русски. Лирическая линия соединилась с поэтически-просветительской в творчестве выдающегося поэта и переводчика конца XIX — начала XX века И. Анненского, который открыл русскому читателю множество еще неведомых ему французских лириков второй половины века — не только Бодлера (уже ставшего известным по переводам П. Якубовича), но и Верлена, Рембо, Леконта де Лиля, Сюлли-Прюдома, Малларме, Роллинá, Корбьера, Жамма. При этом Анненский был переводчиком действительно лирическим, и более того — крайне субъективным. Достаточно в качестве примера дать одну строфу из сонета Бодлера «Старый колокол». В оригинале так: «Зимними ночами, сидя у огня, который трепещет и дымит, горько и отрадно внимать тому, как под перезвон, поющий в тумане, медленно поднимаются далекие воспоминания». Современный нам поэт-переводчик В. Левик пишет (1965):
Есть горечь нежная: в безмолвии ночном Внимать медлительным шагам воспоминаний, Когда трещит камин, и вьюга за окном, И колокольный звон разносится в тумане.Не то у Анненского:
Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают И пламя синее узор из дыма вьет, А тени прошлого так тихо пролетают Под вальс томительный, что вьюга им поет.У Анненского все окутано тайной и в то же время слито в единстве переживания. У В. Левика компоненты бытия отделены друг от друга: вот ночное безмолвие, вот воспоминания, вот камин, за окном — вьюга, в тумане разносится колокольный звон. У Анненского тени прошлого не отделены от вьюги, «пламя синее» не упрятано в прозаический камин, и с «узором из дыма» сливаются воспоминания. Бодлер дает основания для того и другого прочтения; сейчас нам важно показать, какова переводческая система И. Анненского, предпочитающего целое — отдельным элементам, единство переживания — точности в перечислении реальных признаков бытия, музыкальное движение — зрительному образу. Переводя Бодлера, Анненский вовсе и не пытался воспроизвести его философию, он выражал через него — себя. Ведь это он призывал сам себя:
Ты чаши яркие точи Для целокупных восприятий.В каждом стихотворении иностранного поэта Анненский прежде всего старается обрести это столь ценимое им «целокупное восприятие»; на той же «целокупности» основано прочтение самим Анненским всякого стихотворения, которое привлекало его как переводчика.
11
И. Анненский был последним поэтом-переводчиком в XIX и первым в XX веке. Он открыл новую главу в истории русского перевода, связанную с именами символистов.
Почти все они переводили, продолжая лирическую линию своих предшественников — ту, которая восходила к Жуковскому и другим романтикам предпушкинских лет. Д. Мережковский, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Ю. Балтрушайтис, В. Брюсов — каждый из них выражал свою жизненную и эстетическую философию в равной степени в стихах оригинальных и переводных. «Ворон» Эдгара По, переведенный Мережковским, Бальмонтом и Брюсовым, дает нам три варианта символистского мироощущения, достаточно близкого у всех трех поэтов, чтобы они выбрали для самовыражения именно эту вещь, и достаточно различного, чтобы все они перевели ее совершенно по-разному. Стихотворение Бодлера «Человек и море» в переводе Вяч. Иванова пережило такую стилистическую трансформацию, что оказалось как бы философским манифестом ивановского спиритуалистического пантеизма. Стихи Шелли и Уитмена, Кальдерона и По, Бодлера и древних китайцев, Руставели и Калидасы под пером Бальмонта сливаются как бы в одну — без начала и конца — исполинскую поэму, разделенную на многочисленные главки, разными метрами и строфами написанные. Вяч. Иванов и К. Бальмонт — весьма несхожие индивидуальности: первый — торжественно отправляющий свою службу жрец, философ-богослов, второй — шаман, упивающийся чарующим перезвоном рифм, переливами гласных, перекличкой созвучий. Но и тот и другой в переводах выражают себя, а не иноязычного автора. Когда-то М. Михайлов, негодуя всего лишь по поводу пристрастия к плавности у Н. Грекова, переводчика «Фауста», гневно восклицал: «Нас хотят знакомить с Гете, а выставляют вперед свою собственную личность. Это уж даже просто неделикатно»[67]. Символисты пошли гораздо дальше Н. Грекова: они вовсе и не «хотят знакомить с Гете», с Петраркой, с Шелли или Уитменом — они хотят выразить только себя и свое мироощущение (это относится даже к переводам Ф. Сологуба из Верлена). Нельзя отказать Бальмонту в серьезных литературных заслугах: так, он первый перевел гигантскую — по объему и значению — лирическую эпопею Шота Руставели. Но в грузинском средневековом миджнуре он захотел увидеть поэта, о котором в характерной для него манере сказал: «Изысканный любовник своей пламенной мечты, любивший любовь свою во имя любления, без чаяния достичь любовью свою любимую» («Предисловие переводчика»). В Руставели он искал себя, в его четверостишиях находил свои поэтические пристрастия. Конечно, Руставели музыкален. Но это не он, а Бальмонт придумал строфу, проникнутую внутренними рифмами и до такой степени певучую, что смысл слов и пластика образов отодвигаются на далекий задний план, уступая место перезвону одуряющих созвучий. Бальмонт гордился тем, что у него, как он писал в своем предисловии, «в каждом четверостишии… восемь рифм, а в шести тысячах строк всего текста Руставели, в русском ее лике, будет двенадцать тысяч рифм». Эти двенадцать тысяч — не количество, а особое качество. Как сказано, смысл заботит Бальмонта в десятую очередь: ему нужно чаровать звуками, гипнотизировать, баюкать. Он творит новые слова — в духе совсем не грузинского средневековья, а именно и только русского декаданса. Вот как звучит у него знаменитая строфа о словах из «Вступления»:
О, теперь слова мне нужны. Да пребудут в связи дружной, Да звенит напев жемчужный. Встретит помощь Тариэль, Мысль о нем — в словах заветных, вспоминательно-приветных, Трех героев звездносветных воспоет моя свирель.Легко понять своеобразие бальмонтовской поэтики, сопоставив эту строфу с переводом Н. Заболоцкого (1955), который как бы намеренно уходил от внешних красот к честной простоте и рассудительности:
Мастерство, язык и сердце мне нужны, чтоб петь о ней, Дай мне силы, вдохновенье! Разум сам послужит ей. Мы прославим Тариэля, утешителя людей, Трех героев лучезарных, трех испытанных друзей.Куда подевались и «жемчужный напев», и «вспоминательно-приветные» слова, и «звездносветные» герои, и даже «свирель»? Заболоцкий трезв и спокоен, его Руставели величав, а не кокетлив. Бальмонт и Заболоцкий — их разделяет полстолетия, но это две непримиримые эпохи, два воюющих между собой вкуса, два полюса.
Уже в 1904 году другой участник символистского движения, В. Брюсов, отдавал себе отчет в том, что Бальмонт создает в сущности антипереводы. Он писал 17 мая 1904 года в издательство «Парус» П. П. Перцову: «Известность Бальмонта и даже знаменитость его как переводчика — нечто губительное для иностранных поэтов. Ему поручают и Шелли, и По, и Гауптмана, и Кальдерона, и Метерлинка… и он всех их губит в самом точном смысле слова. Показать, что Бальмонт из плохих переводчиков — худший, — следовало бы…»[68].
Бальмонт был одним из представителей лирического перевода, но огромный вред, о котором говорит Брюсов, объясняется не его лиризмом — при известных обстоятельствах это могло быть даже большим достоинством, как, скажем, в переводческом творчестве Апухтина, который, не отличаясь слишком ярким дарованием, искупал известную заурядность своих переводов искренностью. Апухтин был поэтом-лириком и переводил лишь то, что помогало ему выразить свои сокровенные переживания. Бальмонт же был явлением, в истории русской поэзии беспрецедентным: лирик с определенным и ограниченным творческим диапазоном, он стал переводчиком-профессионалом. Он перевел не просто отдельные стихи Шелли, а полное собрание сочинений Шелли, не «Ворона» Эдгара По, а полное собрание стихотворений По, не отрывок из Руставели, а все шесть тысяч строк «Витязя в тигровой шкуре»… Понятно, почему Брюсов мог считать его «из плохих переводчиков — худшим», а деятельность Бальмонта — губительной.
Нельзя, впрочем, не заметить, что и Бальмонту удавалось создавать настоящие художественные ценности, когда он переводил близких ему по стилю и духу поэтов, — таков, например, Эдгар По. Недаром А. Блок, чьи суждения отличались жесткой бескомпромиссностью, писал о бальмонтовских переводах из этого американского поэта: «Эдгар По требует переводчика, близкого его душе, непременно поэта, очень чуткого к музыке слов и к стилю. Перевод Бальмонта удовлетворяет этим требованиям, кажется, впервые». Прежний перевод — Мих. Энгельгардта — «не приближался именно к основному тону По, не уводил в „глубины“ этого писателя, не сохранял очаровательной „напевности“, которую Бальмонт передает в совершенстве»[69].
В. Брюсов противопоставил бальмонтовскому своеволию принцип, унаследованный им от переводчиков-просветителей прошлого века — от Берга и Михайлова, Мина и Гербеля, а также Фета и Мея. Однако Брюсов стремился к тому, чтобы достойно сочетать этот принцип с высокими традициями лирического перевода А. Толстого и его предшественника — Лермонтова. Он издал несколько больших коллективных сборников, продолжавших начинания Гербеля, — например, книгу «Французские лирики XVIII века», в которой были представлены лучшие переводы Пушкина, Батюшкова, В. Туманского, Н. Маркевича, Н. Грекова, И. Козлова, Жуковского, Д. Давыдова, Баратынского, или прославленную антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней в переводе русских поэтов» (1916), где участвовали сам Брюсов, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, А. Блок и другие современные мастера перевода. В этих своих редакторских и издательских начинаниях В. Брюсов двигался в одном русле с С. А. Венгеровым, продолжателем дела Гербеля, издателем полных собраний сочинений Шекспира, Байрона, Шиллера, Мольера, в которые включались все сохранившие ценность поэтические переводы, созданные в России, — иногда одно стихотворение давалось у Венгерова в четырех-пяти переводах. В. Брюсов также выпустил и в собственном переводе собрания стихотворений Верхарна, Э. По, Поля Верлена, но в основу этих изданий положил научно-филологический принцип объективного истолкования оригинала. Книга Брюсова «Французские лирики XIX века», изданная в 1909 году и составившая позднее 21-й том его собрания сочинений, — это сочетание переводов с добросовестным исследованием, позволившим написать обстоятельный очерк о каждом из представленных в сборнике поэтов и дать библиографию переводов на русский язык. Уже выбор авторов — от элегиков начала века (Мильвуа, Арно, Шенье) до новейших поэтов (Дюамеля, Поля Фора, Жюля Романа) — требовал от переводчика постоянного перевоплощения, поисков различных стилистических систем, научного анализа, который бы предшествовал поэтическому синтезу. Брюсов разработал теоретические основы поэтического перевода, он уже в 1905 году построил учение о составных элементах стихотворения («стиль языка, образы, размер и рифма, движение стиха, игра слогов и звуков») и пришел к выводу: «Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно — немыслимо… Выбор того элемента, который считаешь наиболее важным, составляет метод перевода»[70]. Сам Брюсов, приступая к переводу, стремился определить необходимый в каждом данном случае метод, ибо в разных стихах, с его точки зрения, преобладают разные составные элементы. Не всегда это ему удавалось, — иногда он ошибался, ошибался даже трагически (переводы «Энеиды» Вергилия и «Фауста» Гете). Вообще же надо сказать, что переводы Брюсова зачастую менее убедительны, чем его учение: анализ в них преобладает над художественным синтезом. Как мастер перевода Брюсов редко поднимался до того принципа, который лежит в основе пушкинского искусства: свобода в деталях обеспечена пониманием вещи как поэтической целостности. Именно детали и сковывали Брюсова, искажали его стих, утяжеляли; в поэтическом произведении он чаще видел сумму элементов, чем органическое единство.
И все же провозглашенный Брюсовым научно-художественный принцип поэтического перевода оказался в высшей степени плодотворным. К нему по существу присоединился А. Блок, автор многих и весьма замечательных переводных стихотворений, среди которых важнейшие — переводы из Байрона, Исаакяна, Гейне. В первые годы советской власти Блок принял участие в деятельности издательства «Всемирная литература» и готовил, продолжая дело Гербеля — Венгерова — Брюсова, собрание сочинений Гейне в переводе русских поэтов[71].
Русский Гейне — особая проблема поэтического развития второй половины XIX века. В его создании приняли участие многие поэты несоизмеримых масштабов, разных направлений и мировоззрений: Лермонтов, К. Павлова, А. Толстой, Михайлов, Добролюбов, Мей, Минаев, Вейнберг, Плещеев и другие. На протяжении двух-трех десятилетий возникли бесчисленные разные Гейне: один казался слащаво-сентиментальным эпигоном романтиков, другой — автором традиционных баллад, третий — ироническим скептиком, даже циником, четвертый — яростным политическим сатириком… XIX век так и не собрал воедино эти разрозненные черты, — Гейне, как ни один другой поэт, оказался раздроблен и измельчен, и в этом обширном наследии Блоку пришлось разбираться в 1918 году. Его статья «Гейне в России» (1919) свидетельствует о тщательности анализа громадного материала и о глубокой мотивированности оценок. Так, о Михайлове Блок отзывался с восхищением, считая, что он до сих пор «по качеству переводов не превзойден никем», что большая часть его переводов — «настоящие перлы поэзии…». Однако после этих справедливо высоких слов Блок, которому важно не только звучание русского стиха, но и великий немецкий поэт, добавляет: «Все же — это не Гейне… переводы лишены той беспощадности и язвительной простоты, которая характерна для Гейне; в Михайлове было слишком много того, что называли у нас „романтизмом“»[72]. Вообще же Блок, считая, что к Гейне приблизились только два поэта XIX века — Ап. Григорьев и М. Михайлов, — объясняет это, кроме природного дарования переводчиков, еще и тем, что им помогли «во-первых — косые лучи закатывающегося солнца пушкинской культуры, во-вторых — грозовый воздух, которым была насыщена предреволюционная Европа». Это же можно сказать и о переводах самого Блока (1909), представляющих высшую точку «русского Гейне», — их успех, в частности, связан с тем самым, что Блок назвал «грозовым воздухом» предреволюционной поры. Уже после революции, в конце 20-х — начале 30-х годов, в переводах Юрия Тынянова проявилось именно то самое, чего так не хватало М. Михайлову и что хотел видеть Блок в переводах из Гейне: «беспощадность и язвительная простота». Блок создал Гейне-лирика, Тынянов — политического сатирика.
Брюсов и Блок — оба они стоят у истоков того переводческого искусства, которое составило славу советской литературы. При этом в творчестве Брюсова преобладает начало просветительское, профессиональное, в поэзии Блока — лирическое: все, что Блок переводил, могло быть написано им самим; ему почти не приходилось перевоплощаться, чтобы воссоздать гейневское «Тихая ночь, на улицах дрема…» или «Отрывок» Байрона:
Бесплодные места, где был я сердцем молод, Аннслейские холмы! Бушуя, вас одел косматой тенью холод Бунтующей зимы…12
Линия Брюсова была продолжена и углублена в творчестве М. Л. Лозинского, который, унаследовав от Брюсова его профессионализм, его научно-художественный подход к переводу, не до конца преодолел свойственное Брюсову противоречие: порой у Лозинского детали тоже брали верх над целым. Однако это не слабость, не недостаток, а принципиальная установка: еще слишком велико отвращение к безудержному своеволию, страх перед губительной «бальмонтовщиной»; казалось, только соблюдением строжайшей формальной дисциплины ее можно преодолеть. Впрочем, Лозинский, следуя завету Брюсова, менял метод перевода в зависимости от характера подлинника: он бывал академически точен, переводя «Божественную комедию» Данте, или трагедии Шекспира, или корнелевского «Сида», в философских стихах Леконта де Лиля чувствовал себя свободнее, а в комедиях Лопе де Веги или Тирсо де Молины давал простор творческому воображению. Именно в этих вещах он одерживал свои наивысшие победы — особенно в блистательных переводах из Леконта де Лиля (над ними Лозинский работал в течение двадцати лет, с 1919 года). А. Блок, читавший самые ранние из них, записал в 1920 году в дневнике: «Глыбы стихов высочайшей пробы»[73].
С. Маршак, относившийся почти к тому же поколению, что Лозинский, принадлежал, однако, к иной поэтической школе. Если говорить о выборе оригиналов, то Маршак — переводчик лирический: он не выходил за пределы собственных поэтических пристрастий, — это стихи Блейка (Маршак переводил их в течение полустолетия), песни и эпиграммы Бернса, народные баллады, детские стихи Киплинга, Кэррола и Родари, сонеты Шекспира, афористическая лирика Дмитрия Гулиа. Те вещи, которые отличались от маршаковской системы, под его пером претерпевали известное преображение: они подвергались высветлению, упрощению, «афоризации» — так Маршак перерабатывал шекспировские сонеты, изгоняя из них многосмысленность и загадочную темноту. И все же Маршак, отбирая лишь то, что соответствовало его собственному рационально-лирическому дарованию, стремился к максимальной объективной верности подлиннику, к тому, что сам он называл «портретным сходством» с ним. «Чем глубже и пристальнее вникает художник в сущность изображаемого, — писал С. Маршак в 1957 году, — тем свободнее его мастерство, тем точнее изображение. Точность получается не в результате слепого, механического воспроизведения оригинала. Поэтическая точность дается только смелому воображению, основанному на глубоком и пристрастном знании предмета»[74].
Наряду с Лозинским и Маршаком третьей крупнейшей фигурой в советском искусстве поэтического перевода является Б. Пастернак. Лирический поэт большой индивидуальной силы и резко выраженного своеобразия, он был в то же время профессионалом поэтического перевода: за два десятилетия им воссозданы многие трагедии Шекспира, «Фауст» Гете (обе части), многочисленные стихи французских, немецких, английских, испанских, венгерских, грузинских поэтов — классических и современных. В отличие от Лозинского, он не придавал особого значения сохранению внешней формы подлинника; в отличие от Маршака, не проявлял особой тщательности в отборе. Но в переводе Пастернака самая далекая от нынешнего читателя вещь, принадлежащая не столько текущей литературе, сколько культурному наследию, приобретала современное звучание. Байрон и Ганс Сакс, Гервег и Бараташвили, Шелли и Шекспир начинали говорить образным языком нашего столетия. Конечно, при этом нарушалась историко-литературная перспектива, сдвигались хронологические рамки, искажался национальный колорит. Все это вело к таким значительным утратам, что некоторые критики, близкие к школе Брюсова — Лозинского, вообще отказывались причислять переводы Пастернака к переводам, считая их формой бытия оригинальной поэзии Пастернака.
В своих заметках о переводах Шекспира Пастернак так формулировал взгляд на сущность переводческого творчества: «Дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями, переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности»[75]. Здесь дана целая эстетическая программа, которой Пастернак неизменно придерживался: задача переводчика не в том, чтобы создавать историческую дистанцию между читателем и классической литературой, а в том, чтобы воскрешать в классике свойственную ей жизнь, чтобы она говорила с читателем с непосредственностью окружающей его реальности, а значит — на сегодняшнем обиходном языке. В этой программе содержится невысказанная полемика с историзмом Брюсова — Лозинского и всей их переводческой школы. Поэтому и может Пастернак в переводе 73-го сонета Шекспира не обинуясь сказать совсем уже по-современному:
Во мне ты видишь бледный край небес, Где от заката памятка одна, И, постепенно взявши перевес, Их опечатывает темнота.Чтобы оценить особенности поэтической речи Пастернака, достаточно сравнить эти строки с соответствующими из перевода Маршака:
Во мне ты видишь тот вечерний час, Когда поблек на западе закат И купол неба, отнятый у нас, Подобьем смерти — сумраком объят.Маршак передавал индивидуальную образность шекспировской лирики, тесня традиционные элементы и все же сохраняя их для стилистического фона («купол неба»), Пастернак же идет гораздо дальше, — настолько далеко, что 73-й сонет совсем удаляется от Шекспира и вплотную приближается к Пастернаку, утрачивая даже и следы той стилистической системы, которая задана оригиналом. В отличие от Пастернака, Маршак ограничивает индивидуальную образность законами, продиктованными ему оригиналом.
Сам Пастернак иногда разъяснял свою позицию и тогда бывал весьма определенен. В одном из писем он, например, писал: «Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставляющую места увлечениям языковедческим…» (письмо А. О. Наумовой от 23 мая 1942 г.). В этих бутадах Пастернак неправ: его собратья, названные в письме, вовсе не предавались увлечениям языковедческим — менее всего это можно сказать про Чуковского и Маршака. Да кроме того, между названными четырьмя поэтами-переводчиками общего мало — в каком же смысле их объединяет Пастернак? Видимо, только в том, что, в той или иной степени, каждый из них стремился к воссозданию подлинника как определенной поэтической системы, принадлежащей к конкретному историческому периоду. Пастернак же, переводя, преодолевает историю: воссоздаваемый им автор становится нашим современником.
И все же, как ни отличен метод Пастернака от метода научно-художественной, проникнутой историзмом школы Брюсова — Лозинского и даже Маршака, ему удалось то, что могло бы показаться парадоксальным: большой лирический поэт, став переводчиком-профессионалом и ничуть не отказавшись от свойственного ему лиризма, создал подлинные ценности в области переводной поэзии. Можно, конечно, спорить о том, в какой мере его Гете — именно Гете, а не Пастернак, в какой степени правомерно соединять Пастернака под одной обложкой с другими переводчиками. Ясно, однако, что Пастернак доказал своим опытом возможность существования такого жанра, какого русская поэзия в подобных масштабах не знала: до сих пор в творчестве больших поэтов субъективно-лирические переводы были лишь крохотными островками, вроде лермонтовских миниатюр; Пастернак же использовал такой метод для перевода «Гамлета» и «Фауста».
Таковы три центральные фигуры в истории советского поэтического перевода за пятьдесят лет его развития; каждая из них воплощает в себе целое эстетическое направление, доведенное до полной отчетливости. Вместе с тем это и три главных направления, так или иначе связанных с традициями XIX века. Грубо говоря, творчество Лозинского восходит к обеим просветительским линиям прошлого столетия, Маршака — к пушкинским принципам, Пастернака — к романтическому переводу Жуковского — И. Козлова — Лермонтова. Однако в наше время тенденции, в прошлом лишь намечавшиеся, оформились как законченные эстетические школы Кроме того, в XIX веке мы встречались в большинстве случаев либо с поэтами, лишь время от времени выражавшими себя в переводах и подражаниях (первая половина века), либо — начиная с 50-х годов — с профессиональными переводчиками, которые, за редкими исключениями, не были отмечены настоящим поэтическим талантом (И. Козлов, П. Вейнберг, Ф. Миллер, Н. Голованов, даже Д. Мин).
В новейшее время многие крупные поэты стали переводчиками-профессионалами, а профессиональные переводчики, пусть и не пишущие или не издающие собственных произведений, поднялись до очень высокой поэтической культуры. Переводная поэзия стала неотъемлемой частью поэзии русской, сегодня даже и непредставимой без этого — количественно очень значительного — ее крыла. Вспомним хотя бы философскую лирику Расула Гамзатова в переводах Я. Козловского и Н. Гребнева, немецкую народную балладу — Л. Гинзбурга, Ф. Гарсиа Лорку — А. Гелескула, переводы Б. Лившица, Д. Самойлова, П. Антокольского, А. Тарковского, Э. Линецкой и многих других.
Одним из важнейших стимулов для развития переводческого творчества в СССР явился многонациональный характер советского государства и советской литературы — взаимообмен поэтическими ценностями стал естественной формой бытия нашей литературы, ее законом. После Октября достоянием широких кругов русских читателей стали богатые древние литературы многих народов СССР, а также новые, родившиеся лишь в советскую пору. М. Горький еще в 1929 году отмечал в письме к А. И. Ярлыкину, что «литература всего легче и лучше знакомит народ с народом… Вывод этот подтверждается тем, что нигде в западноевропейских странах не переводится так много книг с чужих языков, как у нас, в Союзе Советских Республик»[76].
Горький писал вообще о книгах — то же можно сказать и о стихах. Искусство поэтического перевода поднялось у нас на такой уровень, какого нет ни в одной стране мира (даже в Германии, стране перевода) и никогда не было в России, или, точнее, какой бывал достигнут лишь в отдельных классических произведениях XIX века, сохранивших и для нашего времени, говоря словами Маркса (сказанными по другому поводу), значение «нормы и недосягаемого образца».
СТИХОТВОРЕНИЯ
М. В. Ломоносов
Анакреон
1.
Ночною темнотою Покрылись небеса. Все люди для покою Сомкнули уж глаза. Внезапно постучался У двери Купидон, Приятный перервался В начале самом сон. «Кто так стучится смело?» — Со гневом я вскричал; «Согрей обмерзло тело, — Сквозь дверь он отвечал, — Чего ты устрашился? Я — мальчик, чуть дышу. Я ночью заблудился, Обмок и весь дрожу». Тогда мне жалко стало, Я свечку засветил, Не медливши нимало, К себе его пустил. Увидел, что крылами Он машет за спиной, Колчан набит стрелами, Лук стянут тетивой. Жалея о несчастье, Огонь я разложил И при таком ненастье К камину посадил. Я теплыми руками Холодны руки мял, Я крылья и с кудрями Досуха выжимал. Он чуть лишь ободрился: «Каков-то, — молвил, — лук? В дожде, чать, повредился». И с словом стрелил вдруг. Тут грудь мою пронзила Преострая стрела И сильно уязвила, Как злобная пчела. Он громко засмеялся И тотчас заплясал: «Чего ты испугался? — С насмешкою сказал,— Мой лук еще годится: И цел, и с тетивой; Ты будешь век крушиться Отнынь, хозяин мой». 17472.
Мне петь было о Трое, О Кадме мне бы петь, Да гусли мне в покое Любовь велят звенеть. Я гусли со струнами Вчера переменил И славными делами Алкида возносил; Да гусли поневоле Любовь мне петь велят, О вас, герои, боле, Прощайте, не хотят.3.
Мне девушки сказали: «Ты дожил старых лет», — И зеркало мне дали: «Смотри, ты лыс и сед». Я не тужу нимало, Еще ль мой волос цел, Иль темя гладко стало, И весь я побелел. Лишь в том могу божиться, Что должен старичок Тем больше веселиться, Чем ближе видит рок.4.
Мастер в живопистве первый, Первый в Родской стороне, Мастер, научен Минервой, Напиши любезну мне. Напиши ей кудри черны, Без искусных рук уборны, С благовонием духов, Буде способ есть таков. Дай из роз в лице ей крови И, как снег, представь белу, Проведи дугами брови По высокому челу; Не сведи одну с другою, Не расставь их меж собою, Сделай хитростью своей, Как у девушки моей. Цвет в очах ее небесный, Как Минервин, покажи И Венерин взор прелестный С тихим пламенем вложи; Чтоб уста без слов вещали И приятством привлекали, И чтоб их безгласна речь Показалась медом течь. Всех приятностей затеи В подбородок умести И кругом прекрасной шеи Дай лилеям расцвести, В коих нежности дыхают, В коих прелести играют И по множеству отрад Водят усумненный взгляд. Надевай же платье ало И не тщись всю грудь закрыть, Чтоб, ее увидев мало, И о прочем рассудить. Коль изображенье мочно, Вижу здесь тебя заочно, Вижу здесь тебя, мой свет: Молви ж, дорогой портрет. 1761Сенека
5.
Умножь теперь свой гнев и будь бодра, как прежде, И стары злы дела почти за добродетель. Медея ныне я, и дерзость в зле растет, Весьма полезно мне, что мной убит мой брат, Что мной растерзан был и на пути разметан; Полезно, что отец лишен руна златого. Не знаю, что теперь злый дух мой умышляет И сам себе едва представить ясно смеет. К неслыханному злу рука моя готова. Примите, дети, казнь за отческу неверность. Трепещет грудь моя, и члены цепенеют! Отходит лютость прочь: я стала снова мать. Ах! Как мне кровь пролить драгих своих детей? Однако не мои, пускай уже погибнут. Ах, нет, они мои! ни в чем они не винны! Но равно, как они, и брат невинен был. Что зыблешься, мой дух? И слезы что текут? Любовь влечет в страну, а гнев влечет в другую. Ко мне, дражайший плод, в объятия бегите: Единых видит вас сей скорбный дом отраду. Но ненависть кипит, болезнь воспламенилась, И прежний гнев бодрит мои к убийству руки, Я следую тебе, куда ни поведешь. 1747Марциал
6.
Дивишься, что не дам тебе стихов моих? Боюсь, чтобы ты мне не подарил своих.7.
В тополевой тени гуляя, муравей В прилипчивой смоле увяз ногой своей. Хотя он у людей был в жизнь свою презренный, По смерти в янтаре у них стал драгоценный.8.
Зачем я на жене богатой не женюсь? Я выйти за жену богатую боюсь. Всегда муж должен быть жене своей главою, То будут завсегда равны между собою. 1747Гораций
9.
Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный Аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрыми шумит струями Авфид, Где Давнус царствовал в простом народе, Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром. 1747Жан Лафонтен
10.
Жениться хорошо, да много и досады. Я слова не скажу про женские наряды: Кто мил, на том всегда приятен и убор; Хоть правда, что при том и кошелек неспор. Всего несноснее противные советы, Упрямые слова и спорные ответы. Пример нам показал недавно мужичок, Которого жену в воде постигнул рок. Он, к берегу пришед, увидел там соседа: Не усмотрел ли он, спросил, утопшей следа. Сосед советовал вниз берегом идти: Что быстрина туда должна ее снести. Но он ответствовал: «Я, братец, признаваюсь, Что век она жила со мною вопреки: То истинно теперь о том не сумневаюсь, Что, потонув, она плыла протúв реки». <1747>А. П. Сумароков
Пауль Флеминг
11. Сонет. Великому граду Москве
О ты, союзница Голштинския страны, В российских городах под именем царицы: Ты отверзаешь нам далекие границы К пути, в который мы теперь устремлены. Мы рек твоих струей к пристанищу течем, И дружество твое мы возвестим Востоку; Твою к твоим друзьям щедроту превысоку По возвращении на Западе речем. Дай небо, чтобы ты была благополучна, Безбранна, с тишиной своею неразлучна; Чтоб твой в спокойствии блаженный жил народ! Прими сии стихи. Когда я возвращуся, Достойно славу я твою воспеть потщуся, И Волгу похвалой промчу до Рейнских вод. <1755>Жак Барро
12. Сонет
Великий боже! твой исполнен правдой суд, Щедроты от тебя имети смертным сродно; Но в беззаконии все дни мои текут, И с правосудием простить меня не сходно. Долготерпение ты должен окончать За тьму моих грехов по правости устава, И милосердие днесь должно умолчать; Того теперь сама твоя желает слава. Во мщеньи праведном ты тварь свою забудь; Пренебрегай ток слез и тем доволен будь, Греми, рази, свою ты ярость умножая! Хотя и трепещу, я чту твой гнев, стеня, Но в кое место ты ударишь, поражая, Не крыла чтобы где Христова кровь меня. <1756>Сафо
13. Ода
Разных, Афродита, царица тронов, Дщерь Зевеса, просьбу мою внемли ты: Не тягчи мне пагубной грустью сердца, Чтимая всеми! Если глас мой ты со приятством слышишь, Как ты прежде часто его внимала И, оставив дом свой, ко мне сходила, — Сниди и ныне! На златой ко мне колеснице ездя, Ты впряженных гнала к полету птичек, В быстром беге скоростью секла воздух, Шествуя с неба. Птички отлетали, а ты, богиня, Щедрым видом спрашивала с улыбкой: «Что тебе теперь за несчастье сталось? Сказывай, Сафа. Объяви мне, сердце чего желает, Чьей ты сердцу склонности ищешь ныне, И кого ты сетью поймать стремишься? Кто востревожил? Коль бежит тебя, за тобой побегнет; Коль даров твоих не берет, он сам даст; Коль не любит, станет любить как душу, Слушать приказа», Прииди, богиня, избавь напасти И желанье сердца исполни ныне! Возлагаю всю на тебя надежду; Дай ты мне помощь! <1787>Жан-Батист Руссо
14. Ода
Ты, Фортуна, украшаешь Злодеяния людей И мечтание мешаешь Рассмотрети жизни сей. Долго ль нам повиноваться И доколе поклоняться Нам обману твоему? Все тобою побежденны: Все ли смертные рожденны Супротивиться уму? Милости, с твоим покровом, Кажутся не малы быть, Пышным именем и словом Должны превелики слыть: Весь народ тому свидетель, Что пороки добродетель, Коим помогаешь ты, И во смрадности природы Беззаконнику доводы Шлют бессмертия цветы. Имя сих героев пышно; Но рассмотрим их дела: Будет нам иное слышно, Коль судьба нам ум дала; Как мы их ни почитаем, Жадность, гордость обретаем И свирепство только в них: Всё, что их ни прославляет, Добродетель составляет Из пороков лишь одних. Ты не можешь быть причиной Славы отмененных душ; Но премудростью единой Славится великий муж. От твоей одной державы Нет бессмертия, ни славы; Смертных то незапна часть: Не геройски то утехи, Но тиранские успехи, Ближним приключать напасть. Как почтить могу я Силлу, Пеплом зря покрытый Рим; Хулим одного Атиллу, Помня Александра с ним. Человеков убивают, А другие называют Добродетелью кровь лить. Праведно ль искать витийства К прославлению убийства И разбойника хвалить? Победители злосерды! Все зрю ваши я плоды: Вы в желаньях ваших тверды Миру извлекать беды; Тамо слышу бедных стоны, Там валятся вами троны, Грады превращенны в прах, Возлагаются железы, Вдов, сирот лиются слезы, Там смятение и страх. На сие, что тако хвалят, Рассуждая кто воззри: Иль без бед людских умалят Даровáнный сан цари? Венценосцы! для отлики То ли способы велики, Чем вы можете блистать? В вас богов изображенье; Только ль оным подраженье Гром и молнию метать? В приключениях противных Обретают важну честь; А в победах и предивных Лавр оружью должно плесть; Победитель часто славен, Что противнику не равен И его соперник мал: За победу малоспорну Должен вождю непроворну Всем успехом Аннибал. Коему хвала герою, В точном имени его? Щедрой кроющу рукою Чад народа своего, Образцом который Тита, Подданным от бед защита, Жалостно смотря на них, Лести кто и внять не мыслит И владения дни числит По числу щедрот своих. Вместо яростию взята, Зверски Клита кто убил, Вобразим себе Сократа, Если б он на троне был: В нем царя негорделива Зрели б мы и справедлива, И достойна алтарей; А Евфрата победитель В месте был его бы зритель Только подлости своей. Крови жаждущи герои, Возмущения творцы! Вас мечтою славят бои И лавровые венцы. Разъярения бессметны Все Октавиевы тщетны Вознестися до небес; Правосудия блаженством И спокойства благоденством Тако он себя вознес. Мужи храбрые, являйте В полном свете вы себя, Равномерно прославляйте Имя, счастье погубя: Души ваши в нем велики, Мира вы сего владыки, Слышен ваш огромный век; Счастье только упадает, Всё геройство увядает, Остается человек. Для победы изобильно Дух посредственный иметь, И потребно сердце сильно, Коль Фортуну одолеть. Муж великий презирает, Что Фортуна им играет, И в бедах неколебим: И в благой и в лютой части, Сердце держит он во власти, В твердом постоянстве зрим. Вся его успеха сладость Не в излишестве своем: Неумеренная радость Не обрящет места в нем; Все ему препятства втуне, Он ругается Фортуне И спокойно видит их. Счастье в жизни скоротечно; Но достоинство есть вечно, Сколько рок кому ни лих. Тщетно гордостью Юноны Осужден на смерть Эней, Добродетель в обороны, Ты противилася ей! Рим тобою Карфагены За него рассыпал стены, Славу их послав на низ, И в его лютейшей части Превратил, те зря напасти, В вечны лавры кипарис. <1760>Жан Расин
15. Повествование Терамена Тезеюо смерти Ипполита из «Федры» Расиновой
Лишь выступили мы за град из стен трезенских, Печальные стражú вокруг его текли, И горесть так, как он, в молчании влекли. Микенский путь его наполнен был тоскою. Вождями правил он коней своей рукою, Коней строптивых сих, что были иногда, Взыванию его послушны завсегда. Склоненная глава и очи возмущенны С плачевной мыслью быть являлись соглашенны. Тогда ужасный вопль изшел на нас из волн, Весь воздух возмутил, и воздух стал им полн: Земля из чресл своих подобно восклицала И гласу глубины, стоная, отвечала. Злой трепет застужал в нас кровь во злы часы; От страха конских грив вздымалися власы. Воздвиглась на хребте текущия долины Кипящая гора из водныя средины. Вал ближится, биет, разит, ломаясь, в брег, И в пене на брега чудовище изверг. Широкое чело рогами воруженно, И желтой коркою всё тело покровенно. Дичайший был то вол, прегрозный был то змей, Он хвост виющийся, вияся, влек землей. Дрожали берега его пречудным ревом, И небо на него, гнушаясь, зрело с гневом. Земля пугалась им, испорчен воздух стал, И вал, что нес его, со страхом утекал. Бесплодну храбрость все в час оный оставляли И в храме близком тут убежища искали. Лишь пребыл Ипполит, достойный сын твой, смел: Хватает лук, сдержав коней, и ищет стрел. Стрелил в него, рука не сделала обману, И учинил ему в боку глубоку рану. В свирепстве боль его беспамятна бросал, Бросаясь, он взревел и пред конями пал. Валяясь, пламенну гортань им разверзает, Их кровью и огнем и дымом покрывает. Их трепет поразил, летят во оный час, Как необузданны, невнятен стал им глас. Кровавы в их устах железо мочат пены, И тщетну подают сдержать их силу члены. Вещают, что еще был видим некий бог, И гнал коней, чтоб князь сдержати их не мог. На камни набежав, они низверглись с страхом, Ось преломилася великим сим размахом, И колесница вся летела по кускам. Смятенный Ипполит падет тут в вожди сам. Не гневайся! сей вид, вина мне мук сердечных. Мне будет, государь, источником слез вечных. Я зрел, увы, я зрел, что он от тех коней, Которых сам питал, влачим в беде был сей. Взывает их; но глас его их устрашает. Бегут. Влачение всё тело изъязвляет, Весь дол наш скорбный вопль в отзывах разглашал; Впоследок яростный скок конский утихал. Вблизи старинных сих гробов остановились, Где праотцев его тела царей сокрылись. Я бег, стеня, к нему, и стража вся туды. Его дражайша кровь казала нам следы. Стал камень ею мокр, игольными кустами Удержан, кровный знак в них зрим был со власами. Прибег, воззвал его, он руку подает, Отворит лишь глаза, опять скрывает свет: «Отъемлет, говорит, мой небо век безвредный; О друг мой, не оставь ты Арисúи бедной! Когда родитель мой узнает, что я прав, И будет сожалеть, ложь правдой почитав; Смягчить пролиту кровь, тень жалобы гласящу, Скажи, чтоб он имел к ней мысль уже немстящу И возвратил бы ей…» Сим словом век скончал. Я тело лишь его беззрачно удержал, Плачевный вид, чем гнев богов явлен жестоко, И что уж и твое узнать не может око.И. С. Барков
Федр
16. Плывущая собака через реку
Кто гнаться за чужим охоч, свое теряет, Как подлинно о том нас басня уверяет. Собака мяса часть через реку несла, И, тень свою узрев в воде, когда плыла, Подумала, что пес такую ж мчит находку, И, чтобы вырвать, вдруг хотела взять за глотку. Завистливый кобель как рак на мель попал, Свой упустил кусок, другого не достал.17. Треснувшая лягушка и бык
Не должен никогда равняться с сильным бедный; В противном случае конец получит вредный. Увидев Жаба, что гуляет в поле Бык, Позарилась, что он пред ней чресчур велик, И дулась с зависти, чтоб морщевата кожа Была величиной во всем с бычачьей схожа. А как потом она спросила у детей: Уже ли более Быка? сказали ей: «Нет, матушка, еще ты меньше, как зверина». Пошире раздалась у Жабы кожурина, Затем, что дулася всей силою она. Чья больше, вопросив опять, величина? «Бык более», — на то ответствовали детки. Досадней сей ответ был Жабе горькой редьки, И напыщалась столь, что крепче не могла, Доколе дрожжи все на месте пролила. <1764>Дионисий Катон
18. Двустрочные стихи о благонравии к сыну
С дураками и бог не волен С вралями слов не трать, коль их по ветру веют; Речь все, а свет ума не многие имеют. Не уповать чужой смерти Не думай, что другой в могилу ляжет прежде; Жизнь всех хлипка, и вся в сомнительной надежде. Ласкательные слова подозрительны Не оценяй людей по ласковому слову; Обманывать легко птиц дудкой птицелову. Как оценить вещи Чти малое большим и малым чти большое, Не будешь алчным слыть и падким на чужое. Никого не охуждать с злым намерением Другого не порочь за дело или слово, Чтоб равно он с тобой не поступил сурово. Дела разумом управлять Коль безрассуден ты и нерадив собою, Фортуны, коей нет, не называй слепою. Охотно дарить Что можешь подарить, отдай без купли другу; И то барыш, когда благим явишь услугу. Злой человек самый лютый зверь Когда всяк зверь тебе опасным мнится дикий, То паче человек другому враг великий. Не быть скупым Богатства не жалей, чтоб не прослыл скупягой: Что в нем, коль с нищим ты равняешься бродягой? Презрение жизни О будущем конце твой дух да не крушится; Кто презирает жизнь, тот смерти не страшится. Печальным и задумчивым не верить От нелюдимок ты молчащих бойся лиха, Затем, что глубже та река, котора тиха. Не надеяться на время Не обещай себе ты жизни долги лета; Смерть всюду за тобой течет, как тень от света. Не радоваться о незапной смерти злых Не радуйся ты злых нечаянной кончине; Такой же добрые подвержены судьбине. <1762>Е. И. Костров
Гомер
19. Илиада.
Из песни IV
Как, ветром западным средь понтовых зыбей Подъемлясь, сонмы волн с свирепостью своей, Одна в другой клубясь, к брегам шумя стремятся, Где, разражаяся, лютей еще ярятся; Или, сразясь в пути с высокою горой, Что ставит им оплот незыблемый собой, Крутятся, высятся и гору превышают, И ону пеною кипящей покрывают, — Ахейски так полки, между собой сомкнясь, Воздвигшись, в подвиг шли, победы славой льстясь. В них племя каждое, предтечу в бой имея, На брань текло, уста молчаньем печатлея, Дабы вождей своих велениям внимать; Тó зря, возмнил бы ты, что вся толь грозна рать Не имать во устах ни гласа, ни языка. Оружие сего толь бранноносна лика Всё отражало блеск, сливая луч с лучем. Толь бодры и красны они в пути своем! Но сопостаты их овец подобны стаду, Которых заключил богатый муж в ограду И кои, слыша глас ягнят своих, блеют, Когда из их сосцев млеко в сосуды жмут, — Подобен несся глас меж ратниками Трои, От разных бо племен и разных стран те вои В надменный Илион потщалися притечь; Различен их язык, и глас, и равно речь. Арей троян на брань бодрит, Минерва греков; И сим бессмертным в путь на гибель человеков Страх, Бегство и Вражда несытая течет, Которой брат и друг Арей, виновник бед: Она рождается слаба, неукрепленна, Но скоро, быстротой своей усугубленная Подножием себе имеет дол земной, Скрываясь в небесах надменною главой. Она, из строя в строй стремясь в сей день плачевный, В сердца враждебные вливает пламень гневный, Желая с жадностью текущу видеть кровь И смерть на воинов стремящуюся вновь. Сомкнулись воинства, свирепость умножалась, Там крепка грудь о грудь противну ударялась, Копье с копьем и щит сретался со щитом; Несется в воздухе оружий треск и гром; Сраженных внемлются и вздохи и стенанья, И поражающих победны восклицанья; Там кровию поля текущею кипят. Как сонмы рек, что бег с высоких гор стремят И дола злачного несясь во рвы глубоки, Где яростно свои сливают черны токи, Шумят; их бурный шум приводит в трепет, страх Сидящих пастырей далече на холмах: Так вóпят ратники, свой гнев усугубляя, Друг нá друга стремясь, друг друга поражая. <1787>И. И. Хемницер
Христиан Фюрхтеготт Геллерт
20. Скворец и кукушка
Скворец из города на волю улетел, Который в клетке там сидел. К нему с вопросами кукушка приступила И говорила: «Скажи, пожалуй, мне, чтó слышал ты об нас, И городу каков наш голос показался? Я думаю, что ведь не раз Об этом разговор случался? О соловье какая речь идет?» — «На похвалу его и слов недостает». — «О жаворонке что ж?» — кукушка повторяет. — «Весь город и его немало похваляет». — «А о дрозде?» — «Да хвалят и его, хотя и не везде». — «Позволишь ли ты мне, — кукушка продолжала, — Тебя еще одним вопросом утрудить И обо мне что слышал ты, спросить? Весьма б я знать о том желала: И я таки певала». — «А про тебя, когда всю истину сказать, Нигде ни слова не слыхать». — «Добро! — кукушка тут сказала. — Так стану же я всем за это зло платить, И о себе сама всё буду говорить». <1779>21. Кащей
Какой-то был кащей и денег тьму имел, И как он сказывал, то он разбогател Не криводушно поступая, Не грабя и не разоряя: Нет, он божился в том, Что бог ему послал такой достаток в дом, И что никак он не боится Противу ближнего в неправде обличиться. А чтобы господу за милость угодить И к милосердию и впредь его склонить, Иль, может быть, и впрям, чтоб совесть успокоить, Кащею вздумалось для бедных дом построить. Дом строят, и почти достроили его. Кащей мой, смóтря на него, Себя не помнит, утешает И сам с собою рассуждает, Какую бедным он услугу показал, Что им пристанище построить приказал. Так внутренно кащей мой домом веселится; Как некто из его знакомых проходил, Кащей знакомому с восторгом говорил: «Довольно, кажется, здесь бедных поместится?» — «Конечно, можно тут числу большому жить; Но всех, однако же, тебе не уместить, Которых по миру заставил ты ходить». <1779>Жан Лафонтен
22. Стрекоза
Всё лето стрекоза в то только и жила, Что пела; А как зима пришла, Так хлеба ничего в запасе не имела. И просит муравья: «Помилуй, муравей, Не дай пропасть мне в крайности моей: Нет хлеба ни зерна, и как мне быть, не знаю. Не можешь ли меня хоть чем-нибудь ссудить, Чтоб уж хоть кое-как до лета мне дожить? А лето как придет, я, право, обещаю Тебе всё вдвое заплатить». «Да как же целое ты лето Ничем не запаслась?» — ей муравей на это. — «Так, виновата в том; да что уж, не взыщи: Я запастися всё хотела, Да лето целое пропела». — «Пропела? Хорошо! поди ж теперь свищи». Но это только в поученье Ей муравей сказал, А сам на прокормленье Из жалости ей хлеба дал. <1782>Н. М. Карамзин
Александр Поп
23.
Из юных нимф ее дочь Тамеса, Лодона, Была славнее всех; и взор Эндимиона Лишь потому ее с Дианой различал, Что месяц золотой богиню украшал. Но, смертных и богов пленяя, не пленялась: Одна свобода ей с невинностью мила, И ловля птиц, зверей — утехою была. Одежда легкая на нимфе развевалась, Зефир играл в ее струистых волосах, Резной колчан звенел с стрелами на плечах, И меткое копье[77] за серною свистало. Однажды Пан ее увидел, полюбил, И сердце у него желаньем воспылало. Она бежит… В любви предмет бегущий мил, И нимфа робкая стыдливостью своею Для дерзкого еще прелестнее была. Как горлица летит от хищного орла, Как яростный орел стремится вслед за нею, Так нимфа от него, так он за нимфой вслед — И ближе, ближе к ней… Она изнемогает, Слаба, бледна… В глазах ее темнеет свет. Уже тень Панова Лодону настигает, И нимфа слышит стук ног бога за собой, Дыхание его, как ветер, развевает Ей волосы… Тогда, оставлена судьбой, В отчаяньи своем несчастная, к богине Душою обратясь, так мыслила: «Спаси, О Цинтия! меня; в дубравы пренеси, На родину мою! Ах! пусть я там отныне Стенаю горестно и слезы лью ручьем!» Исполнилось… И вдруг, как будто бы слезами Излив тоску свою, она течет струями, Стеная жалобно в журчании своем. Поток сей и теперь Лодоной называем, Чист, хладен, как она; тот лес им орошаем, Где нимфа некогда гуляла и жила. Диана моется в его воде кристальной, И память нимфина доныне ей мила: Когда вообразит ее конец печальный, Струи сливаются с богининой слезой. Пастух, задумавшись, журчанью их внимает, Сидя под тению, в них часто созерцает Луну у ног своих и горы вниз главой, Плывущий ряд дерев, над берегом висящих И воду светлую собою зеленящих. Среди прекрасных мест излучистым путем Лодона тихая едва-едва струится, Но вдруг, быстрее став в течении своем, Спешит с отцом ее навек соединиться[78]. 1790Людвиг Козегартен
24. Кладбище
Один голос Страшно в могиле, хладной и темной! Ветры здесь воют, гробы трясутся, Белые кости стучат. Другой голос Тихо в могиле, мягкой, покойной. Ветры здесь веют; спящим прохладно; Травки, цветочки растут. Первый Червь кровоглавый точит умерших, В черепах желтых жабы гнездятся, Змии в крапиве шипят. Второй Крепок сон мертвых, сладостен, кроток; В гробе нет бури; нежные птички Песнь на могиле поют. Первый Там обитают черные враны, Алчные птицы; хищные звери С ревом копают в земле. Второй Маленький кролик в травке зеленой С милой подружкой там отдыхает; Голубь на веточке спит. Первый Сырость со мглою, густо мешаясь, Плавают тамо в воздухе душном; Древо без листьев стоит. Второй Тамо струится в воздухе светлом Пар благовонный синих фиалок, Белых ясминов, лилей. Первый Странник боится мертвой юдоли; Ужас и трепет чувствуя в сердце, Мимо кладбища спешит. Второй Странник усталый видит обитель Вечного мира — посох бросая, Там остается навек. 1792Жак Делиль
25.
Там всё велико, всё прелестно, Искусство славно и чудесно; Там истинный Армидин сад Или великого героя Достойный мирный вертоград, Где он в объятиях покоя Еще желает побеждать Натуру смелыми трудами И каждый шаг свой означать Могуществом и чудесами, Едва понятными уму. Стихии творческой Природы Подвластны кажутся ему; В его руках земля и воды. Там храмы в рощах ореад Под кровом зелени блистают; Там бронзы дышат, говорят; Там реки ток свой пресекают И, вверх стремяся, упадают Жемчужным радужным дождем, Лучами солнца озлащенным; Потом, извивистым путем, Древами темно осененным, Едва журчат среди лугов. Там, в тихой мрачности лесов, Везде встречаются сильваны, Подруги скромныя Дианы. Там каждый мрамор — бог, лесочек всякий — храм[79]. Герой, известный всем странам, На лаврах славы отдыхая И будто весь Олимп сзывая К себе на велелепный пир, С богами торжествует мир. 179026. Меланхолия
Страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных, Несчастных счастие и сладость огорченных! О Меланхолия! ты им милее всех Искусственных забав и ветреных утех. Сравнится ль что-нибудь с твоею красотою, С твоей улыбкою и с тихою слезою? Ты первый скорби врач, ты первый сердца друг: Тебе оно свои печали поверяет; Но, утешаясь, их еще не забывает. Когда, освободясь от ига тяжких мук, Несчастный отдохнет в душе своей унылой, С любовию ему ты руку подаешь И лучше радости, для горестных немилой, Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь С печальной кротостью и с видом умиленья. О Меланхолия! нежнейший перелив От скорби и тоски к утехам наслажденья! Веселья нет еще, и нет уже мученья; Отчаянье прошло… Но, слезы осушив, Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь И матери своей, печали, вид имеешь. Бежишь, скрываешься от блеска и людей, И сумерки тебе милее ясных дней. Безмолвие любя, ты слушаешь унылый Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей. Тебе приятен лес, тебе пустыни милы; В уединенииты более с собой. Природа мрачная твой нежный взор пленяет: Она как будто бы печалится с тобой. Когда светило дня на небе угасает, В задумчивости ты взираешь на него. Не шумныя весны любезная веселость, Не лета пышного роскошный блеск и зрелость Для грусти твоея приятнее всего, Но осень бледная, когда, изнемогая И томною рукой венок свой обрывая, Она кончины ждет. Пусть веселится свет И счастье грубое в рассеянии новом Старается найти: тебе в нем нужды нет; Ты счастлива мечтой, одною мыслью — словом! Там музыка гремит, в огнях пылает дом; Блистают красотой, алмазами, умом: Там пиршество… но ты не видишь, не внимаешь И голову свою на руку опускаешь; Веселие твое — задумавшись, молчать И на прошедшее взор нежный обращать. 1800И. И. Дмитриев
Жан-Батист Грекур
27. Пустынник и Фортуна
Какой-то добрый человек, Не чувствуя к чинам охоты, Не зная страха, ни заботы, Без скуки провождал свой век С Плутархом, с лирой И Пленирой, Не знаю точно где, а только не у нас. Однажды под вечер, как солнца луч погас И мать качать дитя уже переставала, Нечаянно к нему Фортуна в дом попала И в двери ну стучать! «Кто там?» — Пустынник окликает. — «Я! я!» — «Да кто, могу ли знать?» — «Я! та, которая тебе повелевает Скорее отпереть». — «Пустое!» — он сказал И замолчал. «Отóпрешь ли? — еще Фортуна закричала, — Я ввек ни от кого отказа не слыхала; Пусти Фортуну ты со свитою к себе, С Богатством, Знатью и Чинами… Теперь известна ль я тебе?» — «По слуху… но куда мне с вами? Поди в другой ты дом, А мне не поместить, ей-ей! такой содом». — «Невежа! да пусти меня хоть с половиной, Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжалься над судьбиной Великолепия… оно уж чуть дышúт, Над гордой Знатностью, которая дрожит И, стоя у порога, мерзнет; Тронись хоть Славою, мой миленький дружок! Еще минута — всё исчезнет!.. Упрямый, дай хотя Желанью уголок!» — «Да отвяжися ты, лихая пустомеля! — Пустынник ей сказал. — Ну, право, не могу, Смотри: одна и есть постеля, И ту я для себя с Пленирой берегу». 1792Жан-Пьер Флориан
28. Отец с сыном
«Скажите, батюшка, как счастия добиться?» — Сын спрашивал отца. А тот ему в ответ: «Дороги лучшей нет, Как телом и умом трудиться, Служа отечеству, согражданам своим, И чаще быть с пером и книгой, Когда быть дельными хотим». — «Ах, это тяжело! как легче бы?» — «Интригой, Втираться жабой и ужом К тому, кто при дворе фортуной вознесется…» — «А это низко!» — «Ну, так просто… быть глупцом: И этак многим удается». 1805Антуан-Венсан Арно
29. Магнит и Железо
Природу одолеть превыше наших сил: Смиримся же пред ней, не умствуя нимало. «Зачем ты льнешь?» — Магнит Железу говорил. «Зачем влечешь меня?» — Железо отвечало. Прелестный, милый пол! чем кончу я рассказ, Легко ты отгадаешь. Подобно так и ты без умысла прельщаешь; Подобно так и мы невольно любим вас. 1800Экушар Лебрен
30.
«Я разорился от воров!» — «Жалею о твоем я горе». — «Украли пук моих стихов!» — «Жалею я об воре». 1803Франсуа-Мари Буазар
31. Воробей и Зяблица
«Умолк Соловушка! Конечно, бедный, болен Или подружкой недоволен, А может, и несчастлив в ней! Мне жалок он!» — сказал печально Воробей. «Он жалок? — Зяблица к словам его пристала. — Как мало в сердце ты читал! Я лучше отгадала: Любил он, так и пел; стал счастлив — замолчал». 1805Пьер-Жан Беранже
32. Людмила
Идиллия
Старик Кого мне бог послал среди уединенья? Пастушка Я, дедушка, со стороны; Иду до ближнего селенья На праздник красныя весны. Старик Чего же ищешь ты под тению кусточков? Пастушка Богатой ленты нет, так я ищу цветочков, Чтоб свить себе венок и скрасить мой наряд: Там есть красавица Людмила, говорят. Старик Но знаешь ли, где ты, соперница Людмилы? Пастушка Не ведаю… Старик Ты рвешь цветы с ее могилы. 1805Шарль-Луи Мольво
33. Апологи
Роза и Шмель «Прочь, наглый, прочь ты, Шмель! — вскричала утром Роза. — Ты осквернишь меня; ты мне страшней мороза». — «Прощаю спесь твою: ты только расцвела; Я вечером приду, авось не будешь зла». Деревцо Березка выросла пред домом кривобока: Пришлось выкапывать; но корни так ушли Далеко в глубину, что вырыть не могли. — История порока. Курица и утята «Ты всё с утятами». — «Кому ж ходить за ними? Я высидела их». — «Но что тебе они? Чужие». — «Нужды нет! хочу считать моими». Кто любит помогать, тот всякому сродни. Клевета Честон был поражен кинжалом, но слегка, «Дан промах, так и быть! — злодей вскричал. — Отселе, По крайней мере, знак останется на теле». — Черта клеветника. Своенравная лиса Свет полон чудаков: Медведь Лисе был друг; И с Тигром и Слоном хлеб-соль она водила; Но никого в своем соседстве не любила, А пуще всех своих подруг. Каменная гора и водяная капля «С умом ли, Капля, ты? меня пробить взялась! Меня, гранитную! ты, право, стоишь смеха». Но Капля молча всё кап, кап… и пробралась. — Настойчивость — залог успеха. Мыльный пузырек Блестящий тысячью Ирисиных цветов, Из мыла Пузырек на воздухе гордился; Но дунул ветр, и вмиг он в каплю превратился. — Судьба временщиков. Беспечность поэта Поэт случайно в честь и круг бояр попал; Но буря зависти против его восстала, И всюду разнеслось: певцу грозит опала. «Так я был в случае? вот новость!» — он сказал. Подснежник «Что мне зима? — сказал Подснежник, ранний цвет. — Пускай ее страшатся розы; Я всё превозмогу: и бури и морозы». — Для гения препоны нет. Осел и Выжлица «Скот глупый взял перед! и по какому праву? — Шумела Выжлица. — Иль я не удала, Иль обгоню его на славу». — Не много славы в том, чтоб обогнать Осла. Эпилог Автор и критика «Что вздумалось тебе сухие апологи Представить критикам на суд? Ты знаешь, как они насмешливы и строги». — «Тем лучше: их прочтут». 1826Ю. А. Нелединский-Мелецкий
Жак Делиль
34.
В стране, где чуждо разрушенье, На вечности утверждено, Средь мирной тишины в себе погружено, Бессмертие — злым казнь, а добрым утешенье; Гигантский время бег, свершаемый пред ним, От правых сердцем отклоняет, А изверга надежде возбраняет, Ничтожность страшную спасеньем чтит своим. Так, грома вышнего ты дерзкий похититель, Низвергший алтари предвечной правоты! Презренный мира притеснитель, Дрожи! — бессмертен ты! И вы, игралища на время лютой доли, Чьи взором отческим Господь блюдет главы, Мгновенны странники в безвестной слез юдоли, Утешьтеся! — бессмертны вы! <1787>Жан Лафонтен
35. Стрекоза
Лето целое жужжала Стрекоза, не знав забот; А зима когда настала, Так и нечего взять в рот. Нет в запасе, нет ни крошки; Нет ни червячка, ни мошки. Что ж? — К соседу муравью Вздумала идти с прошеньем. Рассказав напасть свою, Так как должно, с умиленьем, Просит, чтоб взаймы ей дал Чем до лета прокормиться, Совестью притом божится, Что и рост и капитал Возвратит она не дале, Как лишь августа в начале. Туго муравей ссужал: Скупость в нем порок природный. «А как в поле хлеб стоял, Что ж ты делала?» — сказал Он заемщице голодной. «Днем и ночью, без души, Пела всё я цело лето». — «Пела! весело и это. Ну поди ж теперь пляши». <1808>36. Заяц и Лягушки
В норе своей раз заяц размышлял: Нора хоть бы кого так размышлять научит! Томяся скукою, мой заяц тосковал; Ведь родом грустен он, и страх его всё мучит. Он думает: «Куда тот несчастлив, Кто родился труслив. Ведь впрок себе куска бедняжка не съедает; Отрады нет ему; отвсюду лишь гроза! А так-то я живу: проклятый страх мешает И спать мне иначе, как растворя глаза. Перемоги себя, мудрец сказать мне может! Ну вот! Кто трусов переможет? По правде, чай и у людей Не меньше трусости моей». Так заяц изъявлял догадку, Дозором обходя вкруг жила своего; От тени, от мечты, ну, словом, от всего Его бросало в лихорадку. Задумчивый зверек, Так в мыслях рассуждая, Вдали услышал шум, и тотчас наутек Пустился, как стрела, к норе он поспешая. Случись ему бежать близ самого пруда; Вдруг видит, что его лягушки испугались: Лягушки вспрыгались и в воду побросались. «Ба! ба! — он думает, — такая же беда И от меня другим! я не один робею! Откуда удальство такое я имею, Что в ужас привожу собой? Так, знать, прегрозный я герой?» Нет! видно на земле трусливца нет такого, Трусливее себя чтоб не нашел другого! <1808>И. А. Крылов
Жан Лафонтен
37. Старик и трое молодых
Старик садить сбирался деревцо. «Уж пусть бы строиться; да как садить в те лета, Когда уж смотришь вон из света! — Так, Старику смеясь в лицо, Три взрослых юноши соседних рассуждали. — Чтоб плод тебе твои труды желанный дали, То надобно, чтоб ты два века жил. Неужли будешь ты второй Мафусаил? Оставь, старинушка, свои работы: Тебе ли затевать толь дальние расчеты? Едва ли для тебя текущий верен час. Такие замыслы простительны для нас: Мы молоды, цветем и крепостью и силой, А старику пора знакомиться с могилой». — «Друзья! — смиренно им ответствует Старик. — Издетства я к трудам привык; А если от того, что делать начинаю, Не мне лишь одному я пользы ожидаю, То, признаюсь, За труд такой еще охотнее берусь. Кто добр, не всё лишь для себя трудится. Сажая деревцо, и тем я веселюсь, Что если от него сам тени не дождусь, То внук мой некогда сей тенью насладится, И это для меня уж плод. Да можно ль и за то ручаться наперед, Кто здесь из нас кого переживет? Смерть смотрит ли на молодость, на силу, Или на прелесть лиц? Ах, в старости моей прекраснейших девиц И крепких юношей я провожал в могилу! Кто знает: может быть, что ваш и ближе час И что сыра земля покроет прежде вас». Как им сказал Старик, так после то и было. Один из них в торги пошел на кораблях; Надеждой счастие сперва ему польстило, Но бурею корабль разбило; Надежду и пловца — всё море поглотило. Другой в чужих землях, Предавшися порока власти, За роскошь, негу и за страсти Здоровьем, а потом и жизнью заплатил. А третий — в жаркий день холодного испил И слег: его врачам искусным поручили, А те его до смерти залечили. Узнавши о кончине их, Наш добрый Старичок оплакал всех троих. <1806>38. Лягушка и Вол
Лягушка, на лугу увидевши Вола, Затеяла сама в дородстве с ним сравняться: Она завистлива была. И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться. «Смотри-ка, квакушка, чтó, буду ль я с него?» — Подруге говорит. «Нет, кумушка, далёко!» — «Гляди же, как теперь раздуюсь я широко. Ну, каково? Пополнилась ли я?» — «Почти что ничего». — «Ну, как теперь?» — «Всё то ж». Пыхтела да пыхтела, И кончила моя затейница на том, Что, не сравнявшися с Волом, С натуги лопнула и — околела. * * * Пример такой на свете не один: И диво ли, когда жить хочет мещанин Как именитый гражданин, А сошка мелкая — как знатный дворянин. <1808>39. Крестьянин и Смерть
Набрав валежнику порой холодной, зимной, Старик, иссохший весь от нýжды и трудов, Тащился медленно к своей лачужке дымной, Кряхтя и охая под тяжкой ношей дров. Нес, нес он их и утомился, Остановился, На землю с плеч спустил дрова долой, Присел на них, вздохнул и думал сам с собой: «Куда я беден, боже мой! Нуждаюся во всем; к тому ж жена и дети, А там подушное, боярщина, оброк… И выдался ль когда на свете Хотя один мне радостный денек?» В таком унынии, на свой пеняя рок, Зовет он Смерть; она у нас не за горами, А за плечами: Явилась вмиг И говорит: «Зачем ты звал меня, старик?» Увидевши ее свирепую осанку, Едва промолвить мог бедняк, оторопев: «Я звал тебя, коль не во гнев, Чтоб помогла ты мне поднять мою вязанку». * * * Из басни сей Нам видеть можно, Что как бывает жить ни тошно, А умирать еще тошней. <1808>А. Ф. Воейков
Александр Поп
40. Умирающий христианин
Небесного огня божественна искрá, Душа, сбрось смертные одежды Болезней, страха и надежды, О, жалкая игра! Оковы разорви природы, Пари к источнику и жизни и свободы! Теперь твоя пора! Внемли, как ангелы вокруг тебя вещают: «К нам, милая сестра, скорее!» Мой взор становится тусклее; Я не могу дышать; Потеря сил и чувств смятенье… Душа, ответствуй мне, реши мое сомненье: Не то ли — умирать? Земля бежит, бежит… исчезла уж из вида! Отверсто небо видят взоры; Слух серафимов внемлет хоры.. Горю достичь… Друзья, Свои скорей мне дайте крила! Где торжество твое победное, могила? Смерть, где коса твоя? <1817>А. Ф. Мерзляков
Бион
41. Ученье
Зрел Венеру я во сне: Белоснежною рукою Матерь привела с собою Юное дитя ко мне; Бог упрямился, дичился, Был неловок, груб, несмел, Будто бы людей страшился, И смотреть он не умел. «Пастушок! — Богиня-Сладость Молвит с ласковым лицом, — Вот мой сын! вот наша радость, Сделай ты его певцом!» — Так сказала — и не стало… Как мне в голову не вспало, Что Амура нам учить — Пламень пламенем гасить!.. Что же делать? — за ученье! Ничего я не таю! Пастухов увеселенье, Панову свирель пою; Флейту мудрыя Паллады, Аполлоновы отрады; Светлый хор его жрецов, Лиру вестника богов… Всё пустое!.. Он не слышит, И ничто на ум нейдет; Страстно, сладостно он дышит, Про любовь одну поет. Что же сделалось с тобою, Что с холодною душою?.. Ах! несчастный, всё забыл, Чем с Амуром занимался, Только с тем одним остался, Что Амур мне натвердил. <1807>Сафо
42. К счастливой любовнице
Равный бессмертным кажется оный Муж, пред твоими, дева, очами Млеющий, близкий, черплющий слухом Сладкие речи,— Взором ловящий страсти улыбки!.. Видела это — оцепенела; Сжалося сердце; в устах недвижных Голос прервался! — Замер язык мой… Быстрый по телу Нежному пламень льется рекою; Света не вижу; взоры померкли; В слухе стон шумный! — В поте холодном трепет; ланиты Былий, иссохших зноем, бледнее; Кажется, смертью, таю, объята; Я бездыханна!.. <1826>Гораций
43. Из «Послания к Пизонам о стихотворстве»
Когда маляр, в жару, потея над картиной, Напишет женский лик на шее лошадиной; Всё тело перьями и шерстью распестрит. И части всех родов в урода поместит; Начав красавицей чудесное творенье, Окончит рыбою, себе на прославленье,— Пизоны! — можете ль, скрепя свои сердца, Не осмеять сего безумного творца? Поверьте мне, друзья, с таким малярством сходны И проза, и стихи, где мысли разнородны, Как грезы сонного или больного бред, Без толку смешаны на собственный свой вред: С ногами голова в мучительном расколе; Вы скажете: «Поэт и живописец в воле: Что могут, выдумать, что в ум придет, писать!» Кто спорит? Кто дерзнет права сии отнять? С охотой их даем, и смело просим сами; Но только с тем, чтоб луг украшен был цветами Весной, а не зимой; чтоб в вымыслах певца С мышами не жил кот, а с тиграми овца. Начала пышные нередко обольщают: Ждем важного! — и что ж? — на рубище мелькают Кое-где пурпуры блестящей лоскутки: По бархатным лугам струятся ручейки; Там стонет мрачный лес; там башня смотрит в волны; Там радужный чертог; там Рейн, думы полный!.. К чему сей громкий вздор? Я дело знать спешил. Положим: кипарис ты кистью оживил; Прелестно! — да зачем он в страшной сей картине, Где буря, где корабль, — хозяин сам в пучине Тонул, и вышел вон… чтоб дать тебе за труд? Положим: на заказ работаешь сосуд! Мне страшной бочкою казался он сначала; Но ты вертел, вертел: из бочки кружка стала! Нам правило дано природою самой: Да царствует везде Единство с Простотой! <1822>44. К Лицинию
Счáстливей будешь, не вверяясь дальним Моря пучинам, посреди же бури, Страж себе строгий, не тесняся робко К хитрому брегу. Кто золотую Средственность возлюбит, Бедности чуждый, не потерпит смрада В хижине скудной, не живет в завидных, Скромный, чертогах. Чаще ветр ярый низвергает долу Дубы огромны; жесточайшей карой Рухнут бойницы; пламень молний вьется К высям нагорным. В горе надежду, боязливость в счастье Носит, в пременах искушенно света, Сердце благое. Насылает зимы Юпитер; он же Гонит их в север. Огорченье — ныне; Завтра — отрада! Молчаливу музу Арфа разбудит; Феб всегда ль в погибель Лук напрягает?.. Нужда ли давит — ты, бесстрашный духом, Ратник, мужайся; изучись разумно Стягивать в ветер, слишком благосклонный, Дмящийся парус!.. <1826>А. Х. Востоков
Гораций
45. К Мельпомене
Крепче меди себе создал я памятник; Взял над царскими верх он пирамидами, Дождь не смоет его, вихрем не сломится, Цельный выдержит он годы бесчисленны, Не почует следов быстрого времени. Так; я весь не умру — большая часть меня Избежит похорóн: между потомками Буду славой расти, ввек обновляяся, Зрят безмолвный пока ход в Капитолию Дев Весталей, вослед Первосвященнику. Там, где Авфид крутит волны шумящие, В весях, скудных водой, Давнус где царствовал, Будет слышно, что я — рода беззнатного Отрасль — первый дерзнул в Римском диáлекте Эолийской сложить меры поэзию. Сим гордиться позволь мне по достоинству, Муза! сим увенчай лавром главу мою. 180246. К Меценату, о спокойствии духа
Премудро скрыли боги грядущее От наших взоров темною нощию, Смеясь, что мы свои заботы Вдаль простираем. Что днесь пред нами, О том помыслим! прочее, столько же Как Тибр, измене всякой подвержено: Река, впадающая в море Тихо в иной день, брегам покорно; В иной день волны пенисты, мутные Стремяща; камни, корни срывающа; Под стоном гор, дубрав окрестных, Домы, стада уносяща в море. Тот прямо счастлив, царь над судьбой своей, Кто с днем протекшим может сказать себе: «Сегодня жил я! пусть заутра Юпитер черные тучи кажет, Или чистейшу ясность лазурную, — Но не изгладит то, что свершилося; Ниже отымет те минуты, Кои провел я теперь толь сладко». Фортуна любит мены жестокие, Играет нами злобно и, почести Неверны раздая, ласкает Ныне меня, а потом другого. А я бесскорбен: хочет ли инуда Лететь, охотно всё возвращаю ей; Своею доблестью оденусь, Правду свою обыму и бедность. Когда от бурных вихрей шатаются Со скрыпом мачты — мне не вымаливать Себе драгих стяжаний целость; Мне малодушно не класть обеты, Чтоб алчным морем не были пожраны Мои товары дальнопривозные. За то проеду безопасно В самые бури на утлом струге! 1805Иоганн Вольфганг Гете
47. Надежда
Молюсь споспешнице Надежде: Присутствуй при трудах моих! Не дай мне утомиться прежде, Пока я не окончу их! Так! верю я, что оправдится Твой утешительный глагол: Терпенье лишь — труд наградится; Безветвенный отсадок гол Даст некогда плоды и листьем осенится. 1812Фридрих Шиллер
48. Жалобы девушки
Небо пасмурно, дубровушка шумит, Красна девица на бережку сидит, Раздробляется у ног ее волна, Но сидит и, слезно глядя в мрак, она Жалобнешенько возговорит: «Сердце вещее, ты замерло! весь свет Опустел — уже мне лестного в нем нет. Мать пречистая! к себе меня возьми, Я отведала блаженства на земли, Я любила на веку своем». Тут провещится ей голос от небес: «Полно сетовать и плакать. Током слез Друга милого тебе не оживить; Но что может твое сердце усладить После радостей потерянных, Попроси, я ниспошлю тебе с небес!» — «Ах! оставь мне гореванье. Током слез Друга милого хотя не оживить, Только жалобой мне сердце усладить После радостей потерянных!» 181149. Изречения Конфуция
1. Пространству мера троякая: В долготу бесконечно простирается, В ширину беспредельно разливается, В глубину оно бездонно опускается. Подражай сей мере в делах твоих. Достигнуть ли хочешь исполнения, Беспрестанно вперед, вперед стремись; Хочешь видеть все мира явления, Расширяй над ними ум свой, — и обымешь их; Хочешь постигнуть существо вещей, Проницай в глубину, — и исследуешь. Постоянством только цель достигается, Полнота лишь доводит до ясности, И в кладезе глубоком живет истина. 2. Трояко течение времени: Наступает медлительно грядущее, Как стрела пролетает настоящее И стоит неподвижно прошедшее. Не ускоришь никаким нетерпением Ленивый шаг грядущего; Не остановишь ни страхом, ни сомнением Быстрый полет настоящего; Когда же станет прошедшее, Ни раскаяньем уже, ни заклятием Его с места не подвигнешь, не прогонишь ты. Если хочешь счастливым и мудрым быть, Соглашай, о смертный! дела свои С трояким течением времени: С медлительногрядущим советуйся, Но ему не вверяй исполнения; Ни быстропроходящему другом будь, Ни вечноостающемуся недругом. 1812Из богемских народных песен
50. Чехиня
Родила меня Моя матушка, Родила меня В красный вешний день, В красный вешний день В зеленóм саду, В зеленóм саду Между розами, Между розами Полноцветными. И сама она Говорила так: «Если б знала я, Мое дитятко, Что ты будешь чех Верный, доблестный, — Обвила бы я Тебя розами, Тебя розами Благовонными». (Грянул гром тогда!) «Если б знала я, Мало дитятко, Что ты будешь чех Малодушный, злой, — Обвила б тебя Жестким тростием И в колючий терн Тебя бросила б!» 1821Из сербских народных песен
51. Смерть любовников
Девушка с юношей крепко любились. Одной водой они умывались, Одним полотенцем утирались, И никто не знал о том всё лето. На другое лето все узнали; Отец, мать им знаться запретили, Девушку с юношей разлучили. Добрый молодец звезде поручает Сказать от него душе-девице: «Умри, драгая, поздно в субботу, А я за тобою рано в воскресенье». Что сказали, оба исполняют: Умерла девица поздно в субботу, Умер добрый молодец рано в воскресенье. Друг подле друга их схоронили, Руки в земле им соединили, В руки им дали по яблоку зелену. Протекло за тем малое время — Выросла над молодцом зеленая сосна, Вырос над девушкой куст алой розы. Вьется куст розовый около сосны, Как вокруг пучка цветов ниточка шелку. <1825>52. Свадебный поезд
Сестра звала на солнышко брата: «Выйдем, братец, на солнышко ярко; Солнца яркого теплом насладимся И дивной красоты наглядимся, Как едут разубраны сваты! Счастлив дом, к которому пристанут! В чьем-то доме их ожидают? Чья-то мать их будет дарити? Чей-то брат им вина подносити? Чьей сестре-то меж ими быти?» Брат сестре отвечал с улыбкой: «Будь же, сестрица, веселенька! В нашем доме их ожидают, Наша мать их будет дарити, Я им буду вина подносити, Тебе невестой меж ими быти». <1825>53. Яня Мизиница
Послушайте повести чудной! Дочерей у матери девять, Десятою беременна ходит; Бога молит, чтоб мальчик родился. А когда ее время приспело, Родила мать десятую дочку. Спрашивал кум на крестинах, Какое дать крестнице имя? С досадою мать отвечала: «Яня имя ей, побери ее дьявол!» Растет Яня тонка и высока, Лицом бела и румяна, И была уже на выданьи девица. Пошла с ведрами по воду однажды; Ей идти сквозь зеленую дубраву. Из дубравы вдруг кликнула Вила: «Ой, слышишь ли, прекрасная Яня! Брось в траву-мураву свои ведра, Ступай ко мне в зеленую дубраву; Твоя мать нам тебя подарила У кума на руках еще малéньку». То услышала мизиница Яня, В мураву свои бросила ведра И сама ушла в лес дремучий. Бежит за нею мать престарела: «Воротись домой, мизиница Яня!» Но от Яни грозный ответ был: «Удалися, мать, отпадшая от бога, Когда ты меня сюда отдала в дар У кума на руках еще малéньку!» <1827>54. Жалобная песня благородной Асан-Агиницы
Что белеется у рощи у зеленыя? Снег ли то или белые лебеди? Кабы снег, он скоро растаял бы; Кабы лебеди были, улетели бы прочь. Не снег то, не белые лебеди, А белеется шатер Асан-Аги, Где он лежит тяжко раненный. Его мать и сестра посещали там; Молода жена прийти постыдилася. Когда легче ему стало от тяжких ран, Он послал сказать молодой жене: «Не жди меня больше в дому моем, Ни в дому, ни во всем роду-племени!» Вняла жена таковы слова; Стоит, цепенея от горести; Вдруг конский топот заслышала: Взметалась жена Асан-Аги, Чтоб с башни из окна ей низринуться. Бегут к ней две милые дочери: «Постой, не мечися, матушка, То едет не отец Асан-Ага, Едет дядя Пинторович Бег». Успокоилась тогда Агиница, Обнимает брата с горькой жалобой: «Ах, братец, какое посрамление мне! Выгоняют меня от пятерых детей!» Промолчал, ничего не промолвил Бег, Только, вынув из сумы из шелковыя, Подает ей грамоту разводную, Чтоб в материн дом возвратилася, За другого замуж выходила бы. Когда прочла жена грамоту, С детьми она распрощалася, Целует в чело сыновей двоих, Дочерей в ланиты румяные, А с маленьким сынком в колыбели, с тем Не могла расстаться. Брат отвел ее Насильно. Посадил на коня с собой, И отвез сестру в дом родительский. Мало время пробыла она на родине, Мало время, всего и недели нет. Жена добрая она, рода доброго, Посватались к ней со всех сторон, И сам Кадий великий Имошский. Только стала она брата упрашивать: «Коли любишь меня, братец, прошу тебя, Не моги меня ни за кого отдать, Чтоб сердце не расторглося злой тоской, Когда увижу сирот своих». Но брат не уважил мольбы ее, За Имошского отдал ее Кадия. Тут просила она брата пред свадьбою К жениху послать письмо в таковых словах: «Молодая желает тебе здравствовать И умильно просит тебя грамотой, Как приедешь за нею с поезжанами, Ты привез бы покрывало ей — завеситься На дороге, мимо двора Аги, Чтоб не видела она сирот своих». Получивши Кадий ту грамоту, Собирает сватов и поезд свадебный, К двору едет с ними к невестину. Счастливо туда они прибыли И отправились с невестой в обратный путь. Когда ехали мимо двора Аги, Из окна ее увидели две дочери, Два сына вышли навстречу к ней: «Зайди к нам, милая матушка, — Говорили ей, — сядь с нами поужинать!» Слыша речи те, Асан-Агиница Старейшине сватов взмолилася: «Будь по богу мне братом, старейшина! Вели остановиться здесь поезду — Мне подарочки раздать сиротам моим». Коней остановили супротив двора, Раздала детям подарки хорошие: Сыновьям двоим сапожки, шиты золотом, Дочерям по куску сукна некроена, А маленькому сыну колыбельному Посылает одеяльце шелковое. Глядел удалый Асан-Ага, Отозвал детей назад к себе: «Подите ко мне, сироты мои, Мать безжалостна к вам, с сердцем каменным!» Когда то услышала Агиница, Лицом белым о сыру землю ударилась, И тогда же, от безмерный жалости, На детей взирая, предала свой дух. <1827>М. В. Милонов
Фридрих Шиллер
55. Мать-убийца
Слышишь? бьет ужасный час! Укрепитесь, силы! Вместе к смерти! ищут нас Бросить в ров могилы! Всё исчезло: божий свет И небес отрада, Для меня вас боле нет — Я добыча ада! Ах, прости и светлый день, Взоров услажденье, Сладострастна ночи тень — Чувств обвороженье! Блеск отрадный ваш погас, О мечты златые! Быстро скрылись вы от глаз, Радости земные! Я, в убранстве юных лет, Веселясь красою, Улыбалась здесь, как цвет На заре весною! Днесь во гроб осуждена — И покров кончины Бледный лик, где смерть видна, Скрыл до половины! Лейте слезы надо мной, О подруги милы, Вы, кому даны с красой И душевны силы! У жестокого в руках, В радости беспечной, В милых яд пила устах — И погибла вечно! Может быть, теперь с другой, О, изменник лютый, Как встречаю я с тоской Смертные минуты, Пьет он радость и любовь, Скорбь забыв и страхи… А моя здесь брызнет кровь Высоко от плахи!.. Эдвин, Эдвин, за тобой Пусть сей глас печальный Всюду следует, сей вой, Страшный, погребальный!.. Пусть всегда в твоем уме Смерть Луизы бедной И призрáк ее во тьме Пред тобою бледный! Вероломный! страсти жар — Ни цветуща младость, И залог любви — сей дар, Львов и тигров радость… Всё отвергнул! — на земли Скорбь со мной оставив, Ты летишь один вдали, Паруса расправив! А младенец? горький плод! Ах, почто явился? В полном образе красот Лик твой обновился; Сердце матери мечтой Сладкой оживилось; Вдруг отчаянье с тоской В нем соединилось. «Где отец мой? — вопросил Он ужасным взором,— Где супруг твой?» — он грозил Мне немым укором. О невинность! горе нам! Он навек с другою, Глух к стенаньям и мольбам, Вечный стыд с тобою! Ах, и матерь!.. грозный ад — Там ее обитель! Страшен милый твой мне взгляд, Муки возвеститель! Каждый смех твой на устах — Есть мое страданье, Каждый вопль твой — сердца страх И души терзанье! Ад навек уже со мной! Прочь твои лобзанья! Вопли фурий — голос твой — Слышу их воззванье; Здесь, спешите, — вот оне! Адский сонм явился! Их огонь вспылал во мне… И кинжал вонзился! Эдвин, Эдвин! за тобой Тень сия летает; Хладной пусть своей рукой Грудь твою ласкает! Пусть ее последний взгляд Ты повсюду встретишь; Взоры страшны; с ними в ряд Тень мою приметишь! Здесь, смотри, у ног упал, Весь облитый кровью, Будто к матери припал С детскою любовью! Слышу грозный глас судей: В сердце глас боязни; Здесь, готова! смерть, скорей! Муки лютой казни! Эдвин! милостив творец — И небесна сила Казнь смягчает злых сердец: Я тебя простила. Всё исчезнет! клятв обет, Поцелуев сладость — Лютый пламень всё пожрет; Уж горит — о радость! Ах, не льститесь красотой, Девы непорочны! Красота — губитель мой И удел непрочный! Путь ко плахе мне скорей! Час ударил, мститель! Мать — убийца: не бледней, Казни исполнитель! <1813>Шарль-Юбер Мильвуа
56. Падение листьев. Элегия
Рассыпан осени рукою, Лежал поблекший лист кустов; Зимы предтеча, страх с тоскою Умолкших прогонял певцов; Места сии опустошенны Страдалец юный проходил; Их вид во дни его блаженны Очам его приятен был. «Твое, о роща, опустенье Мне предвещает жребий мой, И каждого листа в паденье Я вижу смерть перед собой! О Эпидавра прорицатель! Ужасный твой мне внятен глас: „Долин отцветших созерцатель, Ты здесь уже в последний раз! Твоя весна скорей промчится, Чем пожелтеет лист в полях И с стебля сельный цвет свалится“ — И гроб отверст в моих очах! Осенни ветры восшумели И дышат хладом средь полей, Как призрак легкий улетели Златые дни весны моей! Вались, валися, лист мгновенный, И скорбной матери моей Мой завтра гроб уединенный Сокрой от слезных ты очей! Когда ж к нему, с тоской, с слезами И с распущенными придет Вокруг лилейных плеч власами Моих подруга юных лет, В безмолвьи осени угрюмом, Как станет помрачаться день, Тогда буди ты с легким шумом Мою утешенную тень!» Сказал — и в путь свой устремился, Назад уже не приходил; Последний с древа лист сронился, Последний час его пробил. Близ дуба юноши могила; Но, с скорбию в душе своей, Подруга к ней не приходила, Лишь пастырь, гость нагих полей, Порой вечерния зарницы, Гоня стада свои с лугов, Глубокий мир его гробницы Тревожит шорохом шагов. <1819>Н. И. Гнедич
Анакреон
57. Кузнечик
О счастливец, о кузнечик, На деревьях на высоких Каплею росы напьешься И как царь ты распеваешь. Всё твое, на что ни взглянешь, Что в полях цветет широких, Что в лесах растет зеленых. Друг смиренный земледельцев, Ты ничем их не обидишь; Ты приятен человекам, Лета сладостный предвестник; Музам чистым ты любезен, Ты любезен Аполлону: Дар его — твой звонкий голос. Ты и старости не знаешь, О мудрец, всегда поющий, Сын, жилец земли невинный, Безболезненный, бескровный, Ты почти богам подобен! 1822Никола Жильбер
58. К провидению
Пред богом милости я сердце обнажил: Он призрел на мое крушенье; Уврачевал мой дух и сердце укрепил; Несчастных любит провиденье. Уже я слышал крик враждебных мне сердец: Погибни он во мраке гроба! Но милосердый бог воззвал мне как отец: «Хвала тебе презренных злоба! Друзья твои — льстецы, коварство — их язык, Обман невинности смиренной; Тот, с кем ты хлеб делил, бежит продать твой лик, Его коварством очерненный. Но за тебя на них восстановлю я суд Необольстимого потомства; И на челе своем злодеи не сотрут Печати черной вероломства». Я сердце чистое, как жертву для небес, Хранил любви в груди суровой; И за годы тоски, страдания и слез Я ждал любви, как жизни новой; И что ж? произнося обет ее святой, Коварно в грудь мне нож вонзали; И, оттолкнув меня, убитого тоской, На гроб с улыбкой указали. Увы, минутный гость я на земном пиру, Испивши горькую отраву, Уже главу склонял ко смертному одру, Возненавидя жизнь и славу. Уже в последний раз приветствовать я мнил Великолепную природу. Хвала тебе, мой бог! ты жизнь мне возвратил, И сердцу гордость и свободу! Спасительная длань, почий еще на мне! Страх тайный всё еще со мною: От бури спасшийся пловец и по земле Ступает робкою стопою; А я еще плыву, и бездны подо мной! Быть может, вновь гроза их взроет; Синеющийся брег вновь затуманит мглой И свет звезды моей сокроет. О провидение! ты, ты мой зыбкий челн Спасало, бурями гонимый; Не брось еще его, средь новых жизни волн, До пристани — уже мне зримой. 1819Андре Шенье
59. Терентинская дева
Стенайте, алкионы! О птицы нежные, любимицы наяд, Стенайте! ваши стоны Окрестные брега и волны повторят. Не стало, нет ее, прекрасной Эвфрозины! Младую нес корабль на берег Камарины; Туда ее Гимен с любовью призывал: Невесту там жених на праге дома ждал. При ней, на брачный день, хранил ковчег кедровый Одежды светлые и девы пояс новый, И перлы для груди, и злато для перстов, И благовонные мастики для власов. Но, как Ниобы дочь, невинная душою, На путь покрытая одеждою простою, Фиалковым венком и ризою льняной, На палубе, одна, стояла и мольбой Звала попутный ветр и мирные светила. Но вихорь налетел и, грянувши в ветрила, Невесту обхватил, корабль качнул: о страх! Она уже в волнах!.. Она уже в волнах, младая Эвфрозина! Помчала мертвую глубокая пучина. Фетида, сжаляся, ее из бездн морских Выносит бледную в объятиях своих. На крик сестры, толпой, сквозь влажные громады, Всплывают юные поверх зыбей наяды; Несут бездушную, кладут под кипарис; Там — принял девы прах зефиров тихий мыс; Там — нимфы, воплями собрав подруг далеких, И нимф густых лесов, и нимф полей широких, И распустив власы, над холмом гробовым Весь огласили брег стенанием своим. Увы! напрасно ждал тебя жених печальный; Ты не украсилась одеждою венчальной; Твой перстень с женихом тебя не сочетал, И кудрей девственных венец не увенчал! 1822Джордж Гордон Байрон
60. Мелодия
Душе моей грустно! Спой песню, певец! Любезен глас арфы душе и унылой. Мой слух очаруй ты волшебством сердец, Гармонии сладкой всемощною силой. Коль искра надежды есть в сердце моем, Ее вдохновенная арфа пробудит; Когда хоть слеза сохранилася в нем, Прольется, и сердце сжигать мне не будет. Но песни печали, певец, мне воспой: Для радости сердце мое уж не бьется; Заставь меня плакать, иль долгой тоской Гнетомое сердце мое разорвется! Довольно страдал я, довольно терпел; Устал я! — Пусть сердце или сокрушится И кончит земной мой несносный удел, Иль с жизнию арфой златой примирится. 1824Из клефтических песен
61. Олимп
Содержание и примечания
Это одна из древнейших и лучшая из клефтических песен, в собрании г. Фориеля напечатанных. В сочинении и подробностях ее видно, более нежели в других, дикой смелости воображения и тех дерзких порывов гения, той сильной простоты, которые составляют свойство сих произведений. Фориель предполагает, что она сочинена в Фессалии, но известна в целой Греции. Французский издатель из трех разных копий составлял текст; но в его издании опущены стих 2-й и 9-й, которые, по совету отца Экономоса, я внес как принадлежащие сей песни и дающие оной больше ясности. 2-й из них: И первый за сабли, за ружья другой означает спор за сражающихся саблями и ружьями. Киссав — нынешнее название горы Пелиона; коньяры — племя магометан, самое презренное у греков; Ксеромер и Луру — арматолики в Акарнании.
Олимп
Заспорили горы, Олимп и Киссав, И первый за сабли, за ружья другой. Олимп обернулся, к Киссаву шумит: Молчи, пресмыкайся во прахе, Киссав, Не раз оскверненный коньяра ногой! Я славен в подлунной, Олимп я седой! Высок я, на мне сорок две головы; Я шумен, струю шестьдесят два ключа; Где ключ лишь — тут знамя, где дерево — клефт. Сидит у меня на вершине орел, В когтях у орла — голова храбреца. Клюет он ее и расспрашивает: «Что сделала ты, удалая глава? За что, как у грешного, срублена с плеч?» — «Съедай мою молодость, птица орел, Съедай мою храбрость; твой подрастут И крылья на локоть и когти на пядь! В Ксерóмере, в Лýру я был арматол И клефт на Олимпе двенадцать годов; Сто аг истребил я, сто сел их сожег, А турок, албанцев, положенных мной… Их множество, птица, и счета им нет. Но жребий пришел мой — лег в битве и я!»62 — 63. Буковалл и Иван Стафа
Содержание и примечания
Буковалл — один из славнейших капитанов клефтских; он был из Акарнании, сражался с турками в горах Аграфских и прославился своею победою над Вели, дедом известного Али-паши. Керассово и Кенурио — деревни, между которыми сражается Буковалл. Первые три стиха сей песни сделались общими в поэзии клефтической, тем образцом приступов для однородных песен, о которых говорено во введении. Пукевиль также напечатал сию песню в своем «Путешествии в Грецию» (т. 3, ст. 16), но со списка, как видно, дурного, искаженную, лишенную всякого смысла, и удивляется, отчего она так славна в Греции, любима шипетарами и производит, как говорит сам, магическое действие над албанцами-христианами. Песня «Иван Стафа» занимательна, сколько по родству героя с Буковаллом, столько и по содержанию: другой о морских клефтах в собрании не находится.
Буковалл
Что за шум, что за гром раздается кругом? Не быков ли то бьют, не зверей ли травят? Нет, то бьют не быков, не зверей то травят: То сражается с турками клефт Буковалл, И сражается он против тысячи их; От Керассово дым до Кенурио лег, Белокурая дева кричит из окна: «Перестань, Буковалл, воевать и стрелять; Пусть уляжется пыль, пусть поднимется дым, Сосчитаем, узнаем, скольких у нас нет». Сосчиталися турки — их нет пятисот; Сосчиталися клефты — троих не дочлись. Отлучились с побоища два храбреца: За водою один, за едою другой; А третий, храбрейший, стоит под ружьем.Стафа
Черный корабль у Кассандры брегов разъезжал: Черные парусы, флаг голубой развевал; Встречу корвета под флагом багровым летит: «Сдайся! спусти паруса!» — налетая, кричит. «Я не сдаюсь, не спускаю моих парусов! К вам не жена, не невеста пришла на поклон: Зять Буковалла пред вами, Иван я Стафа. Бросить канаты, товарищи, нос наперед! Бейте неверных! пролейте турецкую кровь!» Турки навстречу, и сшибся с корветой корабль. Первый Стафа устремляется, с саблей в руках. Кровь через палубу хлещет, багровеет зыбь; «Алла!» — неверные взвыли и храбрым сдались.64. Последнее прощание клефта
Содержание и примечания
Должно предполагать, что два клефта, врагами или каким-либо случаем, принуждены были удалиться от родины; а область другая — для грека чужбина, земля печальная, которой он никогда не именует, не прибавя эпитета ἔρημα, пустынная, эпитета, выражающего вместе и сожаление обо всем сладостном, что должно в ней терять, и предчувствие всего ужасного, чего должно ожидать в ней. Оба, пробираясь, надобно думать, на родину, приходят к возвышению; внизу бежит река, которую переплыть должно. И вдруг один из них, каким случаем — поэт оставил в неизвестности, поражен смертию внезапною. — «Конец песни, — замечает издатель французский, — отличается невинностью (naïveté), немного странною, но он совершенно во вкусе народа греческого». — Кому из русских конец сей не напомнит последних стихов лучшей между старинными нашими песнями:
Уж как пал туман на сине море ……………………………………………. Ты скажи моей молодой вдове, Что женился я на другой жене; Что за ней я взял поле чистое, Нас сосватала сабля острая, Положила спать калена стрела.Последнее прощание клефта
Бросайся, пускайся, на берег противный плыви, Могучие руки раскинь ты на волны, как весла, Грудь сделай кормилом, а гибкое тело челном. И если дарует господь и пречистая дева И выплыть, и видеть и стан наш и сборное место, Где, помнишь, недавно томбрийскую козу пекли; И если товарищи спросят тебя про меня, Не сказывай, друг, что погиб я, что умер я, бедный! Одно им скажи, что женился я в грустной чужбине, Что стала несчастному черна земля мне женой, И тещею камень, а братьями — остры кремни! 1824Гомер
65. Илиада (Из песни XVI)
Словно два ветра, восточный и южный, свирепые спорят, В горной долине сшибаясь, и борют густую дубраву; Крепкие буки, высокие ясени, дерен користый Зыблются, древо об древо широкими ветвями бьются С шумом ужасным; кругом от крушащихся треск раздается, — Так аргивяне, трояне, свирепо друг с другом сшибаясь, Падали в битве; никто о презрительном бегстве не думал. Множество вкруг Кебриона метаемых копий великих, Множество стрел окрыленных, слетавших с тетив, водружалось; Множество камней огромных щиты разбивали у воев Окрест его; но величествен он, на пространстве великом, В вихре праха лежал, позабывший искусство возницы. Долго, доколе светило средину небес протекало, Стрелы летали с обеих сторон и народ поражали. Но лишь достигнуло солнце годины распряжки воловой, Храбрость ахеян, судьбе вопреки, одолела противных: Труп Кебриона они увлекли из-под стрел, из-под криков Ярых троян и оружия пышные сорвали с персей. Но Патрокл на троян, умышляющий грозное, грянул. Трижды влетал он в средину их, бурному равный Арею, С криком ужасным; и трижды сражал девяти браноносцев. Но когда он, как демон, в четвертый раз устремился, Тут, о Патрокл, бытия твоего наступила кончина: Против тебя Аполлон по побоищу шествовал быстро, Страшен грозой. Не познал он бога, идущего в сонмах: Мраком великим одеянный, шествовал в встречу бессмертный. Стал позади и ударил в хребет и широкие плечи Мощной рукой, — и, стемнев, закружилися очи Патрокла. Шлем с головы Менетидовой сбил Аполлон-дальновержец; Быстро по праху катясь, зазвучал под копытами коней Медяный шлем; осквернилися волосы пышного гребня Черною кровью и прахом. Прежде не сужено было Шлему сему знаменитому прахом земным оскверняться: Он на прекрасном челе, на главе богомужней героя, Он на Пелиде сиял, но Кронид соизволил, да Гектор Оным украсит главу: приближалась бо к Гектору гибель. Вся у Патрокла в руках раздробилась огромная пика, Тяжкая, крепкая, медью набитая; с плеч у героя Щит, до пят досягавший, с ремнем повалился на землю; Медные латы на нем разрешил Аполлон-небожитель. Смута на душу нашла и на члены могучие томность; Стал он как бы обаянный. Приближился с острою пикой С тыла его — и меж плеч поразил воеватель дарданский, Славный Эвфорб Панфоид, который блистал между сверстных Ног быстротой и метаньем копья и искусством возницы; Он уже в юности двадцать бойцов сразил с колесниц их, Впервые выехав сам на конях, изучаться сраженьям. Он, о Патрокл, на тебя устремил оружие первый, Но не сразил, а, исторгнув из язвы огромную пику, Вспять побежал и укрылся в толпе; не отважился явно Против Патрокла, уже безоружного, стать на сраженье. Он же, и бога ударом и мужа копьем укрощенный, Вспять к мирмидонцам-друзьям отступал, избегающий смерти. Гектор, едва усмотрел Менетида, высокого духом, С боя идущего вспять, пораженного острою медью, Прянул к нему сквозь ряды и копьем, упредивши, ударил В пах под живот; глубоко во внутренность медь погрузилась; Пал Менетид, и в уныние страшное ввергнул данаев. Словно как вепря могучего пламенный лев побеждает, Если на горной вершине сражаются, гордые оба, Возле ручья маловодного, жадные оба напиться; Вепря, уже задыхавшегось, силою лев побеждает, — Так Менетида-героя, уже погубившего многих, Гектор великий копьем низложил и душу исторгнул. Гордый победой над ним, произнес он крылатые речи: «Верно, Патрокл, уповал ты, что Трою нашу разрушишь, Наших супруг запленишь и, лишив их священной свободы, Всех повлечешь на судах в отдаленную землю родную! Нет, безрассудный! за них-то могучие Гектора кони, К битвам летя, расстилаются по полю; сам копием я Между героев троянских блистаю, и я-то надеюсь Рабство от них отразить! Но тебя растерзают здесь враны! Бедный! тебя Ахиллес, несмотря что могуч, не избавил. Верно, тебе он идущему в битву приказывал крепко: Прежде не мысли ты мне, конеборец Патрокл, возвращаться В стан мирмидонский, доколе у Гектора-мужеубийцы Брони, дымящейся кровию, сам на груди не расторгнешь! Верно, он так говорил, и прельстил безрассудную душу». Дышащий томно, ему отвечал ты, Патрокл благородный: «Славься теперь, величайся, о Гектор! Победу стяжал ты Зевса и Феба поспешеством: боги меня победили; Им-то легко; от меня и доспехи похитили боги. Но тебе подобные, если б мне двадцать предстали, Все бы они полегли, сокрушенные пикой моею! Пагубный рок, Аполлон, и от смертных Эвфорб дарданиец В брани меня поразили, а ты уже третий сражаешь. Слово последнее молвлю, на сердце его сохраняй ты: Жизнь и тебе на земле остается недолгая; близко, Близко стоит пред тобою и Смерть и суровая Участь Пасть под рукой Ахиллеса, Эакова мощного внука». Так говорящего, смертный конец осеняет Патрокла. Тихо душа, излетевши из тела, нисходит к Аиду, Плачась на жребий печальный, бросая и крепость и юность. Но к Патроклу и к мертвому Гектор великий воскликнул: «Что, мирмидонянин, ты предвещаешь мне грозную гибель? Знает ли кто, не Пелид ли, сын среброногой Фетиды, Прежде, моим копием пораженный, расстанется с жизнью?» Так произнес он, и медную пику из мертвого тела Вырвал, пятою нажав, и его опрокинул он навзничь. После немедля протúв Автомéдона с пикой понесся; Мужа могучего он, Ахиллесовых коней возницу, Свергнуть пылал; но возницу умчали быстрые кони, Кони бессмертные, дар знаменитый бессмертных Пелею. <1826>В. А. Жуковский
Томас Грей
66. Сельское кладбище
Элегия
Уже бледнеет день, скрываясь за горою; Шумящие стада толпятся над рекой; Усталый селянин медлительной стопою Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает… Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, Лишь слышится вдали рогов унылый звон. Лишь дикая сова, таясь под древним сводом Той башни, сетует, внимаема луной, На возмутившего полуночным приходом Ее безмолвного владычества покой. Под кровом черных сосн и вязов наклоненных, Которые окрест, развесившись, стоят, Здесь праотцы села, в гробах уединенных Навеки затворясь, сном непробудным спят. Денницы тихий глас, дня юного дыханье, Ни крики петуха, ни звучный гул рогов, Ни ранней ласточки на кровле щебетанье — Ничто не вызовет почивших из гробов. На дымном очаге трескучий огнь, сверкая, Их в зимни вечера не будет веселить, И дети резвые, встречать их выбегая, Не будут с жадностью лобзаний их ловить. Как часто их серпы златую ниву жали, И плуг их побеждал упорные поля! Как часто их секир дубравы трепетали, И потом их лица кропилася земля! Пускай рабы сует их жребий унижают, Смеяся в слепоте полезным их трудам, Пускай с холодностью презрения внимают Таящимся во тьме убогого делам: На всех ярится смерть — царя, любимца славы, Всех ищет грозная… и некогда найдет; Всемощныя судьбы незыблемы уставы: И путь величия ко гробу нас ведет. А вы, наперсники фортуны ослепленны, Напрасно спящих здесь спешите презирать За то, что гробы их непышны и забвенны, Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать. Вотще над мертвыми, истлевшими костями Трофеи зиждутся, надгробия блестят; Вотще глас почестей гремит перед гробами — Угасший пепел наш они не воспалят. Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою И невозвратную добычу возвратит? Не слаще мертвых сон под мраморной доскою; Надменный мавзолей лишь персть их бременит. Ах! может быть, под сей могилою таится Прах сердца нежного, умевшего любить, И гробожитель-червь в сухой главе гнездится, Рожденной быть в венце иль мыслями парить! Но просвещенья храм, воздвигнутый веками, Угрюмою судьбой для них был затворен, Их рок обременил убожества цепями, Их гений строгою нуждою умерщвлен. Как часто редкий перл, волнами сокровенный, В бездонной пропасти сияет красотой; Как часто лилия цветет уединенно, В пустынном воздухе теряя запах свой. Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный, Защитник сограждан, тиранства смелый враг; Иль кровию граждан Кромвель необагренный, Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах. Отечество хранить державною рукою, Сражаться с бурей бед, фортуну презирать, Дары обилия на смертных лить рекою, В слезах признательных дела свои читать — Того им не дал рок; но вместе преступленьям Он с доблестями их круг тесный положил; Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям И быть жестокими к страдальцам запретил; Таить в душе своей глас совести и чести, Румянец робкия стыдливости терять И, раболепствуя, на жертвенниках лести Дары небесных муз гордыне посвящать. Скрываясь от мирских погибельных смятений, Без страха и надежд, в долине жизни сей, Не зная горести, не зная наслаждений, Они беспечно шли тропинкою своей. И здесь спокойно спят под сенью гробовою — И скромный памятник, в приюте сосн густых, С непышной надписью и рéзьбою простою, Прохожего зовет вздохнуть над прахом их. Любовь на камне сем их память сохранила, Их лета, имена потщившись начертать; Окрест библейскую мораль изобразила, По коей мы должны учиться умирать. И кто с сей жизнию без горя расставался? Кто прах свой по себе забвенью предавал? Кто в час последний свой сим миром не пленялся И взора томного назад не обращал? Ах! нежная душа, природу покидая, Надеется друзьям оставить пламень свой; И взоры тусклые, навеки угасая, Еще стремятся к ним с последнею слезой; Их сердце милый глас в могиле нашей слышит; Наш камень гробовой для них одушевлен; Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит, Еще огнем любви для них воспламенен. А ты, почивших друг, певец уединенный, И твой ударит час, последний, роковой; И к гробу твоему, мечтой сопровожденный, Чувствительный придет услышать жребий твой. Быть может, селянин с почтенной сединою Так будет о тебе пришельцу говорить: «Он часто по утрам встречался здесь со мною, Когда спешил на холм зарю предупредить. Там в полдень он сидел под дремлющею ивой, Поднявшей из земли косматый корень свой; Там часто, в горести беспечной, молчаливой, Лежал задумавшись над светлою рекой; Нередко ввечеру, скитаясь меж кустами — Когда мы с поля шли и в роще соловей Свистал вечерню песнь, — он томными очами Уныло следовал за тихою зарей. Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной, Он часто уходил в дубраву слезы лить, Как странник, родины, друзей, всего лишенный, Которому ничем души не усладить. Взошла заря — но он с зарею не являлся, Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил; Опять заря взошла — нигде он не встречался; Мой взор его искал — искал — не находил. Наутро пение мы слышим гробовое… Несчастного несут в могилу положить. Приблизься, прочитай надгробие простое, Чтоб память доброго слезой благословить». Здесь пепел юноши безвременно сокрыли; Чтó слава, счастие, не знал он в мире сем. Но музы от него лица не отвратили, И меланхолии печать была на нем. Он кроток сердцем был, чувствителен душою — Чувствительным творец награду положил. Дарил несчастных он чем только мог — слезою; В награду от творца он друга получил. Прохожий, помолись над этою могилой; Он в ней нашел приют от всех земных тревог; Здесь всё оставил он, что в нем греховно было, С надеждою, что жив его спаситель — бог. 180267. Сельское кладбище
Элегия (Второй перевод из Грея)
Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает; С тихим блеяньем бредет через поле усталое стадо; Медленным шагом домой возвращается пахарь, уснувший Мир уступая молчанью и мне. Уж бледнеет окрестность, Мало-помалу теряясь во мраке, и воздух наполнен Весь тишиною торжественной; изредка только промчится Жук с усыпительно-тяжким жужжаньем, да рог отдаленный, Сон наводя на стада, порою невнятно раздастся; Только с вершины той пышно плющом украшенной башни Жалобным криком сова пред тихой луной обвиняет Тех, кто, случайно зашедши к ее гробовому жилищу, Мир нарушают ее безмолвного, древнего царства. Здесь под навесом нагнувшихся вязов, под свежею тенью Ив, где зеленым дерном могильные хóлмы покрыты, Каждый навек затворяся в свою одинокую келью, Спят непробудно смиренные предки села. Ни веселый Голос прохладно-душистого утра, ни ласточки ранней С кровли соломенной трель, ни труба петуха, ни отзывный Рог — ничто не подымет их боле с их бедной постели. Яркий огонь очага уж для них не зажжется; не будет Их вечеров услаждать хлопотливость хозяйки; не будут Дети тайком к дверям подбегать, чтоб подслушать, нейдут ли С поля отцы, и к ним на колена тянуться, чтоб первый Прежде других схватить поцелуй. Как часто серпам их Нива богатство свое отдавала; как часто их острый Плуг побеждал упорную глыбу; как весело в поле К трудной работе они выходили; как звучно топор их В лесе густом раздавался, рубя вековые деревья! Пусть издевается Гордость над их полезною жизнью, Низкий удел и семейственный мир поселян презирая; Пусть Величие с хладной насмешкой читает простую Летопись бедного; знатность породы, могущества пышность, Всё, чем блестит красота, чем богатство пленяет, всё будет Жертвой последнего часа: ко гробу ведет нас и слава. Кто обвинит их за то, что над прахом смиренным их память Пышных гробниц не воздвигла; что в храмах, по сводам высоким, В блеске торжественном свеч, в благовонном дыму фимиама, Им похвала не гремит, повторенная звучным органом? Надпись на урне иль дышащий в мраморе лик не воротят В прежнюю область ее отлетевшую жизнь, и хвалебный Голос не тронет безмолвного праха, и в хладно-немое Ухо смерти не вкрáдется сладкий ласкательства лепет. Может быть, здесь в могиле, ничем не заметной, истлело Сердце, огнем небесным некогда полное; стала Прахом рука, рожденная скипетр носить иль восторга Пламень в живые струны вливать. Но наука пред ними Свитков своих, богатых добычей веков, не раскрыла, Холод нужды умертвил благородный их пламень, и сила Гением полной души их бесплодно погибла навеки. О! как много чистых, прекрасных жемчужин сокрыто В темных, неведомых нам глубинах океана! Как часто Цвет родится на то, чтоб цвести незаметно и сладкий Запах терять в беспредельной пустыне! Быть может, Здесь погребен какой-нибудь Гампден незнаемый, грозный Мелким тиранам села, иль Мильтон, немой и неславный, Или Кромвель, неповинный в крови сограждáн. Всемогущим Словом сенат покорять, бороться с судьбою, обилье Щедрою сыпать рукой на цветущую область и в громких Плесках отечества жизнь свою слышать — то рок запретил им; Но, ограничив в добре их, равно и во зле ограничил: Не дал им воли стремиться к престолу стезею убийства, Иль затворять милосердия двери пред страждущим братом, Или, коварствуя, правду таить, иль стыда на ланитах Чистую краску терять, иль срамить вдохновенье святое, Гласом поэзии славя могучий разврат и фортуну. Чуждые смут и волнений безумной толпы, из-за тесной Грани желаньям своим выходить запрещая, вдоль свежей, Сладко-бесшумной долины жизни они тихомолком Шли по тропинке своей, и здесь их приют безмятежен. Кажется, слышишь, как дышит кругом их спокойствие неба, Все тревоги земные смиряя, и мнится, какой-то Сердце объемлющий голос, из тихих могил подымаясь, Здесь разливает предчувствие вечного мира. Чтоб праха Мертвых никто не обидел, надгробные камни с простою Надписью, с грубой резьбою прохожего молят почтить их Вздохом минутным; на камнях рука неграмотной музы Их имена и лета написала, кругом начертавши, Вместо надгробий, слова из святого писанья, чтоб скромный Сельский мудрец по ним умирать научался. И кто же, Кто в добычу немому забвению эту земную, Милую, смутную жизнь предавал и с цветущим пределом Радостно-светлого дня расставался, назад не бросая Долгого, томного, грустного взгляда? Душа, удаляясь, Хочет на нежной груди отдохнуть, и очи, темнея, Ищут прощальной слезы; из могилы нам слышен знакомый Голос, и в нашем прахе живет бывалое пламя. Ты же, заботливый друг погребенных без славы, простую Повесть об них рассказавший, быть может кто-нибудь сердцем Близкий тебе, одинокой мечтою сюда приведенный, Знать пожелает о том, что случилось с тобой, и, быть может, Вот что расскажет ему о тебе старожил поседелый: «Часто видали его мы, как он на рассвете поспешным Шагом, росу отряхая с травы, всходил на пригорок Встретить солнце; там, на мшистом, изгибистом корне Старого вяза, к земле приклонившего ветви, лежал он В полдень и слушал, как ближний ручей журчит, извиваясь; Вечером часто, окончив дневную работу, случалось Нам видать, как у входа в долину стоял он, за солнцем Следуя взором и слушая зяблицы позднюю песню; Также не раз мы видали, как шел он вдоль леса с какой-то Грустной улыбкой и что-то шептал про себя, наклонивши Голову, бледный лицом, как будто оставленный целым Светом и мучимый тяжкою думой или безнадежным Горем любви. Но однажды поýтру его я не встретил, Как бывало, на хóлме, и в полдень его не нашел я Подле ручья, ни после в долине; прошло и другое Утро, и третье; но он не встречался нигде — ни на холме Рано, ни в полдень подле ручья, ни в долине Вечером. Вот мы однажды поутру печальное пенье Слышим: его на кладбище несли. Подойди; здесь на камне, Если умеешь, прочтешь, что о нем тогда написали: Юноша здесь погребен, неведомый счастью и славе; Но при рожденьи он был небесною музой присвоен, И меланхолия знаки свои на него положила. Был он душой откровенен и добр, его наградило Небо: несчастным давал что имел он — слезу; и в награду Он получил от неба самое лучшее — друга. Путник, не трогай покоя могилы: здесь всё, что в нем было Некогда доброго, все его слабости робкой надеждой Преданы в лоно благого отца, правосудного бога». 1839Вальтер Скотт
68. Замок Смальгольм, или Иванов вечер
До рассвета поднявшись, коня оседлал Знаменитый Смальгольмский барон; И без отдыха гнал, меж утесов и скал, Он коня, торопясь в Бротерстон. Не с могучим Боклю совокупно спешил На военное дело барон; Не в кровавом бою переведаться мнил За Шотландию с Англией он; Но в железной броне он сидит на коне; Наточил он свой меч боевой; И покрыт он щитом; и топор за седлом Укреплен двадцатифунтовой. Через три дни домой возвратился барон, Отуманен и бледен лицом; Через силу и конь, опенен, запылен, Под тяжелым ступал седоком. Анкрамморския битвы барон не видал, Где потоками кровь их лилась, Где на Эверса грозно Боклю напирал, Где за родину бился Дуглас; Но железный шелом был иссечен на нем, Был изрублен и панцирь и щит, Был недавнею кровью топор за седлом, Но не áнглийской кровью покрыт. Соскочив у часовни с коня за стеной, Притаяся в кустах, он стоял; И три раза он свистнул — и паж молодой На условленный свист прибежал. «Подойди, мой малютка, мой паж молодой, И присядь на колена мои; Ты младенец, но ты откровенен душой, И слова непритворны твои. Я в отлучке был три дни, мой паж молодой; Мне теперь ты всю правду скажи: Что заметил? Что было с твоей госпожой? И кто был у твоей госпожи?» «Госпожа по ночам к отдаленным скалам, Где маяк, приходила тайком (Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам Не прокрасться во мраке ночном). И на первую ночь непогода была, И без умолку филин кричал; И она в непогоду ночную пошла На вершину пустынную скал. Тихомолком подкрался я к ней в темноте; И сидела одна — я узрел; Не стоял часовой на пустой высоте; Одиноко маяк пламенел. На другую же ночь — я за ней по следам На вершину опять побежал — О творец, у огня одинокого там Мне неведомый рыцарь стоял. Подпершися мечом, он стоял пред огнем, И беседовал долго он с ней; Но под шумным дождем, но при ветре ночном Я расслушать не мог их речей. И последняя ночь безненастна была, И порывистый ветер молчал; И к маяку она на свиданье пошла; У маяка уж рыцарь стоял. И сказала (я слышал): „В полуночный час, Перед светлым Ивановым днем, Приходи ты; мой муж не опасен для нас; Он теперь на свиданьи ином; Он с могучим Боклю ополчился теперь; Он в сражении забыл про меня — И тайком отопру я для милого дверь Накануне Иванова дня“. „Я не властен прийти, я не должен прийти, Я не смею прийти (был ответ); Пред Ивановым днем одиноким путем Я пойду… мне товарища нет“. „О, сомнение прочь! безмятежная ночь Пред великим Ивановым днем И тиха и темна, и свиданьям она Благосклонна в молчаньи своем. Я собак привяжу, часовых уложу, Я крыльцо пересыплю травой, И в приюте моем, пред Ивановым днем, Безопасен ты будешь со мной“. „Пусть собака молчит, часовой не трубит И трава не слышна под ногой, — Но священник есть там; он не спит по ночам; Он приход мой узнает ночной“. „Он уйдет к той поре: в монастырь на горе Панихиду он позван служить, — Кто-то был умерщвлен; по душе его он Будет три дни поминки творить“. Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел, Он ужасен стоял при огне. „Пусть о том, кто убит, он поминки творит: То, быть может, поминки по мне. Но полуночный час благосклонен для нас: Я приду под защитою мглы“. Он сказал… и она… я смотрю… уж одна У маяка пустынной скалы». И Смальгольмский барон, поражен, раздражен, И кипел, и горел, и сверкал. «Но скажи наконец, кто ночной сей пришлец? Он, клянусь небесами, пропал!» «Показалося мне при блестящем огне: Был шелом с соколиным пером, И палаш боевой на цепи золотой, Три звезды на щите голубом». «Нет, мой паж молодой, ты обманут мечтой; Сей полуночный, мрачный пришлец Был не властен прийти: он убит на пути; Он в могилу зарыт, он мертвец». «Нет! не чудилось мне; я стоял при огне И увидел, услышал я сам, Как его обняла, как его назвала: То был рыцарь Ричард Кольдингам». И Смальгольмский барон, изумлен, поражен, И хладел, и бледнел, и дрожал. «Нет! в могиле покой: он лежит под землей, Ты неправду мне, паж мой, сказал. Где бежит и шумит меж утесами Твид, Где подъемлется мрачный Эльдон, Уж три ночи, как там твой Ричард Кольдингам Потаенным врагом умерщвлен. Нет! сверканье огня ослепило твой взгляд; Оглушен был ты бурей ночной; Уж три ночи, три дня, как поминки творят Чернецы за его упокой». Он идет в ворота, он уже на крыльце, Он взошел по крутым ступеням На площадку, и видит: с печалью в лице Одиноко-унылая там Молодая жена — и тиха и бледна, И в мечтании грустном глядит На поля, небеса, на Мертонски леса, На прозрачно бегущую Твид. «Я с тобою опять, молодая жена». — «В добрый час, благородный барон. Что расскажешь ты мне? Решена ли война? Поразил ли Боклю иль сражен?» «Англичанин разбит; англичанин бежит С Анкрамморских кровавых полей; И Боклю наблюдать мне маяк мой велит И беречься недобрых гостей». При ответе таком изменилась лицом, И ни слова… ни слова и он; И пошла в свой покой с наклоненной главой, И за нею суровый барон. Ночь покойна была, но заснуть не дала. Он вздыхал, он с собой говорил: «Не пробудится он; не подымется он; Мертвецы не встают из могил». Уж заря занялась; был таинственный час Меж рассветом и утренней тьмой; И глубоким он сном пред Ивановым днем Вдруг заснул близ жены молодой. Не спалося лишь ей, не смыкала очей… И бродящим, открытым очам, При лампадном огне, в шишаке и броне Вдруг явился Ричард Кольдингам. «Воротись, удалися», — она говорит. «Я к свиданью тобой приглашен; Мне известно, кто здесь, неожиданный, спит, — Не страшись, не услышит нас он. Я во мраке ночном потаенным врагом На дороге изменой убит; Уж три ночи, три дня, как монахи меня Поминают — и труп мой зарыт. Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной! И ужасный теперь ему сон! И надолго во мгле на пустынной скале, Где маяк, я бродить осужден; Где видалися мы под защитою тьмы, Там скитаюсь теперь мертвецом; И сюда с высоты не сошел бы… но ты Заклинала Ивановым днем». Содрогнулась она и, смятенья полна, Вопросила: «Но что же с тобой? Дай один мне ответ — ты спасен ли, иль нет?..» Он печально потряс головой. «Выкупается кровью пролитая кровь, — То убийце скажи моему. Беззаконную небо карает любовь, — Ты сама будь свидетель тому». Он тяжелою шуйцей коснулся стола; Ей десницею руку пожал — И десница как острое пламя была, И по членам огонь пробежал. И печать роковая в столе вожжена: Отразилися пальцы на нем; На руке ж — но таинственно руку она Закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних Драйбургских стенах: И грустна и на свет не глядит; Есть в Мельрозской обители мрачный монах: И дичится людей и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный — кто он? Та монахиня — кто же она? То убийца, суровый Смальгольмский барон; То его молодая жена. 1822Роберт Саути
69. Суд божий над епископом
Были и лето и осень дождливы; Были потоплены пажити, нивы; Хлеб на полях не созрел и пропал; Сделался голод, народ умирал. Но у епископа, милостью неба, Полны амбары огромные хлеба; Жито сберег прошлогоднее он: Был осторожен епископ Гаттон. Рвутся толпой и голодный и нищий В двери епископа, требуя пищи; Скуп и жесток был епископ Гаттон: Общей бедою не тронулся он. Слушать их вопли ему надоело; Вот он решился на страшное дело: Бедных из ближних и дальних сторон, Слышно, скликает епископ Гаттон. «Дожили мы до нежданного чуда: Вынул епископ добро из-под спуда; Бедных к себе на пирушку зовет», — Так говорил изумленный народ. К сроку собралися званые гости, Бледные, чахлые, кожа да кости; Старый, огромный сарай отворен, В нем угостит их епископ Гаттон. Вот уж столпились под кровлей сарая Все пришлецы из окружного края… Как же их принял епископ Гаттон? Был им сарай и с гостями сожжен. Глядя епископ на пепел пожарный, Думает: будут мне все благодарны; Разом избавил я шуткой моей Край наш голодный от жадных мышей. В замок епископ к себе возвратился, Ужинать сел, пировал, веселился, Спал, как невинный, и снов не видал… Правда! но боле с тех пор он не спал. Утром он входит в покой, где висели Предков портреты, и видит, что съели Мыши его живописный портрет, Так, что холстины и признака нет. Он обомлел; он от страха чуть дышит… Вдруг он чудесную ведомость слышит: «Наша округа мышами полна, В житницах съеден весь хлеб до зерна». Вот и другое в ушах загремело: «Бог на тебя за вчерашнее дело! Крепкий твой замок, епископ Гаттон, Мыши со всех осаждают сторон». Ход был до Рейна от замка подземный; В страхе епископ дорогою темной К берегу выйти из замка спешит, «В Реинской башне спасусь», — говорит. Башня из реинских вод подымалась; Издали острым утесом казалась, Грозно из пены торчащим, она; Стены кругом ограждала волна. В легкую лодку епископ садится; К башне причалил, дверь запер и мчится Вверх по гранитным крутым ступеням; В страхе один затворился он там. Стены из стали казалися слиты, Были решетками окна забиты, Ставни чугунные, каменный свод, Дверью железною запертый вход. Узник не знает, куда приютиться; На пол, зажмурив глаза, он ложится… Вдруг он испуган стенаньем глухим: Вспыхнули ярко два глаза над ним. Смотрит он… кошка сидит и мяучит; Голос тот грешника давит и мучит; Мечется кошка; невесело ей: Чует она приближенье мышей. Пал на колени епископ и криком Бога зовет в исступлении диком. Воет преступник… а мыши плывут… Ближе и ближе… доплыли… ползут. Вот уж ему в расстоянии близком Слышно, как лезут с роптаньем и писком; Слышно, как стену их лапки скребут; Слышно, как камень их зубы грызут. Вдруг ворвались неизбежные звери; Сыплются градом сквозь окна, сквозь двери, Спереди, сзади, с боков, с высоты… Что тут, епископ, почувствовал ты? Зубы об камни они навострили, Грешнику в кости их жадно впустили, Весь по суставам раздернут был он… Так был наказан епископ Гаттон. 1831Антуан-Венсан Арно
70. Листок
От дружной ветки отлученный, Скажи, листок уединенный, Куда летишь?.. — «Не знаю сам; Гроза разбила дуб родимый; С тех пор, по долам, по горам По воле случая носимый, Стремлюсь, куда велит мне рок, Куда на свете всё стремится, Куда и лист лавровый мчится И легкий розовый листок». 1818Иоганн Вольфганг Гете
71. К месяцу
Снова лес и дол покрыл Блеск туманный твой: Он мне душу растворил Сладкой тишиной. Ты блеснул… и просветлел Тихо темный луг, — Так улыбкой наш удел Озаряет друг. Скорбь и радость давних лет Отозвались мне, И минувшего привет Слышу в тишине. Лейся, мой ручей, стремись! Жизнь уж отцвела; Так надежды пронеслись; Так любовь ушла. Ах! то было и моим, Чем так сладко жить; То, чего, расставшись с ним, Вечно не забыть. Лейся, лейся, мой ручей, И журчанье струй С одинокою моей Лирой согласуй. Счастлив, кто от хлада лет Сердце охранил, Кто без ненависти свет Бросил и забыл, Кто делúт с душой родной, Втайне от людей, То, что презрено толпой Или чуждо ей. 181772.
Кто слез на хлеб свой не ронял, Кто близ одра, как близ могилы, В ночи, бессонный, не рыдал, — Тот вас не знает, вышни силы! На жизнь мы брошены от вас! И вы ж, дав знаться нам с виною, Страданью выдаете нас, Вину преследуете мздою. 181673. Утешение в слезах
«Скажи, что так задумчив ты? Всё весело вокруг; В твоих глазах печали след: Ты, верно, плакал, друг?» «О чем грущу, то в сердце мне Запало глубоко; А слезы… слезы в сладость нам; От них душе легко». «К тебе ласкаются друзья, Их ласки не дичись; И что бы ни утратил ты, Утратой поделись». «Как вам, счастливцам, то понять, Что понял я тоской? О чем… но нет! оно мое, Хотя и не со мной». «Не унывай же, ободрись; Еще ты в цвете лет; Ищи — найдешь; отважным, друг, Несбыточного нет». «Увы! напрасные слова! Найдешь — сказать легко; Мне до него, как до звезды Небесной, далеко». «На что ж искать далеких звезд? Для неба их краса; Любуйся ими в ясну ночь, Не мысля в небеса». «Ах! я любуюсь в ясный день; Нет сил и глаз отвесть; А ночью… ночью плакать мне, Покуда слезы есть». 181774. Жалоба пастуха
На ту знакомую гору Сто раз я в день прихожу; Стою, склоняся на посох, И в дол с вершины гляжу. Вздохнув, медлительным шагом Иду вослед я овцам И часто, часто в долину Схожу, не чувствуя сам. Весь луг по-прежнему полон Младой цветов красоты; Я рву их — сам же не знаю, Кому отдать мне цветы. Здесь часто в дождик и в грóзу Стою, к земле пригвожден: Всё жду, чтоб дверь отворилась… Но то обманчивый сон. Над милой хижинкой светит, Видаю, радуга мне… К чему? Она удалилась! Она в чужой стороне! Она всё дале! всё дале! И скоро слух замолчит! Бегите ж, овцы, бегите! Здесь горе душу томит! 181775. Рыбак
Бежит волна, шумит волна! Задумчив, над рекой Сидит рыбак; душа полна Прохладной тишиной. Сидит он час, сидит другой; Вдруг шум в волнах притих… И влажною всплыла главой Красавица из них. Глядит она, поет она: «Зачем ты мой народ Манишь, влечешь с родного дна В кипучий жар из вод? Ах! если б знал, как рыбкой жить Привольно в глубине, Не стал бы ты себя томить На знойной вышине. Не часто ль солнце образ свой Купает в лоне вод? Не свежей ли горит красой Его из них исход? Не с ними ли свод неба слит Прохладно-голубой? Не в лоно ль их тебя манит И лик твой молодой?» Бежит волна, шумит волна… На берег вал плеснул! В нем вся душа тоски полна, Как будто друг шепнул! Она поет, ома манит,— Знать, час его настал! К нему она, он к ней бежит… И след навек пропал. 181876. Лесной царь
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник; Обняв, его держит и греет старик. — Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? — Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул; Он в темной короне, с густой бородой. — О нет, то белеет туман над водой. «Дитя, оглянися; младенец, ко мне; Веселого много в моей стороне: Цветы бирюзовы, жемчужны струи; Из золота слиты чертоги мои». — Родимый, лесной царь со мной говорит: Он золото, перлы и радость сулит. — О нет, мой младенец, ослышался ты: То ветер, проснувшись, колыхнул листы. «Ко мне, мой младенец; в дуброве моей Узнаешь прекрасных моих дочерей: При месяце будут играть и летать, Играя, летая, тебя усыплять». — Родимый, лесной царь созвал дочерей: Мне, вижу, кивают из темных ветвей. — О нет, всё спокойно в ночной глубине: То ветлы седые стоят в стороне. «Дитя, я пленился твоей красотой: Неволей иль волей, а будешь ты мой». — Родимый, лесной царь нас хочет догнать; Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать. Ездок оробелый не скачет, летит; Младенец тоскует, младенец кричит; Ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мертвый младенец лежал. 1818Людвиг Уланд
77. Три песни
«Споет ли мне песню веселую скальд?» — Спросил, озираясь, могучий Освальд. И скальд выступает на царскую речь, Под мышкою арфа, на поясе меч. «Три песни я знаю: в одной старина! Тобою, могучий, забыта она; Ты сам ее в лесе дремучем сложил; Та песня: отца моего ты убил. Есть песня другая: ужасна она; И мною под бурей ночной сложена; Пою ее ранней и поздней порой; И песня та: бейся, убийца, со мной!» Он в сторону арфу и меч наголо; И бешенство грозные лица зажгло; Запрыгали искры по звонким мечам — И рухнул Освальд — голова пополам. «Раздайся ж, последняя песня моя; Ту песню и утром и вечером я Греметь не устану пред девой любви; Та песня: убийца повержен в крови». 181678. Мщение
Изменой слуга паладина убил: Убийце завиден сан рыцаря был. Свершилось убийство ночною порой — И труп поглощен был глубокой рекой. И шпоры и латы убийца надел И в них на коня паладинова сел. И мост на коне проскакать он спешит, Но конь поднялся на дыбы и храпит. Он шпоры вонзает в крутые бока — Конь бешеный сбросил в реку седока. Он выплыть из всех напрягается сил, Но панцирь тяжелый его утопил. 181679. Победитель
Сто красавиц светлооких Председали на турнире. Все — цветочки полевые, А моя одна как роза. На нее глядел я смело, Как орел глядит на солнце. Как от щек моих горячих Разгоралося забрало! Как рвалось пробиться сердце Сквозь тяжелый, твердый панцирь! Светлых взоров тихий пламень Стал душе моей пожаром; Сладкошепчущие речи Стали сердцу бурным вихрем; И она — младое утро — Стала мне грозой могучей; Я помчался, я ударил — И ничто не устояло. 1822Готфрид Август Бюргер
80. Ленора
Леноре снился страшный сон, Проснулася в испуге. «Где милый? Что с ним? Жив ли он? И верен ли подруге?» Пошел в чужую он страну За Фридериком на войну; Никто об нем не слышит, А сам он к ней не пишет. С императрицею король За что-то раздружились, И кровь лилась, лилась… доколь Они не помирились. И оба войска, кончив бой, С музыкой, песнями, пальбой, С торжественностью ратной Пустились в путь обратный. Идут! идут! за строем строй; Пылят, гремят, сверкают; Родные, ближние толпой Встречать их выбегают; Там обнял друга нежный друг, Там сын — отца, жену — супруг; Всем радость… а Леноре Отчаянное горе. Она обходит ратный строй И друга вызывает; Но вести нет ей никакой: Никто об нем не знает. Когда же мимо рать прошла — Она свет божий прокляла, И громко зарыдала, И на землю упала. К Леноре мать бежит с тоской: «Что так тебя волнует? Что сделалось, дитя, с тобой?» — И дочь свою целует. «О друг мой, друг мой, всё прошло! Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло; Сам бог врагом Леноре… О горе мне! о горе!» «Прости ее, небесный царь! Родная, помолися; Он благ, его руки мы тварь: Пред ним душой смирися». — «О друг мой, друг мой, всё как сон… Немилостив со мною он; Пред ним мой крик был тщетен… Он глух и безответен». «Дитя, от жалоб удержись; Смири души тревогу; Пречистых тайн причастись, Пожертвуй сердцем богу». — «О друг мой, что во мне кипит, Того и бог не усмирит: Ни тайнами, ни жертвой Не оживится мертвый». «Но что, когда он сам забыл Любви святое слово, И прежней клятве изменил, И связан клятвой новой? И ты, и ты об нем забудь; Не рви тоской напрасной грудь; Не стоит слез предатель; Ему судья создатель». «О друг мой, друг мой, всё прошло; Пропавшее пропало; Жизнь безотрадную назло Мне провиденье дало… Угасни ты, противный свет! Погибни, жизнь, где друга нет! Сам бог врагом Леноре… О горе мне! о горе!» «Небесный царь, да ей простит Твое долготерпенье! Она не знает, что творит: Ее душа в забвенье. Дитя, земную скорбь забудь: Ведет ко благу божий путь; Смиренным рай награда… Страшись мучений ада». «О друг мой, что небесный рай? Что адское мученье? С ним вместе — всё небесный рай; С ним розно — всё мученье; Угасни ты, противный свет! Погибни, жизнь, где друга нет! С ним розно — умерла я И здесь и там для рая». Так дерзко, полная тоской, Душа в ней бунтовала… Творца на суд она с собой Безумно вызывала, Терзалась, волосы рвала До той поры, как ночь пришла И темный свод над нами Усыпался звездами. И вот… как будто легкий скок Коня в тиши раздался: Несется по полю ездок; Гремя, к крыльцу примчался; Гремя, взбежал он на крыльцо; И двери брякнуло кольцо… В ней жилки задрожали… Сквозь дверь ей прошептали: «Скорей! сойди ко мне, мой свет! Ты ждешь ли друга, спишь ли? Меня забыла ты иль нет? Смеешься ли, грустишь ли?» — «Ах! милый… бог тебя принес! А я… от горьких, горьких слез И свет в очах затмился… Ты как здесь очутился?» «Седлаем в полночь мы коней… Я еду издалёка. Не медли, друг, сойди скорей; Путь долог, мало срока». — «На что спешить, мой милый, нам? И ветер воет по кустам, И тьма ночная в поле; Побудь со мной на воле». «Что нужды нам до тьмы ночной! В кустах пусть ветер воет. Часы бегут; конь борзый мой Копытом землю роет; Нельзя нам ждать; сойди, дружок; Нам долгий путь, нам малый срок; Не в пору сон и нега: Сто миль нам до ночлега». «Но как же конь твой пролетит Сто миль до утра, милый? Ты слышишь, колокол гудит: Одиннадцать пробило». — «Но месяц встал, он светит нам… Гладка дорога мертвецам; Мы скачем, не боимся; До света мы домчимся». «Но где же, где твой уголок? Где наш приют укромный?» — «Далеко он… пять, шесть досток… Прохладный, тихий, темный». — «Есть место мне?» — «Обоим нам. Поедем! всё готово там; Ждут гости в нашей келье; Пора на новоселье!» Она подумала, сошла, И на коня вспрыгнула, И друга нежно обняла, И вся к нему прильнула. Помчались… конь бежит, летит, Под ним земля шумит, дрожит, С дороги вихри вьются, От камней искры льются. И мимо их холмы, кусты, Поля, леса летели; Под конским топотом мосты Тряслися и гремели. «Не страшно ль?» — «Месяц светит нам!» — «Гладка дорога мертвецам! Да что же так дрожишь ты?» — «Зачем о них твердишь ты?» Но кто там стонет? Что за звон? Что ворона взбудило? По мертвом звон; надгробный стон; Голóсят над могилой. И виден ход: идут, поют, На дрогах тяжкий гроб везут, И голос погребальный Как вой совы печальной. «Заройте гроб в полночный час: Слезам теперь не место; За мной! к себе на свадьбу вас Зову с моей невестой. За мной, певцы; за мной, пастор; Пропой нам многолетье, хор; Нам дай на обручение, Пастор, благословенье». И звон утих… и гроб пропал… Столпился хор проворно И по дороге побежал За ними тенью черной; И дале, дале!.. конь летит, Под ним земля шумит, дрожит, С дороги вихри вьются, От камней искры льются. И сзади, спереди, с боков Окрестность вся летела: Поля, холмы, ряды кустов, Заборы, домы, села. «Не страшно ль?» — «Месяц светит нам». — «Гладка дорога мертвецам! Да что же так дрожишь ты?» — «О мертвых всё твердишь ты!» Вот у дороги, над столбом, Где висельник чернеет, Воздушный рой, свиясь кольцом, Кружится, пляшет, веет. «Ко мне! за мной, вы, плясуны! Вы все на пир приглашены! Скачу, лечу жениться… Ко мне! повеселиться!» И лётом, лётом легкий рой Пустился вслед за ними, Шумя, как ветер полевой Меж листьями сухими. И дале, дале!.. конь летит, Под ним земля шумит, дрожит, С дороги вихри вьются, От камней искры льются. Вдали, вблизи, со всех сторон, Всё мимо их бежало, И всё, как тень, и всё, как сон, Мгновенно пропадало. «Не страшно ль?» — «Месяц светит нам» — «Гладка дорога мертвецам! Да что же так дрожишь ты?» — «Зачем о них твердишь ты?» «Мой конь, мой конь, песок бежит; Я чую: ночь свежее; Мой конь, мой конь, петух кричит; Мой конь, несись быстрее!.. Окончен путь; исполнен срок; Наш близко, близко уголок; В минуту мы у места… Приехали, невеста!» К воротам конь во весь опор Примчавшись, стал и топнул; Ездок бичом стегнул затвор — Затвор со стуком лопнул; Они кладбище видят там… Конь быстро мчится по гробам; Лучи луны сияют, Кругом кресты мелькают. И что ж, Ленора, что потом? О страх!.. в одно мгновенье Кусок одежды за куском Слетел с него, как тленье; И нет уж кожи на костях; Безглазый череп на плечах; Нет каски, нет колета; Она в руках скелета. Конь прянул… пламя из ноздрей Волною побежало; И вдруг… всё пылью перед ней Расшиблось и пропало. И вой и стон на вышине; И крик в подземной глубине; Лежит Ленора в страхе Полмертвая на прахе. И в блеске месячных лучей Рука с рукой летает, Виясь над ней, толпа теней И так ей припевает: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь; Творцу в бедах покорна будь; Твой прах сойди в могилу! А душу бог помилуй!» 1831Фридрих Шиллер
81. Тоска по милом. Песня
Дубрава шумит; Сбираются тучи; На берег зыбучий Склонившись, сидит В слезах, пригорюнясь, девица-краса; И полночь и буря мрачат небеса; И черные волны, вздымаясь, бушуют; И тяжкие вздохи грудь белу волнуют. «Душа отцвела; Природа уныла; Любовь изменила, Любовь унесла Надежду, надежду — мой сладкий удел. Куда ты, мой ангел, куда улетел? Ах, полно! я счастьем мирским насладилась: Жила, и любила… и друга лишилась. Теките струей Вы, слезы горючи; Дубравы дремучи, Тоскуйте со мной. Уж боле не встретить мне радостных дней; Простилась, простилась я с жизнью моей: Мой друг не воскреснет; что было, не будет… И бывшего сердце вовек не забудет. Ах! скоро ль пройдут Унылые годы? С весною — природы Красы расцветут… Но сладкое счастье не дважды цветет. Пускай же драгое в слезах оживет; Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась; Одна о минувшем тоска мне осталась». 180782. Горная дорога
Над страшною бездной дорога бежит, Меж жизнью и смертию мчится; Толпа великанов ее сторожит; Погибель над нею гнездится. Страшись пробужденья лавины ужасной: В молчаньи пройди по дороге опасной. Там мост через бездну отважной дугой С скалы на скалу перегнулся; Не смертною был он поставлен рукой — Кто смертный к нему бы коснулся? Поток под него разъяренный бежит; Сразить его рвется и ввек не сразит. Там, грозно раздавшись, стоят ворота; Мнишь: область теней пред тобою; Пройди их — долина, долин красота, Там осень играет с весною. Приют сокровенный! желанный предел! Туда бы от жизни ушел, улетел. Четыре потока оттуда шумят — Не зрели их выхода очи. Стремятся они на восток, на закат; Стремятся к полудню, к полночи; Рождаются вместе; родясь, расстаются; Бегут без возврата и ввек не сольются. Там в блеске небес два утеса стоят, Превыше всего, что земное; Кругом облака золотые кипят, Эфира семейство младое; Ведут хороводы в стране голубой; Там не был, не будет свидетель земной. Царица сидит высоко и светло На вечно-незыблемом троне; Чудесной красой обвивает чело И блещет в алмазной короне; Напрасно там солнцу сиять и гореть: Ее золотит, но не может согреть. 181883. Торжество победителей
Пал Приамов град священный; Грудой пепла стал Пергам; И, победой насыщенны, К острогрудым кораблям Собрались эллены — тризну В честь минувшего свершить И в желанную отчизну, К берегам Эллады плыть. Пойте, пойте гимн согласный: Корабли обращены От враждебной стороны К нашей Греции прекрасной. Брегом шла толпа густая Илионских дев и жен: Из отеческого края Их вели в далекий плен. И с победной песнью дикой Их сливался тихий стон По тебе, святой, великий, Невозвратный Илион. Вы, родные холмы, нивы, Нам вас боле не видать; Будем в рабстве увядать… О, сколь мертвые счастливы! И с предведеньем во взгляде Жертву сам Калхас заклал: Грады зиждущей Палладе И губящей (он воззвал), Буреносцу Посидону, Воздымателю валов, И носящему Горгону Богу смертных и богов! Суд окончен; спор решился; Прекратилася борьба; Всё исполнила Судьба: Град великий сокрушился. Царь народов, сын Атрея, Обозрел полков число; Вслед за ним на брег Сигея Много, много их пришло… И незапный мрак печали Отуманил царский взгляд: Благороднейшие пали… Мало с ним пойдет назад. Счастлив тот, кому сиянье Бытия сохранено, Тот, кому вкусить дано С милой родиной свиданье! И не всякий насладится Миром, в свой пришедши дом: Часто злобный ков таится За домашним алтарем; Часто Марсом пощаженный Погибает от друзей (Рек, Палладой вдохновенный, Хитроумный Одиссей). Счастлив тот, чей дом украшен Скромной верностью жены! Жены алчут новизны: Постоянный мир им страшен. И стоящий близ Елены Менелай тогда сказал: Плод губительный измены — Ею сам изменник пал; И погиб виной Парида Отягченный Илион… Неизбежен суд Кронида, Всё блюдет с Олимпа он. Злому злой конец бывает: Гибнет жертвой эвменид, Кто безумно, как Парид, Право гостя оскверняет. Пусть веселый взор счастливых (Оилеев сын сказал) Зрит в богах богов правдивых; Суд их часто слеп бывал: Скольких бодрых жизнь поблёкла! Скольких низких рок щадит!.. Нет великого Патрокла; Жив презрительный Терсит. Смертный, царь Зевес Фортуне Своенравной предал нас, — Уловляй же быстрый час, Не тревожа сердца втуне. Лучших бой похитил ярый! Вечно памятен нам будь, Ты, мой брат, ты, под удары Подставлявший твердо грудь, Ты, который нас, пожаром Осажденных, защитил… Но коварнейшему даром Щит и меч Ахиллов был. Мир тебе во тьме Эрева! Жизнь твою не враг отнял: Ты своею силой пал, Жертва гибельного гнева. О Ахилл! о мой родитель! (Возгласил Неоптолем) Быстрый мира посетитель, Жребий лучший взял ты в нем. Жить в любви племен делами — Благо первое земли; Будем вечны именами И сокрытые в пыли! Слава дней твоих нетленна; В песнях будет цвесть она: Жизнь живущих неверна, Жизнь отживших неизменна! Смерть велит умолкнуть злобе (Диомед провозгласил): Слава Гектору во гробе! Он краса Пергама был; Он за край, где жили деды, Веледушно пролил кровь; Победившим — честь победы! Охранявшему — любовь! Кто, на суд явясь кровавый, Славно пал за отчий дом, Тот, почтенный и врагом, Будет жить в преданьях славы. Нестор, жизнью убеленный, Нацедил вина фиал И Гекубе сокрушенной Дружелюбно выпить дал. Пей страданий утоленье; Добрый Вакхов дар вино: И веселость и забвенье Проливает в нас оно. Пей, страдалица! печали Услаждаются вином: Боги жалостные в нем Подкрепленье сердцу дали. Вспомни матерь Ниобею: Что изведала она! Сколь ужасная над нею Казнь была совершена! Но и с нею, безотрадной, Добрый Вакх недаром был: Он струею виноградной Вмиг тоску в ней усыпил. Если грудь вином согрета И в устах вино кипит, Скорби наши быстро мчит Их смывающая Лета. И вперила взор Кассандра, Вняв шепнувшим ей богам, На пустынный брег Скамандра, На дымящийся Пергам. Всё великое земное Разлетается как дым: Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет другим… Смертный, силе, нас гнетущей, Покоряйся и терпи; Спящий в гробе, мирно спи; Жизнью пользуйся, живущий. 182884. Кубок
«Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой, В ту бездну прыгнет с вышины? Бросаю мой кубок туда золотой. Кто сыщет во тьме глубины Мой кубок и с ним возвратится безвредно, Тому он и будет наградой победной». Так царь возгласил и с высокой скалы, Висевшей над бездной морской, В пучину бездонной, зияющей мглы Он бросил свой кубок златой. «Кто, смелый, на подвиг опасный решится? Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?» Но рыцарь и латник недвижно стоят; Молчанье — на вызов ответ; В молчаньи на грозное море глядят; За кубком отважного нет. И в третий раз царь возгласил громогласно: «Отыщется ль смелый на подвиг опасный?» И все безответны… вдруг паж молодой Смиренно и дерзко вперед; Он снял епанчу и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет… И дамы и рыцари мыслят, безгласны: Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный? И он подступает к наклону скалы, И взор устремил в глубину… Из чрева пучины бежали валы, Шумя и гремя, в вышину; И волны спирались, и пена кипела, Как будто гроза, наступая, ревела. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага, мешаясь с огнем, Волна за волною; и к небу летит Дымящимся пена столбом; Пучина бунтует, пучина клокочет… Не море ль из моря извергнуться хочет? И вдруг, успокоясь, волненье легло; И грозно из пены седой Разинулось черною щелью жерло; И воды обратно толпой Помчались во глубь истощенного чрева; И глубь застонала от грома и рева. И он, упредя разъяренный прилив, Спасителя-бога призвал… И дрогнули зрители, все возопив, — Уж юноша в бездне пропал. И бездна таинственно зев свой закрыла — Его не спасет никакая уж сила. Над бездной утихло… в ней глухо шумит… И каждый, очей отвести Не смея от бездны, печально твердит: «Красавец отважный, прости!» Всё тише и тише на дне ее воет… И сердце у всех ожиданием ноет. «Хоть брось ты туда свой венец золотой, Сказав: кто венец возвратит, Тот с ним и престол мой разделит со мной! — Меня твой престол не прельстит. Того, что скрывает та бездна немая, Ничья здесь душа не расскажет живая. Немало судов, закруженных волной, Глотала ее глубина; Все мелкой назад вылетали щепой С ее неприступного дна…» Но слышится снова в пучине глубокой Как будто роптанье грозы недалекой. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага, мешаясь с огнем, Волна за волною; и к небу летит Дымящимся пена столбом… И брызнул поток с оглушительным ревом, Извергнутый бездны зияющим зевом. Вдруг… что-то сквозь пену седой глубины Мелькнуло живой белизной… Мелькнула рука и плечо из волны… И борется, спорит с волной… И видят — весь берег потрясся от клича — Он левою правит, а в правой добыча. И долго дышал он, и тяжко дышал, И божий приветствовал свет… И каждый с весельем «Он жив! — повторял. — Чудеснее подвига нет! Из темного гроба, из пропасти влажной Спас душу живую красавец отважный». Он на берег вышел; он встречен толпой; К царевым ногам он упал; И кубок у ног положил золотой; И дочери царь приказал Дать юноше кубок с струей винограда; И в сладость была для него та награда. «Да здравствует царь! Кто живет на земле, Тот жизнью земной веселись! Но страшно в подземной таинственной мгле… И смертный пред богом смирись: И мыслью своей не желай дерзновенно Знать тайны, им мудро от нас сокровенной. Стрелою стремглав полетел я туда… И вдруг мне навстречу поток; Из трещины камня лилася вода; И вихорь ужасный повлек Меня в глубину с непонятною силой… И страшно меня там кружило и било. Но богу молитву тогда я принес, И он мне спасителем был: Торчащий из мглы я увидел утес И крепко его обхватил; Висел там и кубок на ветви коралла: В бездонное влага его не умчала. И смутно всё было внизу подо мной В пурпуровом сумраке там; Всё спало для слуха в той бездне глухой; Но виделось страшно очам, Как двигались в ней безобразные груды, Морской глубины несказанные чуды. Я видел, как в черной пучине кипят, В громадный свиваяся клуб, И млат водяной, и уродливый скат, И ужас морей однозуб; И смертью грозил мне, зубами сверкая, Мокой ненасытный, гиена морская. И был я один с неизбежной судьбой, От взора людей далеко; Один меж чудовищ, с любящей душой, Во чреве земли, глубоко Под звуком живым человечьего слова, Меж страшных жильцов подземелья немого. И я содрогался… вдруг слышу: ползет Стоногое грозно из мглы, И хочет схватить, и разинулся рот… Я в ужасе прочь от скалы!.. То было спасеньем: я схвачен приливом И выброшен вверх водомета порывом». Чудесен рассказ показался царю: «Мой кубок возьми золотой; Но с ним я и перстень тебе подарю, В котором алмаз дорогой, Когда ты на подвиг отважишься снова И тайны все дна перескажешь морского». То слыша, царевна с волненьем в груди, Краснея, царю говорит: «Довольно, родитель, его пощади! Подобное кто совершит? И если уж должно быть опыту снова, То рыцаря вышли, не пажа младого». Но царь, не внимая, свой кубок златой В пучину швырнул с высоты: «И будешь здесь рыцарь любимейший мой, Когда с ним воротишься ты; И дочь моя, ныне твоя предо мною Заступница, будет твоею женою». В нем жизнью небесной душа зажжена; Отважность сверкнула в очах; Он видит: краснеет, бледнеет она; Он видит: в ней жалость и страх… Тогда, неописанной радостью полный, На жизнь и погибель он кинулся в волны… Утихнула бездна… и снова шумит… И пеною снова полна… И с трепетом в бездну царевна глядит… И бьет за волною волна… Приходит, уходит волна быстротечно — А юноши нет и не будет уж вечно. <1831>Иозеф Кристиан Цедлиц
85. Ночной смотр
В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик; И ходит он взад и вперед, И бьет он проворно тревогу. И в темных гробах барабан Могучую будит пехоту: Встают молодцы егеря, Встают старики гренадеры, Встают из-под русских снегов, С роскошных полей италийских, Встают с африканских степей, С горючих песков Палестины. В двенадцать часов по ночам Выходит трубач из могилы; И скачет он взад и вперед, И громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба Могучую конницу будит: Седые гусары встают, Встают усачи кирасиры; И с севера, с юга летят, С востока и с запада мчатся На легких воздушных конях Один за другим эскадроны. В двенадцать часов по ночам Из гроба встает полководец; На нем сверх мундира сюртук; Он с маленькой шляпой и шпагой; На старом коне боевом Он медленно едет по фрунту; И маршалы едут за ним, И едут за ним адъютанты; И армия честь отдает. Становится он перед нею; И с музыкой мимо его Проходят полки за полками. И всех генералов своих Потом он в кружок собирает, И ближнему на ухо сам Он шепчет пароль свой и лозунг; И армии всей отдают Они тот пароль и тот лозунг: И Франция — тот их пароль, Тот лозунг — Святая Елена. Так к старым солдатам своим На смотр генеральный из гроба В двенадцать часов по ночам Встает император усопший. 1836К. Н. Батюшков
Тибулл
86. Элегия
Напрасно осыпал я жертвенник цветами, Напрасно фимиам курил пред алтарями; Напрасно: Делии еще с Тибуллом нет! Бессмертны, слышали вы скромный мой обет! Молил ли вас когда о почестях и злате? Желал ли обитать во мраморной палате? К чему мне пажитей обширная земля, Златыми класами венчанные поля И стадо кобылиц, рабами охраненно? О бедности молил, с тобою разделенной! Молил, чтоб смерть меня застала при тебе, Хоть нища, но с тобой!.. К чему желать себе Богатства Азии или волов дебелых? Ужели более мы дней сочтем веселых В садах и в храминах, где дивный ряд столбов Иссечен хитростью наемных пришлецов; Где всё один порфир Тенера и Кариста, Помосты мраморны и урны злата чиста; Луга пространные, где силою трудов Легла священна тень от кедровых лесов? К чему эритрские жемчужины бесценны И руны тирские, багрянцем напоенны? В богатстве ль счастие? В нем призрак, тщетный вид! Мудрец от лар своих за златом не бежит, Колен пред случаем вовек не преклоняет, И в хижине своей с фортуной обитает. И бедность, Делия, мне радостна с тобой! Тот кров соломенный, Тибуллу золотой, Под коим сопряжен любовию с тобою, Стократ благословен!.. Но если предо мною Бессмертные весов судьбы не преклонят, Утешит ли тогда сей Рим, сей пышный град? Ах, нет! И золото блестящего Пактола, И громкой славы шум, и самый блеск престола Без Делии ничто, а с ней и куща — храм, Безвестность, нищета завидны небесам! О дочь Сатурнова! услышь мое моленье! И ты, любови мать! Когда же парк сужденье, Когда суровых сестр противно вретено И Делией владеть Тибуллу не дано, — Пускай теперь сойду во области Плутона, Где блата топкие и воды Ахерона Широкой цепию вкруг ада облежат, Где беспробудным сном печальны тени спят. 1809Франческо Петрарка
87. На смерть Лауры
Колонна гордая! о лавр вечнозеленый! Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад! Ни там, где Инд живет, лучами опаленный, Ни в хладном Севере для сердца нет отрад! Всё смерть похитила, всё алчная пожрала — Сокровище души, покой и радость с ним! А ты, земля, вовек корысть не возвращала, И мертвый нем лежит под камнем гробовым! Всё тщетно пред тобой — и власть, и волхвованья… Таков судьбы завет!.. Почто ж мне доле жить? Увы, чтоб повторять в час полночи рыданья И слезы вечные на хладный камень лить! Как сладко, жизнь, твое для смертных обольщенье! Я в будущем мое блаженство основал, Там пристань видел я, покой и утешенье — И всё с Лаурою в минуту потерял! 1810Джамбатиста Касти
88. Радость
Любимца Кипридина И миртом, и розою Венчайте, о юноши И девы стыдливые! Толпами сбирайтеся, Руками сплетайтеся И, радостно топая, Скачите и прыгайте! Мне лиру тиискую Камены и грации Вручили с улыбкою: И песни веселию, Приятнее нектара И слаще амврозии, Что пьют небожители, В блаженстве беспечные, Польются со струн ее! Сегодня — день радости: Филлида суровая Сквозь слезы стыдливости «Люблю» мне промолвила. Как роза, кропимая В час утра Авророю, С главой, отягченною Бесценными каплями, Румяней становится, — Так ты, о прекрасная, С главою поникшею, Сквозь слезы стыдливости, Краснея, промолвила: «Люблю!» тихим шепотом. Всё мне улыбнулося; Тоска и мучения, И страхи, и горести Исчезли — как не было! Киприда, влекомая По воздуху синему Меж бисерных облаков Цитерскими птицами К Цитере иль Пафосу, Цветами осыпала Меня и красавицу. Всё мне улыбнулося! — И солнце весеннее, И рощи кудрявые, И воды прозрачные, И холмы парнасские! Любимца Кипридина, В любви победителя, И миртом, и розою Венчайте, о юноши И девы стыдливые! 1810Эварист Парни
89. Элегия
Как счастье медленно приходит, Как скоро прочь от нас летит! Блажен, за ним кто не бежит, Но сам в себе его находит! В печальной юности моей Я был счастлúв одну минуту, Зато, увы! и горесть люту Терпел от рока и людей! Обман надежды нам приятен, Приятен нам хоть и на час! Блажен, кому надежды глас В самом несчастьи сердцу внятен! Но прочь уже теперь бежит Мечта, что прежде сердцу льстила; Надежда сердцу изменила, И вздох за нею вслед летит! Хочу я часто заблуждаться, Забыть неверную… но нет! Несносной правды вижу свет, И должно мне с мечтой расстаться! На свете всё я потерял, Цвет юности моей увял: Любовь, что счастьем мне мечталась, Любовь одна во мне осталась! 1804 или 180590. Ложный страх
Помнишь ли, мой друг бесценный, Как с амурами тишком, Мраком ночи окруженный, Я к тебе прокрался в дом? Помнишь ли, о друг мой нежный, Как дрожащая рука От победы неизбежной Защищалась — но слегка? Слышен шум! — ты испугалась! Свет блеснул и вмиг погас; Ты к груди моей прижалась, Чуть дыша… блаженный час! Ты пугалась — я смеялся. «Нам ли ведать, Хлоя, страх! Гименей за всё ручался, И амуры на часах. Всё в безмолвии глубоком, Всё почило сладким сном! Дремлет Аргус томным оком Под Морфеевым крылом!» Рано утренние розы Запылали в небесах… Но любви бесценны слезы, Но улыбка на устах, Томно персей волнованье Под прозрачным полотном — Молча новое свиданье Обещали вечерком. Если б Зевсова десница Мне вручила ночь и день, — Поздно б юная денница Прогоняла черну тень! Поздно б солнце выходило На восточное крыльцо: Чуть блеснуло б и сокрыло За лес рдяное лицо; Долго б тени пролежали Влажной ночи на полях; Долго б смертные вкушали Сладострастие в мечтах! Дружбе дам я час единый, Вакху час и сну другой. Остальною ж половиной Поделюсь, мой друг, с тобой! 181091. Сон воинов. Из поэмы «Иснель и Аслега»
Битва кончилась: ратники пируют вокруг зажженных дубов.
…Но вскоре пламень потухает, И гаснет пепел черных пней. И томный сон отягощает Лежащих воев средь полей. Сомкнулись очи; но призрáки Тревожат краткий их покой: Иный лесов проходит мраки, Зверей голодных слышит вой; Иный на лодке легкой реет Среди кипящих в море волн, — Веслом десница не владеет, И гибнет в бездне бренный челн; Иный места узрел знакомы, Места отчизны, милый край! Уж слышит псов домашних лай И зрит отцов поля и домы И нежных чад своих… Мечты! Проснулся в бездне темноты! Иный чудовище сражает: Бесплодно меч его сверкает; Махнул еще — его рука, Подъята вверх, окостенела; Бежать хотел — его нога Дрожит, недвижима, замлела; Встает — и пал! Иный плывет Поверх прозрачных, тихих вод И пенит волны под рукою; Волна, усиленна волною, Клубится, пенится горой И вдруг обрушилась, клокочет; Несчастный борется с рекой, Воззвать к дружине верной хочет — И голос замер на устах! Другой бежит на поле ратном, Бежит, глотая пыль и прах, Трикрат сверкнул мечом булатным — И в воздухе недвижим меч! Звеня упали латы с плеч, Копье рамена прободает, И хлещет кровь из них рекой; Несчастный раны зажимает Холодной, трепетной рукой! Проснулся он… и тщетно ищет И ран, и вражьего копья. Но ветр шумит и в роще свищет, И волны мутного ручья Подошвы скал угрюмых роют, Клубятся, пенятся и воют Средь дебрей снежных и холмов… Между 1808 и 181192. Вакханка
Все на праздник Эригоны Жрицы Вакховы текли; Ветры с шумом разнесли Громкий вой их, плеск и стоны. В чаще дикой и глухой Нимфа юная отстала; Я за ней… Она бежала Легче серны молодой. Эвры волосы взвевали, Перевитые плющом, Нагло ризы поднимали И свивали их клубком. Стройный стан, кругом обвитый Хмеля желтого венцом, И пылающи ланиты Розы ярким багрецом, И уста, в которых тает Пурпурóвый виноград, — Всё в неистовой прельщает! В сердце льет огонь и яд! Я за ней… Она бежала Легче серны молодой; Я настиг — она упала! И тимпан под головой! Жрицы Вакховы промчались С громким воплем мимо нас; И по роще раздавались Эвоэ! и неги глас!.. 1815Шарль-Юбер Мильвуа
93. Гезиод и Омир — соперники
Народы, как волны, в Халкиду текли, Народы счастливой Эллады! Там сильный владыка, над прахом отца Оконча печальны обряды, Ристалище славы бойцам отверзал. Три раза с румяной денницей Бойцы выступали с бойцами на бой; Три раза стремили возницы Коней легконогих по звонким полям, И трижды владетель Халкиды Достойным оливны венки раздавал. Но солнце на лоно Фетиды Склонялось, и новый готовился бой. — Очистите поле, возницы! Спешите! Залейте студеной струей Пылающи оси и спицы, Коней отрешите от тягостных уз И в стойлы прохладны ведите; Вы, пылью и пóтом покрыты бойцы, При пламени светлом вздохните, Внемлите, народы, Эллады сыны, Высокие песни внемлите! Пройдя из края в край гостеприимный мир, Летами древними и роком удрученный, Здесь песней царь Омир И юный Гезиод, каменам драгоценный, Вступают в славный бой. Колебля мáслину священную рукой, Певец Аскреи гимн высокий начинает (Он с лирой никогда свой глас не сочетает). Гезиод Безвестный юноша, с стадами я бродил Под тенью пальмовой близ чистой Иппокрены; Там пастыря нашли прелестные камены, И я в обитель их священную вступил. Омир Мне снилось в юности: орел-громометатель От Мелеса меня играючи унес На край земли, на край небес, Вещая: ты земли и неба обладатель. Гезиод Там лавры хижину простую осенят, В пустынях процветут Темпейские долины, Куда вы бросите свой благотворный взгляд, О нежны дочери суровой Мнемозины! Омир Хвала отцу богов! Как ясный свод небес Над царством высится плачевного Эреба, Как радостный Олимп стоит превыше неба — Так выше всех богов властитель их, Зевес!.. Гезиод В священном сумраке, в сиянии Дианы, Вы, музы, любите сплетаться в хоровод Или, торжественный в Олимп свершая ход, С бессмертными вкушать напиток Гебы рьяный… Омир Не знает смерти он: кровь алая тельцов Не брызнет под ножом над Зевсовой гробницей; И кони бурные со звонкой колесницей Пред ней не будут прах крутить до облаков. Гезиод А мы, все смертные, все паркам обреченны, Увидим области подземного царя И реки спящие, Тенаром заключенны, Не льющи дань свою в бездонные моря. Омир Я приближаюся к мете сей неизбежной. Внемли, о юноша! Ты пел «Труды и дни»… Для старца ветхого уж кончились они! Гезиод Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежный На синем Стримоне, провидя страшный час, Не слаще твоего поет в последний раз! Твой гений проницал в Олимп, и вечны боги Отверзли для тебя заоблачны чертоги. И что ж? В юдоли сей страдалец искони, Ты роком обречен в печалях кончить дни. Певец божественный, скитаяся, как нищий, В печальном рубище, без крова и без пищи, Слепец всевидящий! ты будешь проклинать И день, когда на свет тебя родила мать! Омир Твой глас подобится амврозии небесной, Что Геба юная сапфирной чашей льет. Певец! в устах твоих поэзии прелестной Сладчайший Ольмия благоухает мед. Но… муз любимый жрец!.. страшись руки злодейской, Страшись любви, страшись Эвбеи берегов. Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейский Как жертву славную готовит для врагов. Умолкли. Облако печали Покрыло очи их… Народ рукоплескал. Но снова сладкий бой поэты начинали При шуме радостных похвал. Омир, возвыся глас, воспел народов брани, Народов, гибнущих по прихоти царей, Приама древнего, с мольбой несуща дани Убийце грозному и кровных, и детей; Мольбу смиренную и быструю Обиду, Харит и легких ор, и страшную эгиду, Нептуна области, Олимп и дикий Ад. А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом, С чудесной прелестью воспел веселым гласом Весну зеленую — сопутницу гиад; Как Феб торжественно вселенну обтекает, Как дни и месяцы родятся в небесах; Как нивой золотой Церера награждает Труды годичные оратая в полях, Заботы сладкие при сборе винограда; Тебя, желанный Мир, лелеятель долин, Благословенных сел, и пастырей, и стада Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин, От самой юности воспитанный средь мира, Презрел высокий гимн бессмертного Омира И пальму первенства сопернику вручил. Счастливый Гезиод в награду получил За песни, мирною каменой вдохновенны, Сосуды сребряны, треножник позлащенный И черного овна, красу веселых стад. За ним, пред ним сыны ахейские, как волны, На край ристалища обширного спешат, Где победитель сам, благоговенья полный, При возлияниях овна младую кровь Довременно богам подземным посвящает И музам светлые сосуды предлагает Как дар, усердный дар певца за их любовь. До самой старости преследуемый роком, Но духом царь, не раб разгневанной судьбы, Омир скрывается от суетной толпы, Снедая грусть свою в молчании глубоком. Рожденный в Самосе убогий сирота Слепца из края в край, как сын усердный, водит; Он с ним пристанища в Элладе не находит… И где найдут его талант и нищета? 1816 или 1817Из греческой антологии
Мелеагр Гадарский
94.
В обители ничтожества унылой, О незабвенная! прими потоки слез, И вопль отчаянья над хладною могилой, И горсть, как ты, минутных роз! Ах! тщетно всё! Из вечной сени Ничем не призовем твоей прискорбной тени: Добычу не отдаст завистливый Аид. Здесь онемение; всё хладно, всё молчит, Надгробный факел мой лишь мраки освещает… Что, что вы сделали, властители небес? Скажите: что краса так рано погибает? Но ты, о мать-земля! с сей данью горьких слез Прими почившую, поблеклый цвет весенний, Прими и успокой в гостеприимной сени!Асклепиад Самосский
95.
Свидетели любви и горести моей, О розы юные, слезами омоченны! Красуйтеся в венках над хижиной смиренной, Где милая таится от очей! Помедлите, венки! еще не увядайте! Но если явится, — пролейте на нее Всё благовоние свое И локоны ее слезами напитайте! Пусть остановится в раздумьи и вздохнет… А вы, цветы, благоухайте И милой локоны слезами напитайте!Гедил
96.
Свершилось: Никагор и пламенный Эрот За чашей Вакховой Аглаю победили… О радость! Здесь они сей пояс разрешили, Стыдливости девической оплот. Вы видите: кругом рассеяны небрежно Одежды пышные надменной красоты; Покровы легкие из дымки белоснежной, И обувь стройная, и свежие цветы; Здесь все развалины роскошного убора, Свидетели любви и счастья Никагора!Антипатр Сидонский
97. Явор к прохожему
Смотрите, виноград кругом меня как вьется! Как любит мой полуистлевший пень! Я некогда ему давал отрадну тень; Завял… но виноград со мной не расстается. Зевеса умоли, Прохожий, если ты для дружества способен, Чтоб друг твой моему был некогда подобен И пепел твой любил, оставшись на земли!98. Нереиды на развалинах Коринфа
Где слава, где краса, источник зол твоих? Где стогны шумные и граждане счастливы? Где зданья пышные и храмы горделивы, Мусия, золото, сияющие в них? Увы! погиб навек, Коринф столповенчанный! И самый пепел твой развеян по полям. Всё пусто: мы одни взываем здесь к богам, И стонет Алкион один в дали туманной!Неизвестный автор
99.
«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь!» — «Могу ль надеяться?» — «Чего?» — «Ты понимаешь!» — «Не время!» — «Но взгляни: вот золото, считай!» — «Не боле? Шутишь! Так прощай».Павел Силенциарий
100.
Сокроем навсегда от зависти людей Восторги пылкие и страсти упоенье. Как сладок поцелуй в безмолвии ночей, Как сладко тайное любови наслажденье!101.
В Лаисе нравится улыбка на устах, Ее пленительны для сердца разговоры, Но мне милей ее потупленные взоры И слезы горести внезапной на очах. Я в сумерки вчера, одушевленный страстью, У ног ее любви все клятвы повторял И с поцелуем к сладострастью На ложе роскоши тихонько увлекал… Я таял, и Лаиса млела… Но вдруг уныла, побледнела И слезы градом из очей! Смущенный, я прижал ее к груди моей: «Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?» — «Спокойся, ничего, бессмертными клянусь; Я мыслию была встревожена одною: Вы все обманчивы, и я… тебя страшусь».102. К постарелой красавице
Тебе ль оплакивать утрату юных дней? Ты в красоте не изменилась И для любви моей От времени еще прелестнее явилась. Твой друг не дорожит неопытной красой, Незрелой в таинствах любовного искусства: Без жизни взор ее стыдливый и немой, И робкий поцелуй без чувства. Но ты, владычица любви, Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень: И в осень дней твоих не погасает пламень, Текущий с жизнию в крови.103.
Увы! глаза, потухшие в слезах, Ланиты, впалые от долгого страданья, Родят в тебе не чувство состраданья — Жестокую улыбку на устах… Вот горькие плоды любови страстной, Плоды ужасные мучений без отрад, Плоды любви, достойные наград, Не участи для сердца столь ужасной… Увы! как молния внезапная небес, В нас страсти жизнь младую пожирают И в жертву безотрадных слез, Коварные, навеки покидают. Но ты, прелестная, которой мне любовь Всего — и юности, и счастия дороже, Склонись, жестокая!.. И я воскресну вновь, Как был, или еще бодрее и моложе.104.
Улыбка страстная и взор красноречивый, В которых вся душа, как в зеркале, видна, Сокровища мои… Она Жестоким Аргусом со мной разлучена! Но очи страсти прозорливы: Ревнивец злой, страшись любви очей! Любовь мне таинство быть счастливым открыла, Любовь мне скажет путь к красавице моей, Любовь тебя читать в сердцах не научила.105.
Изнемогает жизнь в груди моей остылой; Конец борению; увы! всему конец. Киприда и Эрот, мучители сердец! Услышьте голос мой последний и унылый! Я вяну и еще мучения терплю: Полмертвый, но сгораю. Я вяну, но еще так пламенно люблю И без надежды умираю! Так, жертву обхватив кругом, На алтаре огонь бледнеет, умирает И, вспыхнув ярче пред концом, На пепле погасает.Неизвестный автор
106.
С отвагой на челе и с пламенем в крови Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна. О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна! Вверяйся челноку! плыви! 1817Джордж Гордон Байрон
107.
Есть наслаждение и в дикости лесов, Есть радость на приморском бреге, И есть гармония в сем говоре валов, Дробящихся в пустынном беге. Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, Для сердца ты всего дороже! С тобой, владычица, привык я забывать И то, чем был, как был моложе, И то, чем ныне стал под холодом годов. Тобою в чувствах оживаю: Их выразить душа не знает стройных слов, И как молчать об них — не знаю. 1819Д. В. Давыдов
Антуан-Венсан Арно
103. Листок
Листок иссохший, одинокой, Пролетный гость степи широкой, Куда твой путь, голубчик мой? — «Как знать мне! Налетели тучи, И дуб родимый, дуб могучий Сломили вихрем и грозой. С тех пор, игралище Борея, Не сетуя и не робея, Ношусь я, странник кочевой, Из края в край земли чужой; Несусь, куда несет суровый, Всему неизбежимый рок, Куда летит и лист лавровый И легкий розовый листок!» 1821 (?)Эварист Парни
109. Элегия
Всё тихо! и заря багряною стопой По синеве небес безмолвно пробежала… И мгла, что гор хребты и рощи покрывала, Волнуясь, стелется туманною рекой По лугу пестрому и ниве молодой. Блаженные часы! Весь мир в отдохновеньи! Еще зефиры спят на дремлющих листах, Еще пернатые покоятся в кустах, И всё безмолвствует в моем уединеньи… Но, боги! Неужель вы с мира тишиной И чувств души моей порывы усмирили? Ужели и во мне господствует покой?.. Уже, о счастие! не вижу пред собой Я призрак грозный, вечно милый, Которого нигде мой взор не покидал… Нигде! ни в шумной сече боя, Ни в бранных игрищах военного покоя!.. О ты, что я в тоске на помощь призывал, Бесчувствие! о дар рассудка драгоценный, Ты внял мольбе моей смиренной, Нисходишь наконец спасителем моим. Я погибал… Тобой одним Достигнул берега, и с мирныя вершины Смотрю бестрепетно, грозою невредим, На шумные валы бездонный пучины!.. А ты, с кем некогда делился я душой, И кем душа моя в мученьях истощилась… Утешься: ты забыта мной!.. Но, ах, почто слезой ланита окропилась? О слезы пламенны, теките! Я свои Минуты радости от сих минут считаю И вас не от любви, Но от блаженства проливаю! 1816Вольтер
110. Ей
В тебе, в тебе одной природа, не искусство, Ум обольстительный с душевной простотой, Веселость резвая с мечтательной душой, И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство! 1833И. И. Козлов
Джордж Гордон Байрон
111. Прости
Прости! и если так судьбою Нам суждено, — навек прости! Пусть ты безжалостна — с тобою Вражды мне сердца не снести. Не может быть, чтоб повстречала Ты непреклонность чувства в том, На чьей груди ты засыпала Невозвратимо сладким сном! Когда б ты в ней насквозь узрела Все чувства сердца моего, Тогда бы, верно, пожалела, Что столько прéзрела его. Пусть свет улыбкой одобряет Теперь удар жестокий твой: Тебя хвалой он обижает, Чужою купленной бедой. Пускай я, очернен виною, Себя дал право обвинять; Но для чего ж убит рукою, Меня привыкшей обнимать? И верь, о, верь! пыл страсти нежной Лишь годы могут охлаждать; Но вдруг не в силах гнев мятежный От сердца сердце оторвать. Твое — то ж чувство сохраняет; Удел же мой — страдать, любить! И мысль бессмертная терзает, Что мы не будем вместе жить. Печальный вопль над мертвецами С той думой страшной как сравнять? Мы оба живы, но вдовцами Уже нам день с тобой встречать. И в час, как нашу дочь ласкаешь, Любуясь лепетом речей, — Как об отце ей намекаешь? Ее отец в разлуке с ней. Когда ж твой взор малютка ловит, — Ее целуя, вспомяни О том, тебе кто счастья молит, Кто рай нашел в твоей любви. И если сходство в ней найдется С отцом, покинутым тобой, Твое вдруг сердце встрепенется, И трепет сердца — будет мой. Мои вины, быть может, знаешь, — Мое безумство можно ль знать? Надежды — ты же увлекаешь, С тобой, увядшие, летят. Ты потрясла моей душою; Презревший свет, дух гордый мой Тебе покорным был; с тобою Расставшись, расстаюсь с душой! Свершилось всё! слова напрасны, И нет напрасней слов моих, — Но в чувствах сердца мы не властны, И нет преград стремленью их. Прости ж, прости! Тебя лишенный, Всего, в чем думал счастье зреть, Истлевший сердцем, сокрушенный, Могу ль я больше умереть? 1823112. Еврейская мелодия
Бессонного солнце, в тумане луна! Горишь ты далеко, грустна и бледна. При тусклом мерцаньи мрак ночи страшней, — Так в памяти радость утраченных дней. Минувшее блещет меж горестных туч; Но сердца не греет томительный луч, И радость былая, как ночью луна, Видна — но далёко, ярка — но хладна. <1825>113. Португальская песня
В кипеньи нежности сердечной Ты жизнью друга назвала; Привет бесценный, если б вечно Живая молодость цвела. К могиле всё летит стрелою; И ты, меня лаская вновь, Зови не жизнью, а душою, Бессмертной, как моя любовь. <1828>Чарльз Вольф
114. На погребение английского
генерала сира Джона Мура
Не бил барабан перед смутным полком, Когда мы вождя хоронили, И труп не с ружейным прощальным огнем Мы в недра земли опустили. И бедная почесть в ночú отдана; Штыками могилу копали; Нам тускло светила в тумане луна, И факелы дымно сверкали. На нем не усопших покров гробовой, Лежит не в дощатой неволе — Обернут в широкий свой плащ боевой, Уснул он, как ратники в поле. Недолго, но жарко молилась творцу Дружина его удалая И молча смотрела в лицо мертвецу, О завтрашнем дне помышляя. Быть может, наутро внезапно явясь, Враг дерзкий, надменности полный, Тебя не уважит, товарищ, а нас Умчат невозвратные волны. О нет, не коснется в таинственном сне До храброго дума печали! Твой одр одинокий в чужой стороне Родимые руки постлали. Еще не свершен был обряд роковой, И час наступил разлученья; И с валу ударил перун вестовой, И нам он не вестник сраженья. Прости же, товарищ! Здесь нет ничего На память могилы кровавой; И мы оставляем тебя одного С твоею бессмертною славой. <1825>Томас Мур
115. Вечерний звон
Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом, И как я, с ним навек простясь, Там слушал звон в последний раз! Уже не зреть мне светлых дней Весны обманчивой моей! И сколько нет теперь в живых Тогда веселых, молодых! И крепок их могильный сон, Не слышен им вечерний звон. Лежать и мне в земле сырой! Напев унывный надо мной В долине ветер разнесет; Другой певец по ней пройдет, И уж не я, а будет он В раздумьи петь вечерний звон. <1827>116. Ирландская мелодия
Когда пробьет печальный час Полночной тишины И звезды трепетно горят, Туман кругом луны, — Тогда, задумчив и один, Спешу я к роще той, Где, милый друг, бывало, мы Бродили в тьме ночной. О, если в тайной доле их Возможность есть душам Слетать из-за далеких звезд К тоскующим друзьям, — К знакомой роще ты слетишь В полночной тишине И дашь мне весть, что в небесах Ты помнишь обо мне! И, думой сердца увлечен, Ту песню я пою, Которой, друг, пленяла ты Мечтательность мою. Унылый голос ветерок Разносит в чуткой тьме, В поляне веет, и назад Несет его ко мне. А я… я верю… томный звук От родины святой — На песнь любимую ответ Души твоей младой. <1828>Андре Шенье
117.
Над темным заливом, вдоль звучных зыбей Венеции, моря царицы, Пловец полуночный в гондоле своей С вечерней зари до денницы Рулем беззаботным небрежно сечет Ленивую влагу ночную; Поет он Ринальда, Танкреда поет, Поет Эрминию младую; Поет он по сердцу, сует удален, Чужого суда не страшится, И, песней любимой невольно пленен, Над бездною весело мчится. И я петь люблю про себя, в тишине, Безвестные песни мечтаю, Пою, и как будто отраднее мне, Я горе мое забываю, Как ветер ни гонит мой бедный челнок Пучиною жизни мятежной, Где я так уныло и так одинок Скитаюсь во тьме безнадежной… <1827>118. Элегия
О ты, звезда любви, еще на небесах, Диана, не блестишь в пленительных лучах! В долины под холмом, где ток шумит игривый, Сияние пролей на путь мой торопливый. Нейду я похищать чужое в тьме ночной Иль путника губить преступною рукой, Но я люблю, любим, мое одно желанье — С прелестной нимфою в тиши найти свиданье; Она прекрасных всех прекраснее, милей, Как ты полночных звезд красою всех светлей. <1835>119. Идиллия
Стремятся не ко мне с любовью и хвалами, И много от сестры отстала я годами. Душистый ли цветок мне юноша дарит, Он мне его дает, а на сестру глядит; Любуется ль моей младенческой красою, Всегда примолвит он: как сходна я с сестрою. Увы! двенадцать раз лишь мне весна цвела; Мне в песнях не поют, что я сердцам мила, Что я плененных мной изменой убиваю. Но что же, подождем, — мою красу я знаю; Я знаю, у меня, во блеске молодом, Есть алые уста с их ровным жемчугом, И розы на щеках, и кудри золотые, Ресницы черные, и очи голубые… <1838>Адам Мицкевич 120–122. Крымские сонеты
Аккерманские степи
В пространстве я плыву сухого океана; Ныряя в зелени, тону в се волнах; Среди шумящих нив я зыблюся в цветах, Минуя бережно багровый куст бурьяна. Уж сумрак. Нет нигде тропинки, ни кургана; Ищу моей ладье вожатую в звездах; Вот облако блестит; заря на небесах… О нет! — То светлый Днестр, — то лампа Аккермана. Как тихо! постоим; далёко слышу я, Как вьются журавли, в них сокол не вглядится; Мне слышно — мотылек на травке шевелится, И грудью скользкою в цветах ползет змея. Жду голоса с Литвы — туда мой слух проникнет… Но едем, — тихо всё — никто меня не кликнет.Алушта днем
Гора отрясает мрак ночи ленивый; И ранним намазом волнуются нивы; И злато струями везде разлилось; Лес темный склоняет густые вершины, — Как с четок калифов, гранаты, рубины Он сыплет с кудрявых зеленых волос. В цветах вся поляна; над ней мотыльками Летучими воздух пестреет цветками; Так радуги ясной сияет коса, Алмазным наметом одев небеса; Лишь взор опечален вдали саранчою, Крылатый свой саван влекущей с собою. Под диким утесом шумя в берегах, Сердитое море кипит, напирает, И в пене, как будто у тигра в очах, Дневное светило пред бурей играет, А в лоне лазурном далеких зыбей Купаются флоты и рать лебедей.Аю-Даг
Люблю я, опершись на скáлу Аю-Дага, Смотреть, как черных волн несется зыбкий строй, Как пенится, кипит бунтующая влага, То в радуги дробясь, то пылью снеговой; И сушу рать китов, воюя, облегает, Опять стремится в бег от влажных берегов, И дань богатую в побеге оставляет: Сребристых раковин, кораллов, жемчугов. Так страсти пылкие, подъемляся грозою, На сердце у тебя кипят, младой певец; Но лютню ты берешь, — и вдруг всему конец. Мятежные бегут, сменяясь тишиною, И песни дивные роняют за собою: Из них века плетут бессмертный твой венец. <1828>Н. Д. Иванчин — Писарев
Луи Расин
128. Расинова молитва богу
Меня величие и блеск не обольщают, Тщеславьем, гордостью души не возмущают; Я сын твой — сим горжусь, а прочее — всё сон; Мое блаженство — ты, богатство — твой закон. Незнаем смертными, их славу презираю, Всю славу и себя в тебе я заключаю. Свидетель дел моих — мой бог! наставник мой! Не ты ль даруешь мне отраду и покой, И мрачный жизни путь пред нами озаряешь? Не ты ль души моей пустыню наполняешь? Пусть люди предо мной все блага расточат — Меня от благ твоих они не отвратят. Отвергнувшим тебя гласит закон священный, Что дни безбожного страданью обреченны; Но казни ли одни должны меня страшить? Мучительно тебя, о боже! не любить! Услышь раба, услышь его к тебе взыванье: Да возмогу, мой бог! — вот всё мое желанье: В последний жизни час свой взор к тебе простерть И, крест объемля твой, спокойно встретить смерть! <1818>124. Смерть христианина
Истлевай, состав виновный, Слабый, немощный, греховный, Жертва смерти, истлевай! Да падет во прах сын праха: Смерть для злобных вестник страха. Смерть, злодеям угрожай! Тем страшна ты несомненно, Коих сердце умерщвленно Мрак ничтожества зовет В помощь… помощи не знает, Ничего не ожидает: Он исчезнет, пропадет. Вера мужество прямое. В смерти, в сем души покое, Тот лишь мирну пристань зрит, Для кого земля край чуждый; Гибнет всё, ему нет нужды: «Не мое», — он говорит. Здесь страданье смертных доля, — Что ж? Твоя да будет воля, Отче неба и земли. Но сыны твои, средь муки, Ждут часá земной разлуки: Наступить ему вели. И отсрочен вожделенный: Жить велишь, — и я, смиренный, Снова скорбь на рамена; Отверзаю снова вежды: Смерть, исполненна надежды, Лишь была бы послана. За преступных умирая, Со креста благословляя, Ты к ним руки простирал. Устранюся ли я смерти? Удостой лишь их простерта, Дабы в них я прямо пал. <1819>П. А. Катенин
Данте
125. Уголин
Подъял уста сей грешник исступленный От страшных яств, утер их по власам Главы, им в тыл зубами уязвленной, И начал так: «Ты хочешь, чтоб я сам Скорбь растравил, несноснейшее бремя Душе моей, и сердцу, и уму; Но коль слова мои должны быть семя, И плод их — срам злодею моему, И речь и плач услышишь в то же время. Не знаю я, кто ты, ни почему Достиг сюда; звук слов внимая стройный, Флоренции, я мню, ты гражданин; Так знай: мой враг епископ недостойный Рогер, а я несчастный Уголин. И вот за что сосед я здесь злодею: Изменою пристав к моим врагам, Он предал им меня с семьей моею, И смертию казнен я после там; Но смерть ничто, когда правдивой вести Ты не слыхал о том, как умер я; Узнав о всем, суди — я прав ли в мести. Сквозь тесных окн темницы моея (Ее по мне зовут темницей глада, В ней многих был несчастных слышен стон) Уж зрелся мне, затворников отрада, Свет дня, как вдруг мне злой приснился сон: Судьба моя в нем вся открылась взору. Приснилось мне, что он расставил сеть И волка гнал с волчатами на гору, Претящую от Пизы Лукку зреть. Псы тощие, сообщники злодея, Служа ему, гналися за зверьми, И вскоре, сил для бега не имея, Им пойманы в сетях отец с детьми; Набегли псы и, гладом свирепея, Терзали их зубами и ногтьми. Испуганный предвестьем страшным неба, Я слышу, встав, детей моих сквозь сна: Все плачут, все на пищу просят хлеба… Жесток же ты, когда и мысль одна Про скорбь мою тебя не вводит в слезы! О чем же ввек заплакать можешь ты? Меж тем приспел обычный час трапезы; И все, боясь мной виденной мечты, Мы ждали яств — и слышим стук: железы Звучат внизу, темничной башни дверь Вдруг заперлась; я на детей невольно Взглянул, без слов, недвижим, как теперь; Не плакал я, но сердцу было больно. Меньшой из них заплакал и вскричал: „Что страшно так глядишь на нас, родитель?“ Ни слова я ему не отвечал, Молчал весь день, всю ночь, доколь обитель Наутро нам луч солнца осветил. При свете том, взглянув на дверь темницы И на детей, моих не стало сил: Глад исказил прекрасные их лицы, И руки я, отчаян, укусил. Сыны же, мня, что глад я свой руками Хочу питать, все встали, подошли: „Родитель наш! — сказали, — лучше нами Насыться; ты сей плотью от земли Одел нас, ты и снимешь: мы согласны“. Я смолк опять, и дети-сироты Два дни, как я, сидели все безгласны: Сыра земля! не расступилась ты! Четвертый день мы наконец встречаем; Мой старший сын упал к моим ногам, Вскричав: „Отец! дай помощь, умираем…“ И умер с тем. Как зришь меня, так сам По одному, я зрел, и все другие Попадали; ослепнув, я блуждал Три дни по ним, будил тела драгие И мертвых их три ночи призывал. Потом и сам я слег между сынами». Так кончил он, и в бешенстве корысть, Главу врага, вновь ухватив зубами, Как алчный пес, стал крепкий череп грызть. 1817126. Ад
Из песни I
Путь жизненный пройдя до половины, Опомнился я вдруг в лесу густом, Уже с прямой в нем сбившися тропины. Есть что сказать о диком лесе том: Как в нем трудна дорога и опасна, Робеет дух при помысле одном, И малым чем смерть более ужасна. Что к благу мне снискал я в нем, что зрел — Всё расскажу, и повесть не напрасна. Не знаю сам, как я войти успел, — Так сильно сон клонил меня глубокой, Что истого пути не усмотрел. Но у горы подножия высокой, Где бедственной юдоли сей конец, Томившей дух боязнию жестокой, — Взглянул я вверх: и на холме венец Сиял лучей бессмертного светила, Вожатая заблудшихся сердец. Тут начала слабеть испуга сила, Залегшего души во глубине, Доколе ночь ее глухая тьмила; И как пловец, чуть дышащий, но вне Опасности, взор с брега обращает К ярящейся пожрать его волне, — Так дух мой (он еще изнемогает) Озрелся вспять на поприще взглянуть, Которым жив никто не протекает. Усталому дав телу отдохнуть, Пошел я вновь, одной ноге другою Творя подпор и облегчая путь. 1828Винченцо Филикайя
127. Сонет
Италия! Италия! Зачем Тебя судьба ущедрила красою? Сей вредный дар неразлучим с тобою, И корень он твоим несчастьям всем. Будь менее прекрасна ты собою Иль более сильна владеть мечем, Чтоб не пылал к тебе любви огнем, Чтоб не губил пришлец тебя войною. Не зрел бы я с Альпийских гор тогда Сходящих войск и хищного соседа В кровавом По пиющие стада; Врагов твоих я не нашел бы слéда, И налагать не смели бы всегда Нам равных уз разбитье и победа. 1822Лодовико Ариосто 128. Октавы из «Бешеного Роланда»
Из песни I
Красавица — как роза молодая, Доколь она, родимых честь садов, В них кроется, беспечно почивая, Сбережена от стад и пастухов; Лелеет ветр, заря поит росою, Любима всем, и небом и землею, И спор у дев: кому ее сорвать, Чьи волосы, чью грудь ей украшать. Но чуть ее сорвут с куста родного И сломят стебль, иная ей чреда: Любви людей, благих небес покрова И всех даров лишилась навсегда. Так девице назначен труд прилежный: Как свет очей, как жизнь беречь свой нежный Цветок; не то при всей красе она Влюбленным всем постыла и скучна.Из песни XXIII
Цветущий лес, луга, ручей прохладный, Пещера, где, роскошствуя в тени С прекрасною Ангéликой, в отрадной Златой любви так быстро мчались дни! (По ней толпа влюбленных воздыхала; Она в моих объятьях почивала.) Чем, бедный я Медор, какой ценой Вас награжу, как не души хвалой? Всех вас молю: и юных дев пригожих, И рыцарей, кому любовь мила, Живущих здесь, проезжих и прохожих, Хоть воля вас, хоть нýжда привела, — Лугам, древам, цветам, водам скажите: «Счастливые, под солнцем век живите». Вы ж, нимфы, их блюдите от вреда; Гоните прочь и бури и стада. 1822Торквато Тассо 129. Октавы из «Освобожденного Иерусалима»
Из песни I
Святую брань и подвиг воеводы Пою, кем гроб освобожден Христа. Вотще, столпясь, противились народы И адовы метали огнь врата. Велик в делах он был умом и дланью; Великий труд претил завоеванью; Но помощь бог послал ему, и сам Вновь сóбрал рать к священным знаменам.Из песни III
Так на море пловцы отваги полны, В безвестный им заброшенные свет: Их носит ветр, играют ими волны, И на небе звезды знакомой нет; Завидя брег, в веселии великом Его вдали честят приветным кликом: «Брег, брег», — твердят друг другу, и тогда Забыт и труд, и горе, и беда.Из песни IV
Всех жителей недр Тартара подземных Сзывает рев трубы жилища мук. Дрожат чрева пещер пространных, темных, И сводов гул во мгле сугубит звук. Не так глушит гром горние пределы, Когда с небес бьют в землю молний стрелы; Не так дрожит, колеблясь, твердь горы, Коль рвутся вон в ней спертые пары.Из песни XII
Лицо ее смерть бледностью покрыла, Померкнула в нем белизна лилей; Взор гаснущий на небо устремила, И жалостью подвиглось небо к ней. И рыцарю на вечную разлуку Красавица хладеющую руку, Безмолвствуя, в знак мира подала И тихо в смерть, как в сладкий сон, прешла.Из песни XIII
Чудесный звук износится из рощи, Как гул, когда земли дрожит испод, Как бури свист среди осенней нощи, Как шум со скал свергающихся вод. Медвежий рев в нем слышен, льва рыканье, Шипенье змей, и волчье завыванье, И ржанье труб, и частых громов стук, И звуки все в единый слиты звук. 1822Готфрид Август Бюргер
130. Ольга
Ольгу сон встревожил слезный, Смутный ряд мечтаний злых: «Изменил ли, друг любезный? Или нет тебя в живых?» Войск деля Петровых славу, С ним ушел он под Полтаву; И не пишет ни двух слов: Всё ли жив он и здоров. На сраженьи пали шведы, Турк без брани побежден, И, желанный плод победы, Мир России возвращен; И на родину с венками, С песньми, с бубнами, с трубáми Рать, под звон колоколов, Шла почить от всех трудов. И везде толпа народа; Старый, малый — все бегут Посмотреть, как из похода Победители идут; Все навстречу, на дорогу; Кличут: «Здравствуй! слава богу!» Ах! на Ольгин лишь привет Ниотколь ответа нет. Ищет, спрашивает, худо: Слух пропал о нем давно; Жив ли, нет — не знают; чудо! Словно канул он на дно. Тут, залившися слезами, В перси бьет себя руками; Рвет, припав к сырой земле, Черны кудри на челе. Мать к ней кинулась поспешно: «Что ты? что с тобой, мой свет? Разве горе неутешно? С нами бога разве нет?» — «Ах! родима, всё пропало, Свету-радости не стало. Бог меня обидел сам: Горе, горе бедным нам!» «Воля божия! Создатель — Нам помощник ко всему; Он утех и благ податель: Помолись, мой свет, ему». — «Ах! родима, всё пустое; Бог послал мне горе злое, Бог без жалости к мольбам: Горе, горе бедным нам!» «Слушай, дочь! в Украйне дальной, Может быть, жених уж твой Обошел налой венчальный С красной девицей иной. Что изменника утрата? Рано ль, поздно ль — будет плата, И от божьего суда Не уйдет он никогда». «Ах! родима, всё пропало, Нет надежды, нет как нет; Свету-радости не стало; Что одной мне белый свет? Хуже гроба, хуже ада. Смерть — одна, одна отрада; Бог без жалости к слезам: Горе, горе бедным нам!» «Господи! прости несчастной, В суд с безумной не входи; Разум, слову непричастный, К покаянью приведи. Не крушися, дочь, чрез меру; Бойся муки, вспомни веру: Сыщет чуждая греха Неземного жениха». «Где ж, родима, злее мука? Или где мученью край? Ад мне — с суженым разлука, Вместе с ним — мне всюду рай. Не боюсь смертей, ни ада. Смерть — одна, одна отрада: С милым врозь несносен свет, Здесь, ни там блаженства нет». Так весь день она рыдала, Божий промысел кляла, Руки белые ломала, Черны волосы рвала; И стемнело небо ясно, Закатилось солнце красно, Все к покою улеглись, Звезды яркие зажглись. И девица горько плачет, Слезы градом по лицу; И вдруг полем кто-то скачет, Кто-то, всадник, слез к крыльцу; Чу! за дверью зашумело, Чу! кольцо в ней зазвенела; И знакомый голос вдруг Кличет Ольгу: «Встань, мой друг! Отвори скорей без шуму. Спишь ли, милая, во тьме? Слезну думаешь ли думу? Смех иль горе на уме?» — «Милый! ты! так поздно к ночи! Я все выплакала очи По тебе от горьких слез. Как тебя к нам бог принес?» «Мы лишь ночью скачем в поле. Я с Украйны за тобой; Поздно выехал оттоле, Чтобы взять тебя с собой». — «Ах! войди, мой ненаглядный! В поле свищет ветер хладный; Здесь в объятиях моих Обогрейся, мой жених!» «Пусть он свищет, пусть колышет, — Ветру воля, нам пора. Ворон конь мой к бегу пышет, Мне нельзя здесь ждать утра. Встань, ступай, садись за мною, Ворон конь домчит стрелою; Нам сто верст еще: пора В путь до брачного одра». «Ах! какая в ночь дорога! И сто верст езды для нас! Бьют часы… побойся бога: До полночи только час». — «Месяц светит, ехать споро; Я как мертвый еду скоро: Довезу и до утра Вплоть до брачного одра». «Как живешь? скажи нелестно; Чтó твой дом? велик? высок?» — «Дом — землянка». — «Как в ней?» — «Тесно». — «А кровать нам?» — «Шесть досок». — «В ней уляжется ль невеста?» — «Нам двоим довольно места. Встань, ступай, садись за мной: Гости ждут меня с женой». Ольга встала, вышла, села На коня за женихом; Обвила ему вкруг тела Руки белые кольцом. Мчатся всадник и девица, Как стрела, как пращ, как птица; Конь бежит, земля дрожит, Искры бьют из-под копыт. Справа, слева, сторонами, Мимо глаз их взад летят Сушь и воды; под ногами Конскими мосты гремят. «Месяц светит, ехать споро; Я как мертвый еду скоро. Страшно ль, светик, с мертвым спать?» — «Нет… что мертвых поминать?» Что за звуки? что за пенье? Что за вранов крик во мгле? Звон печальный! погребенье! «Тело предаем земле». Ближе, видят: поп с собором, Гроб неся, поют всем хором; Поступь медленна, тяжка, Песнь нескладна и дика. «Что вы воете не к месту? Хоронить придет чреда; Я к венцу везу невесту, Вслед за мною все туда! У моей кровати спальной, Клир! пропой мне стих венчальный; Службу, поп! и ты яви, Нас ко сну благослови». Смолкли, гроба как не стало, Всё послушно вдруг словам, И поспешно побежало Всё за ними по следам. Мчатся всадник и девица, Как стрела, как пращ, как птица; Конь бежит, земля дрожит, Искры бьют из-под копыт. Справа, слева, сторонами, Горы, долы и поля — Взад летит всё; под ногами Конскими бежит земля. «Месяц светит, ехать споро; Я как мертвый еду скоро. Страшно ль, светик, с мертвым спать?» — «Полно мертвых поминать». Казни столп; над ним за тучей Брезжит трепетно луна; Чьей-то сволочи летучей Пляска вкруг его видна. «Кто там! сволочь! вся за мною! Вслед бегите все толпою, Чтоб под пляску вашу мне Веселей прилечь к жене». Сволочь с песнью заунывной Понеслась за седоком, Словно вихорь бы порывный Зашумел в бору сыром. Мчатся всадник и девица, Как стрела, как пращ, как птица; Конь бежит, земля дрожит, Искры бьют из-под копыт. Справа, слева, сторонами, Взад летят луга, леса; Всё мелькает пред глазами: Звезды, тучи, небеса. «Месяц светит, ехать споро; Я как мертвый еду скоро. Страшно ль, светик, с мертвым спать?» — «Ах! что мертвых поминать!» «Конь мой! петухи пропели; Чур! заря чтоб не взошла; Гор вершины забелели: Мчись как из лука стрела. Кончен, кончен путь наш дальный, Уготовлен одр венчальный; Скоро съездил как мертвец, И доехал наконец». Наскакал в стремленьи яром Конь на каменный забор; С двери вдруг хлыста ударом Спали петли и запор. Конь в ограду: там — кладбище, Мертвых вечное жилище; Светят камни на гробах В бледных месяца лучах. Что же мигом пред собою Видит Ольга? чудо! страх! Латы всадника золою Все рассыпались на прах; Голова, взгляд, руки, тело — Всё на милом помертвело, И стоит уж он с косой, Страшный остов костяной. На дыбы конь ворон взвился, Диким голосом заржал, Стукнул в землю, провалился И невесть куда пропал. Вой на воздухе высоко; Скрежет под землей глубоко; Ольга в страхе без ума, Неподвижна и нема. Тут над мертвой заплясали Адски духи при луне И протяжно припевали Ей в воздушной вышине: «С богом в суд нейди крамольно; Скорбь терпи, хоть сердцу больно. Казнена ты во плоти; Грешну душу бог прости!» 1816Из французской народной поэзии
131. Песня
Хоть мне белый царь сули Питер и с Москвою, Да расстаться он вели С Пашей дорогою, — Мой ответ: Царь белый! нет; Питер твой Перед тобой; А мне Питера с Москвой Сердце в Паше Краше. 1832В. К. Кюхельбекер
Бакхилид
132. Дифирамб
В чистом парении Дух окрыляется Сладкой, волшебной Силой вина! Бросив украдкою В чашу кипящую Жар и желание, Пафия греет Сердце надеждою; Царь Дионисос Ум усыпляет, Гонит печаль! Так! упоенному В гордой мечте его Грады покорствуют; Над многочисленным Радостным племенем Счастливый властвует Вождь и судья! Златом, резьбою, Мрамором светится Дом беззаботного. Только он вздумает — Вот из Египта По морю синему, Ветром полуденным, Всеми богатствами Обремененные Мчатся суда! <1820>Фридрих Шиллер
133. Надовесская похоронная песнь
Кто сидит под древней ивой Там, в тени густой? Кто сей витязь горделивый, Мощный сей герой? Дым из уст его не льется, Не встает столпом, К Духу мира не несется В древний, светлый дом! Хитрый ловчий по долинам, По росе цветов, В рощах взором соколиным Не следит волков, — Он уж не в дружине смелых, Недвижим герой, Не вступает с ратью белых В страшный, дивный бой! Но быстрее серны леса По ее следам Он слетал грозой с утеса, Мчался по снегам! Не найти врагу спасенья, Как натянет лук; Ныне не в пылу сраженья! Спала сила с рук! Он унесся за стрелою В край, где хлада нет, Где пшено само собою Зреет и цветет! Там гнездо на каждой ели; Дичи полон лес; Нет тумана, нет метели, Ясен свод небес. Он на пир к духáм умчался, Здесь оставил нас; Но герою в честь раздался Наш хвалебный глас: Пойте, братья, мужа брани, Мужа крепких сил; Соберем святые дани — Всё, что он любил! Страх врагов в кипящем бое, Дар далеких стран, В головы копье стальное, В ноги же — колчан! Не забудем ожерелья: Там, среди шатров, Он пойдет в нем, полн веселья, Зависть всех духóв! <1825>[80]
Иоганн Вольфганг Гете
134. Амур живописец
До зари сидел я на утесе, На туман глядел я, недвижимый; Простирался, будто холст бесцветный, Покрывал седой туман окрестность. Вдруг подходит незнакомый мальчик: «Что сидишь ты, — говорит мне, — праздный? Что глядишь на этот холст бесцветный, Если ты навек утратил жажду Бодрой кистью вызывать картины?» На него взглянул я и помыслил: «Ныне уж учить и дети стали!» «Брось тоску, — сказал он, — лень и скуку! Или с ними в чем успеть мечтаешь? Посмотри, чтó здесь я нарисую; Перейми, мой друг, мои картины!» Тут он поднял пальчик, алый пальчик, Схожий цветом с юной, свежей розой: Им он водит по ковру тумана, Им он пишет на холсте бесцветном. Сверху пишет ясный образ солнца И слепит мой взор его сияньем, И лучи сквозь облака проводит, И огнем края их обливает; Он рисует зыбкие вершины Леса, напоенного росою; Протянув прелестный ряд пригорков, Не забыл он и воды сребристой; В даль он пролил светлый ручеечек, И, казалось, в нем сверкали блески, В нем струи кипели, будто жемчуг. Вдруг цветочки всюду распустились: Берег ими, дол, холмы пестреют, В них багрец, лазурь и злато блещут; Дерн под ними светит изумрудом, Горы бледной сединой оделись, Свод небес подъялся васильковый… Весь дрожал я — и, восторга полный, На творца смотрел и на картину. «Не совсем дурной я живописец, — Молвил он, — признайся же, приятель! Подожди: конец венчает дело». Вот он снова нежною ручонкой Возле леса рисовать принялся: Губки закусил, трудился долго, Улыбался и чертил и думал. Я взглянул, — и что же вдруг увидел? Возле рощи милая пастушка: Лик прелестный, грудь под снежной дымкой; Стройный стан, живые щечки с ямкой; Щечки те под прядью темных кудрей Отражали сладостный румянец, Отражали пальчик живописца. «Мальчик! мальчик! — я тогда воскликнул, — Так писать, скажи, где научился?» Восклицанья продолжать хотел я, Но зефир повеял вдруг и, тронув Рощу и подернув рябью воду, Быстрый, заклубил покров пастушки,— И тогда (о, как я изумился!) Вдруг пастушка поднимает ножку, Вдруг пошла и близится к утесу, Где сидел я и со мной проказник! Что же тут, когда всё всколебалось — Роща и ручей, цветы и ножка, Дымка, кудри, покрывало милой? Други, верьте, что и я не пробыл На скале один скалой недвижной! <1825>А. А. Дельвиг
Матиас Клаудиус
135. Первая встреча
Мне минуло шестнадцать лет, Но сердце было в воле; Я думала: весь белый свет — Наш бор, поток и поле. К нам юноша пришел в село: Кто он? отколь? не знаю — Но всё меня к нему влекло, Всё мне твердило: знаю! Его кудрявые власы Вкруг шеи обвивались, Как мак сияет от росы, Сияли, рассыпались. И взоры пламенны его Мне что-то изъясняли; Мы не сказали ничего, Но уж друг друга знали. Куда пойду — и он за мной. На долгую ль разлуку? Не знаю! только он с тоской Безмолвно жал мне руку. «Что хочешь ты? — спросила я. — Скажи, пастух унылый». И с жаром обнял он меня И тихо назвал милой. И мне б тогда его обнять! Но рук не поднимала, На перси потупила взгляд, Краснела, трепетала. Ни слова не сказала я; За что ж ему сердиться? Зачем покинул он меня? И скоро ль возвратится? 1814Иоганн Вольфганг Гете
136. Близость любовников
Блеснет заря, и всё в моем мечтаньи Лишь ты одна, Лишь ты одна, когда поток в молчаньи Сребрит луна. Я зрю тебя, когда летит с дороги И пыль и прах, И с трепетом идет пришлец убогий В глухих лесах. Мне слышится твой голос несравненный И в шуме вод; Под вечер он к дубраве оживленной Меня зовет. Я близ тебя; как ни была б далёко, Ты всё ж со мной. Взошла луна. Когда б в сей тьме глубокой Я был с тобой! Между 1814 и 1817Соломон Геснер
137. К Амуру
Еще в начале мая Тебе, Амур жестокий, Я жертвенник поставил В домашнем огороде И розами и миртом Обвил его, украсил. Не каждое ли утро С тех пор венок душистый Носил тебе, как жертву? А было всё напрасно! Уж сыплются метели По обнаженным ветвям — Она ж ко мне сурова, Как и в начале мая. <1817>А. С. Пушкин
Вольтер
138. Сновидение
Недавно, обольщен прелестным сновиденьем, В венце сияющем, царем я зрел себя; Мечталось, я любил тебя — И сердце билось наслажденьем. Я страсть у ног твоих в восторгах изъяснял. Мечты! ах! отчего вы счастья не продлили? Но боги не всего теперь меня лишили: Я только — царство потерял. 1817139. Начало «Девственницы»
Я не рожден святыню славословить, Мой слабый глас не взыдет до небес; Но должен я вас ныне приготовить К услышанью Йоанниных чудес. Она спасла французские лилеи. В боях ее девической рукой Поражены заморские злодеи. Могучею блистая красотой, Она была под юбкою герой. Я признаюсь — вечернею порой Милее мне смиренная девица, Послушная, как агнец полевой; Йоанна же была душою львица, Среди трудов и бранных непогод Являлася всех витязей славнее И, что всего чудеснее, труднее, Цвет девственный хранила круглый год. О ты, певец сей чудотворной девы, Седой певец, чьи хриплые напевы, Нестройный ум и бестолковый вкус В былые дни бесили нежных муз, Хотел бы ты, о стихотворец хилый, Почтить меня скрыпицею своей, Да не хочу. Отдай ее, мой милый, Кому-нибудь из модных рифмачей. 1825Эварист Парни
140. Добрый совет
Давайте пить и веселиться, Давайте жизнию играть, Пусть чернь слепая суетится, Не нам безумной подражать. Пусть наша ветреная младость Потонет в неге и вине, Пусть изменяющая радость Нам улыбнется хоть во сне. Когда же юность легким дымом Умчит веселья юных дней, Тогда у старости отымем Всё, что отымется у ней. <1820>141. Прозерпина
Плещут волны Флегетона, Своды Тартара дрожат: Кони бледного Плутона Быстро к нимфам Пелиона Из Аида бога мчат. Вдоль пустынного залива Прозерпина вслед за ним, Равнодушна и ревнива, Потекла путем одним. Пред богинею колена Робко юноша склонил. И богиням льстит измена: Прозерпине смертный мил. Ада гордая царица Взором юношу зовет, Обняла, и колесница Уж к Аиду их несет: Мчатся, облаком одеты; Видят вечные луга, Элизей и томной Леты Усыпленные брега. Там бессмертье, там забвенье, Там утехам нет конца. Прозерпина в упоенье, Без порфиры и венца, Повинуется желаньям, Предает его лобзаньям Сокровенные красы, В сладострастной неге тонет И молчит и томно стонет… Но бегут любви часы; Плещут волны Флегетона, Своды Тартара дрожат; Кони бледного Плутона Быстро мчат его назад. И Кереры дочь уходит, И счастливца за собой Из Элизия выводит Потаенною тропой; И счастливец отпирает Осторожною рукой Дверь, откуда вылетает Сновидений ложный рой. 1824Андре Шенье
142.
«Внéмли, о Гелиос, серебряным луком звенящий, Внемли, боже кларосский, молению старца, погибнет Ныне, ежели ты не предыдешь слепому вожатым». — Рек и сел на камне слепец утомленный. Но следом Шли за ним три пастыря, дети страны той пустынной, Скоро сбежались на лай собак, их стада стерегущих. Ярость уняв их, они защитили бессилие старца; Издали внемля ему, приближались; и думали: «Кто же Сей белоглавый старик, одинокий, слепой — уж не бог ли? Горд и высок; висит на поясе бедном простая Лира, и голос его возмущает волны и небо». Вот шаги он услышал, ухо клонúт и, смутясь, уж Руки простер для моленья странник несчастный. «Не бойся, Ежели только не скрыт в земном и дряхлеющем теле Бог, покровитель Греции — столь величавая прелесть Старость твою украшает, — вещали они незнакомцу, — Если ж ты смертный — то знай, что волны тебя принесли К людям…………… дружелюбным». 1823143.
Близ мест, где царствует Венеция златая, Один, ночной гребец, гондолой управляя, При свете Веспера по взморию плывет, Ринальда, Годфреда, Эрминию поет. Он любит песнь свою, поет он для забавы, Без дальних умыслов; не ведает ни славы, Ни страха, ни надежд и, тихой музы полн, Умеет услаждать свой путь над бездной волн. На море жизненном, где бури так жестоко Преследуют во мгле мой парус одинокой, Как он, без отзыва утешно я пою И тайные стихи обдумывать люблю. <1827>144.
Покров, упитанный язвительною кровью, Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью Алкиду передан. Алкид его приял. В божественной крови яд быстрый побежал. Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет; Стопами тяжкими вершину Эты роет; Гнет, ломит древеса; исторженные пни Высоко громоздит; его рукой они В костер навалены; он их зажег; он всходит; Недвижим на костре он в небо взор возводит; Под мышцей палица; в ногах Немейский лев Разостлан. Дунул ветр; поднялся свист и рев; Треща горит костер; и вскоре пламя, воя, Уносит к небесам бессмертный дух героя. 1835Витторио Альфьери
145.
Сомненье, страх, порочную надежду Уже в груди не в силах я хранить; Неверная супруга я Филиппу, И сына я его любить дерзаю!.. Но как же зреть его и не любить? Нрав пылкий, добрый, гордый, благородный, Высокий ум, с наружностью прекрасной Прекрасная душа… Зачем природа И небеса таким тебя создали?.. Что говорю? Ах! так ли я успею Из глубины сердечной милый образ Искоренить? — О, если пламень мой Подозревать он станет! Перед ним Всегда печальна я; но избегаю Я встречи с ним; он знает, что веселье В Испании запрещено. Кто может В душе моей читать? Ах, и самой Не можно мне; и он, как и другие, Обманется, и станет, как других, Он убегать меня… Увы мне, бедной! Другого нет мне в горе утешенья, Окроме слез, и слезы — преступленье. Иду к себе: там буду на свободе… Что вижу? Карл! — Уйдем, мне изменить И речь, и взор — всё может: ах, уйдем. 1827Франческо Джанни
146.
Как с древа сорвался предатель ученик, Диавол прилетел, к лицу его приник, Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной И бросил труп живой в гортань геенны гладной… Там бесы, радуясь и плéща, на рога Прияли с хохотом всемирного врага И шумно понесли к проклятому владыке, И сатана, привстав, с веселием на лике Лобзанием своим насквозь прожег уста, В предательскую ночь лобзавшие Христа. 1836Шотландская народная песня
147.
Ворон к ворону летит, Ворон ворону кричит: Ворон, где б нам отобедать? Как бы нам о том проведать? Ворон ворону в ответ: Знаю, будет нам обед; В чистом поле под ракитой Богатырь лежит убитый. Кем убит и отчего, Знает сокол лишь его, Да кобылка вороная, Да хозяйка молодая. Сокол в рощу улетел, На кобылку недруг сел, А хозяйка ждет милóго, Не убитого, живого. 1828Катулл
148. Мальчику
Пьяной горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик: Так Постумия велела, Председательница оргий. Вы же, воды, прочь теките И струей, вину враждебной, Строгих постников поите: Чистый нам любезен Бахус. 1832Гораций
149.
Кто из богов мне возвратил Того, с кем первые походы И браней ужас я делил, Когда за призраком свободы Нас Брут отчаянный водил? С кем я тревоги боевые В шатре за чашей забывал И кудри, плющем увитые, Сирийским мирром умащал? Ты помнишь час ужасный битвы, Когда я, трепетный квирит, Бежал, нечестно брося щит, Творя обеты и молитвы? Как я боялся, как бежал! Но Эрмий сам незапной тучей Меня покрыл и вдаль умчал И спас от смерти неминучей. А ты, любимец первый мой, Ты снова в битвах очутился… И ныне в Рим ты возвратился В мой домик темный и простой. Садись под сень моих пенатов, Давайте чаши. Не жалей Ни вин моих, ни ароматов. Венки готовы. Мальчик! лей. Теперь некстати воздержанье: Как дикий скиф хочу я пить. Я с другом праздную свиданье, Я рад рассудок утопить. 1835Ксенофан из Колофона
150.
Чистый лóснится пол; стеклянные чаши блистают; Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь, Ладана сладостный дым; другой открывает амфору, Запах веселый вина разливая далече; сосуды Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный Мед и сыр молодой — всё готово; весь убран цветами Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапéзы, о други, Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи, Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою Правду блюсти: ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим: Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!Гедил
151.
Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил И, вдохновенный, нарек младенца Феоном. За чашей Сладостно Вакха и муз славил приятный Феон. Славил и Вáтала он, молодого красавца: прохожий! Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй, Феон! 1833Анакреон
152. Отрывок <Ода LV>
Узнают коней ретивых По их выжженным таврам; Узнают парфян кичливых По высоким клобукам; Я любовников счастливых Узнаю по их глазам: В них сияет пламень томный — Наслаждений знак нескромный. 1835153. Ода LVI
Поредели, побелели Кудри, честь главы моей, Зубы в деснах ослабели, И потух огонь очей. Сладкой жизни мне не много Провожать осталось дней: Парка счет ведет им строго, Тартар тени ждет моей. Не воскреснем из-под спуда, Всяк навеки там забыт: Вход туда для всех открыт — Нет исхода уж оттуда. 1835154. Ода LVII
Что же сухо в чаше дно? Наливай мне, мальчик резвый, Только пьяное вино Раствори водою трезвой. Мы не скифы, не люблю, Други, пьянствовать бесчинно: Нет, за чашей я пою Иль беседую невинно. 1835Адам Мицкевич
155. Воевода
Поздно ночью из похода Воротился воевода. Он слугам велит молчать; В спальню кинулся к постеле; Дернул полог… В самом деле! Никого; пуста кровать. И, мрачнее черной ночи, Он потупил грозны очи, Стал крутить свой сивый ус… Рукава назад закинул, Вышел вон, замок задвинул; «Гей, ты, — кликнул, — чертов кус! А зачем нет у забора Ни собаки, ни затвора? Я вас, хамы!.. Дай ружье; Приготовь мешок, веревку, Да сними с гвоздя винтовку. Ну, за мною!.. я ж ее!» Пан и хлопец под забором Тихим крадутся дозором, Входят в сад — и сквозь ветвей, На скамейке у фонтана, В белом платье, видят, панна И мужчина перед ней. Говорит он: «Всё пропало, Чем лишь только я, бывало, Наслаждался, что любил: Белой груди воз дыханье, Нежной ручки пожиманье, Воевода всё купил. Сколько лет тобой страдал я, Сколько лет тебя искал я! От меня ты отперлась. Не искал он, не страдал он; Серебром лишь побряцал он, И ему ты отдалась. Я скакал во мраке ночи Милой панны видеть очи, Руку нежную пожать; Пожелать для новоселья Много лет ей и веселья, И потом навек бежать». Панна плачет и тоскует, Он колени ей целует, А сквозь ветви те глядят, Ружья наземь опустили, По патрону откусили, Вбили шомполом заряд. Подступили осторожно. «Пан мой, целить мне не можно, — Бедный хлопец прошептал, — Ветер, что ли, плачут очи, Дрожь берет; в руках нет мочи, Порох в полку не попал». «Тише ты, гайдучье племя! Будешь плакать, дай мне время! Сыпь на полку… Наводи… Цель ей в лоб. Левее… выше. С паном справлюсь сам. Потише; Прежде я: ты погоди». Выстрел по саду раздался. Хлопец пана не дождался; Воевода закричал, Воевода пошатнулся… Хлопец, видно, промахнулся: Прямо в лоб ему попал. 1833156. Будрыс и его сыновья
Три у Будрыса сына, как и он, три литвина. Он пришел толковать с молодцами. «Дети! седла чините, лошадей проводите, Да точите мечи с бердышами. Справедлива весть эта: на три стороны света Три замышлены в Вильне похода. Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков, А на русских Кестут-воевода. Люди вы молодые, силачи удалые (Да хранят вас литовские боги!), Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу; Трое вас, вот и три вам дороги. Будет всем по награде: пусть один в Новеграде Поживится от русских добычей. Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах; Домы полны; богат их обычай. А другой от прусаков, от проклятых крыжаков, Может много достать дорогого, Денег с целого света, сукон яркого цвета; Янтаря — что песку там морского. Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха: В Польше мало богатства и блеску, Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда Привезет он мне на дом невестку. Нет на свете царицы краше польской девицы: Весела — что котенок у печки, И как роза румяна, а бела, что сметана; Очи светятся, будто две свечки! Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже И оттуда привез себе женку; Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю Про нее, как гляжу в ту сторонку». Сыновья с ним простились и в дорогу пустились. Ждет, пождет их старик домовитый, Дни за днями проводит, ни один не приходит. Будрыс думал: уж видно убиты! Снег на землю валится, сын дорогою мчится, И под буркою ноша большая. «Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?» — «Нет, отец мой: полячка младая». Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится, Черной буркой ее покрывая. «Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?» — «Нет, отец мой: полячка младая». Снег на землю валится, третий с ношею мчится, Черной буркой ее прикрывает. Старый Будрыс хлопочет, и спросить уж не хочет, А гостей на три свадьбы сзывает. 1833Проспер Мериме
157. Видение короля
Король ходит большими шагами Взад и вперед по палатам; Люди спят — королю лишь не спится: Короля султан осаждает, Голову отсечь ему грозится И в Стамбул отослать ее хочет. Часто он подходит к окошку: Не услышит ли какого шума? Слышит, воет ночная птица, Она чует беду неминучу, Скоро ей искать новой кровли Для своих птенцов горемычных. Не сова воет в Ключе-граде, Не луна Ключ-город озаряет, В церкви божией гремят барабаны, Вся свечами озарена церковь. Но никто барабанов не слышит, Никто света в церкви божией не видит, Лишь король то слышал и видел; Из палат своих он выходит И идет один в божию церковь. Стал на паперти, дверь отворяет. Ужасом в нем замерло сердце, Но великую творит он молитву И спокойно в церковь божию входит. Тут он видит чудное виденье: На помосте валяются трупы, Между ими хлещет кровь ручьями, Как потоки осени дождливой. Он идет, шагая через трупы, Кровь по щиколку ему досягает… Горе! в церкви турки и татары И предатели, враги богумилы. На амвоне сам султан безбожный, Держит он наголо саблю, Кровь по сабле свежая струится С вострия до самой рукояти. Короля незапный обнял холод: Тут же видит он отца и брата. Пред султаном старик бедный справа, Униженно стоя на коленях, Подает ему свою корону; Слева, так же стоя на коленях, Его сын, Радивой окаянный, Бусурманскою чалмою покрытый (С тою самою веревкою, которой Удавил он несчастного старца), Край полы у султана целует, Как холоп, наказанный фалангой. И султан безбожный, усмехаясь, Взял корону, растоптал ногами, И промолвил потом Радивою: «Будь над Боснией моей ты властелином, Для гяур-христиан беглербеем». И отступник бил челом султану, Трижды пол окровавленный целуя. И султан прислужников кликнул, И сказал: «Дать кафтан Радивою! Не бархатный кафтан, не парчовый, А содрать на кафтан Радивоя Кожу с брата его родного». Бусурмане на короля наскочили, Донага всего его раздели, Атаганом ему кожу вспороли, Стали драть руками и зубами, Обнажили и мясо и жилы, И до самых костей ободрали, И одели кожею Радивоя. Громко мученик господу взмолился: «Прав ты, боже, меня наказуя! Плоть мою предай на растерзанье, Лишь помилуй мне душу, Иисусе!» При сем имени церковь задрожала. Всё внезапно утихнуло, померкло, Всё исчезло — будто не бывало. И король ощупью в потемках Кое-как до двери добрался И с молитвою на улицу вышел. Было тихо. С высокого неба Город белый луна озаряла. Вдруг взвилась из-за города бомба, И пошли бусурмане на приступ.158. Влах в Венеции
Как покинула меня Парасковья И как я с печали промотался, Вот далмат пришел ко мне лукавый: «Ступай, Дмитрий, в морской ты город, Там цехины — что у нас каменья. Там солдаты в шелковых кафтанах, И только что пьют да гуляют: Скоро там ты разбогатеешь И воротишься в шитом долимане, С кинжалом на серебряной цепочке. И тогда-то играй себе на гуслях; Красавицы побегут к окошкам И подарками тебя закидают. Эй, послушайся! отправляйся морем; Воротись, когда разбогатеешь». Я послушался лукавого далмата. Вот живу в этой мраморной лодке, Но мне скучно, хлеб их мне как камень, Я неволен, как на привязи собака. Надо мною женщины смеются, Когда слово я по-нашему молвлю; Наши здесь язык свой позабыли, Позабыли и наш родной обычай; Я завял, как пересаженный кустик. Как у нас, бывало, кого встречу, Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!» Здесь не слышу доброго привета, Не дождуся ласкового слова; Здесь я точно бедная мурашка, Занесенная в озеро бурей.159. Похоронная песня Иакинфа Маглановича
С богом, в дальнюю дорогу! Путь найдешь ты, слава богу. Светит месяц; ночь ясна; Чарка выпита до дна. Пуля легче лихорадки; Волен умер ты, как жил. Враг твой мчался без оглядки; Но твой сын его убил. Вспоминай нас за могилой, Коль сойдетесь как-нибудь; От меня отцу, брат милый, Поклониться не забудь! Ты скажи ему, что рана У меня уж зажила, Я здоров, — и сына Яна Мне хозяйка родила. Деду в честь он назван Яном; Умный мальчик у меня; Уж владеет атаганом И стреляет из ружья. Дочь моя живет в Лизгоре; С мужем ей не скучно там. Тварк ушел давно уж в море; Жив иль нет — узнаешь сам. С богом, в дальнюю дорогу! Путь найдешь ты, слава богу. Светит месяц; ночь ясна; Чарка выпита до дна.Сербская народная легенда
160. Сестра и братья
Два дубочка вырастали рядом, Между ими тонковерхая елка. Не два дуба рядом вырастали, Жили вместе два братца родные: Один Павел, а другой Радула, А меж ими сестра их Елица. Сестру братья любили всем сердцем, Всякую ей оказывали милость; Напоследок ей нож подарили Золоченый в серебряной оправе. Огорчилась молодая Павлиха На золовку, стало ей завидно; Говорит она Радуловой любе: «Невестушка, по богу сестрица! Не знаешь ли ты зелия такого, Чтоб сестра омерзела братьям?» Отвечает Радулова люба: «По богу сестра моя, невестка, Я не знаю зелия такого; Хоть бы знала, тебе б не сказала; И меня братья мои любили, И мне всякую оказывали милость». Вот пошла Павлиха к водопою, Да зарезала коня вороного, И сказала своему господину: «Сам себе на зло сестру ты любишь, На беду даришь ей подарки: Извела она коня вороного». Стал Елицу допытывать Павел: «За что это? скажи бога ради». Сестра брату с плачем отвечает: «Не я, братец, клянусь тебе жизнью, Клянусь жизнью твоей и моею!» В ту пору брат сестре поверил. Вот Павлиха пошла в сад зеленый, Сивого сокола там заколола, И сказала своему господину: «Сам себе на зло сестру ты любишь, На беду даришь ей подарки: Ведь она сокола заколола». Стал Елицу допытывать Павел: «За что это? скажи бога ради». Сестра брату с плачем отвечает: «Не я, братец, клянусь тебе жизнью, Клянусь жизнью твоей и моею!» И в ту пору брат сестре поверил. Вот Павлиха по вечеру поздно Нож украла у своей золовки И ребенка своего заколола В колыбельке его золоченой. Рано утром к мужу прибежала, Громко воя и лицо терзая: «Сам себе на зло сестру ты любишь, На беду даришь ты ей подарки: Заколола у нас она ребенка. А когда еще ты мне не веришь, Осмотри ты нож ее злаченый». Вскочил Павел, как услышал это, Побежал к Елице во светлицу: На перине Елица почивала, В головах нож висел злаченый. Из ножен вынул его Павел, — Нож злаченый весь был окровавлен. Дернул он сестру за белу руку: «Ой, сестра, убей тебя боже! Извела ты коня вороного И в саду сокола заколола, Да за что ты зарезала ребенка?» Сестра брату с плачем отвечает: «Не я, братец, клянусь тебе жизнью, Клянусь жизнью твоей и моею! Коли ж ты не веришь моей клятве, Выведи меня в чистое поле, Привяжи к хвостам кóней борзых, Пусть они мое белое тело Разорвут на четыре части». В ту пору брат сестре не поверил; Вывел он ее в чистое поле, Привязал ко хвостам коней борзых И погнал их по чистому полю. Где попала капля ее крови, Выросли там алые цветочки; Где осталось ее белое тело, Церковь там над ней соорудилась. Прошло малое после того время, Захворала молодая Павлиха. Девять лет Павлиха всё хворает, — Выросла трава сквозь ее кости, В той траве лютый змей гнездится, Пьет ей очи, сам уходит к ночи. Люто страждет молода Павлиха; Говорит она своему господину: «Слышишь ли, господин ты мой, Павел, Сведи меня к золовкиной церкви, У той церкви авось исцелюся». Он повел ее к сестриной церкви, И как были они уже близко, Вдруг из церкви услышали голос: «Не входи, молодая Павлиха, Здесь не будет тебе исцеленья». Как услышала то молодая Павлиха, Она молвила своему господину: «Господин ты мой! прошу тебя богом, Не веди меня к белому дому, А вяжи меня к хвостам твоих коней И пусти их по чистому полю». Своей любы послушался Павел, Привязал ее к хвостам своих кóней И погнал их по чистому полю. Где попала капля ее крови, Выросло там тернье да крапива; Где осталось ее белое тело, На том месте озеро провалило. Ворон конь по озеру выплывает, За конем золоченая люлька, На той люльке сидит сокол-птица, Лежит в люльке маленький мальчик: Рука матери у него под горлом, В той руке теткин нож золоченый. 1833–1835С. Е. Раич
Торквато Тассо
161. Освобожденный Иерусалим
Из песни III
Клоринда, упредив отряд, Вступает в бой с Танкредом. Обломки копий вверх летят, И треск за треском следом; Удар последний над челом Клоринды разразился, И развязавшийся шелом С чела ее свалился; И ветр, развеяв по плечам Руно кудрей златое, Открыл изменою очам Красавицу в герое. В очах ее сверкал огонь, И в самом гневе милый, Что ж был бы в неге сей огонь? Танкред, сберися с силой, Всмотрись! Еще ль не узнаешь Любви твоей предмета? Здесь та, кем дышишь, кем живешь. От сердца ль ждешь ответа? И сердце скажет: это та, Которой у потока Тебя пленила красота! К ней, к ней вниманье ока! А прежде он и не смотрел На щит, на шлем пернатый; Теперь взглянул и обомлел. Она, свив кудрей злато, На новый бой к нему летит; Влюбленный отступает; Он дале, он других теснит И строи раздвигает; Она за ним, и грозно в слух: «Постой!» — несется следом, И вторится: «Постой!» — и вдруг Две смерти пред Танкредом. Разимый ею — не разит, Не ищет он защиты; Не меч ему бедой грозит, Но очи и ланиты; С них, лук напрягши тетивой, Любовь бросает стрелы. «Ах! что мне, — думал он с собой, — Что мне удар тяжелый Твоих неутомимых рук? Он воздух бьет бесплодно; Влюбленному страшней всех мук Один твой взгляд холодный. Ужель сердечну тайну мне Снести во гроб с собою? Решусь и душу перед ней Скорбящую открою; Пусть знает, на кого подъят Булат ее жестокий». Он стал и, обратясь назад, Сказал сквозь вздох глубокий: «В толпе врагов тебе врагом Один Танкред унылый!.. Оставим строи и вдвоем Измерим наши силы». Клоринда вызов приняла И, не заботясь боле О шлеме, сорванном с чела, Несется вихрем в поле; Убитый горестью герой За героиней следом; Она копье назад, и в бой Вступила уж с Танкредом. «Остановись! — сказал он ей, — Постой! ни капли крови; И сечи нет, пока для ней Меж нами нет условий!» Она остановилась, ждет От рыцаря условий; Ему отваги придает Отчаянье любови. «Мне договор один с тобой; Ты, — молвил он прекрасной, — Не хочешь в мире быть со мной, Что ж в жизни мне несчастной? Вот грудь, вынь сердце из нее; Оно давно уж рвется К тебе; оно давно твое; Давно тобою бьется. Что медлишь? поражай главу, Склоненну пред тобою; Вели, и панцирь я сорву И грудь тебе открою; Мне смерть — отрада; доверши! Что в жизни мне несчастной?» Так чувства нежной он души Передавал прекрасной, И боле высказать хотел Словами и слезами; Но строй неверных налетел, Бегущий пред врагами. Кто знает — страх или обман Побега был виною… Один из строя христиан, Бесчувственный душою, Увидел длинные власы И локоны густые И, не щадя младой красы, Спустил копье над выей; Танкред воскликнул, налетел. И, вспыхнув гневным взором, Удар убийственный отвел, Поставив меч отпором. И слабо вражье острие Над нежной выей пало, И слабо ранило ее; Немного крови алой Отпрыснув, к золоту кудрей Багрянцу примешало. Так в злате при игре лучей Рубин сияет алый. Дрожащий, вне себя, Танкред С булатом обнаженным Несется, гонится вослед За воином презренным. Он дале, — рыцарь по пятам, И гнев сильней, сильнее; И оба мчатся по полям, Как стрелы в эмпирее. Клоринда, взоры к ним склоня, Стоит, глядит, дивится. Их скрыла даль; она коня Назад, к своим стремится И, грозная, то на врагов Отхлынувших наступит, То, не смутяся, от врагов Нахлынувших отступит. Таков пред стаей легких псов Телец среди арены: Уставит ли концы рогов — И, страхом пораженный, Рой псов назад; бежит ли враг — Они за ним смелее. Клоринде чужд и в бегстве страх; Враги кругом теснее; Она, — к главе открытой щит, — Удары отражает: Так в играх смятый мавр бежит И камни отревает. Уже свирепый бой возник Пред самыми стенами, — Вдруг громкий у неверных крик Раздался меж рядами; Они с отважностью чела На верных наступили И тыл и оба их крыла Мгновенно обхватили; И сам Аргант — глава полков, Оставив мрак засады, Ведет вперед из-за холмов Кипящие отряды. <1828>Лодовико Ариосто
162. Неистовый Орланд.
Из песни XIV
Как мухи, слившись, свившись в рой, С жужжанием садятся На чашу с медом в летний зной, Или скворцы стадятся Во время осени златой Над спелым виноградом: Так мавры этою порой, Сплотя отряд с отрядом, Кипят, волнуются, шумят, И все на битву рады, Все на Париж бросают взгляд И требуют осады. Настал кровавой битвы час, И верные толпами Бегут на стены, воружась Огнем, мечом, стрелами; Надежный родины оплот, Они бесстрашно бьются; Один падет, другой вперед; Все в битву грудью рвутся; Ударят — и ряды врагов, Удар прияв жестокий, Стремглав со стен высоких в ров Широкий и глубокий. Спасая христиане град, Всё в помощь призывали: И камни, и зубцы оград На мавров с стен летали, Обломки зданий, иногда И кровли самых башен; Всего же более тогда Им кипяток был страшен; Лиясь дождем, он проникал Под шлемы и забрала И очи бедным ослеплял, И тьма их облегала. <1833>Е. А. Баратынский
Шарль-Юбер Мильвуа
163. Возвращение
На кровы ближнего селенья Нисходит вечер, день погас. Покинем рощу, где для нас Часы летели как мгновенья! Лель, улыбнись, когда из ней Случится девице моей Унесть во взорах пламень томный, Мечту любви в душе своей И в волосах листок нескромный. <1822>164. Падение листьев
Желтел печально злак полей, Брега взрывал источник мутный, И голосистый соловей Умолкнул в роще бесприютной. На преждевременный конец Суровым роком обреченный, Прощался так младой певец С дубравой, сердцу драгоценной: «Судьба исполнилась моя, Прости, убежище драгое! О прорицанье роковое! Твой страшный голос помню я: „Готовься, юноша несчастный! Во мраке осени ненастной Глубокий мрак тебе грозит; Уж он зияет из Эрева, Последний лист падет со древа — Твой час последний прозвучит!“ И вяну я: лучи дневные Вседневно тягче для очей; Вы улетели, сны златые Минутной юности моей! Покину всё, что сердцу мило. Уж мглою небо обложило, Уж поздних ветров слышен свист! Что медлить? время наступило: Вались, вались, поблеклый лист! Судьбе противиться бессильный, Я жажду ночи гробовой. Вались, вались! мой холм могильный От грустной матери сокрой! Когда ж вечернею порою К нему пустынною тропою, Вдоль незабвенного ручья, Придет поплакать надо мною Подруга нежная моя, Твой легкий шорох в чуткой сени, На берегах Стигийских вод, Моей обрадованной тени Да возвестит ее приход!» Сбылось! Увы! судьбины гнева Покорством бедный не смягчил: Последний лист упал со древа, Последний час его пробил. Близ рощи той его могила! С кручиной тяжкою своей К ней часто матерь приходила… Не приходила дева к ней! <1823>165. Лета
Душ холодных упованье, Неприязненный ручей, Чье докучное журчанье Усыпляет Элизей! Так! достоин ты укора: Для чего в твоих водах Погибает без разбора Память горестей и благ? Прочь с нещадным утешеньем! Я минувшее люблю И вовек утех забвеньем Мук забвенья не куплю. <1823>Эварист Парни
166. Леда
В стране роскошной, благодатной, Где Евротейский древний ток Среди долины ароматной Катится светел и широк, Вдоль брега Леда молодая, Еще не мысля, но мечтая, Стопами тихими брела. Уж близок полдень; небо знойно; Кругом всё пусто, всё спокойно; Река прохладна и светла; Брега стрегут кусты густые… Покровы пали на цветы, И Леды прелести нагие Прозрачной влагой приняты. Легко возлегшая на волны, Легко скользит по ним она; Роскошно пенясь, перси полны Лобзает жадная волна. Но зашумел тростник прибрежный, И лебедь стройный, белоснежный Из-за него явился ей. Сначала он, чуть зримый оком, Блуждает в оплыве широком Кругом возлюбленной своей; В пучине часто исчезает, Но, сокрываяся от глаз, Из вод глубоких выплывает Всё ближе к милой каждый раз. И вот плывет он рядом с нею. Ей смелость лебедя мила, Рукою нежною своею Его осанистую шею Младая дева обняла; Он жмется к деве, он украдкой Ей перси нежные клюет; Он в песне радостной и сладкой Как бы красы ее поет, Как бы поет живую негу! Меж тем влечет ее ко брегу. Выходит на берег она; Устав, в тени густого древа, На мураву ложится дева, На длань главою склонена. Меж тем не дремлет лебедь страстный: Он на коленях у прекрасной Нашел убежище свое; Он сладкозвучно воздыхает, Он влажным клевом вопрошает Уста невинные ее… В изнемогающую деву Огонь желания проник: Уста раскрылись; томно клеву Уже ответствует язык; Уж на глаза с живым томленьем Набросив пышные власы, Ома нечаянным движеньем Раскрыла все свои красы… Приют свой прежний покидает Тогда нескромный лебедь мой; Он томно шею обвивает Вкруг шеи девы молодой; Его напрасно отклоняет Она дрожащею рукой: Он завладел — Затрепетал крылами он, — И вырывается у Леды И девства крик и неги стон. <1824>167. Ожидание
Она придет! к ее устам Прижмусь устами я моими; Приют укромный будет нам Под сими вязами густыми! Волненьем страстным я томим; Но близ любезной укротим Желаний пылких нетерпенье: Мы ими счастию вредим И сокращаем наслажденье. <1825>Андре Шенье
168. Наяда
Есть грот: наяда там в полдневные часы Дремоте предает усталые красы, И часто вижу я, как нимфа молодая На ложе лиственном покоится нагая, На руку белую, под говор ключевой, Склонялся челом, венчанным осокой. 1826169.
Под бурею судеб, унылый, часто я, Скучая тягостной неволей бытия, Нести ярмо мое утрачивая силу, Гляжу с отрадою на близкую могилу, Приветствую ее, покой ее люблю, И цепи отряхнуть я сам себя молю. Но вскоре мнимая решимость позабыта, И томной слабости душа моя открыта: Страшна могила мне; и ближние, друзья, Мое грядущее, и молодость моя, И обещания в груди сокрытой музы — Всё обольстительно скрепляет жизни узы, И далеко ищу, как жребий мой ни строг, Я жить и бедствовать услужливый предлог. <1828>Д. В. Веневитинов
Джеймс Макферсон
170. Песнь Кольмы
Ужасна ночь, а я одна Здесь на вершине одинокой. Вокруг меня стихий война. В ущелиях горы высокой Я слышу ветра свист глухой. Здесь по скалам с горы крутой Стремится вниз поток ревучий; Ужасно над моей главой Гремит перун, несутся тучи. Куда бежать? где милый мой? Увы, под бурею ночною Я без убежища, одна! Блесни на высоте, луна, Восстань, явися над горою! Быть может, благодатный свет Меня к Сальгару приведет. Он, верно, ловлей изнуренный, Своими псами окруженный, В дубраве иль в степи глухой, Сложивши с плеч свой лук могучий С опущенною тетивой И презирая гром и тучи, Ему знакомый бури вой, Лежит на мураве сырой; Иль ждет он на горе пустынной, Доколе не наступит день И не рассеет ночи длинной. Ужасней гром; ужасней тень; Сильнее ветра завыванье; Сильнее волн седых плесканье, — И гласа друга не слыхать! О верный друг! Сальгар мой милый! Где ты? ах, долго ль мне унылой Среди пустыни сей страдать? Вот дуб, поток, о брег дробимый, Где ты клялся до ночи быть — И для тебя мой кров родимый И брат любезный мной забыт. Семейства наши знают мщенье, Они враги между собой — Мы не враги, Сальгар, с тобой. Умолкни, ветр, хоть на мгновенье! Остановись, поток седой! Быть может, что любовник мой Услышит голос, им любимый! Сальгар! тебя здесь Кольма ждет; Здесь дуб, поток, о брег дробимый; Здесь всё, — лишь милого здесь нет. 1822Жан-Батист Грессе
171. Веточка
В бесценный час уединенья, Когда пустынною тропой С живым восторгом упоенья Ты бродишь с милою мечтой В тени дубравы молчаливой, — Видал ли ты, как ветр игривый Младую веточку сорвет? Родной кустарник оставляя, Она виется, упадая На зеркало ручейных вод, И, новый житель влаги чистой, С потоком плыть принуждена; То над струею серебристой Спокойно носится она, То вдруг пред взором исчезает И кроется на дне ручья; Плывет — всё новое встречает, Всё незнакомые края: Усеян нежными цветами Здесь улыбающийся брег, А там пустыни, вечный снег Иль горы с грозными скалами. Так далей веточка плывет И путь неверный свой свершает, Пока она не утопает В пучине беспредельных вод. Вот наша жизнь! — так к верной цели Необоримою волной Поток нас всех от колыбели Влечет до двери гробовой. 1823Иоганн Вольфганг Гете
172. Монолог Фауста в пещере
Всевышний дух! ты всё, ты всё мне дал, О чем тебя я умолял. Недаром зрелся мне Твой лик, сияющий в огне. Ты дал природу мне, как царство, во владенье; Ты дал душе моей Дар чувствовать ее, дал силу наслажденья. Иной едва скользит по ней Холодным взглядом удивленья; Но я могу в ее таинственную грудь, Как в сердце друга, заглянуть. Ты протянул передо мною Созданий цепь, — я узнаю В водах, в лесах, под твердью голубою Одну благую мать, одну ее семью. Когда завоет ветр в дубраве темной, И лес качается, и рухнет дуб огромный, И ветви ближние ломаются, трещат, И стук и грохот заунывный В долине будит гул отзывный, — Ты путь в пещеру кажешь мне, И там, среди уединенья, Я вижу новый мир и новые явленья И созерцаю в тишине Души чудесные, но тайные виденья. Когда же ветры замолчат И тихо на полях эфира Всплывет луна, как светлый вестник мира, Тогда подъемлется передо мной Веков туманная завеса, И с грозных скал, из дремлющего леса Встают блестящею толпой Минувшего серебряные тени И светят в сумраке суровых размышлений. Но ах! теперь я испытал, Что нет для смертных совершенства! Напрасно я, в мечтах душевного блаженства, Себя с бессмертными равнял. Ты к страшному врагу меня здесь приковал: Как тень моя, сопутник неотлучный, Холодной злобою, насмешкою докучной Он отравил дары небес. Дыханье слов его сильней твоих чудес! Он в прах меня низринул предо мною, Разрушил в миг мир, созданный тобою, В груди моей зажег он пламень роковой, Вдохнул любовь к несчастному созданью, И я стремлюсь несытою душой В желаньи к счастию и в счастии к желанью. 1827С. П. Шевырев
Фридрих Шиллер
173. Беспредельность
По морю вселенной направил я бег: Там якорь мнил бросить, где видится брег Пучины созданья, Где жизни дыханья Не слышно, где смолкла стихийная брань, Где богом творенью поставлена грань. Я видел, как юные звезды встают, Путем вековечным по тверди текут, Как дружно летели К божественной цели… Я дале — и взор оглянулся окрест, И видел пространство, но не было звезд. И ветра быстрее, быстрее лучей Я в бездну ничтожества мчался бодрей, И небо за мною Оделося мглою… Как волны потока, так сонмы планет За странником мира кипели вослед. И путник со мной повстречался тогда, И вот вопрошает: «Товарищ, куда?» — «К пределам вселенной Мой путь неизменный: Туда, где умолкла стихийная брань, От века созданьям поставлена грань!» «Кинь якорь! пределов им нет пред тобой». — «Их нет и за мною! путь кончен и твой!» Свивай же ветрило, О дух мой унылый, И далее, смелый, лететь не дерзай, И здесь же с отчаянья якорь бросай. 1827174. Четыре века
Как весело кубок бежит по рукам, Как взоры пирующих ясны! Но входит певец и к земным их дарам Приносит дар неба прекрасный: Без лиры, без песен и в горних странах Не веселы боги на светлых пирах. А в духе певца, как в чистом стекле, Весь мир отразился цветущий: Он зрел, чтó от века сбылось на земле, Чтó век сокрывает грядущий; Он в древнем совете богов заседал И тайным движеньям созданья внимал; Светло и прекрасно умеет развить Картину роскошную жизни И силой искусства во храм превратить Земное жилище отчизны; Он в хижину ль входит, в пустынный ли край, — С ним боги и целый божественный рай. Как мощный сын Дия, от Дия избран, Во щит круговидный и тесный Вмещает всю землю и весь океан, И небо, и звезды небесны; Так в звуке едином любимца харит Весь мир отзывается, вечность звучит. Младенчество мира он юный видал, Как люди в простых хороводах Играючи жили; он всюду бывал — Во всех временах и народах. Четыре уж века певец проводил, И пятый век мира при нем наступил. Век первый — Сатурнов, то истины век! Вчера проходило как ныне, И пастырь беспечный живал человек, Покорствуя доброй судьбине: Он жил и любил, и к нему на пиры Природа обильно носила дары. Но труд возник: вызывают на бой Драконы — гиганты полнощны, — И вслед за героем стремится герой, И с слабым ратует мощный, И кровь полилась, Скамандр запылал, — Но мир красоту и любовь обожал. Победа возвысила радостный взор: На брани отгрянул отзывный Звук песен — и муз гармонический хор Мир создал Поэзии дивной. О, век незабвенный небесной мечты! Исчез невозвратно, о век красоты! И свержены боги с небесных высот, И пали столпы вековые; Родился от девы сын божий — грядет Пороки изгладить земные; И воли нет чувствам, век страсти протек, И думу замыслил в себе человек. Уж кончен роскошный юности пир, — И жажда вспыхнула к бою, И рыцари скачут на пышный турнир, Одеты железной бронею. Но дикая жизнь становилась мрачней, Хоть солнце любови светило над ней. И музы певали в укромной тиши В простых и священных напевах; И кротость чувств и прелесть души Хранились и в женах и девах,— И пламя Поэзии вспыхнуло вновь, Зажгла его прелесть души и любовь. Поэты и девы! в дыханьи одном Вы души свои сочетайте; Вы правды и прелести светлым венцом Прекрасную жизнь увенчайте: О песнь и любовь! вами жизнь светла, И силою вашей душа ожила. 1827Торквато Тассо
175. Освобожденный Иерусалим
Из песни VII
Меж тем Эрминия между кустами В дремучий лес конем занесена; Рука дрожит, чуть шевеля браздами, — И не жива, и не мертва она. Лихой бегун безвестными путями Всё дале в лес, где чащи глубина, Пока совсем умчался от погони, И тщетно бы за ним скакали кони. Как, праздным бегом поле всё измеря, Ворочаются псы едва дыша, Им грустно то, что след потерян зверя, Укрывшегося в чащу камыша,— Так рыцарей стыдила их потеря: Бегут назад — и в гневе их душа. Она же всё, к коню челом пригнувшись, Скакала по лесу не оглянувшись. Всю ночь бежит и целый день блуждает Без помощи вождя и без совета; Лишь плач свой видит и ему внимает, Своей же грусти ждет на грусть ответа,— Но той порой, как солнце отрешает Златых коней от колесницы света, Вод Иордановых она достигла, Сошла на брег — и к мураве приникла. Не ест, не пьет, — ей скорбь лишь подкрепление, К слезам лишь жажда, нет иного пира; Но сон, лиющий сладкое забвенье На чад усталых горестного мира, В ней усыпил и чувства и мученье, Приосенив ее крылами мира. Но всё любовь отстать от ней не может И разными мечтами сон тревожит. Не прежде встала, как защебетали Пернатые, приветствуясь с лесами, И ручейки, кусточки зароптали, И зашептали ветерки с цветами. Открыла томны очи — ей предстали Жилища пастырей между кустами: Глас слышался сквозь ветви и журчанье, И бедной вновь напомнил он рыданье,— И вновь заплакала. — Но из кустов Ее стенания звук прервал внятный: Казалось, в нем напевы пастухов С свирелью сочеталися приятной. Встает, идет на звуки голосов, И видит, старец, в куще благодатной, Из ив корзинки при стадах плетет, А перед ним три мальчика поет. Их ужаснул нежданный сей приход, Как взвидели доспехи боевые; Она приветом веру им дает, Вскрыв очи светлые, власы златые, — И говорит: «О! продолжай, народ Любимый небом, подвиги святые: Не помешаю я мечом мятежным Ни делу вашему, ни песням нежным». Потом, заведши слово понемногу, Сказала: «Старец, посреди войны, Как ты возмог, презрев ее тревогу, Укрыться здесь на лоне тишины?» — «Мой сын, — он отвечал ей, — слава богу, И стадо и семья охранены Здесь у меня от брани: шум военный Не досягал страны сей отдаленной. Иль благодать небес хранит от зол: Она ли пастуха пасет и милует; Иль потому, что не смиренный дол, Скорей гора громами изобилует, — Так и войны безумный произвол Одних царей главы мечом насилует; А наш быт низкий, бедный недостоин, Чтобы пленился им корыстный воин. Кому низка, а мне святая доля! Душа ни скиптром, ни казной не льстится; Корысти, славы жаждущая воля В покое груди смирной не гнездится. На жажду есть ручей родного поля,— И не боюсь, что ядом отравится; И это стадо, огород вот тут — На стол простой мне даром пищу шлют. Желанья малы, — мало нам и надо, Чем жизнь питать без лишних наслаждений. Вот сыновья мое лелеют стадо; Рабов не нужно нам. Живем без лени, Весь век в трудах. Смотрю — и сердце радо, — Как прыгают козлята и олени, Как рыбки в струйках плещутся, юлькают И птички крылья к небу расправляют. Ах! было время: грешный и крамольный, Тщеславился и я, питал желанья, И, посохом пастушьим недовольный, От верного родимого стяжанья Бежал к двору, в Мемфис первопрестольный, И там искал я царского вниманья. Хоть был простым хранителем садов, Но зрел и вызнал клевету дворов. И, улелеянный надеждой смелой, Всё выносил — чтó выносимо было; Но только наступил мой возраст спелый И время упованья погасило,— О жизни прежней я, осиротелый, Вздохнул, — и сердце мира запросило: Сказав двору „прощай!“, к своим лесам Бежал бегом — и слава небесам!» Меж тем она очей с него не сводит, К устам его вниманием прильнула,— И слово мудрое к ней в душу сходит, Как благодать, и буря чувств уснула. Потом повсюду робкой думой бродит, И вот — в тиши пастушьего аула Решается искать себе пената, Пока судьба ей не пошлет возврата. И старику так волю знаменует: «Отец! и ты знал скорби бытия! Да небо никогда не приревнует Тебя ко счастью! Коль душа твоя К моим страданьям состраданье чует, — В свое жилье возьми, возьми меня. Авось мне небо благость здесь окажет, И бремя сердца, хоть на время, сляжет. Ты злата ль хочешь, камней ли бесценных, Что чернь так часто блеском ослепляли, — Будет с тебя моих сокровищ тленных, Я всё отдам, что мне судьбы послали». Потом, кропя лазурь очей смятенных Кристальными потоками печали, Часть жизни вверила его вниманью, — И сорыдал пастух ее рыданью. Потом утешил грусть, как мог целебней, Отечески приял ее в сень кущи, Повел ее к своей супруге древней, Что дал ему по сердцу всемогущий. Простой хитон там обвил стан царевне, И нежные власы покров гнетущий Ей обвязал, но из ее осанки Был виден лик не низкой поселянки. <1831>Данте
176. Ад
Из песни IV
В главе моей, глубоко усыпленной, Внезапный гром раздался: я вскочил, Как человек, испугом пробужденный. Кругом себя я пристально водил Пытливый взор, покоем освеженный, Желая знать то место, где я был. Под нами вниз спускались бездны склоны; И скорбью злой кипела бездна эта, И в вечный гром ее сливались стоны, И глубина ее была без цвета: Мой острый взор, как ни пытался дна, На что упасть, не обретал предмета. «Под нами ад — слепая глубина! Сойдем в нее; я первый — ты за мною», — Вождь рек и стал бледнее полотна. Заметив то, я с трепетной душою К учителю: «Когда робеешь ты, То чем же я свой трепет успокою?» И он в ответ: «Напрасны суеты! При виде бездны сей многострадальной Мою тоску за трепет принял ты. Идем, идем: нас путь торопит дальный!» — Так говоря, мы вместе с ним вступали Печальной бездны в круг первоначальный; И здесь, когда прислушиваться стали, Здесь не был плач, не вопли муки, но Вздыханья вечный воздух волновали: От скорби без мучений было то; И скорбью той мужчины, жены, дети — Все возрасты страдали заодно. Учитель мне: «Ты не спросил, кто эти? И почему вздыханьям их нет меры? Греху они не попадали в сети: Меж ними есть и доблести примеры. Но мало то: они не крещены И не прошли вратами вашей веры. До христианства в мире рождены, Пред светом истины смыкали вежды: Я в их семье, участник их вины. Мы здесь живем — несчастные невежды, Погибшие незнаньем: наш удел Томиться всё желаньем без надежды». 1839В. Г. Тепляков
Иоганн Вольфганг Гете
177.
Я твой, я твой, когда огонь Востока Моря златит; Я твой, я твой, когда сафир потока Луна сребрит. Я зрю тебя, когда в час утра бродит Туман седой; В глухую ночь, когда пришлец находит Приют святой. Ты мне слышна, когда в реке игривой Журчит струя; Слышна, когда в дубраве молчаливой Блуждаю я. Светило ль дня над морем умирает В стране чужой — И в хоре звезд рубиновых мелькает Мне образ твой! <1828>Из народной поэзии
178. Румилийская песня
Меж тем, как ты, мой соловей, Поешь любовь в стране далекой — Отрава страсти одинокой Горит огнем в душе моей! Я вяну; пены волн морских Стал цвет ланит моих бледнее; Ты помнишь — яркий пурпур их Был русских выстрелов алее! Приди ж, о милый, усладить Тоску любви, души томленье; Приди хоть искрой наслажденья Больное сердце оживить! Блестящий взор твоих очей Острей и ярче стали бранной; Свежей росы, огня живей Твой поцелуй благоуханный! О милый! пусть растает вновь Моя душа в твоем лобзаньи; Приди, допей мою любовь, Допей ее в моем дыханьи! Прилипну я к твоим устам, И всё тебе земное счастье, И всей природы сладострастье В последнем вздохе передам! Приди ж, о милый, усладить Мою тоску, мое томленье; Иль дай мне яд любви допить — И не страшися преступленья! <1832>179. Татарская песня
О роза юная, зачем Весны твоей дыханье Пьет хана старого гарем, Как гурии лобзанье? Пусть ясен огнь твоих очей, Пускай их стрелы метки — Ты в золотой тюрьме своей Как птичка в пышной клетке! Однажды, утренней зарей, Прекрасная купалась; Играла с резвою струей, За блеском волн гонялась. Горела пена на власах, Подобно пышной сетке, — Свободен ты, жемчужный прах, А дева — птичка в клетке! Граната спелая бледней Ланит ее огнистых, Ветвь кипарисная светлей Кудрей ее струистых; Но что ж всегда, везде она — В саду, в густой беседке, В златом гареме — всё грустна, Как птичка в пышной клетке?.. Иль грусть любви в душе таит Наш ангел черноокий, Иль сердце бедное болит По родине далекой?.. Так наш байдарский соловей Пел на лавровой ветке: Он счастлив вольностью своей, А дева — птичка в клетке! <1832>Джордж Гордон Байрон
180. Вакхическая песня
Наполним бокалы; я жаждой такой Досель никогда не томился; О, выпьем же! — Кто не пивал под луной, За чашей с людьми не мирился? Всё в пестрой сей жизни коварный обман, — Лишь ты без обмана, шипучий стакан! Всего на пиру я у жизни вкусил; Душой перед черными таял очами; Любил я. — О! кто на земле не любил? Но, милыми кто ж обаянный устами, Всю цену блаженства изведал вполне, Доколе он страсти томился в огне? В те годы, когда наш младой идеал Без крыльев нам дружество кажет, Ласкал я друзей. — Кто своих не ласкал? Но кто же теперь нам докажет, Что так ему верны бывали друзья, Как ты, винограда златая струя? Любви изменяет нам часто звезда, Для дружбы душа холодеет. Лишь ты неизменен, наш нéктар, всегда! Становишься стар ты. — И кто ж не стареет? Но кто же, как ты, похвалиться бы мог, Что годы сугубят в нем сил кипяток? Девичьим ли сердцем кто в жизни счастлив — Соперник уж нашего близок кумира: И вот мы ревнивы. — Но кто ж не ревнив? В тебе лишь гармония мира! О чаша, чем больше счастливых тобой, Тем каждый твой рыцарь довольней судьбой! Когда, с летом жизни, для наших сердец Разгул милых шалостей гибнет, К бутылке мы рвемся душой наконец, И вдруг постигаем, — но кто ж не постигнет, Что истины яркой теперь, как всегда, На дне лишь бутылки играет звезда? Когда отворился Пандоры сундук И радость исчезла прямая, Осталась надежда, бальзамом от мук. Да, да! лишь надежда златая! Но что нам в ее обольстительном сне: Рой благ досундучных у чаши на дне! Да зреет же вечно в садах виноград! Когда мы с своей распростимся весною, Вино, постарев, наш утешит закат. Умрем мы. — Но кто ж не умрет под луною? Тогда на Олимпе нас примет Зевес, И Геба наполнит фиалы небес! <1836>Пьер-Жан Беранже
181. Моя старушка
Придет пора — твой май отзеленеет; Придет пора — я мир покину сей; Ореховый твой локон побелеет; Угаснет блеск агатовых очей. Смежи мой взор; но дней своих зимою Моей любви ты лето вспоминай; И, добрый друг, стихи мои порою Пред камельком трескучим напевай. Когда, твои морщины вопрошая О розах мне сиявшей красоты, Захочет знать белянка молодая: Чью так любовь оплакиваешь ты? — Минувших дней блесни тогда весною, Жар наших душ на лютне передай; И, добрый друг, стихи мои порою Пред камельком трескучим напевай. «Как, — спросят, — жил покойный твой любовник: Лисицею, иль волком иногда; У двери ль был торчавший он чиновник?» Главу подъяв, ответствуй: никогда! Мой дерзкий смех над бешеной судьбою, Мой тайный плач ты внукам передай; И, добрый друг, стихи мои порою Пред камельком трескучим напевай. Поведай ты, как ураган жестокий На всех морях крушил мою корму; Как между тем под молниями рока Лишь горю льстил твой путник одному. О! расскажи, как сирой он душою В твоей любви единый ведал рай; И, добрый друг, стихи мои порою Пред камельком трескучим напевай. Когда, грустя, ты дряхлыми перстами Коснешься струн поэта своего, И каждый раз, как вешними цветами Обвить портрет задумаешь его, — Пари в тот мир ты набожной душою, Где для любви настанет вечный май; И, добрый друг, стихи мои порою Пред камельком трескучим напевай. <1836>В. И. Туманский
Эварист Парни
182. Романс
Аслега, друг преступный, но прекрасный! Увидеться с тобою я спешил; Я бросил меч, и латы положил, Но ах! забыт тобой Иснель несчастный. Прощай — иду… в чужих странах терпеть, Любить тебя, любить и умереть. Вкушай иной любови наслажденья, В веселии живи, забудь о мне; Пусть буду я томиться в тишине — Ты совести не чувствуй угрызенья! Неверна ты — во мне измены нет, И жребий мой любить и умереть! Но счастие дано ли преступленью?.. Беспечная! страшись любви младой: Она как лед неверный — под собой Пучину бед скрывает и мученья. Прощай… спешу… надежды боле нет — Мне суждено: любить и умереть! 1819Вольтер
183. К Сидевиллю
Ты мне велишь пылать душою; Отдай же мне любови дни И мой закат соедини С моею утренней зарею! Я бросил Вакховы края, Эрота ветреное племя; От них безжалостное время Уводит за руку меня. Кто удержать его посмеет? Нет! Покоряюся ему, — И жить нерадостно тому, Кто жить по летам не умеет. Оставим юношам вино, Затеи, игры, заблужденья! Мы только два живем мгновенья: Пусть будет мудрости одно! Иль навсегда вы убежали, Беспечность, радость, от меня? В вас находил отраду я В моей доверчивой печали. Ах! дважды ждет кончина нас: Забыть любовь, не быть любимым, — Вот смерть с мученьем нестерпимым! Окончить дни — отрадный час! Так я оплакивал измену Мятежных, юношеских дней И жизни невозвратной цену Как будто чувствовал живей. Тогда с небес своих нежданно На глас мой дружба низошла: Она душе непостоянной Отрадна, как любовь, была. Прельщенный гостьею моею И светом озарен ея, Пошел за ней; но плакал я, Что мог идти я лишь за нею. 1822Шарль-Юбер Мильвуа
184. Падение листьев
С дерев на поздний злак полей Листы поблеклые опали, Дубравы без теней стояли, Молчал пустынный соловей. Недугом и тоской томимый, Тех мест страдалец молодой В последний раз стране родимой Вверял печальный голос свей. «Простите, холмы и долины, Прости, шумливая река, Я слышу весть моей кончины В паденьи каждого листка. О роковое прорицанье! Я не забыл твой страшный глас: „Узришь ты рощей увяданье, Но их узришь в последний раз. Трепещет кипарис священный! Уже над головой твоей, Суровой смерти обреченной, Склонил он сень своих ветвей. Твой краткий век — был сон лукавый: Увянешь ты во цвете дней, Скорей, чем лист твоей дубравы, Скорей, чем злак твоих полей“. Сбылось! своим дыханьем хладным Болезнь подула на меня, И сном неясным, безотрадным Промчалась молодость моя. Шуми, валися, лист минутный, Шуми, вались с родных ветвей, Засыпь, сокрой мой холм приютный От взоров матери моей. Но если дева, мне драгая, Под покрывалом, в тишине, Как призрак из-за древ мелькая, На грустный холм придет ко мне, И плакать простодушно будет И робко вымолвит: люблю! — Пусть легкий шорох твой пробудит Тень благодарную мою…» Сказал — и тихо удалился, Наутро юноша погас; Но холм заветный в тихий час От нежной матери не скрылся: Напрасен был страдальца глас! И часто зрелась там у древа Мать безутешная в слезах; А с милой лаской на устах Туда не приходила дева. 1823М. Д. Деларю
Виктор Гюго
185.
Когда б я был царем всему земному миру, Волшебница! тогда б поверг я пред тобой Всё то, что власть дает народному кумиру: Державу, скипетр, трон, корону и порфиру За взор, за взгляд единый твой! И если б богом был — селеньями святыми Клянусь, — я отдал бы прохладу райских струй, И сонмы ангелов с их песнями живыми, Гармонию миров и власть мою над ними За твой единый поцелуй! <1834>Фридрих Шиллер
186. К музе
Чем бы я был без тебя, не знаю; но видеть ужасно, Как миллионы людей здесь прозябают без муз! 187. Младенец в колыбели Крошка! теперь для тебя колыбель как небо просторна; Но возмужай — целый мир будет тесен тебе! <1835>Овидий
188. Четыре века
Перворожденный был век золотой; не из страха к отмщенью, Доброю волею он без законов блюл честность и правду. Казни и страха в нем не было; знаков угрозных закона Медь не носила еще, и просителей сонм не страшился Уст судии: без охраны в тот век безопасны все были. С горной своей высоты, к посещению чуждых пределов, Сóсна еще не сходила тогда на кристальные волны: Кроме своих берегов, иного не ведали люди. Рвом крутым города опоясывать не было нужды; Труб из меди прямой, и рогов из согнутой меди, Ни шишаков, ни мечей не имелось. С войной незнакомы, Мысли спокойные всюду рождали покой безмятежный. Девственной груди земли не терзали ни грабли, ни рало: Нужное всё сама по себе она приносила. Пищей, без всяких усилий рожденной, довольные люди То с деревьев плоды, то с гор землянику сбирали, Также и корн, и прильнувшую к диким кустам шелковицу; Брали и желудь, с ветвистого древа Зевеса спадавший. Вечной весной наслаждалась земля, и зефир тиховейный Теплым дыханьем ласкался к цветам, не из семени росшим. Быстро земля, не распахана быв, плоды приносила, И без возделки поля белели богатою жатвой. Реки иные млеко, другие же нéктар струили, И из зеленого ясеня капали желтые соты. После, когда был Сатурн во мрачный Тартар низвержен, Миром Юпитер владел; серебряный век наступил с ним, Худший златого, но драгоценнейший медного века. В оный Юпитером прежнее время весны сократилось: На зиму, лето, неравные осени, краткие весны — Так на четыре пространства разбил он течение года. Тут впервые зноем сухим распалившийся воздух Вспыхнул: впервые вода сгустилась от ветров холодных. Люди в жилища вошли: жилищем же были пещеры, Или густые кусты и лозы, скрепленные лыком. В век тот впервые Церерино семя в браздах протяженных Было зарыто, и под ярмом волы застонали. Первым истекшим векам последовал третий — из меди, Духом свирепый и более склонный ко браням ужасным, Но не злодейский еще. Последний был твердый железный. В век сей, из худшей руды сотворенный, ворвались незапно Все беззакония; стыд же и правда и честность исчезли. Место их заступили тогда и обман и коварство, Разные козни, насильство и гнусная склонность к стяжанью. Парус по ветрам простер хорошо их доселе не знавший Кормчий; и сосны, стоявшие долго на горных вершинах, С них низошли, и корабль полетел по волнам незнакомым. Землю, всем общую прежде, как ныне свет солнца и воздух, Долгою гранью означил тогда межевщик осторожный. Уж не одних только жатв, не одной только пищи обильной Требовал смертный в тот век от земли, но проник в ее недра: То, что сокрыла она и к Стигийским приблизила теням, Было отрыто людьми, и богатствами зло поощрилось. Вдруг вредоносная сталь и ее вредоноснее — злато Вышли: родилась война, губящая сталью и златом, И в окровавленной длани ее зазвенело оружье. Стали хищеньями жить; скиталец врага зрел в скитальце, Тесть в своем зяте; и братьев любовь почиталась за редкость. Смертью грозили жене своей муж, супруга супругу; Бледные яды суровые мачехи смешивать стали; Сын преждевременно начал считать родителя годы; В прах благочестье легло, и от стран, дымящихся кровью, Из небожителей дева Астрея последняя скрылась. <1835>А. И. Полежаев
Оссиан
189. Морни и тень Кормала
Морни Владыка щитов, Мечей сокрушитель И сильных громов И бурь повелитель! Война и пожар В Арвене пылают, Арвену Дунскар И смерть угрожают. Реки мне, о тень Обители хладной! Падет ли в сей день Дунскар кровожадный? Твой сын тебя ждет, Надеждою полный… И море ревет, И пенятся волны; Испуганный вран Летит из стремнины; Простерся туман На лес и долины; Эфир задрожал Спираются тучи… Не ты ли, Кормал, Несешься могучий? Тень Чей глас роковой Тревожить дерзает Мой хладный покой? Морни Твой сын вопрошает, Царь молний, тебя! Неистовый воин Напал на меня — Он казни достоин… Тень Ты просишь… Морни Меча! Меча твоей длани, От молний луча! Как бурю во брани Узришь меня с ним; Он страшно заблещет На пагубу злым; Сын гор затрепещет, Сраженный падет — И Морни воздвигнет Трофеи побед… Тень Прими — да погибнет!.. <1825>Альфонс Ламартин
190. Мечта
Простерла ночь свои крыле На свод небес червленый; Туманы вьются на земле… В сон легкий погруженный, На камне диком я сижу В мечтаниях унылых И в горькой думе привожу На память сердцу милых. Вдруг из-за черно-сизых туч, Серебряной струею, С луны отторгнувшийся луч Блеснул передо мною. О милый луч, зачем рассек Ты горние туманы? Иль исцелить мои притек Неисцелимы раны? Или сокрытые судьбой Поведать тайны мира? О луч божественный, открой, Открой, пришлец эфира: Или к несчáстливым влечет Тебя волшебна сила, И снова к счастью расцветет Душа моя уныла? Так! Я восторгом упоен И мыслию священной: Не ты ли в образ облечен Души, мне незабвенной? Быть может, вьется надо мной Дух милый, в виде тени; Быть может, ивы сей густой Он потрясает сени. Ах, если это не мечта, В час полночи священный Носися вкруг меня всегда, О призрак драгоценный! Хотя твоим полетом слух Мой робкий насладится, И изнемогший, скорбный дух Внезапно оживится… Но месяц посреди небес Облекся пеленою. Где милый луч мой? Он исчез — И я один с мечтою! 1826 (?)191. Злобный гений
Когда задумчивый, унылый Сижу с тобой наедине И, непонятной движим силой, Лью слезы в сладкой тишине; Когда во мрак густого бора Тебя влеку я за собой; Когда в восторгах разговора В тебя вселяюсь я душой; Когда одно твое дыханье Пленяет мой ревнивый слух; Когда любви очарованье Волнует грудь мою и дух; Когда главою на колена Ко мне ты страстно припадешь И кудри пышные гебена С небрежной негой разовьешь, И я задумчиво покою Мой взор в огне твоих очей, — Тогда невольною тоскою Мрачится рай души моей. Ты окропляешь в умиленьи Слезой горючею меня; Но и в сердечном упоеньи, В восторге чувств страдаю я. «О мой любезный! ты ли муки Мне неизвестные таишь? — Вокруг меня обвивши руки, Ты мне печально говоришь. — Прошу за страсть мою награды! Открой мне, милый, скорбь твою! Бальзам любви, бальзам отрады Тебе я в сердце излию!» Не вопрошай меня напрасно, Моя владычица, мой бог! Люблю тебя сердечно, страстно — Никто сильней любить не мог! Люблю… но змий мне сердце гложет; Везде ношу его с собой, И в самом счастии тревожит Меня какой-то гений злой. Он, он мечтой непостижимой Меня навек очаровал И мой покой ненарушимый И нить блаженства разорвал. «Пройдет любовь, исчезнет радость, — Он мне язвительно твердит, — Как запах роз, как ветер, младость С ланит цветущих отлетит!..» 1826Вольтер
192. Прощание с жизнью
Итак, прощайте! Скоро, скоро Переселюсь я наконец В страну такую, из которой Не возвратился мой отец! Не жду от вас ни сожаленья, Не жду ни слез, мои друзья! Враги мои! уверен я, Вы тоже с чувством умиленья Во гроб уложите меня! Удел весьма обыкновенный!.. Когда же в очередь свою И вам придется непременно Сойти в Харонову ладью, Чтоб отыскать в реке забвенья Свои несчастные творенья, — То верьте, милые, и вас Проводят с смехом, в добрый час! Когда сыграл на сцене мира Пустую роль свою актер, Тогда с народного кумира Долой мишурная порфира, И свист — безумцу приговор!.. Болезнью тяжкой изнуренных, Я видел много разных лиц: Седых ханжей, седых девиц, Мужей и мудрых и почтенных. Увы! греховного плода Они вкушали неизбежно, И отходили безмятежно Никто не ведает куда! Холодный зритель улыбался; Лукавый родственник смеялся; Сатира колким языком О них минуты две судила, Потом холодная могила Навек бесчувственным песком Их трупы грешные прикрыла!.. Скажите ж мне в последний раз, Непостижимые созданья: Куда из круга мирозданья, Куда вы кроетесь от нас?.. Кто этот мир без сожаленья Покинуть может навсегда? Не тот ли, кто без заблужденья, Как неподвижная звезда Среди воздушного волненья, Привык умом своим владеть И, сын бессмертия и праха, Без суеверия и страха Умеет жить и умереть? 1835Виктор Гюго
193. Лунный свет
В водах полусонных играла луна. Гарем освежило дыханье свободы; На ясное небо, на светлые воды Султанша в раздумьи глядит из окна. Внезапно гитара в руке замерла! Как будто протяжный и жалобный ропот Раздался над морем… Не конский ли топот, Не шум ли глухой удалого весла? Не птица ли ночи широким крылом Рассéкла зыбучей волны половину? Не дух ли лукавый морскую пучину Тревожит, бессонный, в покое ночном? Кто нагло смеется над робостью жен? Кто море волнует?.. Не демон лукавый, Не тяжкие весла ладьи величавой, Не птица ночная!.. Откуда же он, Откуда протяжный и жалобный стон?.. Вот грозный мешок!.. Голубая волна В нем члены живые и топит, и носит, И будто пощады у варваров просит… В водах полусонных играла луна. <1833>М. Ю. Лермонтов
Фридрих Шиллер
194. Встреча
Она одна меж дев своих стояла, Еще я зрю ее перед собой; Как солнце вешнее, она блистала И радостной и гордой красотой. Душа моя невольно замирала; Я издали смотрел на милый рой; Но вдруг, как бы летучие перуны, Мои персты ударились о струны. Что я почувствовал в сей миг чудесный И что я пел, напрасно вновь пою. Я звук нашел, дотоле неизвестный, Я мыслей чистую излил струю. Душе от чувств высоких стало тесно, И вмиг она расторгла цепь свою, В ней вспыхнули забытые виденья, И страсти юные, и вдохновенья. 1829195. К***
Делись со мною тем, что знаешь, И благодарен буду я. Но ты мне душу предлагаешь, — На кой мне черт душа твоя!.. 1829Джордж Гордон Байрон
196. Farewell[81]
Прости! коль могут к небесам Взлетать молитвы о других, Моя молитва будет там И даже улетит за них! Что пользы плакать и вздыхать: Слеза кровавая порой Не может более сказать, Чем звук прощанья роковой!.. Нет слез в очах, уста молчат, От тайных дум томится грудь, И эти думы вечный яд, — Им не пройти, им не уснуть! Не мне о счастьи бредить вновь, — Лишь знаю я (и мог снести), Что тщетно в нас жила любовь, Лишь чувствую — прости! — прости! 1830197. Баллада
Берегись! берегись! над Бургосским путем Сидит один черный монах; Он бормочет молитву во мраке ночном, Панихиду о прошлых годах. Когда мавр пришел в наш родимый дол, Оскверняючи церкви порог, Он без дальних слов выгнал всех чернецов; Одного только выгнать не мог. Для добра или зла (я слыхал не один, И не мне бы о том говорить), Когда возвратился тех мест господин, — Он никак не хотел уходить. Хоть никто не видал, как по замку блуждал Монах, но зачем возражать? Ибо слышал не раз я старинный рассказ, Который страшусь повторять. Рождался ли сын — он рыдал в тишине; Когда ж прекратился сей род, Он по звучным полам при бледной луне Бродил и взад и вперед. 1830198. Еврейская мелодия
Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей! Вот арфа золотая; Пускай персты твои, промчавшися по ней, Пробудят в струнах звуки рая. И если не навек надежды рок унес, Они в груди моей проснутся, И если есть в очах застывших капля слез — Они растают и прольются. Пусть будет песнь твоя дика. Как мой венец, Мне тягостны веселья звуки! Я говорю тебе: я слез хочу, певец, Иль разорвется грудь от муки. Страданьями была упитала она, Томилась долго и безмолвно; И грозный час настал — теперь она полна, Как кубок смерти, яда полный. 1836199. В альбом
Как одинокая гробница Вниманье путника зовет, Так эта бледная страница Пусть милый взор твой привлечет. И если после многих лет Прочтешь ты, как мечтал поэт, И вспомнишь, как тебя любил он, То думай, что его уж нет, Что сердце здесь похоронил он. 1836Из немецкой народной поэзии
200. Баллада
Из ворот выезжают три витязя в ряд, увы! Из окна три красотки вослед им глядят: прости! Напрасно в боях они льют свою кровь, увы! Разлука пришла — и девичья любовь прости! Уж три витязя новых в ворота спешат, увы! И красотки печали своей говорят: прости! 1832Иозеф Кристиан Цедлиц
201. Воздушный корабль
По синим волнам океана, Лишь звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, На них флюгера не шумят, И молча в открытые люки Чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, Не видно матросов на нем; Но скалы, и тайные мели, И бури ему нипочем. Есть остров на том океане — Пустынный и мрачный гранит; На острове том есть могила, А в ней император зарыт. Зарыт он без почестей бранных Врагами в сыпучий песок, Лежит на нем камень тяжелый, Чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, В полночь, как свершается год, К высокому берегу тихо Воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, Очнувшись, является вдруг; На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук. Скрестивши могучие руки, Главу опустивши на грудь, Идет и к рулю он садится И быстро пускается в путь. Несется он к Франции милой, Где славу оставил и трон, Оставил наследника-сына И старую гвардию он. И только что землю родную Завидит во мраке ночном, Опять его сердце трепещет И очи пылают огнем. На берег большими шагами Он смело и прямо идет, Соратников громко он кличет И маршалов грозно зовет. Но спят усачи гренадеры — В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат: Иные погибли в бою, Другие ему изменили И продали шпагу свою. И, топнув о землю ногою, Сердито он взад и вперед По тихому берегу ходит, И снова он громко зовет: Зовет он любезного сына, Опору в превратной судьбе; Ему обещает полмира, А Францию только себе. Но в цвете надежды и силы Угас его царственный сын, И долго, его поджидая, Стоит император один — Стоит он и тяжко вздыхает, Пока озарится восток, И капают горькие слезы Из глаз на холодный песок. Потом на корабль свой волшебный, Главу опустивши на грудь, Идет и, махнувши рукою, В обратный пускается путь. 1840Иоганн Вольфганг Гете
202.
Горные вершины Спят во тьме ночной; Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного, Отдохнешь и ты. 1840Генрих Гейне
203.
Они любили друг друга так долго и нежно, С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной! Но, как враги, избегали признанья и встречи, И были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страданье, И милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла: наступило за гробом свиданье… Но в мире новом друг друга они не узнали. 1841204.
На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей всё, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет. 1841Адам Мицкевич
205. Вид гор из степей Козлова
Пилигрим Аллах ли там среди пустыни Застывших воли воздвиг твердыни, Притоны ангелам своим; Иль дивы, словом роковым, Стеной умели так высоко Громады скал нагромоздить, Чтоб путь на север заградить Звездам, кочующим с востока? Вот свет всё небо озарил: То не пожар ли Цареграда? Иль бог ко сводам пригвоздил Тебя, полночная лампада, Маяк спасительный, отрада Плывущих по морю светил? Мирза Там был я; там, со дня созданья, Бушует вечная метель; Потоков видел колыбель, Дохнул, — и мерзнул пар дыханья. Я проложил мой смелый след, Где для орлов дороги нет, И дремлет гром над глубиною, И там, где над моей чалмою Одна сверкала лишь звезда,— То Чатырдаг был… Пилигрим А! 1832В. Г. Бенедиктов
Адам Мицкевич
206—207. Крымские сонеты
Алушта днем Гора с своих плеч уже сбросила пышный халат, В полях зашептали колосья: читают намазы; И молится лес — и в кудрях его майских блестят, Как в четках калифа, рубины, гранаты, топазы. Цветами осыпан весь луг; из летучих цветков Висит балдахин: это рой золотых мотыльков! Сдается, что радуга купол небес обогнула! А там — саранча свой крылатый кортеж потянула. Там злится вода, отбиваясь от лысой скалы; Отбитые, снова штурмуют утес тот валы; Как в тигра глазах, ходят искры в бушующем море: Скалистым прибрежьям они предвещают грозу, Но влага морская колышется тихо внизу: Там лебеди плавают, зыблется флот на просторе. Развалины замка в Балаклаве Руины!.. А твоя то бывшая ограда, Неблагодарный Крым! Вот — замок! Жалкий вид! Гигантским черепом он на горе стоит; Гнездится в нем иль гад, иль смертный хуже гада. Вот — башня! Где гербы? И самый след их скрыт. Вот — надпись… имя… чье? Быть может, исполина! То имя, может быть, героя: он забыт; Как мушку, имя то обводит паутина. Здесь грек вел по стенам афинский свой резец; Там — влах монголу цепь готовил; тут пришлец Из Мекки нараспев тянул слова намаза. Теперь лишь черные здесь крылья хищных птиц, Простертых, как в местах, где губит край зараза, Хоругви траура над сению гробниц. 1846208. Пан Тадеуш
Охота на медведя
И войский взял свои рог старинный, Торжественно пред всеми став,— Рог буйволий, рог пестрый, длинный, Извернутый, как змей-удав. С ним на охоту неразлучно Ходил он, прицепив тесьмой Заветный рог на пояс свой, — И вот — теперь обоеручно Пан войский этот рог схватил, Его к губам своим приставил, Притиснул, амбушюр поправил, Глаза под веки закатил, — В глазах прожилки кровяные Мелькнули по краям белка, И словно тыквы пудовые Раздулись щеки старика; В себя он вздохом груди сильной Втянул округлость живота И воздуха запас обильный Из легких выдвинул в уста: Он заиграл. Тот воздух сжатый, Крутясь в извиве роговом, Винтообразно шел кругом, И, рассыпаясь на раскаты Протяжных, заунывных нот, Запел, как вихрь в лесу поет — С припевом эха…Вильям Шекспир
209.
Я жизнью утомлен, и смерть — моя мечта. Что вижу я кругом? Насмешками покрыта, Проголодалась честь, в изгнаньи правота, Корысть — прославлена, неправда — знаменита. Где добродетели святая красота? Пошла в распутный дом: ей нет иного сбыта!.. А сила где была последняя — и та Среди слепой грозы параличом разбита. Искусство сметено со сцены помелом; Безумье кафедрой владеет. Праздник адский! Добро ограблено разбойнически злом; На истину давно надет колпак дурацкий. — Хотел бы умереть; но друга моего Мне в этом мире жаль оставить одного.Фридрих Шиллер
210. Песнь Радости
Радость! Ты — искра небес, ты божественна, Дочь Елисейских полей! Мы, упоенные, входим торжественно В область святыни твоей. Всё, что разрознено светским дыханием, Вяжешь ты братства узлом: Люди там — братья, где ты над сознанием Легким повеешь крылом. Хор Всем — простертые объятья! Люди! Всех лобзаем вас. Там — над звездным сводом, братья, Должен быть отец у нас. С нами ликуй, кто подругу желанную, Дружбы нашел благодать, Кто хоть единую душу избранную Может своею назвать, Знает, как бьется любовию сладкою Жаркая грудь на груди!.. Если ж кто благ сих не ведал, — украдкою С плачем от нас отойди! Хор Всё, над чем лик солнца ходит, Пусть обет любви творит! Нас туда любовь возводит, Где Неведомый царит. К персям природы припав, упивается Радостью каждая тварь: Добрый и злой неудержно кидается К этой богине в алтарь. Радость — путь к дружбе, к сердечному счастию, К чаше с вином золотым; Червь упоенный ползет к сладострастию, К богу летит херувим. Хор Люди, ниц! Во прах главами! Сердце чует: есть творец. Там он, люди, над звездами — Царь ваш, бог ваш и отец: Радость — пружина в часах мироздания, Маятник этих часов. Радость! Ты — пульс в организме создания, В жилах вселенной ты — кровь. Долу — ты цвет вызываешь из семени; В небе — средь вечной игры Водишь по безднам пространства и времени Солнцы, планеты, миры. Хор Как летят небес светила, Так по дольнему пути Каждый, братья, в ком есть сила, Как герой на бой — лети! Радость! ты путь указуешь искателю К благу — к венцу бытия; В огненном зеркале правды — пытателю Зрима улыбка твоя; Смертному веешь ты солнечным знаменем Веры с крутой высоты; В щели гробов проникающим пламенем Блещешь меж ангелов ты. Хор Люди! Наш удел — терпенье. Всяк неси свой в жизни крест! Братья! Там вознагражденье — У Отца, что выше звезд. Будем богам подражать! На творение Милость их сходит равно. Бедный, убогий! Приди — наслаждение С нами вкусить заодно! Злоба! останься навеки забытою! Враг наш да будет прощен! Пусть оботрет он слезу ядовитую! Пусть не терзается он! Хор В пламя — книгу долговую! Всепрощение врагам! Бог за нашу мировую Примирится с нами — там. Пенится радость и в чаши вливается, Золотом гроздий горя; В робкого с нею дух бодрый вселяется, Кротости дух — в дикаря. Встанем, о братья, и к своду небесному Брызнем вином золотым! Встанем — и доброму духу безвестному Этот бокал посвятим! Хор В хорах звездных кто прославлен, Серафимами воспет, Выше звезд чей трон поставлен — Здесь да внемлет наш привет! Братья! Терпенье и твердость — в страданиях! Помощь невинным в беде! Строгая верность — в святых обещаниях! Честность и правда — везде! Пред утеснителем — гордость спокойная! Губит: умри — не дрожи! Правому делу — награда достойная! Гибель — исчадиям лжи! Хор Лейся, нéктар! Пеньтесь, чаши! Круг! Теснее становись! Каждый вторь обеты наши! Божьим именем клянись! Братья! Пощада — злодея раскаянью! Цепи долой навсегда! Смерти есть место: нет места отчаянью! Милость — и в громе суда! И да услышим из уст Бесконечного Глас его: мертвый! живи! Ада нет боле! Нет скрежета вечного! Вечность есть царство любви. Хор Буди светел час прощанья! По могилам — сладкий сон! В день же судный, в день восстанья Благость — суд, любовь — закон! <1857>Андре Шенье
211.
Зоилы! Критики венчанные! Идите! Вот вам мои стихи: браните! говорите, Что муза у меня дерзка иль холодна, Что стих мой нехорош, что рифма неполна! Я с умыслом грешил. Мне брань от вас — отрадна, А ваша похвала была бы мне досадна. В академических венцах вы иногда Похожи на царя фригийского, когда Трещит у вас в руках элегия иль ода. О, если б демон — друг всего людского рода — Вам вздернул руку вверх в то время, чтобы вы Почуяли, своей коснувшись головы, Как черствый педантизм, оцепенив вам души, Меж листьями венцов вытягивает уши.212.
Нет, гнев любовника не стоек. Если б ты Увидел милую, когда в слезах сознанья Она, горя огнем стыдливой красоты, Сама себя винит и сыплет оправданья, — Когда, без низких просьб, твоей пощады весть Ей хочется скорей в глазах твоих прочесть, И, косы распустив, открыв уста, без речи, Как будто невзначай приобнажая плечи, По-видимому, вновь еще сильней любя, Она возводит взор молящий на тебя, — Ты б вмиг, чтобы ее избавить от терзаний, Прощенье пролил ей потоками лобзаний.Огюст Барбье
213. Дант
Дант! Старый гибеллин! Пред этой маской, снятой, Страдалец, с твоего бессмертного лица, Я робко прохожу, и, трепетом объятый, Я, мнится, вижу всю судьбу и жизнь певца: Так сила гения и злая сила рока Вожгла свою печать в твой строгий лик глубоко. Под узкой шапочкой, вдоль твоего чела, Чертою резкою морщина пролегла: Зачем морщина та углублена так едко? Бессонниц ли она иль времени отметка? Не в униженье ли проклятий страшный гул, Изгнанник, ты навек в устах своих замкнул? Не должен ли твоих последних мыслей сшибки В улыбке уст твоих я видеть и следить? Недаром к сим устам язвительность улыбки Смерть собственной рукой решилась пригвоздить! Иль это над людьми усмешка сожаленья? О, смейся: гордый смех сурового презренья К ничтожеству земли — тебе приличен, Дант. Родился в знойной ты Флоренции, гигант, Где острые кремни родной тебе дороги От самых детских дней тебе язвили ноги; Где часто видел ты, как при сияньи дня Разыгрывалась вдруг свирепая резня И в схватках партии успехами менялись — Те падали во прах, другие поднимались. Ты тридцать лет смотрел на адские костры, Где тлело столько жертв той огненной поры,— И было для твоих сограждан жалких слово «Отечество» — лишь звук; его, взяв с ветра, снова Бросали на ветер. — И в наши дни вполне Твое страдание, о Дант, понятно мне; Понятно, отчего столь злобными глазами Смотрел ты на людей, гнушаясь их делами, И, ненависти злой нося в душе ядро, Так желчью пропитал ты сердце и перо: По нравам ты своей Флоренции родимой, Художник, начертал рукой неумолимой Картину страшную всей нечисти земной С такою верностью и мощию такой, Что дети малые, когда скитальцем бедным Ты мимо шел, с челом зеленовато-бледным, Подавленный своей смертельною тоской, Под гнетом твоего пронзительного взгляда Шептали: «Вот он! вот — вернувшийся из ада!» 1856 (?)214. Собачий пир
Когда взошла заря и страшный день багровый, Народный день настал, Когда гудел набат и крупный дождь свинцовый По улицам хлестал, Когда Париж взревел, когда народ воспрянул И малый стал велик, Когда в ответ на гул старинных пушек грянул Свободы звучный клик, — Конечно, не было там видно ловко сшитых Мундиров наших дней, — Там действовал напор лохмотьями прикрытых, Запачканных людей, Чернь грязною рукой там ружья заряжала, И закопченным ртом, В пороховом дыму, там сволочь восклицала: «………Умрем!» А эти баловни в натянутых перчатках, С батистовым бельем, Женоподобные, в корсетах на подкладках, Там были ль под ружьем? Нет! их там не было, когда, всё низвергая И сквозь картечь стремясь, Та чернь великая и сволочь та святая К бессмертию неслась. А те господчики, боясь громов и блеску И слыша грозный рев, Дрожали где-нибудь вдали, за занавеской На корточки присев. Их не было в виду, их не было в помине Средь общей свалки там, Затем, что, видите ль, свобода не графиня И не из модных дам, Которые, нося на истощенном лике Румян карминных слой, Готовы в обморок упасть при первом крике, Под первою пальбой; Свобода — женщина с упругой, мощной грудью, С загаром на щеке, С зажженным фитилем, приложенным к орудью, В дымящейся руке; Свобода — женщина с широким, твердым шагом, Со взором огневым, Под гордо веющим по ветру красным флагом, Под дымом боевым; И голос у нее — не женственный сопрано: Ни жерл чугунных ряд, Ни медь колоколов, ни шкура барабана Его не заглушат. Свобода — женщина; но, в сладострастьи щедром Избранникам верна, Могучих лишь одних к своим приемлет недрам Могучая жена. Ей нравится плебей, окрепнувший в проклятьях, А не гнилая знать, И в свежей кровию дымящихся объятьях Ей любо трепетать. Когда-то ярая, как бешеная дева Явилась вдруг она, Готовая дать плод от девственного чрева, Грядущая жена! И гордо вдаль она, при криках исступленья, Свой простирала ход И целые пять лет горячкой вожделенья Сжигала весь народ; А после кинулась вдруг к палкам, к барабану И маркитанткой в стан К двадцатилетнему явилась капитану: «Здорово, капитан!» Да, это всё она! она, с отрадной речью, Являлась нам в стенах, Избитых ядрами, испятнанных картечью, С улыбкой на устах; Она — огонь в зрачках, в ланитах жизни краска, Дыханье горячо, Лохмотья, нагота, трехцветная повязка Чрез голое плечо, Она — в трехдневный срок французов жребий вынут! Она — венец долой! Измята армия, трон скомкан, опрокинут Кремнем из мостовой! И что же? о позор! Париж, столь благородный В кипеньи гневных сил, Париж, где некогда великий вихрь народный Власть львиную сломил, Париж, который весь гробницами уставлен Величий всех времен, Париж, где камень стен пальбою продырявлен, Как рубище знамен, Париж, отъявленный сын хартий, прокламаций, От головы до ног Обвитый лаврами, апостол в деле наций, Народов полубог, Париж, что некогда как светлый купол храма Всемирного блистал, Стал ныне скопищем нечистоты и срама, Помойной ямой стал, Вертепом подлых душ, мест ищущих в лакеи, Паркетных шаркунов, Просящих нищенски для рабской их ливреи Мишурных галунов, Бродяг, которые рвут Францию на части И сквозь щелчки, толчки, Визжа, зубами рвут издохшей тронной власти Кровавые клочки. Так вепрь израненный, сраженный смертным боем, Чуть дышит в злой тоске, Покрытый язвами, палимый солнца зноем, Простертый на песке; Кровавые глаза померкли; обессилен, Свирепый зверь поник, Раскрытый зев его шипучей пеной взмылен, И высунут язык. Вдруг рог охотничий пустынного простора Всю площадь огласил, И спущенных собак неистовая свора Со всех рванулась сил; Завыли жадные, последний пес дворовый Оскалил острый зуб И с лаем кинулся на пир ему готовый, На неподвижный труп. Борзые, гончие, легавые, бульдоги — Пойдем! — и все пошли: Нет вепря — короля! Возвеселитесь, боги! Собаки — короли! Пойдем! Свободны мы — нас не удержат сетью, Веревкой не скрутят, Суровый сторож нас не приударит плетью, Не крикнет: «Пес! Назад!» За те щелчки, толчки хоть мертвому отплатим: Коль не в кровавый сок Запустим морду мы, так падали ухватим Хоть нищенский кусок! Пойдем! — и начали из всей собачьей злости Трудиться что есть сил: Тот пес щетины клок, другой — обглодок кости Клыками захватил, И рад бежать домой, вертя хвостом мохнатым, Чадолюбивый пес: Ревнивой суке в дар и в корм своим щенятам Хоть что-нибудь принес; И, бросив из своей окровавленной пасти Добычу, говорит: «Вот, ешьте: эта кость — урывок царской власти, Пируйте — вепрь убит!» 1856–1857Виктор Гюго
215. Смерть
Над нивой жизненной я видел эту жницу: Схватив блестящий серп в костлявую десницу, Она, повсюду страх и ужас разнося, Шагала, тем серпом махая и кося, — И триумфаторы под взмахом этой жницы Мгновенно падали с победной колесницы; Тут рушился алтарь, там низвергался трон, И обращались в прах и Тир, и Вавилон, Младенец — в горсть земли, и в пыль — зачаток розы, А очи матери — в источник вечный — в слезы, И скорбный женский стон мне слышался: «Отдай! Затем ли, чтоб терять, мне сказано: рождай!?» Я слышал общий вопль неисходимой муки. Там из-под войлока высовывались руки Окостенелые, и всё росло, росло Людских могил, гробов и саванов число. То было торжество печали, тьмы и хлада, И в вечный мрак неслась, как трепетное стадо Под взмахом грозного, нещадного серпа, Народов и племен смятенная толпа; А сзади роковой и всеразящей жницы, С челом, увенчанным сиянием зарницы, Блестящий ангел нес чрез бледных лиц толпы Сей жатвой снятых душ обильные снопы. 216. Завтра Куреньем славы упоенный, С младенцем-сыном на руках, Летал он[82] думой дерзновенной В грядущих царственных веках И мыслил: «Будущее — наше. Да, вот — мой сын! Оно — мое». Нет, государь! Оно не ваше; Ошиблись вы: оно — ничье. Пусть наше темя — вам подножье, Пускай весь мир от вас дрожит, Сегодня — ваше; завтра — божье: Оно не вам принадлежит. О, это завтра зыбко, шатко; Оно — глубокий, страшный день; Оно — великая загадка, Бездонной вечности ступень. Того, что в этом завтра зреет, Из нас никто не разъяснит. Сегодня человек посеет, А завтра бог произрастит. Сегодня вы на троне крепки, Вы царь царей — Наполеон, А завтра что? — осколки, щепки, Вязанка дров — ваш славный трон. Сегодня Аустерлиц, огонь Ваграма, Иены, А завтра — дымный столб пылающей Москвы; А завтра — Ватерло, скала святой Елены; А завтра?.. Завтра — в гробе вы. Всевышний уступил на долю вам пространство; Берите! — Время он оставил лишь себе. Лавровые леса — лба вашего убранство; Земля вся ваша; вам нет равного в борьбе. Европу, Африку вы мнете под собою; Пускай и Азию отдаст вам Магомет, Но завтрашнего дня вы не возьмете с бою: Творец вам не уступит, — нет!Теофиль Готье
217. Женщина-поэма
«Поэт! Пиши с меня поэму! — Она сказала: — Где твой стих? Пиши на заданную тему: Пиши о прелестях моих!» И вот — сперва ему явилась В сияньи царственном она; За ней струистая влачилась Одежды бархатной волна; И вдруг — по смелому капризу Покровы с плеч ее скользят, И чрез батистовую ризу Овалов очерки сквозят. Долой батист! — и тот спустился, И у ее лилейных ног Туманом дремлющим склубился И белым облаком прилег. Где Апеллесы, Клеомены? Вот мрамор — плоть! Смотрите: вот — Из волн морских, из чистой пены Киприда новая встает! Но вместо брызг от влаги зыбкой — Здесь перл, ее рожденный дном, Прильнул к атласу шеи гибкой Молочно-радужным зерном. Какие гимны и сонеты В строфах и рифмах наготы Здесь чудно сложены и спеты Волшебным хором красоты! Как дальность моря зыби синей Под дрожью месячных лучей, Безбрежность сих волнистых линий Неистощима для очей. Но миг — и новая поэма; С блестящим зеркалом в игре Она султаншею гарема Сидит на шелковом ковре, — В стекло посмотрит — усмехнется, Любуясь прелестью своей, Глядит — и зеркало смеется И жадно смотрит в очи ей. Вот, как грузинка, прихотливо Свой наргилé курит она, И ножка кинута на диво, И ножка с ножкой скрещена. Вот — одалиска! Стан послушный Изогнут легкою дугой Назло стыдливости тщедушной И добродетели сухой. Прочь одалиски вид лукавый! Прочь гибкость блещущей змеи! Алмаз без грани, без оправы — Прекрасный образ без любви. И вот — она в изнеможенье, Ее лелеют грезы сна, Пред нею милое виденье… Уста разомкнуты, бледна, К объятьям призрака придвинув В восторге млеющую грудь, Главу за плечи опрокинув, Она лежит… нет сил дохнуть… Прозрачны вежды опустились, И, как под дымкой облаков, Под ними в вечность закатились Светила черные зрачков. Не саван ей для погребенья — Наряд готовьте кружевной! Она мертва от упоенья, На смерть похож восторг земной. К ее могиле путь недальний: Ей гробом будет — ложе сна, Могилой — сень роскошной спальни, — И пусть покоится она! И в ночь, когда ложатся тени И звезды льют дрожащий свет, — Пускай пред нею на колени Падет в безмолвии поэт!Э. И. Губер
Иоганн Вольфганг Гете
218— 219. Фауст
Монолог Фауста
Вестником неба весна прилетела; Растаяли льдины на светлых реках; Весне уступая, зима присмирела И ищет приюта на снежных горах. И только порою под ветром взыграет, Бессильную льдину с утеса пошлет, И раннюю зелень на миг покрывает, И вновь на суровых вершинах заснет. Но солнце дохнуло над снежной корою; Всё жизнию дышит, растет и кипит. Цветы лишь не вскрылись под ранней весною, Их в пестрых нарядах толпа заменит. В роскошной одежде природа пред нами! Ты видишь ли город с этих высот? Как весело люди выходят толпами, Шумя и пестрея, из тесных ворот! И любо им; все веселятся сегодня, Всем светят забавы и радость любви. То праздничный день: воскресенье господне! Но вместе с ним сами воскресли они, Воскресли, восстали от жизни бездушной, От мелких забот, ежедневных трудов, Из тесных улиц, из хижины душной, Из древнего храма, из хладных гробов. Смотри, как шумно толпа разбежалась! Тот бросился в поле, тот в сад полетел. Ладья на реке за ладьей показалась, И гордый поток под веслом зашумел. И даже в горах над крутыми скалами Пестрою лентой проходит толпа. Вот это их небо! оно перед нами! Их жизнь беззаботна, их радость слепа. Радость и горе проходят над веком; Любо с толпою по морю плыть! Мне любо с ней вместе быть человеком! Я только здесь им могу еще быть! <1838>Из сцены «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге»
Мефистофель Когда пришли мы к вам сюда, Здесь хором песни раздавались; От этих сводов голоса, Должно быть, славно отражались. Фрош Вы виртуоз, я побожусь? Мефистофель Охота есть, да силы не хватает. Альтмайер Пускай нас песней угощает. Мефистофель Пожалуй, я не откажусь. Сибель Да вы бы новенькую дали. Мефистофель Недаром мы в Испании бывали, В отчизне песен и вина; Какой-то царь старинный С блохою где-то жил. Фрош С блохой далёко ль до греха? Прекрасный гость у нас блоха. Мефистофель Какой-то царь старинный С блохою где-то жил, Ее за нрав невинный Как сына он любил. И позвал царь портного, Портной к нему пришел: Сшей барину обнову — Штанишки да камзол. Брандер Ну! признаюсь, пришлось портному гадко, Пусть снимет мерку поверней, Чтобы штаны сидели гладко И чтоб ложились <поровней>. Мефистофель И в шелк блоху одели, И в бархат, и в цветы, И ленты ей надели, И дали ей кресты. Блоха министром стала, Любимцем при царе, И вся родня попала В вельможи при дворе; И всё пред нею трусит, Нет никому житья: Царицу здесь укусит, Там горничных ея; Всех щелкает исправно, Никто ее не бьет; А мы так ногтем славно, Как только ущипнет. Хор (с криком) А мы так ногтем славно, Как только ущипнет! Фрош Что хорошо, то хорошо! Сибель Уж бить — так всех их заодно! Брандер Держи блоху, дави урода. Альтмайер Да здравствует свобода! Да здравствует вино! <1838>220. Границы человечества
Когда всеведущий Отец-Создатель Рукой покойной Кинет молнию Из грозной тучи, Благословляя Нашу землю, — Тогда целую Я крайний шов Его одежды — И страх дитяти В моей груди. Да не посмеет Рядом с богами Идти человек. Как встанет он И головой До звезд коснется, Ему стопами Упираться негде, И им играют Ветер и буря. Когда стоит он Стопою твердой На твердой скале — Он и тогда еще Не столько крепок, Как дуб маститый, Или как гибка Лоза винограда. Что отличает Богов от людей? Что многие волны Текут перед ними Вечным потоком; Нас носят волны, Глотают волны, И в них мы тонем. В тесном колечке Вся граница Нашей жизни — И тысячи тысяч Поколений Соединяются Бесконечною цепию Их бытия. <1859>Фридрих Шиллер
221. Слова веры
Три слова я знаю — в них тайна свята, Их люди умом постигают; Они переходят из уст в уста, Но в сердце одном обитают; Человек невозвратно погибнет в грехах, Не веруя смыслу в высоких словах. Он создай свободным — свободен он, Хотя бы в оковах родился; Крик черни безумен, и вечный закон Попыткой глупцов не сменился; Низвергнув оковы, страшитесь раба, Но тот, кто свободен, страшится греха. И есть добродетель в правдивых сердцах, Доступная грешному взору; Пусть смертный родится и гибнет в грехах, — Он видит святую опору; Что скрыто от разума мудрых людей, То ясно понятию слабых детей. Есть бог, и небесная воля свята, Хотя б изменялась земная; Над веком и тесным пространством одна Возносится дума живая,— И пусть за изменой измена грозит, Средь измены дух мирный ко цели спешит. Три слова храните: в них тайна свята, Из уст их в уста передайте; Доступных лишь светлому взору ума Их сердцем одним постигайте! Человек неподвластен коварным грехам, Пока еще верит чудесным словам. <1859>M. П. Вронченко
Иоганн Вольфганг Гете 222—224. Фауст
Посвящение
Вы носитесь передо мною снова, Неясные виденья ранних дней! Решусь ли вас облечь в одежду слова? Найду ли прежний пыл в груди моей? Вы неотступны? что ж? душа готова Пожить и ныне средь былых гостей: Волшебная примчавшая вас сила В нее опять жар юности вселила. Вы время мне напомнили златое, И много милых призраков встает: Вот, как преданье старины святое, Любовь и дружба первые; но вот И грусть о всем, чем бытие земное Изукрашало прежде свой полет, — О тех друзьях, что уж к последней цели, Обмануты надеждой, отлетели! Да, но моих не слышат новых пений, Чей слух начальным пениям внимал: Рассеян круг их от мирских волнений; Их отголосок дружный замолчал; Пою для чуждых сердцу поколений, Боюсь, им чуждый, самых их похвал; Друзьям же как почтить меня хвалою? Кто жив, тот брошен далеко судьбою! И в мир бесплотных, в светлый край свой отчий Летит душа, давнишних дум полна; Как арфы стон Эоловой в час ночи, Струится с лиры песнь, едва слышна; Трепещет грудь; от слез чуть видят очи; Суровость сердца грустью смягчена; Всё сущее мне зрится отдаленным, А всё былое — вновь осуществленным. <1844>Песня Маргариты
Гретхен одна, за самопрялкой.
Исчез мой покой; Грусть сердце гнетет — Ах, ввек уж покоя Оно не найдет! Где нет со мною Дружка моего, Там свет не ясен, Там всё мертво. В голове моей бедной Идет всё кругом, Всё смешано в бедном Уме моем. Исчез мой покой; Грусть сердце гнетет — Ах, ввек уж покоя Оно не найдет! Ожидая лишь друга, В окно я гляжу; Ему лишь навстречу За дверь выхожу. Его гордая поступь, Осанистый вид, Улыбки прелесть И взоров магнит; Его волшебный Слова дар, И его поцелуя Страстный жар!.. Исчез мой покой; Грусть сердце гнетет — Ах, ввек уж покоя Оно не найдет! К нему летит Душа моя; Обняла бы его, Не пустила бы я; Его б целовала, Сколько могла; Целуя бы, душу Творцу отдала. <1844>Молитва Маргариты
Воззри без гнева, Многоскорбная Дева, На горесть сердца моего! Мечом пронзенна, Глядишь смиренно На смерть ты сына своего; К творцу вздыхаешь И воссылаешь Мольбы ко благости его. Кто знает, Как тает От мук душа моя! То, к чему она стремится, Чем трепещет, в чем винится, Видим только ты да я. С людьми ли я — о боже, Всё то ж, всё то ж, всё то же Кипит и ноет в ней; Одна ль — всегда тоскуя, Всё лью, всё лью, всё лью я Потоки из очей. Слезами я сегодня Цветник свой полила, Когда в нем ранним утром Тебе цветы брала; В слезах уж на постели Сидела я давно, Когда, взошедши, солнце Блеснуло мне в окно. Спаси меня и сохрани! Без гнева, Многоскорбная Дева, Ко мне свой светлый лик склони! <1844>Ф. И. Тютчев
Фридрих Шиллер
225. Гектор и Андромаха
Андромаха Снова ль, Гектор, мчишься в бурю брани, Где с булатом в неприступной длани Мстительный свирепствует Пелид?.. Кто же призрит Гекторова сына, Кто научит долгу властелина, Страх к богам в младенце поселит?.. Гектор Мне ль томиться в тягостном покое?.. Сердце жаждет прохлажденья в бое, Мести жаждет за Пергам!.. Древняя отцов моих обитель! Я паду!.. но, родины спаситель, Сниду весел к Стиксовым брегам… Андромаха Суждено ль мне в сих чертогах славы Видеть меч твой праздный и заржавый? Осужден ли весь Приамов род?.. Скоро там, где нет любви и света, — Там, где льется сумрачная Лета, Скоро в ней любовь твоя умрет!.. Гектор Все души надежды, все порывы, Всё поглотят воды молчаливы, — Но не Гектора любовь!.. Слышишь?.. мчатся… Пламя пышет боя!.. Час ударил!.. Сын, супруга, Троя!.. Бесконечна Гектора любовь!.. <1822>226. Песнь Радости
Радость, первенец творенья, Дщерь великого Отца, Мы, как жертву прославленья, Предаем тебе сердца! Всё, что делит прихоть света, Твой алтарь сближает вновь, И душа, тобой согрета, Пьет в лучах твоих любовь! Хор В круг единый, божьи чада! Ваш Отец глядит на вас! Свят его призывный глас, И верна его награда! Кто небес провидел сладость, Кто любил на сей земли, В милом взоре черпал радость, — Радость нашу раздели. Все, чье сердце сердцу друга В братской вторило груди; Кто ж не мог любить, — из круга Прочь с слезами отойди!.. Хор Душ родство! о, луч небесный! Вседержащее звено! К небесам ведет оно, Где витает Неизвестный! У грудей благой природы Всё, что дышит, Радость пьет! Все созданья, все народы За собой она влечет; Нам друзей дала в несчастье — Гроздий сок, венки харит, Насекомым — сладострастье, Ангел — богу предстоит. Хор Что, сердца, благовестите? Иль творец сказался вам? Здесь лишь тени — солнце там, — Выше звезд его ищите!.. Душу божьего творенья Радость вечная поит, Тайной силою броженья Кубок жизни пламенит; Травку выманила к свету, В солнцы — хаос развила И в пространствах — звездочету Неподвластных — разлила! Хор Как миры катятся следом За вседвижущим перстом, К нашей цели потечем — Бодро, как герой к победам! В ярком истины зерцале Образ твой очам блестит; В горьком опыта фиале Твой алмаз на дне горит. Ты, как облак прохлажденья, Нам предходишь средь трудов; Светишь утром возрожденья Сквозь расселины гробов! Хор Верьте правящей деснице! — Наши скорби, слезы, вздох В ней хранятся как залог И искупятся сторицей! Кто постигнет провиденье? Кто явит стези его? В сердце сыщем откровенье, Сердце скажет божество! Прочь вражда с земного круга! Породнись душа с душой! Жертвой мести — купим друга, Пурпур — вретища ценой. Хор Мы врагам своим простили, В книге жизни нет долгов; Там, в святилище миров, Судит бог, как мы судили!.. Радость грозды наливает, Радость кубки пламенит, Сердце дикого смягчает, Грудь отчаянья живит! В искрах к небу брызжет пена, Сердце чувствует полней; Други, братья, — на колена! Всеблагому кубок сей!.. Хор Ты, чья мысль духов родила, Ты, чей взор миры зажег! Пьем тебе, великий бог! Жизнь миров и душ светило! Слабым — братскую услугу, Добрым — братскую любовь, Верность клятв — врагу и другу, Долгу в дань — всю сердца кровь! Гражданина голос смелый — На совет к земным богам; Торжествуй святое дело — Вечный стыд его врагам. Хор Нашу длань к твоей, Отец, Простираем в бесконечность! Нашим клятвам даруй вечность! Наши клятвы — гимн сердец! 1823227.
С озера веет прохлада и нега, — Отрок заснул, убаюкан у брега. Блаженные звуки Он слышит во сне; То ангелов лики Поют в вышине. И вот он очнулся от райского сна, — Его, обнимая, ласкает волна, И слышит он голос, Как ропот струи: «Приди, мой красавец, В объятья мои!» 1851 (?)Иоганн Готфрид Гердер
228. Песнь скандинавских воинов
Хладен, светел, День проснулся — Ранний петел Встрепенулся, — Дружина, воспрянь! Вставайте, о други! Бодрей, бодрей На пир мечей, На брань!.. Пред нами наш вождь! Мужайтесь, о други, И вслед за могучим Ударим грозой!.. Вихрем помчимся, Сквозь тучи и гром, К солнцу победы Вслед за орлом!.. Где битва мрачнее, воители чаще, Где срослися щиты, где сплелися мечи, Туда он ударит — перун вседробящий — И след огнезвездный и кровью горящий Пророет дружине в железной ночи. За ним, за ним — в ряды врагов, Смелей друзья, за ним!.. Как груды скал, как море льдов — Прорвем их и стесним!.. Хладен, светел, День проснулся — Ранний петел Встрепенулся, — Дружина, воспрянь!.. Не кубок кипящий душистого меда Румяное утро героям вручит; Не сладостных жен любовь и беседа Вам душу согреет и жизнь оживит, — Но вас, обновленных прохладою сна, Кровавыя битвы подымет волна!.. Дружина, воспрянь!.. Смерть иль победа!.. На брань!.. <1826>Иоганн Вольфганг Гете
229.
Кто с хлебом слез своих не ел, Кто в жизни целыми ночами На ложе, плача, не сидел, Тот незнаком с небесными властями. Они нас в бытие манят, Заводят слабость в преступленья, И после муками казнят: Нет на земли проступка без отмщенья!230.
Кто хочет миру чуждым быть, Тот скоро будет чужд, — Ах, людям есть кого любить, Что им до наших нужд! Так! что вам до меня? Что вам беда моя? Она лишь про меня, — С ней не расстанусь я! Как крáдется к милой любовник тайком: «Откликнись, друг милый, одна ль?» — Так бродит ночию и днем Кругом меня тоска, Кругом меня печаль!.. Ах, разве лишь в гробу От них укрыться мне, — В гробу, в земле сырой, Там бросят и оне! <1830>231.
Ты знаешь край, где мирт и лавр растет, Глубок и чист лазурный неба свод, Цветет лимон, и апельсин златой Как жар горит под зеленью густой?.. Ты был ли там? Туда, туда с тобой Хотела б я укрыться, милый мой. Ты знаешь высь с стезей по крутизнам?. Лошак бредет в тумане по снегам, В ущельях гор отродье змей живет, Гремит обвал и водопад ревет… Ты был ли там? Туда, туда с тобой Лежит наш путь — уйдем, властитель мой. Ты знаешь дом на мраморных столпах? Сияет зал, и купол весь в лучах; Глядят кумиры, молча и грустя: «Что, что с тобою, бедное дитя?..» Ты был ли там? Туда, туда с тобой Уйдем скорей, уйдем, родитель мой. 1851 (?)Генрих Гейне
232. Вопросы
Над морем, диким полуночным морем Муж-юноша стоит — В груди тоска, в уме сомненья, — И, сумрачный, он вопрошает волны: «О, разрешите мне загадку жизни, Мучительно-старинную загадку, Над коей сотни, тысячи голов — В египетских халдейских шапках, Гиероглифами ушитых, В чалмах, и митрах, и скуфьях, И с париками и обритых — Тьмы бедных человеческих голов Кружилися, и сохли, и потели, — Скажите мне, что значит человек? Откуда он, куда идет, И кто живет над звездным сводом?» По-прежнему шумят и ропщут волны, И дует ветр, и гонит тучи, И звезды светят холодно и ясно, — Глупец стоит — и ждет ответа! <1830>233. Кораблекрушение
Надежда и любовь — всё, всё погибло!.. И сам я, бледный, обнаженный труп, Изверженный сердитым морем, Лежу на берегу, На диком, голом берегу!.. Передо мной — пустыня водяная, За мной лежат и горе и беда, А надо мной бредут лениво тучи, Уродливые дщери неба! Они в туманные сосуды Морскую черпают волну И с ношей вдаль, усталые, влекутся, И снова выливают в море!.. Нерадостный и бесконечный труд! И суетный, как жизнь моя!.. Волна шумит, морская птица стонет! Минувшее повеяло мне в душу — Былые сны, потухшие виденья, Мучительно-отрадные встают! Живет на севере жена! Прелестный образ, царственно-прекрасный! Ее как пальма стройный стан Обхвачен белой сладострастной тканью; Кудрей роскошных темная волна, Как ночь богов блаженных, льется С увенчанной косами головы И в легких кольцах тихо веет Вкруг бледного, умильного лица, И из умильно-бледного лица Отверсто-пламенное око Как черное сияет солнце… О черно-пламенное солнце, О, сколько, сколько раз в лучах твоих Я пил восторга дикий пламень, И пил, и млел, и трепетал, — И с кротостью небесно-голубиной Твои уста улыбка обвевала, И гордо-милые уста Дышали тихими, как лунный свет, речами И сладкими, как запах роз… И дух во мне, оживши, воскрылялся И к солнцу, как орел, парил!.. Молчите, птицы, не шумите, волны, Всё, всё погибло — счастье и надежда, Надежда и любовь!.. Я здесь один, На дикий брег заброшенный грозою, Лежу простерт — и рдеющим лицом Сырой песок морской пучины рою!.. <1830>Джордж Гордон Байрон
234. В альбом друзьям
Как медлит путника вниманье На хладных камнях гробовых, Так привлечет друзей моих Руки знакомой начертанье!.. Чрез много, много лет оно Напомнит им о прежнем друге: «Его уж нету в вашем круге; Но сердце здесь погребено!..» <1826>Микеланджело Буонаротти
235.
Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать — удел завидный… Отрадно спать, отрадней камнем быть. 1855Н. П. Греков
Эварист Парни
236. К ночи
На ложе грустном, одиноком, Своей таинственною мглой, Во сне отрадном и глубоком Пошли душе моей покой! До появления денницы Пускай я сном забудусь вновь. О ночь! сомкни мои ресницы И усыпи мою любовь! <1866>Андре Шенье
237.
Пора! корабль готов, и ждет нас Византия. Лишь дальние моря, лишь небеса чужие Да долгие года разлуки, может быть, Всесильны в памяти упорной истребить Черты мне милые, которые повсюду С тоской невольною искать я сердцем буду. Да, образ красоты, мной видимый во всем, И те места, где с ней встречался я, и дом, Где дни ее текут, и имени звук милый — Всё, всё преследует везде мой дух унылый, Питает грусть мою, томит, волнует, жжет И пищу пламени незримому дает. Свобода милая! — Неведомое нами Сокровище души, пока с любви мечтами Не знаем мы тоски, волнений и тревог, — Желаемая вновь у милых сердцу ног, — Найду ль тебя среди чужого мне народа, Свобода милая! Бесценная свобода! <1866>238.
Последний солнца луч привет свой в час исхода Шлет погасающему дню. Так у кровавых здесь ступеней эшафота Я лиру пробую мою. Быть может, мой черед, — и стрелка часовая В кругу размеренном своем До часу не дойдет, обычный путь свершая, Как я засну могильным сном И тьма меня навек обнимет гробовая. Быть может, в этот самый миг, Как, звучной рифмою стих звучный замыкая, Я новый замышляю стих, — Посланник извергов, бич смерти и позора Разбудит именем моим Молчанье мертвое во мраке коридора… … … … … … … … … … … … … … … … <1866>Альфред Мюссе
239.
Когда Петрарку я читал в младые лета, Я славы у небес в удел себе просил. Он как любовник пел и как поэт любил, И песнь его была душой его согрета. И знала глубоко любовь душа поэта: Он слышал каждый вздох, взгляд каждый изучил. И на алмазе их он мастерски чертил Волшебным острием блестящего стилета. О ты, чьим ласковым словам внимаю я, Благодарю за них, благодарю тебя! Увы! я гения Петрарки не имею! Я только сердцем лишь могу быть равен с ним: Могу любить, как он, и жизнию моею Пожертвовать для той, которой я любим. <1866>А. Н. Струговщиков
Иоганн Вольфганг Гете
240. Не спрашивай
Не спрашивай, не вызывай признанья! Молчания лежит на мне печать: Всё высказать — одно мое желанье, Но втайне я обречена страдать! Там вечный лед вершину покрывает, Здесь на поля легла ночная тень, — С весною вновь источник заиграет, С зарею вновь проглянет божий день, И всем дано в час скорби утешенье, Указан друг, чтоб сердце облегчить, — Мне с клятвой на устах дано терпенье, И только бог их может разрешить! <1845>241. Прометей
— Сокрой в облаках, Подерни туманом, Зевес, Высокое небо твое; Подобно мальчишке, Что резвится в поле, На высях кедровых И горных вершинах Испытывай силы свои; Но хижину ты у меня не отымешь! Не ты мне построил ее; И этот очаг, На пламя которого с завистью смотришь, — Он мой, и мое ты мне должен оставить! Я ничего не знаю, боги, Беднее вас под солнцем! С заботливостью вы Питаете величье ваше Созвучием молитв И жертвоприношений дымом, И жалки были б вы Без нищих и детей, Не будь они надежными глупцами. Когда я был ребенком, Не знал с чего начать, Куда стопы направить, Мой взор заблудший Я к солнцу обращал; Я мнил: ему доступны Моления мои, Я мнил: есть сердце у него, Подобно моему, Готовое на состраданье. Кто оградил меня От дерзости титанов? Кто спас от смерти, От рабства — кто? Не ты ли выполнило всё, Святым наитием пылающее сердце? Обманутое — и тогда не ты ли Любовию младенца пламенело И, доброе, от чувств благодаренья Сгорало ты к нему, Объятому дремотой в вышине? Тебя мне уважать? за что? Ты утолил ли горести когда Страдальца? Ты осушил ли слезы, хоть когда, Объятого сомненьем? Судьба всесильная и время, Единые властители над нами, — Не вы ли создали, Не вы ли изваяли мужа Из самого меня? Не думаешь ли ты, Что удалюсь в пустыню И жизнь возненавижу я за то, Что лучший цвет мечтаний наших Не зреет на земле? Я здесь сижу, творю людей, Мой образ собственный Мне служит образцом, И пусть они подобно мне страдают, Пусть радуются, плачут и смеются И небрегут тобой Подобно мне!.. <1839>242. Пляска мертвецов
При лунном сияньи, в ночной тишине, Встают мертвецы на кладбище: Один за другим, по порядку, оне Свои оставляют жилища. Богач и бедняга, и муж и жена, На всех и одежда и обувь одна — Все в белых и длинных рубашках. День целый лежали, хотелось бы им Расправить скорей свои кости; И вот начинают, один за другим, Кривляться незваные гости. Им шлейфы мешают, их стыд не берет, И каждый свой саван снимает, кладет На первый, ближайший пригорок. И кости об кости, как палки, стучат, Руками, как граблями, машут, Сухие коленки сгибаются в лад, И юные косточки пляшут. Звонарь это видит — смешно звонарю, И на ухо шепчет нечистый ему: «Рубашка годится на случай!» «Вот будет потеха!» — подумал звонарь, Покрепче одну выбирает, Добычу уносит с собою в алтарь И двери на ключ запирает; Но скоро ударит двенадцать часов, И каждый покойник берет свой покров, И все разошлись по могилкам. Один остается; он волосы рвет, Он бегает, рыщет, хлопочет, Жестокой обиды мертвец не снесет — Звонарь с колокольни хохочет! Мертвец догадался: постой же ты, вор! Меня не удержит железный затвор, — Но крестная сила над входом! Покойник с досады железо грызет, Но вот за навес уцепился; Ему помогает готический свод, — На башне мертвец очутился. Кому-то приходится плохо, и вот По стрельчатым окнам он выше ползет, Как будто паук длинноногий. От страха дрожит и бледнеет звонарь, Охотно б с рубашкой простился; Вот слышит он, — только и жил пономарь, — О ставень крючок зацепился! На божию ниву легла тишина, Прозрачным туманом оделась луна, И бьет с колокольни — двенадцать! <1845>Фридрих Шиллер
243. Величие вселенной
В мир, что из хаоса Вечною Силой Создан, — полет направляет кормило Мысли орлиной, крылатой: Мчуся, надежды глашатай, Мчуся туда, где стихии молчат, Грани вселенной на страже стоят. Вижу миров вековое теченье; Дальше несуся, в средину творенья; Где ни раскину ветрило — Жизнь, и движенье, и сила. Мимо несметных промчался светил, Око в пустое пространство вперил. Мимо пространства в ничто устремился, Солнечный луч не быстрее носился: Всюду нетленный и вечный Вечности дух бесконечный Миру прядет беспредельный покров; Звезды в ночи — мириады миров! Путник навстречу: «Что видел, что знаешь?» — «То же, что ты. Ты о чем вопрошаешь?» Мчуся на край мирозданья, Где же конец упованья? Мчуся туда, где стихии молчат, Грани вселенной на страже стоят. Тщетный порыв. Пред тобой бесконечность! Тщетная мысль. Не откликнется вечность! Кайся, орлиная сила, Сдай провиденью кормило, Дальше, крылатая мысль, не дерзай, Духом смирися и якорь бросай! <1845>К. С. Аксаков
Фридрих Шиллер
244. Тайна
Она стояла молчаливо Среди толпы — и я молчал; Лишь взор спросил я боязливо, И понял я, что он сказал. Я прихожу, приют ветвистый, К пустынной тишине твоей: Под зеленью твоей тенистой Сокрой счастливых от людей! Вдали, чуть слышный для вниманья, День озабоченный шумит. Сквозь смутный гул и восклицанья Тяжелый молоток стучит. Там человек так постоянно С суровой борется судьбой — И вдруг с небес к нему нежданно Слетает счастие порой! Пускай же люди не узнают, Как нас любовь животворит: Они блаженству помешают — Досаден им блаженства вид. Да, свет не позволяет счастья: Как за добычею, за ним Беги, лови и от участья Людского строго сохрани! Оно прокралось тихо, любит Оно и ночь и тишину; Нечистый взор его погубит, Как смерть, ужасен он ему. Обвейся, о ручей безмолвный, Вокруг широкою рекой И, грозно поднимая волны, Наш охраняй приют святой! 1838Иоганн Вольфганг Гете
245. Тишина на море
Тишина легла на воды, Без движенья море спит, И с досадой корабельщик На поверхность вод глядит: Ветр не веет благодатный, Тишина, как смерть, страшна, На пространстве необъятном Не поднимется волна. 1838246. Счастливый путь
Туманы редеют, Безоблачно небо, Опять пробуждает Эол тишину. Шумя, ветер веет, Спешит корабельщик Скорее, скорее; Колеблются волны, Ясней отдаленность, Уж берег в виду. 1838247. Рыбак
Волна идет, волна шумит; На берегу крутом Рыбак задумчиво сидит; Спокойно сердце в нем. Глядит на воды с вышины — Раздвинулась волна, И выплывает из воды Прекрасная жена. Поет она, твердит она: «Зачем моих друзей Манишь к погибели со дна Ты хитростью своей? Ах, если б знал ты, как по дну Привольно рыбкой плыть, — Ты сам сошел бы в глубину, Чтоб вечно счастлив быть. Луна и солнце с высоты Не моются ль в водах? Не вдвое ли прекрасней ты На трепетных волнах? Тебя ли небо не манит Лазурной глубиной? Тебя ли не влечет твой вид Ко влаге голубой?» Волна бежит, волна шумит, К ногам бегут струи; В нем сердце сжалось и дрожит, Как на привет любви. Она твердит, она поет — Удел его решен… Она влечет — он к ней идет, — И не вернулся он. 1838Ф. Б. Миллер
Фридрих Шиллер
248. Дитя в колыбели
Юный счастливец! теперь для тебя в колыбели просторно; Но возмужаешь — и мир станет уж тесен тебе.249. Друг и враг
Дорог мне друг; но и враг мне полезен: один подает мне Добрый совет, а другой мне указует мой долг.250. Ожидание и исполнение
В море на всех парусах юноша бодро несется; Скромно, в разбитой ладье, в гавань вступает старик.251. Красота и радость
Кто не видал красоты в минуту сердечной печали, Тот никогда не видал красоты; Кто на прелестном лице не встречал веселой улыбки, — Радости тот никогда не видал. 1842Фердинанд Фрейлиграт
252. Под пальмами
Меж кустов мелькают космы: бой кипит в глуши лесной, И далеко слышен топот, треск ветвей и страшный вой. Взлезь со мной на эту пальму; но смотри, чтоб звук колчана Злых бойцов не потревожил там, под тению банана. Видишь тело европейца? — он от тигровых когтей Пал, когда, томимый зноем, здесь прилег под сень ветвей: Трав лечебных, знать, искал он, наших хижин гость смиренный, — За него-то с леопардом тигр дерется раздраженный. Он погиб, несчастный белый! не спасет его стрела! Вся лощина, где лежит он, алой кровью натекла… Крепок сон твой, юный странник! жизнь угасла молодая! О, как горько будет плакать о тебе твоя родная! Леопард неустрашимый нападает на врага; Вот в зубах его кровавых трупа стиснута нога. Но добычу неприятель левой лапой охраняет, А другою он с размаха леопарда поражает. Вот скачок! и тигр могучий на спине добычу мчит; Леопард неутомимый бодро вслед за ним летит. Вот опять они сцепились и в борьбе остервенелой Обнялись, — и в их объятьях труп стоит окостенелый… Но смотри: с вершины пальмы исполинская змея Опускается над ними, яд в зубах своих тая; Развернулась — и мгновенно охватила кровожадных: И зверей, и человека давит в кольцах беспощадных. 1845Людвиг Уланд
253. Проклятие певца
Стоял когда-то замок — угрюмый великан, Глядел он через поле на синий океан, Кругом него тянулись сады цветной каймой, В них били водометы алмазною струей. Его владетель гордый был грозен и силен, И бледный, и угрюмый, сидел на троне он; Что взгляд его — то трепет, что дума — то боязнь, Что слово — то оковы, что приговор — то казнь. Раз к замку шли два скальда: один, во цвете лет, Был статен и прекрасен; другой — и дряхл, и сед; Он тихо ехал с арфой на вороном коне, А юноша товарищ шел бодро в стороне. «Готовься, сын мой, — старец питомцу говорил: — Припомни все напевы, каким тебя учил; Сбери всю силу звуков и вторь моим струнам: Сегодня тронуть сердце монарха должно нам». И в зале оба скальда стоят среди мужей; Король сидит на троне с супругою своей: Он — грозно-величавый, как буря в ночь; она — Прекрасна, как денница, — как лилия, нежна. Вот арфу вдохновенно певец маститый взял И вещими перстами по струнам пробежал: Они запели чудно под опытной рукой, И с ними слил свой голос товарищ молодой. И пели о блаженстве, о веке золотом, О славе и свободе, о вечном и святом, Что сладостно для сердца, что полно светлых дум, Что возвышает душу, что окрыляет ум. Смирился пред святыней мужей надменный дух, В немом благоговеньи стоят они вокруг. И плачет королева; но, радости полна, Певцам бросает розу с груди своей она. Но, задрожав от гнева, король с престола встал. «Вы, обольстив коварно народ мой, — он сказал, — Прельстить жену хотите!» — И меч он бросил свой, И пал, пронзенный в сердце, в крови певец младой. И вмиг, как ураганом, толпу рассеял страх; Певец скончался тихо у старца на руках; Он на коня сажает с собою мертвеца И быстро выезжает из грозного дворца. Но у ворот высоких остановил певец Коня и взял он лиру, всех лир других венец, О мраморные стены в куски ее разбил И горьким, страшным воплем весь замок огласил: «О, горе вам, твердыни! отныне будут в вас Звучать не струны арфы, не песен сладкий глас — Но вопли и рыданья, но стон и звук оков, Пока вы не падете под бременем веков! О, горе вам, фонтаны, зеркальные пруды! И вам, в красе весенней цветущие сады! Отныне ваша слава исчезнет навсегда! Засохнут все деревья, иссякнет вся вода! А на тебе, убийца, проклятие певца! Тиран! ты не достигнешь бессмертия венца! Твое клятое имя в века не перейдет: Как смертное хрипенье в степи, оно замрет!» И вещий глас поэта услышан в небесах: И пали стены замка в развалины и прах; Над ним стоит уныло колонна лишь одна, И та уж покачнулась и скоро пасть должна. В печальном запустеньи лежат его сады; Засохли все деревья, заглохли все пруды; Об имени тирана предание молчит: Проклятье вековое певца на нем лежит. 1846Генрих Гейне
254. Тамбурмажор великой армии
Смотрите, вот старый наш тамбурмажор, — Он голову, бедный, повесил! А прежде как ярко горел его взор, Как был он доволен и весел! Как гордо вертел он своей булавой, С улыбкой сверкая глазами; Его заслужённый мундир золотой Сиял, озаренный лучами. Когда он в главе барабанов своих Вступал в города и местечки, У наших девиц и у женщин иных Тревожно стучали сердечки. Являлся — и всюду свободной рукой Срывал победительно розы; На ус его черный струились порой Немецкие женские слезы. А мы всё сносили в терпеньи немом, Смиряясь пред вражьим напором: Мужчины склонялись пред сильным царем, А дамы — пред тамбурмажором. Мы все терпеливо то иго несли, Как дубы германской породы; Но вдруг от начальства к нам вести пришли К восстанью за дело свободы. Тогда мы, уставив рога, как быки, Отважно на бой полетели, И галльские всюду сбивали штыки, И Кёрнера песни мы пели. Ужасные песни! их звуки и хор Грозой для тиранов звучали! От них Император и тамбурмажор Со страхом домой убежали. Того и другого постигнул конец, Их грешных деяний достойный: Там в руки британцев попал наконец И сам Император покойный. На острове диком творили они Над ним свои грубые шутки, Пока не пресеклись их пленника дни В страданьях — от рака в желудке. Отставлен был также и тамбурмажор, Дни славы его улетели! И, чтоб прокормиться, он служит с тех пор Привратником в нашей отели. Он воду таскает, он колет дрова, Метет коридоры и сени, Его вся седая от лет голова Трясется при каждой ступени. Когда ко мне Фриц, мой приятель, зайдет, — Он тотчас, с насмешливым видом, Острить и трунить беспощадно начнет Над бедным седым инвалидом. «О Фриц! тут некстати слов острых поток С подобною глупой забавой: Для сына Германии низко, дружок, Глумиться над падшею славой. По мне тут приличней участье к судьбе, Чем шутки над горем случайным: Кто знает, — быть может, отец он тебе По матери — случаем тайным». 1857Адам Мицкевич
255. Конрад Валленрод
Вступление
Сто лет, как Орден рыцарей крестовых Свой меч в крови язычников багрит; Страшится прусс оков его суровых И от родных полей своих бежит, И до равнин Литвы необозримых И смерть, и плен преследует гонимых. Теперь врагов лишь Неман разделяет: Там, средь лесов, обителей богов, Верхи божниц языческих сверкают; А здесь, взнеся чело до облаков И простирая длани, посылает Тевтона крест с холма грозящий зов, Как бы стремясь всё племя Палемона, Обняв, привлечь в свое святое лоно. Там юноши-литовцы, в колпаках Из рысьих шкур, в медвежий мех одеты, С копьем в руке и с луком на плечах, Следят врагов движенье и приметы. Здесь на коне тевтон, закован в сталь, Как вкопанный, стоит и озирает Неверных стан, кладет заряд в пищаль Иль четками, молясь, перебирает. Так два врага стоят здесь для охраны; Так Немана гостеприимный вал, Поивший мирно две родные страны, Теперь для них порогом смерти стал: Кто переплыть посмеет эти воды, Лишится тот иль жизни, иль свободы. И только хмель, литовской почвы сын, Плененный прусской тополью, один Стремится к ней, вияся и цепляясь, По тростникам, по травам водяным, И, обогнув струю венком живым, Вкруг милой он обвился, к ней ласкаясь; Да ковенской дубравы соловьи, С их братьями литовскими слетаясь, Заводят хоры дивные свои На острове, который во владенье Остался им в стране опустошенья. А люди? ах! вражду в душе тая, Литвин и прусс, объятые войною, Забыли мир; но их сердца порою Мирит любовь: так знал двоих и я. О Неман! рать враждебная несет К твоим брегам огонь и истребление; Топор венок зеленый рассечет, И соловьев из их уединенья Разгонит гром орудий. Так народ, Пылающий враждою, расторгает Златую цепь природы. Но живет Любовь: ее для внуков сохраняет В своих заветных песнях вайделот. 1859Роберт Саути
256. Ингкапский риф
День ясен; отрадная тишь над волной; Суда и матросы вкушают покой; Живой ветерок в парусах не играет, И киль без движенья в воде отдыхает. Свирепый Ингкапский не пенится риф: Его покрывает волною прилив; И там, среди вод безмятежного лона, Не слышно теперь колокольного звона. Был в Абербротоке почтенный аббат; В том месте, где скал возвышается ряд, Он колокол с бочкой поставил плавучий, Чтоб в бурю звонил он средь бездны кипучей. И если прилив те утесы скрывал, То звон колокольный пловцов извещал: Тогда они знали, что риф недалеко — И чтили игумена Абербротока. Луч солнца в величии пышном своем Сверкает, и всё веселится при нем; И птицы морские, купаясь, ныряют И криками радость свою выражают. А колокол с бочкой вдали между скал Чуть видною черною точкой мелькал. Разбойник, сэр Ральф, стал на деке высоком И смотрит на скалы внимательным оком. Дыханье весны его сердце живит, И весел он духом, поет и свистит, И вдруг улыбнулся при мысли потешной; Но радость разбойника — умысел грешный. И крикнул он буйной ватаге своей: «Ребята! спустите мне лодку скорей И к рифу меня притяните канатом: Я славную штуку сыграю с аббатом». Вот спущена лодка, за весла гребцы — И к страшному рифу плывут удальцы; Сэр Ральф приподнялся, повис над водою И колокол срезал могучей рукою. С глухим клокотаньем на дно он упал; И с хохотом злобным разбойник сказал: «Теперь, кто вперед не услышит набата, — Не станет хвалить добродетель аббата». Сэр Ральф возвратился к своим удальцам; Он долго скитался по разным морям; С богатой добычей, с бесчестного лова, Веселый плывет он в Шотландию снова. На синие волны спустился туман, В нем солнце померкло — и вдруг ураган Завыл и весь день бушевал на просторе; Но к ночи он стих — успокоилось море. Сэр Ральф озирает свой путь; но вдали Покрыто всё тьмой, и не видно земли. «Вот только бы месяц взошел поскорее, — Сказал он, — тогда поплывем мы вернее». «Не близко ли берег? — спросил рулевой: — Мне слышится волн отдаленный прибой». Нахмурился Ральф и подумал невольно: Теперь пригодился бы звон колокольный. Но звона не слышно, лишь бездна кипит; Фрегат по стремленью без ветра летит — И вдруг затрещал он, и мачты упали, И рифы Ингкапа пираты узнали. Час кары злодею теперь настает; В отчаяньи страшном себя он клянет; Удар за ударом корму разбивает, — В пучине кипучей пират утопает. И в миг неизбежной погибели он Услышал из бездны таинственный звон, Как будто бы дьяволы, встретив пирата, Ударили в колокол вещий аббата!.. 1858К. К. Павлова
Из шотландских народных баллад
257. Эдвард
«Как грустно ты главу склонил, Эдвард! Эдвард! Как грустно ты главу склонил, И как твой меч красён! — О!» — «Я сокола мечом убил, Матерь! матерь! Я сокола мечом убил; Такого нет, как он! — О!» «Не сокол меч окровенил, Эдвард! Эдвард! Не сокол меч окровенил, Не тем ты сокрушен. — О!» — «Коня я своего убил, Матерь! матерь! Коня я своего убил, А верный конь был он! — О!» «Твой конь уже был стар и хил, Эдвард! Эдвард! Твой конь уже был стар и хил, О чем бы так тужить? — О!» — «Отца я своего убил, Матерь! матерь! Отца я своего убил: Мне горько, горько жить! — О!» «И чем теперь, скажи же мне, Эдвард! Эдвард! И чем теперь, скажи же мне, Искупишь грех ты свой? — О!» — «Скитаться буду по земле. Матерь! матерь! Скитаться буду по земле, Покину край родной! — О!» «И кем же будет сохранен, Эдвард! Эдвард! И кем же будет сохранен Здесь твой богатый дом? — О!» — «Опустевай и рушись он, Матерь! матерь! Опустевай и рушись он! Уж не бывать мне в нем. — О!» «И с кем же ты оставишь тут, Эдвард! Эдвард! И с кем же ты оставишь тут Жену, детей своих? — О!» — «Пусть пó миру они пойдут, Матерь! матерь! Пусть пó миру они пойдут; Навек покину их. — О!» «А мне, в замену всех утрат, Эдвард! Эдвард! А мне, в замену всех утрат, Что даст любовь твоя? — О!» — «Проклятие тебе и ад, Матерь! матерь! Проклятие тебе и ад! Тебя послушал я! — О!» <1839>Вальтер Скотт
258. Песня
Красив Бригнала брег крутой, И зелен лес кругом; Цветы над быстрою рекой Раскинуты ковром. Вдоль замка Дальтон на коне Я ехал не спеша; Навстречу пела с башни мне Красавица-душа: «Красив Бригнала брег крутой, И зелен лес кругом; Мне с другом там приют лесной Милей, чем царский дом». «Ты хочешь, дева, быть моей, Забыть свой род и сан; Но прежде разгадать сумей, Какой мне жребий дан. И если скажешь мне, любя, Загадки слово ты, — Приму в дубраве я тебя Царицей красоты». Она поет: «Свеж брег крутой, И зелен лес кругом; Мне с другом там приют лесной Милей, чем царский дом. Со звонким рогом в кушаке Ты скачешь чрез поля; Ты, знать, в дубраве на реке Лесничий короля?» «Лесничий зоркий короля В свой рог трубит с утра; Но как покрыта мглой земля, То мнé трубить пора». Она поет: «Свеж брег крутой, И зелен лес кругом, Хочу царицею лесной Жить с другом там вдвоем. На быстроногом рысаке, Как ратник, ты готов, С мечом в ножнах, с ружьем в руке, На барабанный зов». «Нейду на барабанный зов, Нейду на трубный звук; Но как зовут нас крики сов, Мы все готовы вдруг. И свеж Бригнала брег крутой, И зелен лес кругом, Но деве смелой лишь со мной Царить в лесу моем. О дева! друг недобрый я! Глухих пустынь жилец; Безвестна будет жизнь моя, Безвестен мой конец! Как мы сойдемся, гости тьмы, То должно нам, поверь, Забыть, чтó прежде были мы, Забыть, чтó мы теперь». Но свеж Бригнала брег крутой, И зелен лес кругом, И пышно блещут над рекой Цветы живым ковром. <1840>Фридрих Рюккерт
259. Пойми любовь
Пойми любовь! Ищи во взорах милой Небесных благ, а не земных страстей, Чтобы святой душа окрепла силой И не погас бы луч звезды твоей! Пойми любовь! Найди в очах прекрасной Не огнь пылающий, но мирный свет, Чтоб он тебе служил лампадой ясной, А не спалил бы жизнь твою, поэт. Пойми любовь! Восторгами любезной Ты не окуй себя, но окрыли, Чтоб гостем был обители надзвездной, А не рабом обманчивой земли. <1839>Генрих Гейне
260. Лорелея
И горюя, и тоскуя, Чем мечты мои полны? Позабыть всё не могу я Небылицу старины. Тихо Реин протекает, Вечер светел и без туч, И блестит, и догорает На утесах солнца луч. Села на скалу крутую Дева, вся облита им; Чешет косу золотую, Чешет гребнем золотым. Чешет косу золотую И поет при блеске вод Песню, словно неземную, Песню дивную поет. И пловец, тоскою страстной Поражен и упоен, Не глядит на путь опасный: Только деву видит он. Скоро волны, свирепея, Разобьют челнок с пловцом; И певица Лорелея Виновата будет в том. <1839>Фердинанд Фрейлиграт
261. Гробовщики
«Прискорбное дело ведется к концу, На этой постеле лежать мертвецу!» — «Эх, брат, а тебе что? Твоя ли беда? Дешевая, знать, твои слезы вода». — «Нет! право, берет поневоле озноб: Приходится первый ведь делать мне гроб!» — «Последний ли, первый ли, — равны они; На, выпей-ка чарку да песнь затяни. Да доски сюда принеси ты в сарай, Пилой распили их, рубанком строгай; Прилаживай доску к доске ты живей, Да черным суконцем, как должно, обей. Да стружки потом подбери ты с земли, Да ими сосновое дно устели, Чтоб в гробе — такое поверье у нас — На стружках отжившая плоть улеглась. Внесешь гроб ты завтра к покойнику в дом; Положат, накроют — и дело с концом». — «Готовлю я доски, и мерю я их, Но дум не могу пересилить своих; Строгает рубанок, и ходит пила, Но мутны глаза, и рука тяжела. Смотрю, чтоб к доске приходилась доска, Но в сердце томление, в сердце тоска. Прискорбное дело ведется к концу, На этой постеле лежать мертвецу!» 1855Виктор Гюго
262. Видение
Увидел ангела в стемневшей я лазури: Смирял его полет тревогу волн и бури. «Что ищешь, ангел, ты в безрадостном краю?» Он отвечал: «Иду я душу взять твою». И грустно на меня смотрел он женским ликом. И страшно стало мне; я вскрикнул слабым криком: «Какой настал мне час? что станется со мной?» Безмолвный он стоял. Сгущался мрак ночной. «Скажи, — дрожащее я выговорил слово,— Взяв душу, с ней куда, средь мира ты какого Отсюда улетишь?» Он продолжал молчать. «Пришлец неведомый! — воскликнул я опять, — Ты смерть ли, или жизнь? Конец или начало?» И ночи всё темней спускалось покрывало, И ангел мрачен стал и молвил: «Я любовь!» И краше радости на сумрачную бровь Печать тоски легла — и тихого всесилья, И звезд я видел блеск сквозь трепетные крылья. <1858>С. Ф. Дуров
Огюст Барбье
263. Дант
О старый гибеллин! когда передо мной Случайно вижу я холодный образ твой, Ваятеля рукой иссеченный искусно, — Как на сердце моем и сладостно и грустно… Поэт! В твоих чертах заметен явный след Святого гения и многолетних бед!.. Под узкой шапочкой, скрывающей седины, Не горе ль провело на лбу твоем морщины? Скажи, не оттого ль ты губы крепко сжал, Что граждан бичевать проклятых ты устал? А эта горькая в устах твоих усмешка Не над людьми ли, Дант? Презренье и насмешка Тебе идут к лицу. Ты родился, певец, В стране несчастливой. Терновый свой венец Еще на утре дней, в начале славной жизни, На долю принял ты из рук своей отчизны. Ты видел, как и мы, на отческих полях Людей, погрязнувших в кровавых мятежах; Ты был свидетелем, как гибнули семейства Игралищем судьбы и жертвами злодейства; Ты с ужасом взирал, как честный гражданин На плахе погибал. Печальный ряд картин В теченье многих лет вился перед тобою. Ты слышал, как народ, увлекшися мечтою, Кидал на ветер всё, что в нас святого есть, — Любовь к отечеству, свободу, веру, честь. О Дант, кто жизнь твою умел прочесть, как повесть, Тот может понимать твою святую горесть, Тот может разгадать и видеть — отчего Лицо твое, певец, бесцветно и мертво, Зачем глаза твои исполнены презреньем, Зачем твои стихи, блистая вдохновеньем, Богатые умом, и чувством, и мечтой, Таят во глубине какой-то яд живой. Художник! ты писал историю отчизны; Ты людям выставлял картину буйной жизни С такою силою и верностью такой, Что дети, встретившись на улице с тобой, Не смея на тебя поднять, бывало, взгляда, Шептали: «Это Дант, вернувшийся из ада!..» 1843264.
Как больно видеть мне повсюду свою горесть, Читать, всегда читать одну и ту же повесть, Глядеть на небеса и видеть тучи в них, Морщины замечать на лицах молодых. Блажен, кому дано на часть другое чувство, Кто с лучшей стороны взирает на искусство! Увы, я знаю сам, что если б на пути Я музу светлую случайно мог найти — Дитя в шестнадцать лет, с кудрями золотыми, С очами влажными и ярко-голубыми, — Тогда бы я любил цветущие долины, Кудрявые леса, высоких гор вершины; Тогда бы, кажется, живая песнь моя Была светла, как день, игрива, как струя. Но каждому своя назначена дорога, Различные дары приемлем мы от бога: Один несет цветы, другой несет ярмо. На всяком существе лежит свое клеймо. Покорность — наш удел. Неволей или волей, Должны мы следовать за тайной нашей долей, Должны, склонясь во прах, покорствовать во всем, Чего преодолеть не станет сил ни в ком. От детства мой удел был горек. В вихре света Я, словно врач, хожу по койкам лазарета, Снимая с раненых покровы их долой, Чтоб язвы гнойные ощупывать рукой… 1844265. Смех
1
Мы всё утратили, всё, даже смех радушный С его веселостью и лаской простодушной, — Тот смех, который встарь, бывало, у отцов, Из сердца вырвавшись, гремел среди пиров. Его уж нет теперь, веселого собрата: Он скрылся от людей, и скрылся без возврата… А был он, этот смех, когда-то добрый кум! Наш смех теперешний — не более как шум, Как вопль, исторгнутый знобящей лихорадкой, Рот искажающий язвительною складкой. Прощайте ж навсегда, и песни, и любовь, Вино и громкий смех, — вы не вернетесь вновь! В наш век нет юношей румяных и веселых, Во славу красоте дурачиться готовых; Нет откровенности, бывалой в старину, — При всех поцеловать не смеет муж жену; Шутливому словцу дивятся, словно чуду; Зато цинизм теперь господствует повсюду, Желчь льется с языка обильною струей, Насмешка подлая шипит над нищетой, Повсюду, как в аду, у нас зубовный скрежет: Смех не смешит людей — нет, он теперь их режет…2
О смех! Чтоб к нам прийти с наморщенным челом, Каким доселе ты кровавым шел путем? Твой голос издавна там слышался, бывало, Где всё в развалинах дымилось и пылало… Он резко пробегал над нивой золотой, Когда по ней толпу водили на разбой; На стенах городских, нежданно, без причины, Он слышался сквозь стук ударов гильотины; Он часто заглушал и стон и громкий плач, Когда за клок волос тряс голову палач… Вольтер, едва живой, но полный страшной силы, Прощаясь с жизнию, смеялся у могилы, — И этот смех его, как молот роковой, В основах потрясал общественный наш строй. С тех пор под тяжестью язвительного смеха Ничто прекрасное не жди у нас успеха!3
Увы! беда тому, в ком есть святой огонь, Кто душу положить хотел бы на ладонь! Беда, сто раз беда той музе благородной, Которая, избрав от детства путь свободный, Слепая к призракам мишурной суеты, Полюбит идеал добра и красоты! Смех, безобразный смех, людской руководитель, Всего прекрасного завистливый гонитель, Как язва кинется внезапно на нее, Запутает в сетях, столкнет с пути ее… И тщетно, бедная, сбирала бы усилья Широко развернуть израненные крылья И песнью в небесах подслушанной своей Затронуть заживо больную грудь людей, — Увы, на полпути, лишенная надежды, Поникнув головой, сомкнув печально вежды, Она падет с небес… А там, на краткий срок Забившись где-нибудь в безвестный уголок, Оплакивая жизнь, но с жизнию не споря, — Умрет до времени, с душою, полной горя… 1864Андре Шенье
266. Неэра
Любовью страстною горит во мне душа. Приди ко мне, Хромис, взгляни — я хороша: И прелестью лица, и легкостию стана Равняться я могу с воздушною Дианой. Нередко селянин, вечернею порой, Случайно где-нибудь увидевшись со мной, Бывает поражен какою-то святыней, И я ему кажусь не смертной, а богиней… Он шепчет издали: «Неэра, подожди, На взморье синее купаться не ходи: Пловцы, увидевши твое чело и шею, Сочтут, красавица, тебя за Галатею». 1844Виктор Гюго
267. Метафора
Как на поверхности лазурного пруда, В душевной глубине мы видим иногда И небо, полное блистательных сокровищ, И тинистое дно, где вьется рой чудовищ. 1845Никола Жильбер
268. Отчаяние
Безжалостный отец, безжалостная мать! Затем ли вы мое вскормили детство, Чтоб сыну вашему по смерти передать Один позор и нищету в наследство… О, если б вы оставили мой ум В невежестве коснеть, по крайней мере; Но нет! легко, случайно, наобум Вы дали ход своей безумной вере… Вы сами мне открыли настежь дверь, Толкнули в свет из мирной вашей кельи — И умерли… вы счастливы теперь, Вам, может быть, тепло на новосельи, А я? — а я, подавленный судьбой, Вотще зову на помощь — все безмолвны: Нет отзыва в друзьях на голос мой, Молчат поля, леса, холмы и волны. 1846Проспер Мериме
269. Морлах в Венеции
Когда я последний цехин промотал И мне изменила невеста, — Лукавый далмат мне с усмешкой сказал: «Пойдем-ка в приморское место, Там много красавиц в высоких стенах И более денег, чем камней в горах. Кафтан на солдате из бархата сшит; Не жизнь там солдату, а чудо: Поверь мне, товарищ, и весел и сыт Вернешься ты в горы оттуда… Долман на тебе серебром заблестит, Кинжал на цепи золотой зазвенит. Как только мы в город с тобою войдем, Нас встретят приветные глазки, А если под окнами песню споем, От всех нам посыплются ласки… Пойдем же скорее, товарищ, пойдем! Мы с деньгами в горы оттуда придем». И вот за безумцем безумец побрел Под кров отдаленного неба; Но воздух чужбины для сердца тяжел, Но вчуже — нет вкусного хлеба; В толпе незнакомцев я словно в степи — И плачу и вою, как пес на цепи… Тут не с кем размыкать печали своей И некому в горе признаться; Пришельцы из милой отчизны моей Родимых привычек стыдятся; И я, как былинка под небом чужим. То холодом сдавлен, то зноем палим. Ах, любо мне было средь отческих гор, В кругу моих добрых собратий; Там всюду встречал я приветливый взор И дружеский жар рукожатий; А здесь я как с ветки отпавший листок, Заброшенный ветром в сердитый поток. 1846Джордж Гордон Байрон
270. Мелодия («Да будет…»)
Да будет вечный мир с тобой!.. Еще в небесное жилище Не возлетала над землей Душа возвышенней и чище. Существованья твоего Ничто людское не смущало: Бессмертья только одного Тебе у нас недоставало. Пускай же твой могильный холм Не веет горькою утратой, Да разрастаются на нем Цветы грядою полосатой… Не над тобою зеленеть Ветвям плакучим грустной ивы: Зачем, скажите, сожалеть О тех, которые счастливы?.. 1845271. Мелодия («О, плачьте…»)
О, плачьте над судьбой отверженных племен, Блуждающих в пустынях Вавилона: Их храм лежит в пыли, их край порабощен, Унижено величие Сиона: Где бог присутствовал, там идол вознесен… И где теперь Израиль злополучный Омоет пот с лица и кровь с усталых ног? Чем усладит часы неволи скучной? В какой стране его опять допустит бог Утешить слух Сиона песнью звучной?.. Народ затерянный, разбросанный судьбой, Где ты найдешь надежное жилище? У птицы есть гнездо, у зверя лес густой, Тебе ж одно осталося кладбище Прибежищем от бурь и горести земной… 1846А. И Пальм
Андре Шенье
272. Элегия
Звезда вечерняя, люблю твой блеск печальный. Он чист, как огонек любви первоначальной. Блести, красавица, блести еще, пока Диана бледная в прозрачных облаках Великолепною не явится царицей, Дай взору путника тобою насладиться. Под сенью темных лип у шумного ручья Порою позднею иду задумчив я; Свети же мне, звезда, приветливей, светлее: Не с тайным замыслом полночного злодея Украдкой я брожу; в груди не месть кипит, И под полой кинжал кровавый не блестит; Нет, я люблю, — и разделить хочу я Мечты моей души и сладость поцелуя; И всё я думаю: в вечерней тишине, Как нимфа легкая, она придет ко мне; Как хороша она, — и взор ее чудесный Блестит, как ты, звезда, между подруг небесных! 1843273.
Приди к ней поутру, когда, пробуждена, Под легким пологом покоится она: Ланиты жаркие играют алой кровью, И грудь роскошная волнуется любовью, А юное чело и полный неги взор Еще ведут со сном неясный разговор… 1844И. Я. Лебедев
Генрих Гейне
274. Чайльд Гарольд
Волны скачут, волны плачут, Труп поэта в лодке мчат; С ним безмолвны, грусти полны, Маски черные сидят. Как прекрасен, тих и ясен Лик певца! На небеса, Как живые, голубые Смотрят чудные глаза. Волны скачут, волны плачут… Подле лодки под водой Слышны стоны — похоронный Плач наяды молодой. <1859>275. Русалки
Всё тихо, всё спит; с неба месяц глядит, Песчаная отмель сияет, На береге рыцарь прелестный лежит, Лежит он и сладко мечтает. Блестящи, воздушны, одна за другой Из моря русалки выходят, Несутся все к юноше резвой толпой И глаз с него светлых не сводят. И вот уже рядом одна с ним сидит, Пером в его шляпе играя, На поясе цепь от меча шевелит И перевязь гладит другая. А вот уж и третья, лукаво смеясь, У юноши меч отнимает, Одною рукою на меч оперлась, Другой его кудри ласкает. Четвертая пляшет, порхает пред ним, Вздыхает и шепчет уныло: О, если б любовником был ты моим, Цвет юношей, рыцарь мой милый! А пятая за руку нежно берет И белую руку целует, Шестая устами к устам его льнет, И грудь ей желанье волнует. Хитрец не шелохнется… Что их пугать? И крепче смыкает он очи… Ему тут с русалками любо лежать В сияньи серебряной ночи. <1859>Л. А. Мей
Анакреон
276. Женщинам
Одарила природа Твердым рогом — быков, Коней — звонким копытом, Зайцев — ног быстротою, Страшной пастию — львов, Рыб — способностью плавать, Птиц — полетом воздушным, Силой духа — мужчин, А для жен не остался Из даров ни один. Что ж дала им природа? Вместо броней и копий — Красоту даровала, Чтобы женщина ею И огонь и железо Всепобедно сражала.277. Самому себе («Возлежа…»)
Возлежа на лúстве нежной Мирт и лотосов зеленых, Я желаю пить прилежно, Пить подольше, но с опаской. Сам Эрот мне кравчим служит И, папирусной подвязкой Подтянув хитон на плечи, Влагой хмельной угощает. Колесом от колесницы Вкруг самой себя вращаясь, Жизнь людская убегает, А в могиле смертный кости Горстью пепла оставляет… Для чего ж кадить на камень? Лить на землю возлиянья? Лучше мне, Эрот, при жизни Воскури благоуханья, Увенчай меня цветами, Приведи мою гетеру: Прежде, нежели вмешаюсь В хороводы с мертвецами, Я хочу прогнать заботы.278. К восковому Эроту
Раз юноша какой-то Отлитого из воска Эрота продавал. «Что просишь за работу?» — Спросил я, подошедши, А он мне отвечал Дорическою речью: «Купи за сколько хочешь, Но должен ты узнать, Что я не восколивец, А только не желаю С Эротом алчным спать». — «Отдай же мне за драхму Соложника-красавца, А ты, Эрот, во мне Зажги любовный пламень, Иль будешь сам тотчас же Растоплен на огне».279. Самому себе («Мне говорят…»)
Мне говорят девицы: «Ты стар, Анакреон! На — зеркало: ты видишь — Волос уж не осталось, И лоб твой обнажен». Есть волосы, иль нет их — Не знаю; знаю только, Что старцу и певцу Тем более приличны Веселье и забавы, Чем ближе он к концу.280. К девушке
Не беги моих волос, Убеленных сединою, И затем, что ярче роз Расцвела своей весною, Не отвергни в старике Пламень страсти: не сама ли Ты видала, как в венке К розам лилии пристали?281. Старцу
Мне мил и старец в пляске И юноша плясун; Но если старец пляшет — В нем волосы лишь стары, А мыслями он юн.282. Пир
Дайте лиру мне Гомера Без воинственной струны: Я не чествую войны. Из обрядного потира Я желаю мирно пить И водой напиток сладкий, По закону, разводить. Я напьюся в честь Лиэя, Запляшу и запою, Но рассудком я умерю Песню буйную мою.283. Фракийской кобылице
Кобылица-фракиянка, Что так косо ты глядишь? Для чего, как от невежды, От меня ты прочь бежишь? Знай: легко тебе накину Я узду и удила, Чтоб меня по гипподрому Ты послушно пронесла. Ты теперь на пастве злачной Скачешь — вольная, пока Не нашлось тебе, дикарке, Заклятóго ездока. <1855>Фридрих Шиллер
284. Прощание Гектора
Андромаха Для чего стремится Гектор к бою, Где Ахилл безжалостной рукою За Патрокла грозно мстит врагам? Если Орк угрюмый нас разлучит, Кто малютку твоего научит Дрот метать и угождать богам? Гектор Слез не лей, супруга дорогая! В поле битвы пыл свой устремляя, Этой дланью я храню Пергам. За богов священную обитель Я паду и — родины спаситель — Отойду к стигийским берегам. Андромаха Не греметь твоим доспехам боле; Ржавый меч твой пролежит в неволе, И Приама оскудеет кровь; В область мрака ты сойдешь отныне, Где Коцит слезится по пустыне… Канет в Лету Гектора любовь! Гектор Весь мой пыл, все мысли и стремленья Я залью волной реки забвенья, Но не чистый пламенник любви… Чу, дикарь у стен уж кличет к бою. Дай мне меч и не томись тоскою — Леты нет для Гектора любви. 1854Иоганн Вольфганг Гете
285. Песнь арфиста
Нет, только тот, кто знал Свиданья жажду, Поймет, как я страдал И как я стражду. Гляжу я вдаль… нет сил, Тускнеет око… Ах, кто меня любил И знал — далёко! Вся грудь горит… Кто знал Свиданья жажду, Поймет, как я страдал И как я стражду. 1857Генрих Гейне
286.
Ветер воет меж деревьев, Мрак ночной вокруг меня; Серой мантией окутан, Я гоню в лесу коня. Впереди меня порхают Вереницы легких снов И несут меня на крыльях Под давно желанный кров. Лают псы; встречают слуги У крыльца с огнем меня; Я по лестнице взбегаю, Шумно шпорами звеня. Освещен покой знакомый, — Как уютен он и тих, — И она, моя царица, Уж в объятиях моих. Ветер воет меж деревьев, Шепчут вкруг меня листы: «Сны твои, ездок безумный, Так же глупы, как и ты». 1858287.
Рано утром я гадаю: Будешь ты иль нет? Грустно голову склоняю Вечером в ответ. Ночью, слабый, изнуренный, Я не сплю с тоской, И в дремоте, полусонный, Грежу день-деньской. 1860288.
Я сначала струсил, позже Думал — этакий простак! — «Не снести мне…» Вот и снес же — Но не спрашивайте: как? 1860Андре Шенье
289. Амимона
Привет тебе, привет, певучая волна! Ты принесешь ко мне младую Амимону: На легком челноке плывет ко мне она, Вверяясь твоему изменчивому лону, И ветерок над ней покров девичий вьет… Не так ли некогда, в объятья бога вод, Под неусыпною охраной Гименея, Фетида мчалася к прибрежиям Пенея, Держася за бразды и трепетно скользя По влажному хребту проворного дельфина?.. Но если бы тебя, красавица моя, Прияла невзначай кристальная пучина, Поверь — твоя краса и твой невинный вид Внезапным ужасом подводных дев смутили, И вряд ли бы тебе на помощь поспешили Чернокудрявые станицы нереид!.. Опида, Кимадос и белая Нерея Глядели б на тебя, от зависти краснея, Досадуя, что взор пытливый их не мог Открыть в твоем лице какой-нибудь порок, И каждая из них любимого ей бога Поспешно б увлекла из водного чертога, Подальше от тебя, под сень прибрежных скал, Где в гроты темные сплетается коралл, И там бы слышал бог ревнивые укоры За то, что на тебе остановил он взоры. 1855Пьер-Жан Беранже
290. Трын-трава
Всё — обман, всё — мечты, всё на-вын-тараты В современном мире; Что ни женщина — ложь, что ни вывеска — тож, И лишь избранным на грош Верят в долг в трактире… Нет игры, чтоб нас судьба Не обыгрывала… Ба! Что ж робеть в неравном споре? Заложить вовсю сперва: По колено будет море, И весь проигрыш и горе — Трын-трава! Вести грустные есть, а последняя весть — Просто наказанье: Все купцы говорят, что неслыханный град Так и выбил виноград В дорогой Шампанье! Нет игры, чтоб нас судьба Не обыгрывала… Ба! Что ж робеть в неравном споре? Заложить вовсю сперва: По колено будет море, И весь проигрыш и горе — Трын-трава! Позабудьте про долг, он вас по боку — щелк, В силу парагрáфа Икс-статьи, игрек-том, — и в скорлупку весь дом! Да сдерут еще потом Кое-что и штрафы… Нет игры, чтоб нас судьба Не обыгрывала… Ба! Что ж робеть в неравном споре? Заложить вовсю сперва: По колено будет море, И весь проигрыш и горе — Трын-трава! Верно, создан так свет, что в нем верного нет… Чинно и в покое Сядешь пить вшестером, а глядишь, вечерком — Уж заснули под столом Двое или трое… Нет игры, чтоб нас судьба Не обыгрывала… Ба! Что ж робеть в неравном споре? Заложить вовсю сперва: По колено будет море, И весь проигрыш и горе — Трын-трава! И с одной иногда даже Марсу беда Под любовной сетью: Стало быть, несчастлúв был я, двух полюбив, И не знаю, как я жив, Полюбивши третью… Нет игры, чтоб нас судьба Не обыгрывала… Ба! Что ж робеть в неравном споре? Заложить вовсю сперва: По колено будет море, И весь проигрыш и горе — Трын-трава! Не судите, кляня, а простите меня… Я хандрю немало — Я боюсь типуна: отобьет от вина — И не пить уж мне до дна, Как я пил, бывало… Нет игры, чтоб нас судьба Не обыгрывала… Ба! Что ж робеть в неравном споре? Заложить вовсю сперва: По колено будет море, И весь проигрыш и горе — Трын-трава.291. Простолюдин
Вот новость! Говорят мне, будто я из чванства К моей фамилии частицу де придал, — И говорят друзья! Я сам не раз слыхал: «Не правда ли, ведь вы из старого дворянства?» — Нет, нет и трижды нет! Какой я дворянин! Люблю я родину, свободу, Но и по племени, по роду — Простолюдин, простолюдин! Зачем с частицей де меня на свет рождали? В моей крови звучит таинственный глагол, Что пращуры мои за страшный произвол Владыку гордого под пыткой укоряли. Но сельским жерновом тогда был господин, И под собою он упорно Молол в муку людей, как зерна… Нет! я — совсем простолюдин! И пращуры мои, как жадные вампиры, Не пили пот и кровь невольников своих, И мирным гражданам, в дубровах вековых, Не наводили страх их мирные секиры. Ни одного из них не превратил Мерлин, Волшебной силою дурмана, В постельничьи у Карломана… Нет! я — совсем простолюдин! И пращуров моих честнáя алебарда Не обагрялася в междоусобный бой; И, Альбиону в честь, над городской стеной Никто не водружал хоругви леопарда; И избегали всех духовных паутин Они, как тягостной вериги, И не подписывали лиги… Нет! я — совсем простолюдин. Оставьте же меня при нашем сельском стяге… Вам, господа, и крест, и ленты, и звезда, А мне, убогому, позвольте, господа, Вовек не изменять ни долгу, ни присяге! И пусть останется навеки властелин В своем углу, и пусть с участьем Склоняет только пред несчастьем Свой сельский стяг простолюдин! 1860Джон Мильтон
292. Потерянный рай
Из песни I
И девять раз уже сменилось время, Мерило дня и ночи для людей, Как Сатана, со скопищем проклятым, Лежал, в горящей пропасти вращаясь, Разбитый, сокрушенный, хоть бессмертный. Но вместе с тем ему иная кара — И бóльшая — была присуждена: Его с тех пор терзать долженствовали Две мысли — об утраченном блаженстве И муках, нескончаемых вовеки. Уныло он вокруг бросает взоры, Горящие и скорбию мятежной, И гордой, закоснелою враждою. И вдаль он смотрит — и везде, куда Достигнуть может ангельское око, Он видит лишь ужасную пустыню, Обширную и дикую темницу, Округлую со всех сторон, подобно Горнилу распаленному; но пламя Не изливает света в ней, а только — Мрак видимый, способный озарить Мерцанием ужасные предметы, Страну печалей, горестные сени, Где никогда не могут обитать Ни тишина, ни мир; куда надежда, Всем близкая, ни разу не достигла; Где муки пытки длятся бесконечно; Где жупел несгораемый питает Всечасно прибывающий поток Огня геенны. Такова обитель, Назначенная вечным правосудьем Мятежникам. Их мрачная темница Удалена от бога и от света На расстоянье, большее трикраты, Чем от земного средоточья полюс. О, как несхожа эта бездна с высью, Откуда духи сверженные пали! И вот своих сообщников в паденьи, Затопленных горящими волнами, Средь ярых вихрей бурного огня Узрел он вскоре, и с собою рядом Узрел в мученьях скорченного духа, Совместника по силе и нечестью, Того, к кому, чрез веки, Палестина, Постыдно поклонялся, взывала: «Веэльзевул!»… <1858>Моравские песни
293. Старый муж
У молодки Наны Муж, как лунь, седой… Старый муж не верит Женке молодой: Разом домекнулся, Что не будет прок, — Глаз с нее не спустит; Двери на замок. «Отвори каморку — Я чуть-чуть жива: Что-то разболелась Сильно голова, — Сильно разболелась, Словно жар горит… На дворе погодно: Может, освежит». «Что ж? открой окошко, Прохладись, мой свет!» Хороша прохлада, Коли друга нет! Нана замолчала, А в глухой ночи Унесла у мужа Старого ключи. «Спи, голубчик, с богом, Спи да почивай!» И ушла тихонько В дровяной сарай. «Ты куда ходила, Нана, со двора? Волосы — хоть выжми, Шубка вся мокра…» «А телята наши Со двора ушли, Да куда ж? — к соседке В просо забрели. Загнала насилу: Разбежались все… Я и перемокла, Ходя по росе!» Видно, лучше с милым Хоть дрова щепать, Чем со старым мужем Золото считать. Видно, лучше с милым Голая доска, Чем со старым мужем Два пуховика… 1856294. Лучше
Лучше куколя пшеница — Лучше вдовушки девица; Лучше золото свинца — Лучше молодец вдовца. 1856295. Смерть матери
«Тятенька-голубчик, где моя родная?» — «Померла, мой светик, дочка дорогая!» Дочка побежала прямо на могилу, Рухнулася наземь, молвит через силу: «Матушка родная, вымолви словечко!» — «Не могу: землею давит мне сердечко…» «Я разрою землю, отвалю каменье… Вымолви словечко, дай благословенье!» «У тебя есть дома матушка другая». — «Ох, она не мать мне — мачеха лихая! Только зубы точит на чужую дочку: Щиплет, коли станет надевать сорочку; Чешет — так под гребнем кровь ручьем сочится; Режет ломоть хлеба — ножиком грозится!» 1856Волынские песни
296. Три сестры
В поле широком железом копыт Взрыто зеленое жито… Там, под плакучей березой, лежит Молодец, тайно убитый. Молодец, тайно убитый, лежит, Тайно в траву схороненный: Весь он, бедняжка, китайкой накрыт, Тонкой китайкой червонной. Вот под березу девица пришла — Розой она расцветала, — С молодца тихо китайку сняла, Страстно его целовала. Вот и другая девица пришла — Глазки сияли звездами, — С молодца тихо китайку сняла, Вся залилася слезами. Третья пришла — и горел ее взор… Молвила: «Спит — не разбудишь… Спи, мой молодчик: теперь трех сестер Больше любить ты не будешь!» 1856297. Бездолье
Пташка в поле, рыбка в тине Резвятся на воле… Одному мне, сиротине, ==Нет на свете доли. Оседлаю я, детина, С ночи вороного… «Отпускай, старуха, сына, Снаряжай родного». Сына мать благословляла В дальний путь-дорогу, Целовала-миловала, Поручала богу. Мчится пóд небом туманным Сокол: «Соколина! Ты летел над полем бранным: Не видал ли сына?» «Видел: спит он с полуночи — В головах ракита; Удалому вырвал очи Ворон-ненасыта». Как всплеснет она руками: «Ох вы, дети, дети! Пропадать теперь мне с вами Сиротой на свете!» 1858Яков Щеголев
298. Песня
Ох, был конь и у меня — Весь из полымя-огня, Были сабля и винтовка И колдунья-чернобровка. Турок борзого словил, Лях мне саблю иззубрил, А винтовка изломалась, А колдунья отчуралась. По Буджацким по степям Путь казацким бунчукам, А мне путь один — с сохою, По-над нивою сухою. Гей, гей, гей, вол черный мой! Долго нам пахать с тобой… Ветер веет-повевает… Котелочек закипает… Кто б меня повеселил — Хлеб-соль вместе разделил? Ой, кто в поле — покажися! Кто в дуброве — отзовися! Никого… В дуброве гул; Месяц в облачко нырнул; Ветер веет-повевает; Котелочек простывает… 1859Н. В. Берг
Из «Краледворской рукописи»
299. Венок
Как подул, повеял ветер Из дубравы Княженецкой. Прибежала красна девка Зачерпнуть воды на речку. Глядь: а к ней венок зеленый По волне плывет студеной. Перевит венок цветами, Алой розой, васильками. Вот она ведро становит И венок зеленый ловит, Да, ловивши, оступилась, В воду с берега скатилась. «Кабы ведала я, знала, Чья рука тебя сажала, Мой венок, венок зеленый: Я тому позолочёный Подарила бы в гостинец Дорог перстень на мизинец. Кабы ведала я, знала, Чья рука тебя срывала, Чья рука тебя срывала, Тонким шелком увивала: Я тому бы втихомолку Из косы дала иголку. Кабы ведала я, знала, Чья рука тебя кидала, Мой венок, венок зеленый, На простор волны студеной: Я дала б тому веночек. Пусть наденет мил дружочек!»300. Песня под Вышеградом
Гой ты, солнце ясно, Вышеград наш крепкий! Что стоишь высоко Твердою твердыней, Твердою твердыней, Страхом сопостату! Под тобою речка Быстры волны катит, Под тобою речка, Ярая Влетава. Близко той Влетавы, Той Влетавы чистой, Выросла дубрава — Летняя прохлада. Весело там песни Соловей заводит, Весело и смутно: Как его сердечко Скажет и прикажет. Ах! зачем не пташка Я, не соловейка: Полетел бы в поле — Там, в широком поле, Вечерами поздно Милая гуляет. Всех об эту пору, Всех любовь тревожит; Всякое созданье В час вечерний просит У любви отрады. Так и я, бедняга, Всё тужу по милой. Сжалься, дорогая, Ты над горемыкой! <1846>Проспер Мериме
301. Морлах в Венеции
Когда мне подруга Моя изменила И храброе сердце Во мне приуныло, — Однажды, я помню, Той смутной порою Далмат повстречался Коварный со мною. «Возьми-ка, — он молвил, — Винтовку лихую, Пойдем-ка с тобою В столицу морскую! Житье, Алексеич, Там нашему брату, Душою там рады Лихому солдату; Там денег что камню, Богаты мы будем, Какие долманы Себе мы добудем! Нам грудь золотыми Унижут кистями И алую шапку Дадут с галунами! А красные девки!.. Как станем порою По селам веселым Бродить мы с тобою, — Споют, Алексеич, Нам песню такую… Пойдем, брат, скорее В столицу морскую!» Поддался я, глупый, На хитрые речи, Не думая, вскинул Винтовку на плечи — И вот очутился От милого края Далёко, далёко… Но счастья не знаю! Как пес, я прикован, И рвусь и тоскую, И в хлебе насущном Отраву я чую; И девичья песня Души не забавит, И воздух заморский Всё душит и давит! Не ищут со мною Красавицы встречи: Пугают их, что ли, Им чуждые речи. Соотчичей старых Не мог распознать я: По нраву, по речи Мне братья — не братья! От них не услышишь Родимого слова, Не скажешь им: братцы, Здорово, здорово! Покинул давно бы Я сторону эту: Есть сила, есть крылья, Да — волюшки нету! <1846>Из сербских народных песен
302. Зейнино заклятие
Полотно ткала — сидела Зейна, Полотно ткала на огороде. Мать приходит звать ее на ужин: «Слышишь, Зейна, ужинать пойдем-ка! Поедим-ка сахарной баклавы!» Дочь на это с сердцем отвечает: «Без меня пускай отходит ужин! Не до ужина мне, горькой, нынче: От тоски болит и ноет сердце! Приходил ко мне сегодня милый, Ощипал мои цветы-цветочки, Оборвал в стану шелковы нитки. Побраним его с тобою вместе: Грудь моя, ты будь ему темницей! Руки белые — на шее цепью! А уста ему пусть очи выпьют!» <1847>303. Не бери подруги!
Побратим ты мой, Побратим Иван, Как не грех тебе: Досадил ты мне! Красна девица За тебя идет! Так и просится Сабля вострая Зарубить тебя, Брата-недруга! Не бери моей, Брат, подруженьки! Нашим всем она Полюбилася: Моему отцу — Златом-серебром; Моей матери — Родом-племенем; А сестрам моим — Долгим волосом; Мне же, молодцу, — Чернотой очей, Что черны у ней, Как осення ночь. Не бери ж моей, Брат, подруженьки! <1847>304. Рыба и дева
Дева ý моря сидела, Говоря сама с собою: «Боже сильный! Боже правый! Что на свете шире моря? Что на свете долже поля? Что быстрей коня лихого? Что вкусней и слаще меда? Что милей родного брата?» Из воды ей рыба молвит: «Ах ты, дева, зелен разум! Небо шире синя моря; Море долже чиста поля; Взор быстрей коня лихого; Белый сахар слаще меда; А милóй милее брата». <1847>305. Милый и немилый
На лугу пасется белый конь, Час пасется, два он слушает, Как свою родную матушку Молит девица-красавица: «Не давай меня ты, матушка, За немилова, неласкова! Лучше с милым по горам ходить, Воду с листьев дождевую пить, Заедать колючим тернием, Спать на голой, на сырой земле, Чем с немилым в терему большом Белый сахар есть и нежиться На шелку всё да на бархате!» <1847>306. Воспоминание
«Милая! ты замужем уж нынче?» — «Да, мой милый, и кормлю ребенка; Я дала ему твое прозванье: Коли станет на сердце мне горько И к себе я подзываю сына, Я не кличу: „Подойди-ка, сын мой!“ Говорю я: „Подойди-ка, милый!“» <1847>307. Когда горько сердцу
Ты потьмой полна, гора чернá! Так и ты, мое сердечушко, Полно горечью становишься, Коли я смотрю на милого, Да не смею целовать его! <1847>308. Не сердись на меня
Не сердись ты, милая, на друга, А не то как сам я рассержуся — Вся нас Босна помирить не сможет, Босна вся и вся Герцеговина! <1847>309. Юноша и дева
«Ах, душа ты красная девица, Ты на что глядела, вырастая? На зеленый, что ли, бор глядела? Аль на елку тонку и высоку? Аль на брата моего меньшого?» — «Ах ты, молодец, мой сокол ясный! Не на зелен бор глядя, росла я, Ни на елку тонку и высоку, Ни на брата твоего меньшого, Но глядела, друг мой, вырастая, На тебя я всё, млада, глядела!» <1847>310. Черное письмо в черный час
В эту ночь письмо ко мне приходит В черный час и с черною печатью, С красными, кровавыми словами: Говорит оно о красной деве, О моей изменщице-подруге, Что выходит, видишь, скоро замуж За какого-то Бегич-Асан-Агу И меня зовет к себе на свадьбу. Как мне, горькому, идти на праздник? Как дадут веселую мне чарку — За невестино здоровье выпить, — Что сказать мне, я не знаю, право! Одолею ль я в ту пору сердце? То ль скажу: здорово, дорогая! То ль скажу, изменщица, здорово! <1847>311. Мать и дочь
Пробежал молодец, Пробежал по селу; Я впотьмах, молода, Проглядела его, — Стало мне на душе Тяжело таково! «Ах, родная моя, Позови молодца!» — «Что тебе в молодце? Видишь, он не простой, Не простой, городской: Надо пива ему, Надо ужин собрать И постелю потом Городскую постлать!» — «Ах, родная моя, Позови молодца! Вместо пива ему — Черны очи мои; Вместо хлеба ему — Белы щеки мои; А закускою будь — Лебединая грудь; А постель молодцу — Мурава на лугу; А покров — небеса; В голова же ему Дам я бело плечо, Я плечо горячо! Ах, родная моя, Позови молодца!» <1847>312. Девица на городских воротах
Сокол взвился высóко, Вскинул крылья широко, Оглянулся направо, Оглянулся, увидел Городские ворота, На воротах девица, Только-только умылась И бровями поводит, У нее белы плечи Будто снег забелелись; Подле мóлодец добрый, Говорит ей он тихо, Говорит таки речи: «Запахни свои плечи! Не смотри прямо в очи: Мне глядеть нету мочи!» <1857>313. Женитьба воробья
Как задумал воробей жениться, Стал он сватать девицу синицу; Трú раза он по полю пропрыгал И четыре по горе высокой, Сватал, сватал, наконец сосватал; Взял в дружки он пегую сороку, В деверья хохлатую чекушу, В посаженые отцы витютня, В кумовья болотную чапуру, А в прикумки птицу шеверлюгу. Собирались сваты по невесту И дошли до ней благополучно, Но как стали возвращаться к дому И пошли через Косово поле, Говорит им так синица птица: «Не шумите, господа вы сваты, Вы не спорьте, громко не гуторьте! А не то ударит с неба кобчик И отымет он у вас невесту!» Только что она проговорила, Как откуда ни возьмися кобчик: Ухватил девицу он синицу, Кто куда все сваты разбежались, Сам жених в овсяную солому, А дружко-сорока на березу! <1857>Из украинских народных песен 314. Коломыйки (1–5)
1
Кабы мне да не робенок, я не знала б скуки, Да связал мне мой робенок, связал мне он руки. Кабы мне да не чепец, не платочек алый, Я играла б что в пруде гусь-гусенок малый.2
Как пойдете, хлопцы, в танец, буки в обе руки: У соседки-то у нашей зубы как у суки!3
Ой, все куры на насести, кочет на пороге; Все солдаты úдут в хаты, милый мой в дороге.4
Выйду, выйду на село, посередке стану: Шлет мне милая пирог, другая сметану.5
Не туда ли гнутся лозы, где место положе? Не туда ли смотрят очи, куда сердце хочет? <1857>Из литовских народных песен
315. Ворон
Кружúтся черный ворон, На землю опустился, В когтях своих он держит, Он держит белу руку И золото колечко. «Скажи мне, черный ворон, Где взял ты белу руку И золото колечко?» — «Я был на поле битвы, Там люди страшно бились, От сабель от булатных Там иверни летели, Там кровь лилась рекою, И не один там плакал Отец по милом сыне!» — «Ах, ворон, черный ворон! Отдай мое колечко! Знать, милый-ненаглядный Домой уж не вернется!» <1857>Из словацких народных песен
316. Белград
Конь под Белградом стоит вороной, На нем сидит, Кровью покрыт, Миленький мой. Знаешь ли, мúла, как битва живет? Видишь — с меня, Видишь — с коня Кровь так и льет! Знаешь ли, мúла, какой наш обед? Наша еда — Хлеб да вода, Вот наш обед! Знаешь ли, мúла, где буду я спать? Там, где убьют, Там погребут, Там мне лежать! Знаешь ли, кто у меня звонарем? Раненых стон, Сабельный звон, Пушечный гром! <1857>317. Старый разбойник
На горах высокиих Óгнище разложено; Кто ж там подле óгнища? Двенадцать разбойников, Атаман тринадцатый, Старый, весь израненный: «Братцы вы, товарищи, Разломите надвое Мою востру сабельку, Что одним-то кончиком Мне снимите голову, А другим копайте мне Во поле могилушку». <1857>Из польских народных песен 318. Краковяки (1—10)
1
Скачет, скачет конь мой борзый, по полю он скачет; Не скажу я никому, что это всё значит. Скачет, машет конь ретивый своей черной гривой; Ах, не верьте вы, не верьте девице спесивой!2
Свищут, свищут соловьи, песенки заводят; Нынче молодцам не верь: всех они проводят; Нынче молодцам не верь, да и девкам тоже, Знать, такая вышла мода, ни на что не гожа!3
Брошу эти страны И махну туды я, Где у старых панов Жены молодые.4
Сяду, сяду на коня, Стремечко из стали: Помни, помни, как меня Звали, прозывали!5
Чтобы вы узнали истого поляка, Пропою, танцуя, вам я краковяка.6
Сивая кобыла, да рыжая грива, Хоть не статен, не хорош, да порхаю живо!7
Сказывают люди — и что им за дело! — Что девица с молодцом вечером сидела.8
Наша хата, наша хата повалится скоро; Ах, как же ей не валиться, коли подле бора.9
Сизый селезень плывет через сине море; Мой сосед сегодня весел, мне печаль и горе.10
Я поеду чрез деревню, сниму с себя шапку, Старой матушке поклон, дочь ее в охапку! <1857>Из французских народных песен
319. Смерть и погребение непобедимого Мальбрука
Мальбрук в поход поехал, Миронтон, миронтон, миронтень, Мальбрук в поход поехал, Ах, будет ли назад? Назад он будет к Пасхе, Миронтон, миронтон, миронтень, Назад он будет к Пасхе Иль к Троицыну дню. День Троицын проходит, Миронтон, миронтон, миронтень, День Троицын проходит, Мальбрука не видать. Мальбрукова супруга, Миронтон, миронтон, миронтень, Мальбрукова супруга На башню всходит вверх. Пажа оттуда видит, Миронтон, миронтон, миронтень, Пажа оттуда видит, Он в черном весь одет. «Ах, паж мой, паж прекрасный, Миронтон, миронтон, миронтень, Ах, паж мой, паж прекрасный, Что нового у вас?» «Принес я весть дурную, Миронтон, миронтон, миронтень, Принес я весть дурную: Пролить вам много слез! Оставьте алый бархат, Миронтон, миронтон, миронтень, Оставьте алый бархат И светлый свой атлас! Мальбрук наш славный умер, Миронтон, миронтон, миронтень, Мальбрук наш славный умер И в землю погребен. Четыре офицера, Миронтон, миронтон, миронтень, Четыре офицера За гробом шли его. Один его кольчугу, Миронтон, миронтон, миронтень, Один его кольчугу, Другой кирасы нес. А третий меч булатный, Миронтон, миронтон, миронтень, А третий меч булатный, Четвертый — ничего. Вокруг его могилы, Миронтон, миронтон, миронтень, Вокруг его могилы Фиалки расцвели. И соловей на ветке, Миронтон, миронтон, миронтень, И соловей на ветке, И соловей запел. Над гробом поднялася, Миронтон, миронтон, миронтень, Над гробом поднялася Мальбрукова душа. Упал на землю всякий, Миронтон, миронтон, миронтень, Упал на землю всякий, Упал и после встал. Чтоб петь его победы, Миронтон, миронтон, миронтень, Чтоб петь его победы И подвиги его. Когда ж его зарыли, Миронтон, миронтон, миронтень, Когда ж его зарыли, Легли все отдыхать. Один сам-друг с женою, Миронтон, миронтон, миронтень, Один сам-друг с женою, Другие — как пришлось. Там было много всяких, Миронтон, миронтон, миронтень, Там было много всяких, Я видел это сам. Блондинок и брюнеток, Миронтон, миронтон, миронтень, Блондинок, и брюнеток, И рыжих, и седых». Теперь мы всё пропели, Миронтон, миронтон, миронтень, Теперь мы всё пропели, И песне той конец! <1857>Адам Мицкевич 320—324. Крымские сонеты
Штиль на море
Едва дрожит простор волны хрустальной, Как спящей девы млеющая грудь, И полог у нее опочивальный Зефир крылом не смеет шевельнуть. Корабль стоит, не двигаясь ничуть; Матрос забыл чужбины берег дальный, Тяжелый труд и странствий бег печальный И может безмятежнее вздохнуть. О, море! спят в минуту непогоды Чудовища твоих глубоких вод… Так и во мне тревожный змей живет; Он долго спит… проходят дни и годы… Но чуть блеснет коварный луч свободы — Проснется он и кольца разовьет! <1845>Аккерманские степи
Плыву среди сухого океана, В волнах цветов ныряет легкий воз, Минуя куст колючего бурьяна И острова коралловые роз. Не видно ни дороги, ни кургана; Сиянье звезд по небу разлилось, А там, вдали, как зарево зажглось: То блещет Днестр — лампада Аккермана! Какая тишь! трава не шелохнет! Кругом меня вся ночь живет и дышит; Вон, журавлей мне слышится полет; Чу, мотылек во тьме траву колышет, И легкий ветер ласково поет… Какая тишь! откликнись, мой народ: В такой тиши мой дух тебя услышит!.. Поедем: голосу никто не подает! <1846>Отплытие
Ударил ветр! кишат морские чуды; Матрос повис на сети, как паук; Вот тронулся корабль высокогрудый И побежал с полуночи на юг! Напрасны волн упрямые усилья: Борец летит по степи водяной, Он ураган захватывает в крылья, И облака он режет головой. И я лечу! я грудью налегаю — И кажется, быстрей корабль пошел, Как будто бы ему я помогаю, И любо мне: теперь я сам орел! <1846>Буря
Чернеют небеса; легли на волны тени; Светило бледное погасло в тучах мглы; Робеют путники; повсюду крики, пени… Шквал, буря! — и корабль помчало на скалы! Бушуют горы волн, то мрачны, то светлы, И дерзостной стопой на влажные ступени Восходит гибели могущественный гений, Как воин, вражие штурмующий валы. Кто плачет, кто спешит с товарищем проститься, Кто взоры к небесам молящие возвел, Кто на колени пал и набожно крестится… Один лишь к стороне безмолвно отошел И думал про себя: счастлив, кто бурь боится, Кто веру сохранил и может помолиться! <1858>Вид гор от Евпатории
Странник Аллах ли там простер стеною море льду? Для тронов ангелам сковал свои туманы? Иль дивы провели по высям борозду, Чтоб сдерживать светил бродящих караваны? А там: что за пожар у путника в виду? Быть может, то Аллах, как стихнет день румяный И вечер свой покров раскинет над поляной, Для смертных в небесах затеплил ту звезду? Мирза-проводник Там? был я: там зима и хладные метели! Полету облаков назначен там предел; Истоки ярых вод у ног моих шумели; Дохнул я в высоте: в дыханьи снег летел! Там спящую грозу я видел в колыбели, Где в небе надо мной лишь месяц пламенел… То — Чатырдаг… <1860>А. В. Дружинин
Джордж Гордон Байрон
325. Стихи, написанные при получении известия о болезни леди Байрон
Страдала ты — и не был я с тобою! Грустила ты — и я бродил вдали! Зачем Беда с сестрой своей Тоскою, Нежданные, отсель к тебе пришли? Я предсказал тебе их посещенье, Предвидел я гонения следы, И за борьбой минуты расслабленья, И скорбный час унынья и беды… Не в битвы час, не в грозный час разлуки Мы вечного всем сердцем жаждем сна, Но в тяжкий миг затишья после муки, Когда при нас осталась жизнь одна. Так, я отмщен! Судьбой своей гонимый, Я грешен был, я мог преступен быть; Но не тебе, не женщине любимой Господь велел грехи мои казнить! И долго ты не будешь знать покоя, И много бед еще переживешь; В моей груди посеяв горе злое, Ты горький плод в душе своей пожнешь! И пусть льстецы исполнены вниманья, И вкруг тебя пускай теснится свет: Безжалостным не будет состраданья, Безжалостным на небе места нет! Я много жил и был богат врагами, И в честный бой ходил прямым путем: Я мстил врагам иль делал их друзьями; Но ты была неведомым врагом! Средь тишины и страсти безмятежной Таинственно свершая дело зла, Ты в слабости пленительной и нежной, Как бы в броне, закована была. И тихо шла извилистой тропою, В моей груди согретая змея… Хвались теперь: свершила ты со мною, Чего с тобой не мог бы сделать я! 1853А. Н. Плещеев
Генрих Гейне
326. Барабанщик
Возьми барабан и не бойся, Целуй маркитантку звучней! Вот смысл глубочайший искусства, Вот смысл философии всей! Сильнее стучи и тревогой Ты спящих от сна пробуди! Вот смысл глубочайший искусства; А сам маршируй впереди! Вот Гегель! Вот книжная мудрость! Вот дух философских начал! Давно я постиг эту тайну, Давно барабанщиком стал! 1846327.
Долго в этой жизни темной Образ милый мне блистал; Но исчез он — и, как прежде, Я бродить в потемках стал. Как ребенок запевает Песню громкую впотьмах, Чтобы ею хоть немного Разогнать свой детский страх, — Так, ребенок безрассудный, В темноте пою и я: Песня, может, не забавна, Да тоска прошла моя. 1846328.
Красавицу юноша любит, Но ей полюбился другой; Другой этот любит другую И нáзвал своею женой. За первого встречного замуж Красавица с горя идет, А бедного юноши сердце Тоска до могилы гнетет. Старинная сказка! Но вечно Останется новой она, И лучше б на свет не родился Тот, с кем она сбыться должна! <1859>329. Разговор в дубраве
«Слышишь, к нам несутся звуки Контрабаса, флейты, скрипки! Это пляшут поселянки На лугу, под тенью липки». «Контрабасы, флейты, скрипки! Уж не спятил ли с ума ты? Это хрюканью свиному Вторят с визгом поросята». «Слышишь, как трубит охотник В медный рог свой в чаще темной? Слышишь, как ягнят сзывает Пастушок волынкой скромной?» «Я не слышу ни волынки, Ни охотничьего рога, — Вижу только свинопаса, Что идет своей дорогой». «Слышишь пенье? Сладко в душу Льется песня неземная; Веют белыми крылами Херувимы, ей внимая…» «Бредишь ты! Какое пенье И какие херувимы? То гусей своих мальчишки, Распевая, гонят мимо». «Колокольный звон протяжный Раздается в отдалении; В бедный храм свой поселяне Идут, полны умиленья». «Ошибаешься, мой милый: И степенны и суровы, С колокольчиками úдут В стойло темное коровы». «Посмотри: между ветвями Платье белое мелькает; То идет моя подруга, Счастьем взор ее блистает!» «Вот потеха! Иль не знаешь Ты лесничихи-старушки? Целый день с клюкою бродит У лесной она опушки». Все вопросы фантазера Осмеял ты ядовито… Одного ты не разрушишь, Что глубоко в сердце скрыто… <1872>Мориц Гартман
330. Молчание
Ни слова, о друг мой, ни вздоха… Мы будем с тобой молчаливы… Ведь молча над камнем могильным Склоняются грустные ивы… И только, склонившись, читают, Как я в твоем взоре усталом, Что были дни ясного счастья, Что этого счастья — не стало! 1861Роберт Саути
331. Бленгеймский бой
Прохладный вечер наступил, Сменив палящий зной. У входа в хижину свою Сидел старик седой. Играла внучка перед ним С братишкой маленьким своим. И что-то круглое в траве Бросали всё они. Вдруг мальчик к деду подбежал И говорит: «Взгляни, Что это мы на берегу Нашли: понять я не могу». Находку внучка взяв, старик Со вздохом отвечал: «Ах, это череп! Кто его Носил — со славой пал. Когда-то был здесь жаркий бой — И не один погиб герой. В саду костей и черепов Не сосчитаешь, друг! И в поле тоже: сколько раз Их задевал мой плуг. Здесь реки крови протекли И храбрых тысячи легли». «Ах, расскажи нам, расскажи Про эти времена! — Воскликнул внук. — Из-за чего Была тогда война?» Затихли дети, не дохнут: Чудес они от деда ждут. «Из-за чего была война, Спросил ты, мой дружок; Добиться этого и сам Я с малых лет не мог. Но говорили все, что свет Таких не видывал побед. В Бленгейме жили мы с отцом… Пальба весь день была… Упала бомба в домик наш — И он сгорел дотла. С женой, с детьми отец бежал: Он бесприютным нищим стал. Всё истребил огонь, и рожь Не дождалась жнеца. Больных старух, грудных детей Погибло без конца. Как быть! На то война, и нет, Увы, без этого побед! Мне не забыть тот миг, когда На поле битвы я Взглянул впервые. Горы тел Лежали там, гния. Ужасный вид! Но что ж? Иной Побед нельзя купить ценой. В честь победивших пили все: Хвала гремела им». — «Как? — внучка деда прервала, — Разбойникам таким?» — «Молчи! гордиться вся страна Победой славною должна. Да! принц Евгений и Мальброг Тот выиграли бой». Тут мальчик перебил: «А прок От этого какой?» — «Молчи, несносный дуралей! Мир не видал побед славней!» 1871Джордж Гордон Байрон
332. Августе
Когда был страшный мрак кругом И гас рассудок мой, казалось, Когда надежда мне являлась Далеким, бледным огоньком; Когда готов был изнемочь Я в битве долгой и упорной, И, клевете внимая черной, Все от меня бежали прочь; Когда в измученную грудь Вонзались ненависти стрелы, — Лишь ты, во тьме, звездой блестела И мне указывала путь. Благословен будь этот свет Звезды немеркнувшей, любимой, Что, словно око серафима, Меня берег средь бурь и бед. За тучей туча вслед плыла, Не омрачив звезды лучистой; Она по небу блеск свой чистый, Пока не скрылась ночь, лила. О, будь со мной! Учи меня Иль смелым быть, иль терпеливым: Не приговорам света лживым — Твоим словам лишь верю я! Как деревцо стояла ты, Что уцелело под грозою И над могильною плитою Склоняет верные листы. Когда на грозных небесах Сгустилась тьма и буря злая Вокруг ревела не смолкая, — Ко мне склонилась ты в слезах. Тебя и близких всех твоих Судьба хранит от бурь опасных; Кто добр — небес достоин ясных: Ты прежде всех достойна их. Любовь в нас — часто ложь одна; Но ты измене недоступна, Неколебима, неподкупна, Хотя душа твоя нежна. Всё той же верной встретил я Тебя в дни бедствий, погибая, И мир, где есть душа такая, Уж не пустыня для меня! 1872Из шотландских народных баллад
333. Джони Фа
Пред замком шумная толпа Цыган поет, играет… Хозяйка замка вниз сошла И песням их внимает… «Пойдем, — сказал ей Джони Фа, — Красавица, со мною, И мужу не сыскать тебя, Ручаюсь головою!..» И обнял правою рукой Красавицу он смело, Кольцо на палец Джони Фа Она свое надела. «Прощайте все — родные, муж! Судьба моя такая! Скорее плащ мне, чтоб идти С цыганами могла я. В постели пышной ночи я Здесь с мужем проводила; Теперь в лесу зеленом спать Я буду рядом с милым!» Вернулся лорд, и в тот же миг Спросил он, где супруга. «Она с цыганами ушла», — Ответила прислуга. «Седлать коней! Недалеко Еще они отсюда. Пока я не найду ее, Ни пить, ни есть не буду!» И сорок всадников лихих В погоню поскакали; Но все они до одного В лесу зеленом пали! 1881М. Л. Михайлов
Роберт Бернс
334. Джон Ячменное Зерно
Когда-то сильных три царя Царили заодно — И порешили: «Сгинь ты, Джон Ячменное Зерно!» Могилу вырыли сохой, И был засыпан он Сырой землею, и цари Решили: «Сгинул Джон!» Пришла весна, тепла, ясна, Снега с полей сошли… Вдруг Джон Ячменное Зерно Выходит из земли. И стал он полон, бодр и свеж С приходом летних дней; Вся в острых иглах голова — И тронуть не посмей! Но осень томная идет… И начал Джон хиреть, И головой поник — совсем Собрался умереть. Слабей, желтее с каждым днем, Всё ниже гнется он… И поднялись его враги… «Теперь-то наш ты, Джон!» Они пришли к нему с косой, Снесли беднягу с ног И привязали на возу, Чтоб двинуться не мог. На землю бросивши потом, Жестоко стали бить; Взметнули кверху высоко — Хотели закружить. Тут в яму он попал с водой И угодил на дно… «Попробуй выплыви-ка, Джон Ячменное Зерно!» Нет, мало! взяли из воды И, на пол положа, Возили так, что в нем едва Держалася душа. В жестоком пламени сожгли И мозг его костей; А сердце мельник раздавил Меж двух своих камней. Кровь сердца Джонова враги, Пируя, стали пить, И с кружки начало в сердцах Ключом веселье бить. Ах, Джон Ячменное Зерно! Ты чудо-молодец! Погиб ты сам, но кровь твоя — Услада для сердец. Как раз заснет змея-печаль, Всё будет трын-трава… Отрет слезу свою бедняк, Пойдет плясать вдова. Гласите ж хором: «Пусть вовек Не сохнет в кружках дно И век поит нас кровью Джон Ячменное Зерно!» <1856>Генри Лонгфелло
335. Кватронка
Повесив праздно паруса, Корабль в заливе ждал, Чтоб месяц вышел в небеса И вздулся темный вал. Причалив к берегу в челне, Рабочий люд следил, Как аллигатор полз на дне Улечься в мягкий ил. А воздух вкруг благоухал От трав и от цветов, Как будто рай порой дышал На этот мир грехов. Плантатор в шалаше своем Задумчиво курил. Купец, прибывший с кораблем, Окончить торг спешил. Он молвил: «Не гостить привел Я свой корабль в залив. Я жду, чтоб месяц лишь взошел Да начался прилив». В лице с предчувствием немым, Робка и хороша, Кватронка-девушка пред ним Стояла чуть дыша. Большие искрились глаза; По груди молодой Спускалась черная коса До юбочки цветной. Улыбки свет в лице у ней Мерцал, так свят и тих, Как свет лампад в углу церквей На лике у святых. Плантатор думал: «Стар мой дом, И проку нет в земле!» Взглянул на девушку, — потом На деньги на столе. В душе смущенной верх брала То жадность, то любовь: Он знал, чья страсть ей жизнь дала И чья текла в ней кровь. Но глубь души была черна: Он не осилил зла — И деньги взял. Тут вся она Застыла, замерла. И жертву новую свою Купец повел с собой, Чтоб быть ему в чужом краю Наложницей, рабой. <1860>Иоганн Вольфганг Гете
336. Вечерняя песня охотника
Я крáдусь полем, тих и дик; Взведен курок ружья. Опять твой светлый, милый лик В мечтаньи вижу я. Тиха, спокойна, в этот миг Гуляешь ты в полях. Мой промелькнувший бледный лик Не встал в твоих мечтах? Тоска и зло сдавили грудь… Я исходил весь свет: К востоку путь, на запад путь; К тебе — дороги нет! Но о тебе и мысль одна Мне луч во мгле ночной: Покоем вновь душа полна… Не знаю, что со мной! <1851>337. Ночная песня странника
Ты, небесный, ты, святой, Все печали утоляющий, Изнуренному борьбой Облегченье посылающий! Утомителен мой путь, Край далек обетованный… Мир желанный, Снизойди в больную грудь! <1855>338. Близость милого
С тобою мысль моя — горят ли волны моря В огне лучей; Луна ли кроткая, с туманом ночи споря, Сребрит ручей. Я вижу образ твой — когда далеко в поле Клубится прах, И в ночь, как странника объемлют поневоле Тоска и страх. Я слышу голос твой — когда начнет с роптаньем Волна вставать; Иду в долину я, объятую молчаньем, — Тебе внимать. И я везде с тобой, хоть ты далек от взора! С тобой везде! Уж солнце за горой; взойдут и звезды скоро… О, где ты? где? <1859>339. Перед судом
От кого я беременна, вам не скажу: То заветная тайна моя. Потаскушкой меня называете вы? Лжете — честная женщина я. С кем слюбилась я, этого вам не узнать; Он хорош и пригож, милый мой, В чем бы он ни ходил, в золотой ли цепи Иль в соломенной шляпе простой. Если надо насмешки сносить и позор, Их снесу я одна на плечах. Знает милый меня, знаю милого я,— И про всё знает бог в небесах. Перестаньте же, честные судьи мои, Перестаньте меня вы томить! Ведь дитя это было и будет моим, И не вам его надо кормить. <1861>340. Свиданье и разлука
Коня! Я долго дожидался — И конь почуял иглы шпор. В долине вечер расстилался, Сползала ночь с далеких гор. Гигантом грозным восставая, В туман завертывался вяз, Где сквозь кустарник тьма ночная Глядела сотней черных глаз. Луна мерцала над полями, Бледнея в дыме облаков; Чуть вея тихими крылами, Шушукал ветер. Рой духов Под тусклым возникал светилом; Но ясен мне казался путь. Какой огонь бежал по жилам! Каким огнем сгорала грудь! И я с тобой. Ты кротким взглядом Дарила радость и покой. Два наши сердца бились рядом, Дыханьем каждым был я твой. Весенним розовым мерцаньем Был милый образ твой одет. А эта нежность! упованьем Шептала мне, что счастье есть. Но солнце уж встает с ночлега, И сердце сжал разлуки страх. В твоих устах какая нега! Какая грусть в твоих очах! Со мною здесь, тоской томимым, Ты дни хотела проводить! О, что за счастье быть любимым! О, что за счастие любить! <1866>Фридрих Шиллер
341. Надовесская похоронная песня
Посмотрите! вот — посажен На плетеный одр — Как живой сидит он, важен, Величав и бодр. Но уж тело недвижимо, Бездыханна грудь… В трубке жертвенного дыма Ей уж не раздуть. Очи, где ваш взор орлиный? Не вглядитесь вы По долине в след звериный На росе травы. Ты не встанешь, легконогий! Не направишь бег, Как олень ветвисторогий, Через горный снег. Не согнешь, как прежде, смело Свой упругий лук… Посмотрите! отлетела Жизнь из сильных рук. Мир душе его свободной! — Там, где нет снегов, Там, где мáис самородный Зреет средь лугов… Где в кустах щебечут птицы, Полон дичи бор, Где гуляют вереницы Рыб по дну озер. Уходя на пир с духáми, Нас оставил он, Чтобы здесь, воспетый нами, Был похоронен. Труп над вырытой могилой Плачем огласим! Всё, что было другу мило, Мы положим с ним. В головах — облитый свежей Кровью томагок; Сбоку — окорок медвежий: Путь его далек! С ним и нож! Над вражьим трупом Он не раз сверкал, Как, бывало, кожу с чубом С черепа сдирал. Алой краски в руки вложим, Чтоб, натершись ей, Он явился краснокожим И в страну теней. <1855>Фердинанд Фрейлиграт
342. У гробовщика
«Горькое дело! страшное дело! Ляжет в досках этих мертвое тело!» «Вот еще выдумал горе какое! Нам что за дело? Не наше — чужое!» «Полно бранить! разве я виноват? Первый ведь гроб я работаю, брат». «Первый, последний ли — что за забота? Пой: веселее под песни работа. Доски распилишь — отмерь же, смотри! Выстругай глаже и стружки сбери! Доску к доске пригони поплотнее: Тесно лежать, так чтоб было теплее. Выкрасишь — дно и бока уложить Стружками надо, а сверху обить. Стружки приличней, чем пух или перья; Это старинное наше поверье. Гроб ты снесешь; а как мертвый уж в нем, Крышку захлопнул — и дело с концом!» «Всё это знаю я! Доски исправно Я распилил и их выстругал славно… Только всё дрожь не проходит в руках, Только всё слезы стоят на глазах. Струг ли, пилу ли рука моя водит — Сердце всё мрет, словно кровью исходит. Горькое дело! страшное дело! Ляжет в досках этих мертвое тело». <1860>Генрих Гейне
343. Гренадеры
Во Францию два гренадера Из русского плена брели, И оба душой приуныли, Дойдя до Немецкой земли. Придется им — слышат — увидеть В позоре родную страну… И храброе войско разбито, И сам император в плену! Печальные слушая вести, Один из них вымолвил: «Брат! Болит мое скорбное сердце, И старые раны горят!» Другой отвечает: «Товарищ! И мне умереть бы пора; Но дома жена, малолетки: У них ни кола ни двора. Да что мне? просить христа-ради Пущу и детей и жену… Иная на сердце забота: В плену император! в плену! Исполни завет мой: коль здесь я Окончу солдатские дни, Возьми мое тело, товарищ, Во Францию! там схорони! Ты орден на ленточке красной Положишь на сердце мое, И шпагой меня опояшешь, И в руки мне вложишь ружье. И смирно и чутко я буду Лежать, как на страже, в гробу… Заслышу я конское ржанье, И пушечный гром, и трубу. То Он над могилою едет! Знамена победно шумят… Тут выйдет к тебе, император, Из гроба твой верный солдат!» <1846>344. Гонец
Вставай, слуга! коня седлай! Чрез рощи и поля Скачи скорее ко дворцу Дункана-короля! Зайди в конюшню там, и жди! И если кто войдет, Спроси: которую Дункан Дочь замуж отдает? Коль чернобровую — лети Во весь опор назад! Коль ту, что с русою косой, — Спешить не надо, брат. Тогда ступай на рынок ты: Купи веревку там! Вернися шагом — и молчи: Я угадаю сам. <1848>345.
На северном голом утесе Стоит одинокая ель. Ей дремлется. Сонную снежным Покровом одела метель. И ели мерещится пальма, Что в дальней восточной земле Одна молчаливо горюет На зноем сожженной скале. <1856>346.
Полны мои песни И желчи и зла… Не ты ли отравы Мне в жизнь налила? Полны мои песни И желчи и зла… Не ты ли мне сердце Змеей обвила? <1856>347.
Как трепещет, отражаясь В море плещущем, луна, А сама идет по небу И спокойна, и ясна, — Так и ты идешь, спокойна И ясна, своим путем; Но дрожит твой светлый образ В сердце трепетном моем. <1857>348.
Я к белому плечику милой Прижался щекою плотней: Хотелось бы очень подслушать, Что кроется в сердце у ней. Трубят голубые гусары И в город въезжают толпой… Я знаю, придется, голубка, Нам завтра расстаться с тобой. Пожалуй, покинь меня завтра! Зато ты сегодня моя; Зато в этих милых объятьях Сегодня блаженствую я. <1858>349.
Трубят голубые гусары И едут из города вон… Опять я с тобою, голубка, И розу принес на поклон. Какая была передряга! Гусары — народец лихой! Пришлось и твое мне сердечко Гостям уступать под постой. <1858>350.
Брось свои иносказания И гипотезы святые! На проклятые вопросы Дай ответы нам прямые! Отчего под ношей крестной, Весь в крови, влачится правый? Отчего везде бесчестный Встречен почестью и славой? Кто виной? иль воле бога На земле не всё доступно? Или он играет нами?.. Это подло и преступно! Так мы спрашиваем жадно Целый век, пока безмолвно Не забьют нам рта землею… Да ответ ли это, полно? <1858>351. Женщина
Любовь их была глубока и сильна: Мошенник был он, потаскушка она. Когда молодцу сплутовать удавалось, Кидалась она на кровать — и смеялась. И шумно и буйно летели их дни; По темным ночам целовались они. В тюрьму угодил он. Она не прощалась; Глядела, как взяли дружка, и смеялась. Послал он сказать ей: «Зашла бы ко мне! С ума ты нейдешь наяву и во сне; Душа у меня по тебе стосковалась!» Качала она головой и смеялась. Чем свет его вешать на площадь вели; А в семь его сняли — в могилу снесли… А в восемь она как ни в чем не бывало, Вино попивая, с другим хохотала. <1858>352.
Сердце мне терзали, Гнали мой покой: Те — своей любовью, Те — своей враждой. Клали в хлеб отраву, Яд — в напиток мой: Те — своей любовью, Те — своей враждой. Та же, что терзала Всех больней и злей, — Ни любви, ни злобы Не видал я в ней. <1862>353. Валтасар
Полночный час уж наступал; Весь Вавилон во мраке спал. Дворец один сиял в огнях, И шум не молк в его стенах. Чертог царя горел как жар: В нем пировал царь Валтасар, И чаши обходили круг Сиявших златом царских слуг. Шел говор: смел в хмелю холоп; Разглаживался царский лоб, И сам он жадно пил вино. Огнем вливалось в кровь оно. Хвастливый дух в нем рос. Он пил И дерзко божество хулил. И чем наглей была хула, Тем громче рабская хвала. Сверкнувши взором, царь зовет Раба и в храм Еговы шлет, И раб несет к ногам царя Златую утварь с алтаря. И царь схватил святой сосуд. «Вина!» Вино до края льют. Его до дна он осушил И с пеной у рта возгласил: «Во прах, Егова, твой алтарь! Я в Вавилоне бог и царь!» Лишь с уст сорвался дерзкий клик, Вдруг трепет в грудь царя проник. Кругом угас немолчный смех, И страх и холод обнял всех. В глуби чертога на стене Рука явилась — вся в огне… И пишет, пишет. Под перстом Слова текут живым огнем. Взор у царя и туп и дик, Дрожат колени, бледен лик. И нем, недвижим пышный круг Блестящих златом царских слуг. Призвали магов; но не мог Никто прочесть горящих строк. В ту ночь, как теплилась заря, Рабы зарезали царя. <1862>354.
Как из пены волн рожденная, И прекрасна и пышна, За другого обрученная, Дышит прелестью она. Сердце многотерпеливое! Не ропщи и не грусти, И безумство торопливое Бедной женщине прости. <1865>355.
Я не ропщу, хоть в сердце стынет кровь, Моя навек погибшая любовь! Алмазы, что в кудрях твоих горят, Ночь сердца твоего не озарят. Я это знал. Всё это снилось мне: И ночь в твоей сердечной глубине, И грудь твою грызущая змея, И как несчастна ты, любовь моя! <1865>356.
Несчастна ты — и ропот мой молчит. Любовь моя, несчастны оба мы! Пока нам смерть сердец не сокрушит, Любовь моя, несчастны оба мы! Как ни играй насмешка на устах, Как гордо ни вздымайся грудь твоя, Как ни гори упорный блеск в глазах, Несчастна ты, — несчастна, как и я. Незримо скорбь уста твои мертвит, Глаза пылают, горечь слез тая, От скрытой язвы грудь твоя болит; Несчастны оба мы, любовь моя! <1865>Мориц Гартман
357. Белое покрывало
1 Позорной казни обреченный, Лежит в цепях венгерский граф. Своей отчизне угнетенной Хотел помочь он; гордый нрав В нем возмущался; меж рабами Себя он чувствовал рабом — И взят в борьбе с могучим злом, И к петле присужден врагами. Едва двадцатая весна Настала для него — и надо Покинуть мир! Не смерть страшна: Больному сердцу в ней отрада! Ужасно в петле роковой Средь людной площади качаться… Вороны жадные слетятся, И над опальной головой Голодный рой их станет драться. Но граф в тюрьме, в углу сыром, Заснул спокойным, детским сном. Поýтру, грустно мать лаская, Он говорил: «Прощай, родная! Я у тебя дитя одно; А мне так скоро суждено Расстаться с жизнью молодою! Погибнет без следа со мною И имя честное мое. Ах, пожалей дитя свое! Я в вихре битв не знал боязни, Я не дрожал в дыму, в огне, Но завтра, при позорной казни, Дрожать как лист придется мне». Мать говорила, утешая: «Не бойся, не дрожи, родной! Я во дворец пойду, рыдая: Слезами, воплем и мольбой Я сердце разбужу на троне… И поутрý, как поведут Тебя на площадь, стану тут, У места казни, на балконе. Коль в черном платье буду я, Знай — неизбежна смерть твоя… Не правда ль, сын мой! шагом смелым Пойдешь навстречу ты судьбе? Ведь кровь венгерская в тебе! Но если в покрывале белом Меня увидишь над толпой, Знай — вымолила я слезами Пощаду жизни молодой. Пусть будешь схвачен палачами — Не бойся, не дрожи, родной!» И графу тихо, мирно спится, И до утра он будет спать… Ему всё на балконе мать Под белым покрывалом снится. 2 Гудит набат; бежит народ… И тихо улицей идет, Угрюмой стражей окруженный, На площадь граф приговоренный. Все окна настежь. Сколько глаз Его слезами провожает, И сколько женских рук бросает Ему цветы в последний раз! Граф ничего не замечает: Вперед на площадь он глядит. Там на балконе мать стоит — Спокойна, в покрывале белом. И заиграло сердце в нем! И к месту казни шагом смелым Пошел он… с радостным лицом Вступил на пóмост с палачом… И ясен к петле поднимался… И в самой петле улыбался! Зачем же в белом мать была? О, ложь святая!.. Так могла Солгать лишь мать, полна боязнью, Чтоб сын не дрогнул перед казнью! <1859>Пьер-Жан Беранже
358. Может быть, последняя моя песня
Я не могу быть равнодушен Ко славе родины моей. Теперь покой ее нарушен, Враги хозяйничают в ней. Я их кляну; но предаваться Унынью — не поможет нам. Еще мы можем петь, смеяться… Хоть этим взять, назло врагам! Пускай иной храбрец трепещет, — Я не дрожу, хотя и трус. Вино пред нами в чашах блещет; Я богу гроздий отдаюсь. Друзья! наш пир одушевляя, Он силу робким даст сердцам. Давайте пить, не унывая! Хоть этим взять, назло врагам! Заимодавцы! беспокоить Меня старались вы всегда; Уж я хотел дела устроить — Случилась новая беда. Вы за казну свою дрожите, — Вполне сочувствую я вам. Скорей мне в долг еще ссудите! Хоть этим взять, назло врагам! Небезопасна и Лизета; Беды бы не случилось с ней. Но чуть ли ветреница эта Не встретит с радостью гостей. В ней, верно, страха не найдется, Хоть грубость их известна нам. Но эта ночь мне остается… Хоть этим взять, назло врагам! Коль неизбежна гибель злая, Друзья, сомкнемтесь — клятву дать, Что для врагов родного края Не будет наша песнь звучать! Последней песнью лебединой Пусть будет эта песня нам. Друзья, составим хор единый! Хоть этим взять, назло врагам.359. Школьный учитель
Ах, повеса, озорник! Ну, на что это похоже? Я заснул всего на миг, А уж он и прочь от книг… Ах, совсем мне с ним беда… И какие строит рожи! Ах, совсем мне с ним беда. Поскорее хлыст сюда! Мало ль он меня бесил! Я вина принес недавно, Да поставить в шкап забыл, — Он бутылку утащил… Ах, совсем мне с ним беда… Да и выпил всю исправно. Ах, совсем мне с ним беда. Поскорее хлыст сюда! Поутру жена начнет В спальне мыться, одеваться — Он из класса ускользнет, К щелке двери припадет… Ах, совсем мне с ним беда… И изволит любоваться. Ах, совсем мне с ним беда. Поскорее хлыст сюда! Раз и с дочерью застал: Вижу, с нею он приятель. Знать, уроки ей, нахал, Он и прежде уж давал… Ах, совсем мне с ним беда… Вот хорош преподаватель! Ах, совсем мне с ним беда. Поскорее хлыст сюда! Не уйдешь теперь ты так; Вспомнишь ты расправу эту. Что ворчишь ты?.. Я… колпак? Что?.. жена… намедни… Как! Ах, совсем мне с ним беда… И детей уж в мире нету! Ах, совсем мне с ним беда. Поскорее хлыст сюда!Из литовских народных песен
360.
У меня был коник — Малый, да удалый; Возил меня коник, Возил меня верно: На гору шел рысью, Под гору шел скачью, Через ямы прыгал, Через речки плавал. Встретил я девицу, Горе-мастерицу: Ни спрясти потоньше, Ни соткать покрепче. У меня ли плетка Связана тоненько, Сплетена крепонько; Научила плетка Прясть и ткать девицу: Ниточки не рвутся, Тканье не дерется.Н. В. Гербель
Джордж Крабб
361. Ласточки
Подобно ласточкам, которые рядами Стоят на отмели, с подъятыми крылами, И ждут, чтоб отлететь с попутным ветерком, И я стоял и ждал на берегу морском Минуты — бросить всё и в край другой умчаться. И я жалел о тех, кто должен был остаться, Чтоб слушать вечный рев пучины, и прожить Весь век на берегу, к которому стремятся Сердитые валы, грозя его залить… <1856>Джордж Гордон Байрон
362. Поражение Сеннахерима
Как волки на стадо, враги набежали… Их орды багрянцем и златом сияли; Как на море звезды, горели мечи, Когда их волна отражает в ночи. Как листья дубравы весной, на закате, Виднелись знамена бесчисленной рати; Как листья дубравы осенней порой, Валялись их трупы с наставшей зарей Зане восшумело крыло Азраила: В лицо нечестивым он смертью дохнул — И сон непробудный им очи сомкнул, И, дрогнув, в них сердце навеки застыло. Здесь конь безобразною грудой лежит: Дыханье раздутых ноздрей не живит, И пена, застывши с последним храпеньем, Белеет, как брызги прибоя к каменьям. Здесь всадник безгласный лежит в стороне: Роса на челе его, ржа на броне; И в ставках не слышно ни шума, ни звона; Труба безглагольна, недвижны знамена. И вдовы Ассура взывают в слезах; Кумиры Ваала повержены в прах; И рать их без битвы, неся нам оковы, Растаяла снегом от взора Еговы. 1859363. Видение Валтасара
Пирует царь. Вокруг владыки Сатрапы пьяные сидят, И длится пир, и льются клики При свете тысячи лампад. Сосуды золота литого, В Солиме чтимые святом, Кипят безбожника вином — Твои сосуды, о Егова! Тогда средь праздничного зала Рука явилась пред царем: Она сияла и писала, Как на песке береговом; Она сияла и водила По буквам огненным перстом И, словно огненным жезлом, Те знаки дивные чертила. И, видя грозное явленье, Владыка выронил бокал, Лицо померкло на мгновенье, И громкий голос задрожал: «Созвать волхвов со всей вселенной, Первейших в мире мудрецов — Пусть объяснят значенье слов, Прервавших пир наш вожделенный!» Умны халдейские пророки: Им тайны ведомы земли; Но объяснить святые строки Жрецы Ваала не могли. Учены старцы Вавилона, Пытлив их ум и зорок глаз, Но и они на этот раз Не послужили им у трона. Тогда какой-то отрок пленный Перед властителем предстал И тотчас смысл их сокровенный Уразумел и разгадал. Звездами храмина сияла; Пред ним пророческий глагол; Он в ту же ночь его прочел: Заря пророка оправдала. «Готова царская могила… Владыка взвешен на весах… Но где же власть его и сила, Когда он легок, словно прах? Его порфира — саван бренный, Могильный холм — его намет. Уже мидиец у ворот И перс на троне полвселенной!» <1864>Тарас Шевченко
364. Дума
Ох, мои вы думы, думы, Тяжело мне с вами! Что стоите на бумаге Хмурыми рядами? Что вас в поле, как былинку, Ветром не умчало? Что вас, словно сиротинку, Горе не заспало? Может, сердце или очи Карие найду я, Что заплачут и над вами — Больше не хочу я. Лишь одну слезинку с карих — Пан я над панами! Ох, мои вы думы, думы, Тяжело мне с вами! Ох, мои вы думы, думы, Дорогие дети! Я растил вас — на кого же Вас покину в свете? Пробирайтеся в Украйну, Затаив кручину, Под плетнями, сиротами… Я же — здесь загину. Там вы правду, там вы сердце Верное найдете, А быть может, и святую Славу наживете… Приласкай же их, Украйна, Милая сторонка, Неразумных, как родного Своего ребенка! <1857>Я. Бук
365. Сербская липа
Как радостно видеть кудрявую липу, Мать-Слава, на сербской могиле — Ту липу, что, полные братской любови, Сыны ее там посадили! Она с нетерпеньем ждет раннего цвета На благо родному народу: Она уповает, что дух в нем воскреснет И сербам воротит свободу. Так будем же пестовать сербскую липу — Да будет зеницею ока! Пусть только цветет она пышно, обильно, Раскинувши ветви широко. Друзья, постоим до последнего крепко За нашу народность и счастье; Господь не оставит народ без охраны — И сменится вёдром ненастье! <1871>Из белорусских народных песен
366.
Ветры осенние белу березу раскачивают, Молодец добрый по сеням тесовым похаживает, Матерь родную свою так упрашивает: «Матушка, встань завтра рано-ранешенько, Вытопи хату тепло ты теплешенько, Стол застели полотенцами белыми, Меду налей ты в стаканы хрустальные: Придут к нам гости не званные, Придут к нам гости не жданные, Придут нас, матушка, в рекруты брать, Будут нам, матушка, руки вязать».367.
Не ходи, конь, да в зеленый сад, Ой, не пей, конь, ключевой воды, Ой, не ешь, конь, зеленóй травы! В ключе девица умывалася, Красоте своей дивовалася: «Красота ты моя красотушка! Да кому, красота, ты достанешься: Аль дворянину, аль мещанину, Аль тому гостю приезжему?» — Ни дворянину, ни мещанину, Ни тому гостю приезжему: Гробовым доскам, рассыпным пескам.368.
На селе два брата — и живут богато; Вот они на диво наварили пива: Всех, кто побогаче, — всю родню созвали; За сестрой богатой трех послов послали, А сходить за бедной людям наказали. Ой, сестру-богачку на поле встречают, А беднягу в хате сидя принимают. К образам богачку в угол посадили, А бедняге к печке место уделили. Ой, сестру-богачку медом угощают, А бедняге водку в чарку наливают. Ночевать богачку братья приглашают, А беднягу к ночи за дверь провожают. По двору богачка веселится-скачет, А сестра-бедняга в темном лесе плачет. «Братцы, торопитесь, на коней садитесь, Ее догоняйте, к образам сажайте, Больше, чем самой мне, ей вы угождайте!»369.
В чистом поле снег валится, По сырой земле ложится. Сына мать благословляет, В путь-дорогу снаряжает. Ах ты, мать моя родная, Мать моя ты дорогая! Я твое всё горе знаю: В край далекий уезжаю, Мать-старуху покидаю, И с коня-то не слезаю, Из стремен не вынимаю Ног усталых — уезжаю Прямо к тихому Дунаю. Ой, Дунай, река большая! Что ты мутная такая? Аль волна тебя разбила, Аль лебедка помутила? — Нет, меня гранаты, пули Помутили и раздули, Чрез Дунай перелетая, В молодцов да попадая, С плеч головушки срывая, Тело белое валяя. — Ох вы, кони вороные, Мои кони дорогие! Что не пьете из Дунаю — Я того не разгадаю. Ой, не пьют они — вздыхают, Глаз с заречья не спускают: Как там молодцы гуляют, Как друг друга убивают; Как текут там, протекают Речки алыми струями, А ручьи текут слезами, Как мосты там настилают Человечьими телами.370.
Бузина с малиною Разом зацвела; Мать в ту пору раннюю Сына родила, Не спросившись разума, В службу отдала, В войско, во солдатушки, В сторону чужую. Села, села матушка На гору крутую И оттуда крикнула Громким голоском: «Дитятко, что маешься? Плачешь ты о чем? Ходишь так невесело, Ходишь да крушишься». — «Матушка родимая, Как развеселишься! Чуждая сторонушка Сушит, сокрушает, Наши командирушки Без вины ругают». <1871>И. С. Тургенев
Иоганн Вольфганг Гете
371. Римская элегия
Слышишь? веселые клики с Фламинской дороги несутся: Идут с работы домой в дальнюю землю жнецы. Кончили жатву для римлян они; не свивает Сам надменный квирит доброй Церере венка. Праздников более нет во славу великой богини, Давшей народу взамен желудя — хлеб золотой. Мы же с тобою вдвоем отпразднуем радостный праздник. Друг для друга теперь двое мы целый народ. Так — ты слыхала не раз о тайных пирах Элевзиса: Скоро в отчизну с собой их победитель занес. Греки ввели тот обряд, и греки, все греки взывали Даже в римских стенах: «К ночи спешите святой!» Прочь убегал оглашенный; сгорал ученик ожиданьем, Юношу белый хитон — знак чистоты — покрывал. Робко в таинственный круг он входил: стояли рядами Образы дивные; сам — словно бродил он во сне. Змеи вились по земле; несли цветущие девы Ларчик закрытый; на нем пышно качался венок Спелых колосьев; жрецы торжественно двигались — пели… Света с тревожной тоской, трепетно ждал ученик. Вот — после долгих и тяжких искусов — ему открывали Смысл освященных кругов, дивных обрядов и лиц… Тайну — но тайну какую? не ту ли, что тесных объятий Сильного смертного ты, матерь Церера, сама Раз пожелала, когда свое бессмертное тело Всё — Язиону царю ласково всё предала. Как осчастливлен был Крит! И брачное ложе богини Так и вскипело зерном, тучной покрылось травой. Вся ж остальная зачахла земля… забыла богиня В час упоительных нег — свой благодетельный долг. Так с изумленьем немым рассказу внимал посвященный; Милой кивал он своей… Друг, о пойми же меня! Тот развесистый мирт осеняет уютное место… Наше блаженство земле тяжкой бедой не грозит. 1845372. Перед судом
Под сердцем моим чье дитя я ношу, Не знать тебе, судья! Га! Ты кричишь: «Развратница!..» Честная женщина я! И с кем я спозналась, тебе не узнать! Мой друг мне верен навек! Ходит ли в шелке да в бархате он, Бедный ли он человек! Насмешки, стыд, позор людской — Всё я готова снесть. Меня не выдаст милый мой, И бог на небе есть! Вы, судьи, судьи вы мои, Молю, оставьте нас! Дитя — мое! и ничего Не просим мы у вас. 1869Джордж Гордон Байрон
373. Тьма
Я видел сон… не всё в нем было сном. Погасло солнце светлое — и звезды Скиталися без цели, без лучей В пространстве вечном; льдистая земля Носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил — Но дня не приводил он за собою… И люди — в ужасе беды великой Забыли страсти прежние… Сердца В одну себялюбивую молитву О свете робко сжались — и застыли. Перед огнями жил народ; престолы, Дворцы царей венчанных, шалаши, Жилища всех имеющих жилища — В костры слагались… города горели… И люди собиралися толпами Вокруг домов пылающих — затем, Чтобы хоть раз взглянуть в лицо друг другу. Счастливы были жители тех стран, Где факелы вулканов пламенели… Весь мир одной надеждой робкой жил… Зажгли леса; но с каждым часом гас И падал обгорелый лес; деревья Внезапно с грозным треском обрушались… И лица — при неровном трепетаньи Последних, замирающих огней — Казались неземными… Кто лежал, Закрыв глаза, да плакал; кто сидел, Руками подпираясь, улыбался; Другие хлопотливо суетились Вокруг костров — и в ужасе безумном Глядели смутно на глухое небо, Земли погибшей саван… а потом С проклятьями бросались в прах и выли, Зубами скрежетали. Птицы с криком Носились низко над землей, махали Ненужными крылами… Даже звери Сбегались робкими стадами… Змеи Ползли, вились среди толпы, шипели, Безвредные… их убивали люди На пищу… Снова вспыхнула война, Погасшая на время… Кровью куплен Кусок был каждый; всякий в стороне Сидел угрюмо, насыщаясь в мраке. Любви не стало; вся земля полна Была одной лишь мыслью: смерти — смерти, Бесславной, неизбежной… страшный голод Терзал людей… и быстро гибли люди… Но не было могилы ни костям, Ни телу… пожирал скелет скелета… И даже псы хозяев раздирали. Один лишь пес остался трупу верен, Зверей, людей голодных отгонял — Пока другие трупы привлекали Их зубы жадные… но пищи сам Не принимал; с унылым долгим стоном И быстрым, грустным криком всё лизал Он руку, безответную на ласку, — И умер наконец… Так постепенно Всех голод истребил; лишь двое граждан Столицы пышной — некогда врагов — В живых осталось… встретились они У гаснущих остатков алтаря, Где много было собрано вещей Святых… … … … … … … … … … … … … … … Холодными, костлявыми руками, Дрожа, вскопали золу… огонек Под слабым их дыханьем вспыхнул слабо, Как бы в насмешку им; когда же стало Светлее, оба подняли глаза, Взглянули, вскрикнули и тут же вместе От ужаса взаимного внезапно Упали мертвыми… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …И мир был пуст; Тот многолюдный мир, могучий мир Был мертвой массой, без травы, деревьев, Без жизни, времени, людей, движенья… То хаос смерти был. Озера, реки И море — всё затихло. Ничего Не шевелилось в бездне молчаливой. Безлюдные лежали корабли И гнили на недвижной, сонной влаге… Без шуму, по частям валились мачты И, падая, волны не возмущали… Моря давно не ведали приливов… Погибла их владычица — луна; Завяли ветры в воздухе немом… Исчезли тучи… Тьме не нужно было Их помощи… она была повсюду… 1845Я. П. Полонский
Иоганн Вольфганг Гете
374. Рыбак
Волна бежит, шумит, колышет Едва заметный поплавок. Рыбак поник и жадно дышит Прохладой, глядя на поток. В нем сердце сладко замирает — Он видит: женщина из вод, Их рассекая, выплывает Вся на поверхность и поет — Поет с тоскою беспокойной: «Зачем народ ты вольный мой Манишь из волн на берег знойный Приманкой хитрости людской? Ах, если б знал ты, как привольно Быть рыбкой в холоде речном! Ты б не остался добровольно С холма следить за поплавком. Светила любят, над морями Склонясь, уйти в пучину вод; Их, надышавшихся волнами, Не лучезарней ли восход? Не ярче ли лазурь трепещет На персях шепчущей волны? Ты сам — гляди, как лик твой блещет В прохладе ясной глубины!» Волна бежит, шумит, сверкает. Рыбак поник над глубиной: Невольный жар овладевает В нем замирающей душой. Она поет — рыбак несмело Скользит к воде; его нога Ушла в поток… Волна вскипела, И — опустели берега. <1852>Франсис Вильям Бурдильон
375.
Ночь смотрит тысячами глаз, А день глядит одним; Но солнца нет — и по земле Тьма стелется, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, Любовь глядит одним; Но нет любви — и гаснет жизнь, И дни плывут, как дым. 1873А. А. Фет
Адам Мицкевич
376. Дозор
От садового входа впопыхах воевода В дом вбежал, — еле дух переводит; Дернул занавес, — что же? глядь на женино ложе — Задрожал, — никого не находит. Он поник головою, и дрожащей рукою Сивый ус покрутил он угрюмо; Взором ложе окинул, рукава в тыл закинул И позвал казака он Наума. «Гей, ты, хамово племя! Отчего в это время У ворот ни собаки, ни дворни? Снимешь сумку барсучью и винтовку гайдучью Да с крюка карабин мой проворней». Взяли ружья, помчались, до ограды подкрались, Где беседка стоит садовáя. На скамейке из дерна что-то бело и чёрно: То сидела жена молодая. Белой ручки перстами, скрывши очи кудрями, Грудь сорочкой она прикрывала, А другою рукою от колен пред собою Плечи юноши прочь отклоняла. Тот, к ногам преклоненный, говорит ей, смущенный: «Так конец и любви, и надежде! Так за эти объятья, за твои рукожатья Заплатил воевода уж прежде! Сколько лет я вздыхаю, той же страстью сгораю, — И удел мой страдать бесконечно! Не любил, не страдал он, лишь казной побряцал он — И ты всё предала ему вечно. Он — что ночь — властелином, на пуху лебедином Старый лоб к этим персям склоняет И с ланит воспаленных и с кудрей благовонных Мне запретную сладость впивает. Я ж, коня оседлавши, чуть луну увидавши, Тороплюся по хладу ненастья, Чтоб встречаться стенаньем и прощаться желаньем Доброй ночи и долгого счастья». Не пленивши ей слуха, верно, шепчет ей в ухо Он иные мольбы и заклятья, Что она без движенья и полна упоенья Пала к милому тихо в объятья. С казаком воевода ладят с первого взвода И патроны из сумки достали, И скусили зубами, и в стволы шомполами Порох с пулями плотно дослали. «Пан, — казак замечает, — бес какой-то мешает: Не бывать в этом выстреле толку. Я, курок нажимавши, сыпал мимо, дрожавши, И слеза покатилась на полку». «Ты, гайдук, стал калякать? Научу тебя плакать, Только слово промолвить осмелься! Всыпь на полку, да живо! сдерни ногтем огниво И той женщине в лоб ты прицелься. Выше, вправо, до разу, моего жди приказу! Молодца-то при первом наводе…» Но казак не дождался, громко выстрел раздался И прямехонько в лоб — воеводе. <1846>Катулл
377. К Лезбии
Жить и любить давай, о Лезбия, со мной! За толки стариков угрюмых мы с тобой За все их не дадим одной монеты медной. Пускай восходит день и меркнет тенью бледной: Для нас, как краткий день зайдет за небосклон, Настанет ночь одна и бесконечный сон. Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова Еще до тысячи, опять до ста другого, До новой тысячи, до новых сот опять. Когда же много их придется насчитать, Смешаем счет тогда, чтоб мы его не знали, Чтоб злые нам с тобой завидовать не стали, Узнав, как много раз тебя я целовал. <1850>378. К мальчику-прислужнику
Фалерна старого, служитель-мальчик, нам Лей в чаши горечи хмельной и беспощадной, Такой закон дала Постумия пирам, Пьянее ягоды налившись виноградной. Прочь вы, струи воды, куда угодно вам, Губителям вина; вы к строгим ворчунам Ступайте: чистого здесь царство Тионейца. <1886>Гораций
379. К Луцию Секстию
Суровая зима от вешних уст слетела, Рычаг уперся в бок сухого корабля, Нет стойла у скота, огня у земледела, И белым инеем не устланы поля. Венера при луне уж хороводы водит, И скромно грации и нимфы в землю бьют Ногой искусною, пока Вулкан разводит Огни, сулящие циклопам новый труд… Пора пахучие власы иль миртом юным, Иль с тающей земли цветами перевить, И фавну в рощице ягненка с белым руном Иль, если б предпочел, козленка приносить. Смерть бледная равно стучит своей ногою В лачуги бедняков и терема царей. Нельзя нам, Секстий, жить с надеждою большою: Тебе грозит уж ночь и темный мир теней! В дому Плутоновом не будешь ты главою Попойки радостной, на царском месте сев; Не будет Лицидас прельщать тебя красою Отрадой юношей и близким счастьем дев. <1856>380. К Помпею Вару
О ты, что смерти страх не раз со мной делил, Когда нас Брут водил во времена былые, — Кто наконец тебя квиритом возвратил Отеческим богам под небеса родные? Помпей, товарищ мой, первейший из друзей, С кем часто долгий день вином мы коротали, В венках, сирийский весь растративши елей, Которым волоса душистые сияли! С тобой я пережил Филиппы, при тебе Бежал, бесславно щит свой покидая в страхе… В тот день и мужество низвергнулось в борьбе, И грозные бойцы в крови легли во прахе. Но средь врагов меня, в туман сокрыв густой, Испуганного, спас Меркурий быстрокрылый, Тебя ж в сражение за новою волной Опять умчал прилив неотразимой силой. Итак, обещанный Зевесу пир устрой, И отдыха ищи для членов, утомленных Войною долгою, под лавр склонившись мой, — Да не щади тебе бутылок обреченных. Массийской влагою разымчивой щедрей Фиалы светлые наполни, и смелее Из емких раковин благоуханья лей. Кто позаботится достать плюща скорее Иль мирта для венков? Кого-то изберет Венера во главу пирующего круга? Со мной теперь любой эдонец не сопьет: Так сладко буйствовать при возвращеньи друга. <1856>Овидий
381. Элегия
Славить доспехи и войны сбирался я строгим размером, Чтоб содержанью вполне был соответствен и строй. Все были ровны стихи. Но вдруг Купидон рассмеялся, Он из второго стиха ловко похитил стопу. «Кто, злой мальчик, тебе такую дал власть над стихами? Вещий певец пиерид, не челядинец я твой. К стати ль Венере хватать доспех белокурой Минервы? Ей, белокурой, к лицу ль факела жар раздувать? Кто похвалил бы, когда б Церера владела лесами, А властелинкой полей дева с колчаном была б? Кто представит себе с копьем златовласого Феба, Марса, напротив того, с лирой богинь аонид? Много, мальчик, и так у тебя огромных владений, — Что ж, честолюбец, тебе новых успехов искать? Или всё в мире твое? Твоя Геликона долина? Может ли Феб называть даже и лиру своей? Только что первым стихом достойно я начал страницу, Тотчас же ты на втором силы ослабил мои. Нет у меня предмета, приличного легким размерам, — Отрока иль дорогой девушки в длинных кудрях». Так роптал я. Но он, колчан растворяя немедля, Выбрал, на горе мое, мне роковую стрелу. Сильным коленом согнув полумесяцем лук искривленный, «Вот же, — сказал он, — воспеть можешь ты это, певец!» Горе несчастному мне! Как метки у мальчика стрелы! Вольное сердце горит, в нем воцарилась любовь; Шестистопным стихом начну, пятистопным окончу, Битвам железным и их песням скажу я: прости! Миртом прибрежным теперь укрась золотистые кудри, Муза, и в песню вводи только одиннадцать стоп. <1863>Генрих Гейне
382.
На севере дуб одинокий Стоит на пригорке крутом; Он дремлет, сурово покрытый И снежным и льдяным ковром. Во сне ему видится пальма, В далекой восточной стране, В безмолвной, глубокой печали, Одна, на горячей скале. <1841>383.
Как из пены вод рожденная, Друг мой прелести полна: Ведь, другому обрученная, Ты пред ним сиять должна. Сердце, ты, многострадальное, На измену не ропщи, И безумие печальное Ты оправдывать ищи. <1858>384.
Я не ропщу, пусть сердце и в огне; Навек погибшая, роптать — не мне; Как ни сияй в алмазах для очей, А ни луча во мгле души твоей. Я это знал. Ведь ты же снилась мне; Я видел ночь души твоей на дне, И видел змей в груди твоей больной, И видел, как несчастна ты, друг мой. <1858>385.
И если ты будешь моею женой, Завидную выберешь долю: Начнутся забавы одна за другой, Плезиров и радостей вволю. Бранись и шути, сколько хочешь, — я тих, Безмолвно всему покорюся; Но если стихов не похвалишь моих, Я тут же с тобой разведуся. <1859>386.
Мой друг, мы с тобою сидели Доверчиво в легком челне. Тиха была ночь, и хотели Мы морю отдаться вполне. И остров видений прекрасный Дрожал, озаренный луной. Звучал там напев сладкогласный, Туман колыхался ночной. Там слышались нежные звуки, Туман колыхался, как хор, — А мы, преисполнены муки, Неслись на безбрежный простор.Су Ши
387. Тень
Башня лежит, Все уступы сочтешь. Только ту башню Ничем не сметешь. Солнце ее Не успеет угнать — Смотришь, луна Положила опять. 1856Хафиз
388.
В царство розы и вина приди, В эту рощу, в царство сна — приди. Утиши ты песнь тоски моей — Камням эта песнь слышна, — приди. Кротко слез моих уйми ручей — Ими грудь моя полна, — приди. Дай испить мне здесь, во мгле ветвей, Кубок счастия до дна — приди. Чтоб любовь дотла моих костей Не сожгла, — она сильна, — приди. Но дождись, чтоб вечер стал темней; Но тихонько и одна — приди. <1860>389.
Уж если всё от века решено, — Так что ж мне делать? Назначено мне полюбить вино, — Так что ж мне делать? Указан птице лес, пустыня льву, Трактир Гафизу. Так мудростью верховной суждено, — Так что ж мне делать? <1860>390.
Гафиз убит. А что его убило, — Свой черный глаз, дитя, бы ты спросила. Жестокий негр[83]! как он разит стрелами! Куда ни бросит их — везде могила. Ах, если есть душа у райской птицы, Не по тебе ль ее трепещут крыла? Нет, не пугай меня рассудком строгим, Тут ничего его не сможет сила. Любовь свободна. В мире нет преграды, Которая бы путь ей заступила. О состраданье! голос сердца нежный! Хотя бы ты на помощь поспешило. Знать, из особой вышло ты стихии, — Гафиза песнь тебя не победила!Песни кавказских горцев
391.
Станет насыпь могилы моей просыхать — И забудешь меня ты, родимая мать. Как заглушит трава всё кладбище вконец, То заглушит и скорбь твою, старый отец. А обсохнут глаза у сестры у моей, Так и вылетит горе из сердца у ней.392.
Ты, горячая пуля, смерть носишь с собой; Но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты ли покроешь меня? Не тебя ли топтал я ногами коня? Холодна ты, о смерть, даже смерть храбреца, Но я был властелином твоим до конца; Свое тело в добычу земле отдаю, Но зато небеса примут душу мою.393.
«Выйди, мать, наружу, посмотри на диво: Из-под снега травка проросла красиво. Взлезь-ко, мать, на крышу, глянь-ко на восток: Из-под льда ущелья вешний вон цветок». — «Не пробиться травке из-под груды снежной, Изо льда ущелья цвет не виден нежный; Никакого дива: влюблена то ты, Так тебе на снеге чудятся цветы». 1875А. Н. Майков
Франческо Петрарка
394.
Когда она вошла в небесные селенья, Ее со всех сторон собор небесных сил, В благоговении и тихом изумленьи, Из глубины небес слетевшись, окружил. «Кто это? — шепотом друг друга вопрошали: — Давно уж из страны порока и печали Не восходило к нам в сияньи чистоты Столь строго-девственной и светлой красоты». И, тихо радуясь, она в их сонм вступает, Но, замедляя шаг, свой взор по временам С заботой нежною на землю обращает И ждет — иду ли я за нею по следам… Я знаю, милая! Я день и ночь на страже! Я господа молю! молю и жду — когда же?.. 1860Генри Лонгфелло
395. Сон негра
Измучен зноем и трудом, Он наземь бросился ничком. Недвижно рис над ним стоял. Палимый зноем, он дремал… То был ли бред, то был ли сон — Родимый край увидел он. Увидел он: в степи глухой Несется Нигер голубой; Под сенью пальм стоят шатры; К ним караван ползет с горы, И люди веселы кругом: Он в том народе был царем. Среди цветов стоит жена, Толпой детей окружена; И дети к ней, ласкаясь, льнут И в лес — отца искать — зовут… И вот — сквозь сон, горячий сон — В бреду заплакал тихо он… И снова чудится во сне: На борзом мчится он коне. Как вольный вихорь конь летит, Взбивая прах из-под копыт, Златою сбруею звеня, — И сабля бьет в бока коня… Что миг — свободней дышит грудь! Что шаг — торжественнее путь! Всё ближе горы. Лев рычит, Кричит гиена, змей свистит, И тяжело по тростникам Идет к реке гиппопотам. Под небом темно-голубым Фламинго красный, перед ним Несясь в дали, крылами бьет, Как знамя красное, — и вот Ему открылся кафров стан, И в очи глянул океан! И встал он там, и слышит вдруг: Подобный трубам, мощный звук Поколебал и дол, и лес, И глубь пустынь, и глубь небес… То звал к свободе из оков Великий дух своих сынов. И вздрогнул он, услыша клич… И уж не чувствовал, как бич По нем скользнул и как ногой Его толкнул хозяин злой, Как он, сдавив досады вздох, Пробормотал потом: «Издох!..» 1859Джордж Гордон Байрон
396. На разорение Иерусалима Титом
С холма, где путники прощаются с Сионом, Я видел град родной в его последний час: Пылал он, отданный свирепым легионам, И зарево его охватывало нас. И я искал наш храм, искал свой бедный дом, Но видел лишь огня клокочущее море… Я на руки свои, в отчаяньи немом, Взглянул: они в цепях, и мщенья нет! о, горе! Ах! с этого холма, бывало, я глядел На город в этот час: уж мрак над ним клубился, И только храм еще в лучах зари горел, И розовый туман на высях гор светился. И вот я там же был и в тот последний час; Но не манил меня заката блеск пурпурный. Я ждал, чтоб Еговá, во гневе ополчась, Ударил молнией и вихрь послал свой бурный… Но нет! в твой храм святой, где ты, господь, царил, Не сядут, не войдут языческие боги! Твой зримый храм упал, но в сердце сохранил Навеки твой народ, господь, тебе чертоги! <1875>А. К. Толстой
Джордж Гордон Байрон
397.
Ассирúяне шли, как на стадо волкú, В багреце их и в злате сияли полки; И без счета их копья сверкали окрест, Как в волнах галилейских мерцание звезд. Словно листья дубравные в летние дни, Еще вечером так красовались они; Словно листья дубравные в вихре зимы, Их к рассвету лежали развеяны тьмы. Ангел смерти лишь на ветер крылья простер И дохнул им в лицо, и померкнул их взор, И на мутные очи пал сон без конца, И лишь раз поднялись и остыли сердца. Вот расширивший ноздри повергнутый конь, И не пышет из них гордой силы огонь, И как хладная влага на бреге морском, Так предсмертная пена белеет на нем. Вот и всадник лежит, распростертый во прах, На броне его ржа, и роса на власах, Безответны шатры, у знамен ни раба, И не свищет копье, и не трубит труба. И Ассирии вдов слышен плач на весь мир, И во храме Ваала низвержен кумир, И народ, не сраженный мечом до конца, Весь растаял как снег перед блеском творца. 1856398.
Неспящих солнце! Грустная звезда! Как слезно луч мерцает твой всегда! Как темнота при нем еще темней! Как он похож на радость прежних дней! Так светит прошлое нам в жизненной ночи, Но уж не греют нас бессильные лучи; Звезда минувшего так в горе мне видна; Видна, но далека, — светла, но холодна! 1856Андре Шенье
399.
Крылатый бог любви, склоняся над сохой, Оратаем идет за взрезанной браздой; Впряженные тельцы его послушны воле; Прилежною рукой он засевает поле И, дерзкий взгляд подняв, к властителю небес Взывает: «Жатву ты блюди мою, Зевес! Не то, к Европе страсть опять в тебе волнуя, В ярмо твою главу мычащую нагну я!» 1856400.
Ко мне, младой Хромид, смотри, как я прекрасна! О юноша, тебя я полюбила страстно! Диане равная, когда, в закате дня, Я шла, потупя взор, с восторгом на меня Глядели пастухи, друг друга вопрошая: «То смертная ль идет иль дева неземная? Неэра, не вверяй себя морским волнам, Не то богинею ты станешь, и пловцам Придется в бурю звать, к стерну теряя веру, Фетиду белую и белую Неэру!» 1856Георг Гервег
401.
Хотел бы я угаснуть, как заря, Как алые отливы небосклона; Как зарево вечернее горя, Я бы хотел излиться в божье лоно. Я бы хотел, как светлая звезда, Зайти, блестя в негаснущем мерцаньи, Я утонуть хотел бы без следа Во глубине лазурного сиянья. Пускай бы смерть моя была легка И жизнь моя так тихо уходила, Как легкий запах вешнего цветка, Как синий дым, бегущий от кадила. И как летит от арфы слабый звон, В пределах дальних тихо замирая, Так, от земной темницы отрешен, Я б улететь хотел к родному краю. Нет, не зайдешь ты светлою звездой, Ты не угаснешь, заревом пылая, Не как цветок умрешь ты полевой, Не улетишь, звеня, к родному краю. Угаснешь ты, но грозная рука Тебя сперва безжалостно коснется; Природы смерть спокойна и легка — На части сердце, умирая, рвется! <1857>Генрих Гейне
402.
Безоблачно небо, нет ветру с утра, В большом затрудненья торчат флюгера: Уж как ни гадают, никак не добьются, В которую сторону им повернуться? 1856403.
У моря сижу на утесе крутом, Мечтами и думами полный. Лишь ветер, да тучи, да чайки кругом, Кочуют и пенятся волны. Знавал и друзей я, и ласковых дев — Их ныне припомнить хочу я: Куда вы сокрылись? Лишь ветер, да рев, Да пенятся волны, кочуя. 1856404.
Довольно! Пора мне забыть этот вздор, Пора мне вернуться к рассудку! Довольно с тобой, как искусный актер, Я драму разыгрывал в шутку. Расписаны были кулисы пестро, Я так декламировал страстно, И мантии блеск, и на шляпе перо, И чувства — всё было прекрасно. Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье, Хоть нет театрального хламу, — Доселе болит еще сердце мое, Как будто играю я драму. О боже, я, раненный насмерть, играл, Гладьятора смерть представляя! 1868Иоганн Вольфганг Гете
405. Бог и баядера
Индийская легенда
Магадев, земли владыка, К нам в шестой нисходит раз, Чтоб от мала до велика Самому изведать нас; Хочет в странствованьи трудном Скорбь и радость испытать, Чтоб судьею правосудным Нас карать и награждать. Он, путником город обшедши усталым, Могучих проникнув, прислушавшись к малым, Выходит в предместье свой путь продолжать. Вот стоит под воротами, В шелк и в кольца убрана, С насурмленными бровями, Дева падшая одна. «Здравствуй, дева!» — «Гость, не в меру Честь в привете мне твоем!» — «Кто же ты?» — «Я баядера, И любви ты видишь дом!» Гремучие бубны привычной рукою, Кружась, потрясает она над собою И, стан изгибая, обходит кругом. И, ласкаясь, увлекает Незнакомца на порог: «Лишь войди, и засияет Эта хата как чертог; Ноги я твои омою, Дам приют от солнца стрел, Освежу и успокою, Ты устал и изомлел!» И мнимым страданьям она помогает, Бессмертный с улыбкою всё примечает, Он чистую душу в упадшей прозрел. Как с рабынею, сурово Обращается он с ней, Но она, откинув ковы, Всё покорней и нежней, И невольно, в жажде вящей Унизительных услуг, Чует страсти настоящей Возрастающий недуг. Но ведатель глубей и высей вселенной, Пытуя, проводит ее постепенно Чрез негу, и страх, и терзания мук. Он касается устами Расписных ее ланит — И нежданными слезами Лик наемницы облит; Пала ниц в сердечной боли, И не надо ей даров, И для пляски нету воли, И для речи нету слов. Но солнце заходит, и мрак наступает, Убранное ложе чету принимает, И ночь опустила над ними покров. На заре, в волненьи странном Пробудившись ото сна, Гостя мертвым, бездыханным Видит с ужасом она. Плач напрасный! Крик бесплодный! Совершился рока суд. И брамины труп холодный К яме огненной несут. И слышит она погребальное пенье, И рвется, и делит толпу в исступленье… «Кто ты? Чего хочешь, безумная, тут?» С воплем ринулась на землю Пред возлюбленным своим: «Я супруга прах объемлю, Я хочу погибнуть с ним! Красота ли неземная Станет пеплом и золой? Он был мой в лобзаньях рая, Он и в смерти будет мой!» Но стих раздается священного хора: «Несем мы к могиле, несем без разбора И старость и юность с ее красотой! Ты ж ученью Брамы веруй: Мужем не был он твоим, Ты зовешься баядерой И не связана ты с ним. Только женам овдовелым Честь сожженья суждена, Только тень идет за телом, А за мужем лишь жена. Раздайтеся, трубы, кимвалы, гремите, Вы в пламени юношу, боги, примите, Примите к себе от последнего сна!» Так, ее страданья множа, Хор безжалостно поет, И на лютой смерти ложе, В ярый огнь она падет; Но из пламенного зева Бог поднялся, невредим, И в его объятьях дева К небесам взлетает с ним. Раскаянье грешных любимо богами, Заблудших детей огневыми руками Благие возносят к чертогам своим. 1867406. Коринфская невеста
Из Афин в Коринф многоколонный Юный гость приходит, незнаком, — Там когда-то житель благосклонный Хлеб и соль водил с его отцом; И детей они В их младые дни Нарекли невестой с женихом. Но какой для доброго приема От него потребуют цены? Он — дитя языческого дома, А они — недавно крещены! Где за веру спор, Там, как ветром сор, И любовь и дружба сметены! Вся семья давно уж отдыхает, Только мать одна еще не спит, Благодушно гостя принимает И покой отвесть ему спешит; Лучшее вино Ею внесено, Хлебом стол и яствами покрыт. И, простясь, ночник ему зажженный Ставит мать, но ото всех тревог Уж усталый он и полусонный, Без еды, не раздеваясь, лег, Как сквозь двери тьму Движется к нему Странный гость бесшумно на порог. Входит дева медленно и скромно, Вся покрыта белой пеленой, Вкруг косы ее, густой и темной, Блещет венчик черно-золотой. Юношу узрев, Стала, оробев, С приподнятой бледною рукой. «Видно, в доме я уже чужая, — Так она со вздохом говорит,— Что вошла, о госте сем не зная, И теперь меня объемлет стыд; Спи ж спокойным сном На одре своем, Я уйду опять в мой темный скит!» «Дева, стой, — воскликнул он, — со мною Подожди до утренней поры! Вот, смотри, Церерой золотою, Вакхом вот послáнные дары; А с тобой придет Молодой Эрот, Им же светлы игры и пиры!» «Отступи, о юноша, я боле Непричастна радости земной; Шаг свершен родительскою волей: На одре болезни роковой Поклялася мать Небесам отдать Жизнь мою, и юность, и покой! И богов веселых рой родимый Новой веры сила изгнала, И теперь царит один Незримый, Одному Распятому хвала! Агнцы боле тут Жертвой не падут, Но людские жертвы без числа!» И ее он взвешивает речи: «Неужель теперь, в тиши ночной, С женихом не чаявшая встречи, То стоит невеста предо мной? О, отдайся ж мне, Будь моей вполне, Нас венчали клятвою двойной!» «Мне не быть твоею, отрок милый, Ты мечты напрасной не лелей, Скоро буду взята я могилой, Ты ж сестре назначен уж моей; Но в блаженном сне Думай обо мне, Обо мне, когда ты будешь с ней!» «Нет, да светит пламя сей лампады Нам Гимена факелом святым, И тебя для жизни, для отрады Уведу к пенатам я моим! Верь мне, друг, о верь, Мы вдвоем теперь Брачный пир нежданно совершим!» И они меняются дарами: Цепь она спешит златую снять, Чашу он с узорными краями В знак союза хочет ей отдать; Но она к нему: «Чаши не приму, Лишь волос твоих возьму я прядь!» Полночь бьет — и взор, доселе хладный, Заблистал, лицо оживлено, И уста бесцветные пьют жадно С темной кровью схожее вино; Хлеба ж со стола Вовсе не взяла, Словно ей вкушать запрещено. И фиал она ему подносит, Вместе с ней он ток багровый пьет, Но ее объятий как ни просит, Вся она противится — и вот, Тяжко огорчен, Пал на ложе он И в бессильной страсти слезы льет. И она к нему, ласкаясь, села: «Жалко мучить мне тебя, но, ах, Моего когда коснешься тела, Неземной тебя охватит страх: Я как снег бледна, Я как лед хладна, Не согреюсь я в твоих руках!» Но, кипящий жизненною силой, Он ее в объятья заключил: «Ты хотя бы вышла из могилы, Я б согрел тебя и оживил! О, каким вдвоем Мы горим огнем, Как тебя мой проникает пыл!» Всё тесней сближает их желанье, Уж она, припав к нему на грудь, Пьет его горячее дыханье И уж уст не может разомкнуть. Юноши любовь Ей согрела кровь, Но не бьется сердце в ней ничуть. Между тем дозором поздним мимо За дверьми еще проходит мать, Слышит шум внутри необъяснимый И его старается понять: То любви недуг, Поцелуев звук, И еще, и снова, и опять! И недвижно, притаив дыханье, Ждет она — сомнений боле нет, — Вздохи, слезы, страсти лепетанье И восторга бешеного бред: «Скоро день — но вновь Нас сведет любовь!» — «Завтра вновь!» — с лобзаньем был ответ. Доле мать сдержать не может гнева, Ключ она свой тайный достает: «Разве есть такая в доме дева, Что себя пришельцам отдает?» Так возмущена, Входит в дверь она — И дитя родное узнает. И, воспрянув, юноша с испугу Хочет скрыть завесою окна, Покрывалом хочет скрыть подругу; Но, отбросив складки полотна, С ложа, вся пряма, Словно не сама, Медленно подъемлется она. «Мать, о мать, нарочно ты ужели Отравить мою приходишь ночь? С этой теплой ты меня постели В мрак и холод снова гонишь прочь? И с тебя ужель Мало и досель, Что свою ты схоронила дочь? Но меня из тесноты могильной Некий рок к живущим шлет назад, Ваших клиров пение бессильно, И попы напрасно мне кадят, — Молодую страсть Никакая власть, Ни земля, ни гроб не охладят! Этот отрок именем Венеры Был обещан мне от юных лет, Ты вотще во имя новой веры Изрекла неслыханный обет! Чтоб его принять, В небесах, о мать, В небесах такого бога нет! Знай, что смерти роковая сила Не могла сковать мою любовь, Я нашла того, кого любила, И его я высосала кровь! И, покончив с ним, Я пойду к другим, — Я должна идти за жизнью вновь! Милый гость, вдали родного края Осужден ты чахнуть и завять, Цепь мою тебе передала я, Но волос твоих беру я прядь. Ты их видишь цвет? Завтра будешь сед, Русым там лишь явишься опять! Мать, услышь последнее моленье, Прикажи костер воздвигнуть нам, Свободи меня из заточенья, Мир в огне дай любящим сердцам! Так из дыма тьмы В пламе, в искрах мы К нашим древним полетим богам!» 1867Из шотландских народных баллад
407. Эдвард
«Чьей кровию меч ты свой так обагрил, Эдвард, Эдвард? Чьей кровию меч ты свой так обагрил? Зачем ты глядишь так сурово?» — «То сокола я, рассердяся, убил, Мать моя, мать, То сокола я, рассердяся, убил, И негде добыть мне другого!» «У сокола кровь так красна не бежит, Эдвард, Эдвард! У сокола кровь так красна не бежит, Твой меч окровавлен краснее!» — «Мой конь красно-бурый был мною убит, Мать моя, мать! Мой конь красно-бурый был мною убит, Тоскую по добром коне я!» «Конь стар у тебя, эта кровь не его, Эдвард, Эдвард! Конь стар у тебя, эта кровь не его, Не то в твоем сумрачном взоре!» — «Отца я сейчас заколол моего, Мать моя, мать! Отца я сейчас заколол моего, И лютое жжет меня горе!» «А грех чем тяжелый искупишь ты свой, Эдвард, Эдвард? А грех чем тяжелый искупишь ты свой? Чем сымешь ты с совести ношу?» — «Я сяду в ладью непогодой морской, Мать моя, мать! Я сяду в ладью непогодой морской И ветру все парусы брошу!» «А с башней что будет и с домом твоим, Эдвард, Эдвард? А с башней что будет и с домом твоим, Ладья когда в море отчалит?» — «Пусть ветер и буря гуляют по ним, Мать моя, мать! Пусть ветер и буря гуляют по ним, Доколе их в прах не повалят!» «Что ж будет с твоими с детьми и с женой, Эдвард, Эдвард? Что ж будет с твоими с детьми и с женой В их горькой, беспомощной доле?» — «Пусть пó миру ходят за хлебом с сумой, Мать моя, мать! Пусть пó миру ходят за хлебом с сумой, Я с ними не свижуся боле!» «А матери что ты оставишь своей, Эдвард, Эдвард? А матери что ты оставишь своей, Тебя что у груди качала?» — «Проклятье тебе до скончания дней, Мать моя, мать! Проклятье тебе до скончания дней, Тебе, что мне грех нашептала!» 1871А. А Григорьев
Генрих Гейне
408.
Они меня истерзали И сделали смерти бледней, — Одни — своею любовью, Другие — враждою своей. Они мне мой хлеб отравили, Давали мне яда с водой, — Одни — своею любовью, Другие — своею враждой. Но та, от которой всех больше Душа и доселе больна, Мне зла никогда не желала, И меня не любила она! 1842409.
Ядовиты мои песни, Но виной тому не я: Это ты влила мне яду В светлый кубок бытия. Ядовиты мои песни, Но виной тому не я: Много змей ношу я в сердце — И тебя, любовь моя. 1842410.
Не пора ль из души старый вымести сор Давно прожитого наследия? Я с тобою, мой друг, как искусный актер, Разыгрывал долго комедию. Романтический стиль отражался во всем ( Был романтик в любви и в искусстве я), Паладинский мой плащ весь блистал серебром, Изливал я сладчайшие чувствия. Но ведь странно, что вот и теперь, как гожусь Уж не в рыцари больше — в медведи я, Всё какой-то безумной тоскою томлюсь, Словно прежняя длится комедия. О мой боже, должно быть, и сам я не знал, Что был не актер, а страдающий, И что, с смертною язвой в груди, представлял Я сцену: «Боец умирающий». 1853Из немецких масонских песен
411.
Не унывайте, не падет В бореньи внутренняя сила: Она расширит свой полет, — Так воля рока ей сулила. И пусть толпа безумцев злых Над нею дерзостно глумится… Они падут… Лукавство их Пред солнцем правды обнажится. И их твердыни не спасут, Зане сам бог на брань восстанет, И утеснители падут, И человечество воспрянет… Угнетено, утомлено Борьбою с сильными врагами, Доселе плачет всё оно Еще кровавыми слезами. Но вы надейтесь… В чудных снах Оно грядущее провидит… Цветы провидит в семенах И гордо злобу ненавидит… Отриньте горе… Так светло Им сознана святая сила… И в сновидении чело Его сознанье озарило… Не говорит ли с вами бог В стремленьи к правде и блаженству? И жарких слез по совершенству Не дан ли вам святой залог? И не она ль, святая сила, В пути избранников вела, И власть их голосу дала, И их в пути руководила? Да! то она, — то веет вам С высот предчувствие блаженства, И горней горних совершенства То близкий воздух… Пусть не нам Увидеть, как святое пламя Преграды тесные пробьет… Но нам знаком орла полет, Но видим мы победы знамя. И скоро сила та зажжет На алтаре святого зданья Добра и правды вечный свет, И света яркое сиянье Ничьих очей не ослепит… И не загасит ослепленье Его огня… Но поклоненье Пред ним с любовью совершит! И воцарится вечный разум, И тени ночи убегут Его сияния — и разом Оковы все во прах падут, Тогда на целое созданье Сойдет божественный покой, Не возмутим уже борьбой И огражден щитом сознанья. Нам цель близка, — вперед, вперед! Ее лучи на нас сияют, И всё исчезнет и падет, Чем человечество страдает… И высоко, превыше гор, Взлетит оно, взмахнув крылами… Его не видит ли ваш взор Уже теперь между звездами? О, радость! — мы его сыны, И не напрасные усилья Творцом от века нам даны… Оно уж расправляет крылья, Оно летит превыше гор… О братья, зодчие!.. Над нами Его не видит ли ваш взор Уже теперь между звездами? 1845Иоганн Вольфганг Гете
412. Лесной царь
Кто мчится так поздно под вихрем ночным? Это — отец с малюткой своим. Мальчика он рукой охватил, Крепко прижал, тепло приютил! — Что всё личиком жмешься, малютка, ко мне? — Видишь, тятя, лесного царя в стороне? Лесного царя в венке с бородой? — Дитятко, это туман седой. «Ко мне, мой малютка, со мною пойдем, Мы славные игры с тобой заведем… Много пестрых цветов в моем царстве растет, Много платьев златых моя мать бережет». — Тятя, тятя… слышишь — манит, Слышишь, что тихо мне он сулит? — Полно же, полно — что ты, сынок? В темных листах шелестит ветерок. «Ну же, малютка, не плачь, не сердись. Мои дочки тебя, чай, давно заждались. Мои дочки теперь хороводы ведут; Закачают, запляшут тебя, запоют…» — Тятя, тятя, за гущей ветвей Видишь лесного царя дочерей? — Дитятко, дитятко… вижу я сам, Старые ивы за лесом вон там. «Ты мне люб… не расстанусь с твоей красотой; Хочешь не хочешь, а будешь ты мой…» — Родимый, родимый… меня он схватил… Царь лесной меня больно за шею сдавил… — Страшно отцу. Он мчится быстрей. Стонет ребенок, и всё тяжелей… Доскакал кое-как до дворца своего… Дитя ж был мертв на руках у него. <1850>Джордж Гордон Байрон
413.
Прости, прощай, мой край родной! В волнах уж берег тонет, Свистит и воет ветр ночной, И чайка дико стонет. Уходит солнце в дальний край, Стремим свой бег за ним мы. Прощай же, солнце, и прощай, Прости, мой край родимый! Заутра вновь оно взойдет, Рассеяв тьму ночную; Увижу море, неба свод, Но не страну родную. Покинут мной дом старый мой, В нем плесень всё покроет; Двор порастет густой травой, Пес у ворот завоет. Поди ко мне ты, пажик мой! О чем твое рыданье? Иль страшен ветра дикий вой Да бездны колыханье? Отри ты слезы: крепок наш Корабль, он не потонет И мчится быстро; нас, мой паж, И сокол не догонит. «Пусть воет ветр, и волны пусть Бушуют — нет мне дела! Но не дивись, сэр Чайльд, что грусть Мне душу одолела. С родным отцом расстался я Да с матерью любимой: Они одни мои друзья, Да ты… да бог незримый. Без жалоб смог отец мне дать На путь благословенье, Но матери не осушать Очей до возвращенья!» Ну, будет, будет, пажик мой! Понятны слезы… Боже! С такой невинною душой И я бы плакал тоже. Приближься, верный мой слуга! Ты бледен: что с тобою? Боишься ль франка ты, врага, Или валов прибою? «Не думай ты, сэр Чайльд, что я За жизнь свою робею… Но лишь придет на ум семья, Невольно я бледнею. Жену с детьми в родной стране Я бросил, уезжая… Коль дети спросят обо мне, Что скажет им родная?» Слуга мой верный, прав ты, прав! И чту твою печаль я, Но у меня, знать, легче нрав: Смеясь, пускаюсь в даль я. Жены ль, любовницы ли чьей Не много стоит горе, И слезы голубых очей Другой осушит вскоре. Не жаль мне ровно никого, И в том мое проклятье, Что нет на свете ничего, О чем бы стал вздыхать я. И вот один на свете я В широком, вольном море… Кому печаль судьба моя? Что мне чужое горе? Пусть воет пес! Его чужой Накормит, приласкает… Когда вернуся я домой, Он на меня залает. Лети, корабль, и глубину Ты рассекай морскую; Неси в любую сторону, Лишь не в мою родную! Привет, привет, о волны, вам! Когда же голубая Наскучит зыбь, — привет степям! Прощай, страна родная! <1862>Примечания
1
Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. 4, М., 1956, с. 503.
(обратно)2
В. Брюсов, Избранные сочинения в 2-х томах, т. 2, М., 1955, с. 188.
(обратно)3
В. Брюсов, Предисловие переводчика. — Э. По, Полное собрание поэм и стихотворений, М.—Л., 1923, с. 7.
(обратно)4
Протокол заседания Сектора взаимосвязи литератур ИРЛИ АН СССР от 2 декабря 1966 года.
(обратно)5
История русского гекзаметра прослежена в книге А. Н. Егунова «Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков», М.—Л., 1964, и — до него — в исследовании: R. Burgi, A History of the Russian Hexameter, Connecticut, 1954.
(обратно)6
Впервые опубликовано В. M. Жирмунским в «Литературном наследстве», № 4–6, М., 1932, с. 652.
(обратно)7
Иоганн Петер Эккерман, Разговоры с Гете, М.—Л., 1934, с. 176.
(обратно)8
М. Михайлов, Полное собрание стихотворений, М.—Л., 1934, с. 707.
(обратно)9
Развитию и изменению переводческих концепций в России XVIII–XX веков посвящена статья Ю. Д. Левина «Об исторической эволюции принципов перевода». — «Международные связи русской литературы», М.—Л., 1963; см. также вступ. статью А. В. Федорова «Русские писатели и проблема перевода». — «Русские писатели о переводе», Л., 1960.
(обратно)10
Гр. Гуковский, О русском классицизме. — «Поэтика», V, Л., 1929, с. 62.
(обратно)11
В. Левик, Верное слово — на верное место. — «Мастерство перевода», М., 1964, с. 91–93.
(обратно)12
В. А. Жуковский, Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. 9, СПб., 1902, с. 74.
(обратно)13
Н. И. Гнедич, Стихотворения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1956, с. 310.
(обратно)14
Там же, с. 311.
(обратно)15
Там же, с. 313.
(обратно)16
Там же, с. 314.
(обратно)17
Там же, с. 316.
(обратно)18
А. Н. Егунов, Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков, М.—Л., 1964, с. 176–177.
(обратно)19
«Вестник Европы», 1819, № 5, с. 16, 21.
(обратно)20
В. Кюхельбекер, Взгляд на нынешнее состояние русской словесности. — «Le Conservateur impartial», 1817, № 77. Русский перевод — «Вестник Европы», 1817, № 17–18, с. 154–157.
(обратно)21
Ю. Д. Левин, Об исторической эволюции принципов перевода, с. 30.
(обратно)22
А. Востоков, Опыт о русском стихосложении, СПб., 1817, примеч. к с. 165.
(обратно)23
Вл. Орлов, Русские просветители 1790—1800-х годов, М., 1953, с. 479.
(обратно)24
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 7, М., 1964, с. 298–299.
(обратно)25
П. А. Плетнев, О жизни и сочинениях В. А. Жуковского, СПб., 1853, с. 5.
(обратно)26
Там же, с. 6–7.
(обратно)27
Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. 8, М., 1952, с. 376–379.
(обратно)28
П. А. Плетнев, О жизни и сочинениях В. А. Жуковского, с. 25.
(обратно)29
Н. В. Гоголь в 1846 году отмечал: «В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направления… После „Ундины“ (1831–1836) он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже…» — Цит. изд., т. 8, с. 378.
(обратно)30
В. Микушевич, Из истории романтического перевода («Ундина»), 1964, рукопись, с. 17.
(обратно)31
Н. А. Полевой, Баллады и повести Жуковского. — «Московский телеграф», 1832, № 20, с. 543–544.
(обратно)32
В. А. Жуковский, Сочинения, т. 6, СПб., 1878, с. 591.
(обратно)33
В. А. Жуковский, Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. 9, с. 72.
(обратно)34
В. А. Жуковский, Сочинения, т. 6, с. 541.
(обратно)35
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 7, М., 1955, с. 167.
(обратно)36
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 6, М., 1955, с. 241.
(обратно)37
Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 1, СПб., 1887, с. 424–425.
(обратно)38
Н. И. Гнедичу, 5 декабря 1811 года. — Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 3, СПб., 1886, с. 164–165. Несколько лет спустя в другом письме Батюшков писал очень выразительно: «Не похож ли я на слепого нищего, который, услышав прекрасного виртуоза на арфе, вдруг вздумал воспевать ему хвалу на волынке или балалайке? Виртуоз — Тасс, арфа — язык Италии его, нищий — я, а балалайка — язык наш, жестокий язык, что ни говори!» (Н. И. Гнедичу, нач. июня 1817 года. — Там же, с. 457.)
(обратно)39
Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 2, СПб., 1885, с. 150–151.
(обратно)40
Там же, с. 155.
(обратно)41
Там же, с. 171.
(обратно)42
Там же, с. 162.
(обратно)43
Там же, с. 340.
(обратно)44
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 7, с. 674.
(обратно)45
Дискуссия Катенин — Сомов шла на страницах «Сына отечества» (1822, №№ 9, 15 и 17).
(обратно)46
См.: «Телескоп», 1831, № 11–12, с. 263 и сл.
(обратно)47
А. И. Герцен, Полное собрание сочинений, т. 7, М., 1956, с. 227.
(обратно)48
Wuk’s Stephanowitsch kleine serbische Grammatik, Leipzig — Berlin, 1824, S. XX.
(обратно)49
«Песни разных народов», M., 1854, с. XII.
(обратно)50
Правда, из почти шести десятков песен Беранже, которые перевел Михайлов, лишь два были напечатаны при его жизни; около половины увидело свет только в советское время.
(обратно)51
Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6-ти томах, т. 1, М., 1934, с. 300.
(обратно)52
Г. Фридлендер, Л. А. Мей. — Л. А. Мей, Избранные произведения, «Б-ка поэта» (М. с.), 1962, с. 54.
(обратно)53
«Русские писатели о переводе», с. 434.
(обратно)54
М. Л. Михайлов, Сочинения в 3-х томах, т. 3, М., 1958, с. 62.
(обратно)55
Возможно, что тут М. Михайлов полемизировал с анонимной статьей в «Отечественных записках» (1839, № 1), которая возвышала губеровский перевод «Фауста» именно за то самое, за что Михайлов порицал: «Легкий и плавный стих, — писалось в рецензии, — говорит нам, что это все вошло в душу переводчика, и вылилось как бы невольно точно так же, как в восторженную минуту выливаются собственные душевные страдания». Рецензент высказывает лишь один упрек: «Жаль, что он везде старается удержать размеры подлинника». Понятно, как мог такой упрек обозлить Михайлова!
(обратно)56
М. Л. Михайлов, цит. изд., т. 3, с. 50–51.
(обратно)57
М. Л. Михайлов, цит. изд., т. 3, с. 67.
(обратно)58
Там же, с. 49.
(обратно)59
Т. Г. Шевченко, Дневник, М., 1939, с. 162–163.
(обратно)60
Цит. по кн.: Мих. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов, СПб., 1904, с. 483.
(обратно)61
Ю. Данилин, Беранже и его песни, М., 1958, с. 224.
(обратно)62
Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6-ти томах, т. 1, с. 473.
(обратно)63
«Дело», 1869, № 5. Цит. по кн.: «Русские писатели о переводе», с. 483–484.
(обратно)64
Вергилий, Энеида, СПб., 1888, Предисловие, с. 6.
(обратно)65
Цит. по кн.: «Русские писатели о переводе», с. 328.
(обратно)66
А. В. Федоров, Русские писатели и проблема перевода. — «Русские писатели о переводе», с. 21.
(обратно)67
М. Л. Михайлов, цит. изд., т. 3, с. 68.
(обратно)68
«Литературное наследство», № 27–28, М., 1937, с. 297.
(обратно)69
А. Блок, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 5, М.—Л., 1962, с. 618.
(обратно)70
В. Брюсов, Избранные сочинения, т. 2, М., 1955, с. 189.
(обратно)71
Об этой деятельности Блока см. статью Е. Ланда «Блок — редактор Гейне». — «Редактор и перевод», М., 1965, с. 72—107.
(обратно)72
А. Блок, т. 5, с. 119.
(обратно)73
А. Блок, т. 7, с. 371.
(обратно)74
С. Маршак, Воспитание словом, М., 1964, с. 235 («Портрет или копия?»).
(обратно)75
Б. Пастернак, Заметки к переводам шекспировских трагедий. — «Литературная Москва», М., 1956, с. 794.
(обратно)76
М. Горький, Собрание сочинений, т. 30, с. 115.
(обратно)77
Легкие копья, с которыми изображаются Дианины нимфы, были бросаемы в зверей.
(обратно)78
С Темзою, которая в поэзии называется богом Тамесом.
(обратно)79
Я удержал в этом славном стихе меру оригинала.
(обратно)80
Надовесцы — народ в Северной Америке.
(обратно)81
Прощай (англ.). — Ред.
(обратно)82
Наполеон I.
(обратно)83
Черный глаз красавицы. Вот истинный скачок с 7-го этажа, зато какая прелесть!
(обратно)



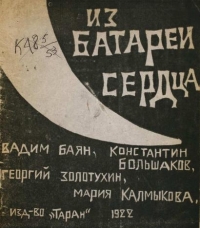

Комментарии к книге «Мастера русского стихотворного перевода. Том 1», Иван Семенович Барков
Всего 0 комментариев