Стихотворения
Земля и зенит 1962—1965
«Итак, с рождения вошло…»
Итак, с рождения вошло — Мир в ощущении расколот: От тела матери — тепло, От рук отца — бездомный холод. Кричу, не помнящий себя, Меж двух начал, сурово слитых. Что ж, разворачивай, судьба, Новорожденной жизни свиток! И прежде всех земных забот Ты выставь письмена косые Своей рукой корявой — год И имя родины — Россия. 1963«Сенокосный долгий день…»
Сенокосный долгий день, Травяное бездорожье. Здесь копён живая тень Припадает К их подножью. Все в движенье — Все быстрей Ходят косы полукругом. Голос матери моей Мне послышался над лугом. В полдень, Пышущий, как печь, Мать идет Сквозь терн колючий, А над нею — Из-за плеч — Тихо выклубилась туча. Воздух двинулся — и вдруг Луг покрыло Зыбью сизой, Только ласточки вокруг Свищут — Низом, низом, низом. Мать, В томительных лучах Перед тучей Черной, черной Вижу, Как кровоточат Руки, ссаженные терном. Мать, Невидимый поток Горней силою заверчен, — С головы Сорвет платок, А с копён моих — Овершья. Но под шумом дождевым, По колено В душном сене Я стою, как под твоим Ласковым благословеньем. 1968«Когда созреет срок беды всесветной…»
4.00 22 июня 1941
Когда созреет срок беды всесветной, Как он трагичен, тот рубежный час, Который светит радостью последней, Слепя собой, неискушенных, нас. Он как ребенок, что дополз до края Неизмеримой бездны на пути,— Через минуту, руки простирая, Мы кинемся, но нам уж не спасти… И весь он — крик, для душ не бесполезный, И весь очерчен кровью и огнем, Чтоб перед новой гибельною бездной Мы искушенно помнили о нем.«Тревога военного лета…»
Тревога военного лета Опять подступает к глазам — Шинельная серость рассвета, В осколочной оспе вокзал. Спешат санитары с разгрузкой. По белому красным — кресты. Носилки пугающе узки, А простыни смертно чисты. До жути короткое тело С тупыми обрубками рук Глядит из бинтов онемело На детский глазастый испуг. Кладут и кладут их рядами, Сквозных от бескровья людей. Прими этот облик страданья Мальчишеской жизнью твоей. Забудь про Светлова с Багрицким, Постигнув значенье креста, Романтику боя и риска В себе заглуши навсегда! Душа, ты так трудно боролась… И снова рвалась на вокзал, Где поезда воинский голос В далекое зарево звал. Не пряча от гневных сполохов Сведенного болью лица, Во всем открывалась эпоха Нам — детям ее — до конца. Те дни, как заветы, в нас живы. И строгой не тронут души Ни правды крикливой надрывы, Ни пыл барабанящей лжи.Рубиновый перстень
В черном зеве печном Красногривые кони. Над огнем — Обожженные стужей ладони. Въелся в синюю мякоть Рубиновый перстень — То ли краденый он, То ль подарок невестин. Угловатый орел Над нагрудным карманом Держит свастику в лапах, Как участь Германии. А на выгоне Матерью простоволосой Над повешенной девушкой Вьюга голосит. Эта виселица С безответною жертвой В слове «Гитлер» Казалась мне буквою первой. А на грейдере Мелом беленные «тигры» Давят лапами Снежные русские вихри. Новогоднюю ночь Полосуют ракеты. К небу с фляжками Пьяные руки воздеты. В жаркой школе — Банкет. Господа офицеры В желтый череп скелета В учительской целят. В холодящих глазницах, В злорадном оскале, Может, будущий день свой Они увидали?.. Их веселье Штандарт осеняет с флагштока. Сорок третий идет Дальним гулом с востока. У печи, На поленья уставясь незряче, Трезвый немец Сурово украдкою плачет. И чтоб русский мальчишка Тех слез не заметил, За дровами опять Выгоняет на ветер. Непонятно мальчишке: Что все это значит? Немец сыт и силен — Отчего же он плачет?.. А неделю спустя В переполненном доме Спали впокат бойцы На веселой соломе. От сапог и колес Гром и скрип по округе. Из-под снега чернели Немецкие руки. Из страны непокорной, С изломистых улиц К овдовевшей Германии Страшно тянулись. И горел на одной Возле школы, На въезде, Сгустком крови бесславной Рубиновый перстень.«Та ночь была в свечении неверном…»
Та ночь была в свечении неверном, Сирены рваный голос завывал, И мрак прижался к нам, как дух пещерный, Седьмой тревогой загнанный в подвал. Извечный спутник дикости и крови, Людским раздорам потерявший счет, При каждом взрыве вскидывал он брови И разевал мохнатый черный рот. Над нами смерть ступала тяжко, тупо. Стальная, современная, она, Клейменная известной маркой Круппа, Была живым по-древнему страшна. А мрак пещерный на дрожащих лапах Совсем не страшен. Девочка, всмотрись: Он — пустота, он — лишь бездомный запах Кирпичной пыли, нечисти и крыс. Так ты вошла сквозь кутерьму ночную, Еще не зная о своей судьбе, Чтобы впервые смутно я почуял Зачатье сил, заложенных в тебе. Смерть уходила, в небе затихая, И напряжение в душах улеглось, И ощутил я чистоту дыханья И всю стихию спутанных волос. Тебя я вывел по ступенькам стылым Из темноты подвального угла, И руки, что беда соединила, Застенчивая сила развела. Среди развалин шла ты, Как в пустыне, Так близко тайну светлую храня. С тех пор я много прожил, Но поныне В тебе все та же тайна для меня. И как в ту ночь, Сквозь прожитые годы Прошли на грани счастья и беды, Волнуя целомудренностью гордой, Твои неизгладимые следы.«Весна — от колеи шершавой…»
Весна — от колеи шершавой До льдинки утренней — моя. Упрямо в мир выходят травы Из темного небытия. И страшно молод и доверчив, Как сердце маленькое, — лист, И стынет он по-человечьи, Побегом вынесенный ввысь. И в нас какое-то подобье: Мы прорастаем только раз, Чтоб мир застать в его недобрый Иль напоенный солнцем час. Нам выпало и то, и это, И хоть завидуем другим, Но, принимая зрелость лета, Мы жизнь за все благодарим. Мы знаем, как она боролась У самой гибельной стены, — И веком нежность и суровость В нас нераздельно сведены. И в постоянном непокое Тебе понятны неспроста И трав стремленье штыковое, И кротость детская листа.«Ладоней темные морщины…»
Ладоней темные морщины — Как трещины земной коры. Вот руки, что меня учили Труду и жизни до поры. Когда ж ударил час разлуки, Они — по долгу матерей — Меня отдали на поруки Тревожной совести моей. Я до предела веком занят, Но есть минуты средь забот: Во всю мою большую память Вновь образ матери встает. Все та ж она, что шьет и моет, Что гнется в поле дотемна. Но словно вечностью самою Светло овеяна она. Чертами теплыми, простыми Без всяких слов, наедине О человеческой святыне Она пришла напомнить мне. Так дай, родная, в них вглядеться, Чтоб я почувствовал сильней Наивные желанья детства И зрелость совести моей.«Тревожит вновь на перепутье…»
Тревожит вновь на перепутье Полет взыскательных минут. Идут часы — и по минуте Нам вечность емкую дают. Во мне, с годами не свободном, Все круче напряженный ритм. И только вижу мимолетно: Река течет, заря горит. Березы яркие теснятся, По свету листья разметав, И травы никнут — им не снятся Былые поколенья трав. Там древние свои законы, И в безучастности земли Граничит ритм наш беспокойный С покоем тех, что уж прошли. Земля моя, я весь — отсюда, И будет час — приду сюда, Когда зрачки мои остудит Осенним отблеском звезда. И думаю светло и вольно, Что я не твой, а ты — моя От гулких мачт высоковольтных До неуютного жнивья. И душу я несу сквозь годы, В плену взыскательных минут, Не принимая той свободы, Что безучастностью зовут.«Среди цементной пыли душной…»
Среди цементной пыли душной, Среди кирпичной красноты Застигла будничную душу Минута высшей красоты. И было все привычно грубо: Столб, наклонившийся вперед, И на столбе измятый рупор — Как яростно раскрытый рот. Но так прозрачно, так певуче Оттуда музыка лилась. И мир был трепетно озвучен, Как будто знал ее лишь власть. И в нем не достигали выси, Доступной музыке одной, Все звуки, без каких немыслим День озабоченно-земной. Тяжка нестройная их сила, Неодолима и густа. А душу странно холодила Восторженная высота. Быть может, там твоя стихия? Быть может, там отыщешь ты Почувствованное впервые Пристанище своей мечты? Я видел все. Я был высоко. И мне открылись, как на дне, В земной нестройности истоки Всего звучавшего во мне. И землю заново открыл я, Когда затих последний звук. И ощутил не легкость крыльев, А силу загрубелых рук.«Так — отведешь туман рукою…»
Так — отведешь туман рукою И до конца увидишь вдруг В избытке света и покоя Огромной дали полукруг. Как мастер на свою картину, Чуть отойдя, глядишь без слов На подвесную паутину Стальных креплений и тросов. За ней — певучею и длинной, За гранями сквозных домов Могуче веет дух былинный С речных обрывов и холмов. Скелет моста ползущий поезд Пронзает, загнанно дыша. И в беспредельности освоясь, Живая ширится душа. И сквозь нее проходит время, Сведя эпохи в миг один, Как дым рабочий — с дымкой древней Средь скромно убранных равнин. И что бы сердце ни томило, Она опять в тебя влилась — Очеловеченного мира Очеловеченная власть.«Опять над голым многолюдьем…»
Опять над голым многолюдьем Июля солнечная власть, И каждый рад открытой грудью К земле по-древнему припасть. Чей это стан? Какое племя? Куда идет? Что правит им?.. Но не теряет облик время, И в людях он невытравим. Любой здесь временем помечен, И оттого еще светлей Святое утро человечье Сквозит в невинности детей. Дай подышать на пляже всласть им, Они в неведенье — и пусть. И знай, что истинное счастье Слегка окрашивает грусть. А речка мирно лижет ноги Своим холодным языком. Какие ждут еще тревоги Тебя, лежащего ничком? Тебе от них не отрешиться, Они овеяли твой путь, К сердце в шар земной стучится: Мы жили в мире — не забудь.«Густая тень и свет вечерний…»
Густая тень и свет вечерний — Как в сочетанье явь и сон. На золотое небо чернью Далекий город нанесен. Он стал законченней и выше, Не подавляя общий вид. Движенья полный — он недвижен, Тревожно шумный — он молчит. Без мелочей — тупых и тусклых — Он вынес в огненную высь И строгость зодческого чувства, И шпили — острые, как мысль.«Коснись ладонью грани горной…»
Коснись ладонью грани горной — Здесь камень гордо воплотил Земли глубинный, непокорный Избыток вытесненных сил. И не ищи ты бесполезно У гор спокойные черты: В трагическом изломе — бездна, Восторг неистовый — хребты. Здесь нет случайностей нелепых: С тобою выйдя на откос, Увижу грандиозный слепок Того, что в нас не улеглось.Изломы камня
1. «Черней и ниже пояс ночи…»
Черней и ниже пояс ночи, Вершина строже и светлей, А у подножья — шум рабочий И оцепление огней. Дикарский камень люди рушат, Ведут стальные колеи, Гора открыла людям душу И жизни прожитой слои. Качали тех, кто, шахту вырыв, Впервые в глубь ее проник. И был широко слышен в мире Восторга вырвавшийся крик. Но над восторженною силой, Над всем, что славу ей несло, Она угрюмо возносила Свое тяжелое чело.2. «Дымись, разрытая гора…»
Дымись, разрытая гора. Как мертвый гнев — Изломы камня. А люди — в поисках добра До сердца добрались руками. Когда ж затихнет суета, Остынут выбранные недра, Огромной пастью пустота Завоет, втягивая ветры. И кто в ночи сюда придет, Услышит: голос твой — не злоба. Был час рожденья, вырван плод, И ноет темная утроба.«Торопит нас крутое время…»
Торопит нас крутое время, И каждый час в себе несет Отчаянные измеренья Зовущих далей и высот. Расчеты твердые, скупые Таят размах мечты твоей В разумно скованной стихии Смертельных сил и скоростей. Ты с ней велик: стихия эта, Тобой рожденная, — твоя. И кружит старая планета Всю современность бытия. А ты в стремительном усилье, Как вызов, как вселенский клич, Выносишь солнечные крылья, Чтоб запредельное постичь. Но в час, когда отдашь ты душу Безумью сил и скоростей И твой последний крик заглушит Машина тяжестью своей, — В смешенье масла, пыли, крови Так жалко тают кисти рук… И мы спешим, нахмурив брови, Закрыть увиденное вдруг. И той поспешностью, быть может, Хотим сказать мы — без речей, Что миг бессилья так ничтожен Перед могуществом людей.«Ты в поисках особенных мгновений…»
Ты в поисках особенных мгновений Исколесил дорогу не одну, По вспышкам преходящих впечатлений Определяя время и страну. И в каждой вспышке чудилось открытье, Душа брала заряд на много лет. Но дни прошли — и улеглись событья В ней, как в подшивке выцветших газет. Ей нужно чудо, чтоб завидно вспыхнуть. Но это чудо в людях не открыв, Ты выдаешь испытанною рифмой Свой мастерски наигранный порыв. Блюдя приличье, слушают, не веря, Зевком снижают с мнимой высоты, И все невозвратимые потери На сложную эпоху свалишь ты. Не утешайся логикою гибкой. Эпоха жарко дышит у дверей, Как роженица — с трудною улыбкой — Насмешкой над обидою твоей.Я пришел без тебя
Я пришел без тебя. Мать кого-то ждала у крыльца. Все здесь было помечено горестным знаком разлуки. И казалось — овеяны вечностью эти морщины лица, И казалось — так древни скрещенные темные руки. Я у грани страданья. Я к ней обреченно иду. Так огонь по шнуру подбирается к каменной глыбе. И зачем я пришел? И зачем я стою на виду? Лучше мимо случайным прохожим пройти бы…«Везут мне вагонетки глину…»
Везут мне вагонетки глину, А от меня — осенний мрак. Когда я все их опрокину, Достану спички и табак. Далекая, ты в свете — рядом И хочешь сказкой все облечь. И при короткой встрече взглядов Уже не требуется речь. Но груз любви моей всегдашней… Но детскость рук твоих и плеч… Я отвожу огонь подальше — Я так боюсь тебя обжечь. А вагонеток строй суровый, Как годы, гулок на бегу. Приму, отправлю их — и снова Перед тобой огонь зажгу. Ты засмеешься надо мною: «Твой страх — застенчивая ложь! Я правду девичью открою: Горящую не обожжешь…»«Далекий день. Нам по шестнадцать лет…»
Далекий день. Нам по шестнадцать лет. Я мокрую сирень ломаю с хрустом: На парте ты должна найти букет И в нем — стихи. Без имени, но с чувством. В заглохшем парке чуткая листва Наивно лепетала язычками Земные, торопливые слова, Обидно не разгаданные нами. Я понимал затронутых ветвей Упругое упрямство молодое, Когда они в невинности своей Отшатывались от моих ладоней. Но май кусты порывисто примял, И солнце вдруг лукаво осветило Лицо в рекламном зареве румян И чей-то дюжий выбритый затылок. Я видел первый раз перед собой Вот эту, не подвластную эпохам, Покрытую сиреневой листвой Зверино торжествующую похоть. Ты шла вдали. Кивали тополя. И в резких тенях, вычерченных ими, Казалась слишком грязною земля Под туфельками белыми твоими… Но на земле предельной чистотой Ты искупала пошлость человечью, — И я с тугой охапкою цветов Отчаянно шагнул тебе навстречу.«Сюда не сходит ветер горный…»
Сюда не сходит ветер горный. На водах — солнечный отлив. И лебедь белый, лебедь черный Легко вплывают в объектив. Как день и ночь. Не так ли встретил В минуту редкостную ты Два проявленья в разном свете Одной и той же красоты? Она сливает в миг единый Для тех, кто тайны не постиг, И смелую доступность линий, И всю неуловимость их. Она с дичинкой от природы: Присуще ей, как лебедям, Не доверять своей свободы Еще неведомым рукам.«Экран вписался в темный вечер…»
Экран вписался в темный вечер Квадратно, холодно, бело. Мгновенье жизни человечьей Здесь отразилось — и прошло. Уже добро не рукоплещет, Наказанное зло — вдали, И только бабочки трепещут, Как сны очищенной земли. Но знаю, в тишине тревожась, Что хищный сумрак — не из сна. И полночь рой летучих рожиц Мне кажет из-за полотна.«В бессилье не сутуля плеч…»
В бессилье не сутуля плеч, Я принял жизнь. Я был доверчив. И сердце не умел беречь От хваткой боли человечьей. Теперь я опытней. Но пусть Мне опыт мой не будет в тягость: Когда от боли берегусь, Я каждый раз теряю радость.«Я не слыхал высокой скорби труб…»
Памяти Веры Опенько
Я не слыхал высокой скорби труб, И тот, кто весть случайно обронил, Был хроникально холоден и скуп, Как будто прожил век среди могил. Но был он прав. Мы обостренней помним Часы утрат, когда, в пути спеша, О свежий холмик с именем знакомым Споткнется неожиданно душа. Я принял весть и медленно вступил Туда, где нет слезливых слов и лиц, Где токи всех моих смятенных сил В одно сознанье резкое слились. И, может, было просветленье это, Дошедшее ко мне сквозь много дней, Преемственно разгаданным заветом — Лучом последней ясности твоей. Как эта ясность мне была близка И глубиной и силой молодой! Я каждый раз ее в тебе искал, Не затемняя близостью иной. Размашисто, неровно и незрело Примеривал я к миру жизнь мою, Ты знала в нем разумные пределы И беспредельность — ту, где я стою. А я стою средь голосов земли. Морозный месяц красен и велик. Ночной гудок ли высится вдали? Или пространства обнаженный крик?.. Мне кажется, сама земля не хочет Законов, утвердившихся на ней: Ее томит неотвратимость ночи В коротких судьбах всех ее детей.«Оденусь — и я уж не тот…»
Оденусь — и я уж не тот: Иным неподвластный заботам, Мгновенно я взят на учет И строгому времени отдан. Услышу гудок на ходу И в гуле густом и высоком Иду я привычно к труду — Иду к человечьим истокам. А тень вырастает длинней, Знакомая мне и чужая, Ломается в груде камней, Походку мою искажая. И тень ли, поденщик ли тот, Что смотрит глазами пустыми, Когда обыденность убьет В работе значенье святыни? Большой, угловатый в плечах, Словцом перекинувшись скупо, Товарищ отпустит рычаг И место, и ночь мне уступит. И крикнуть захочется мне: «Откликнись, какая там эра Свой прах отложила на дне Открытого мною карьера?» Сюда, в непогожую мглу Я вынес по вызову ночи, Как мой экскаватор стрелу, — Мечту в нетерпенье рабочем.«В ночи заботы не уйдут…»
В ночи заботы не уйдут — Вздремнут с открытыми глазами. И на тебя глядит твой труд, Не ограниченный часами. И сколько слов из-под пера, Из-под резца горячих стружек, Пока частицею добра Не станет мысль, с которой сдружен. Светла, законченно-стройна, Чуть холодна и чуть жестока, На гордый риск идет она, Порой губя свои истоки. Не отступая ни на пядь Перед бессмыслием постылым, Она согласна лишь признать Вселенную своим мерилом.«По щербинам врубленных ступеней…»
По щербинам врубленных ступеней Я взошел с тобой на высоту. Вижу город — белый и весенний, Слышу гром короткий на мосту. Шум травы, металла звук рабочий, И покой, и вихревой порыв — Даль живет, дымится и грохочет, Свой бессонный двигатель укрыв. Самолетик в небо запускают. Крохотные гонят поезда. Неуемность острая, людская, Четкий бег — откуда и куда? Объясняют пресными словами. Отвечают гордо и светло. Люди, люди, с грузными годами Сколько их по памяти прошло… Тех я вспомню, этих позабуду. Ими путь означен навсегда: По одним я узнаю — откуда, По другим сверяюсь я — куда. Родина? Судьба? Моя ли юность? Листьями ль забрызганная — ты? Все во мне мелькнуло и вернулось Напряженным ветром высоты.«Все гуще жизнь в душе теснится…»
Все гуще жизнь в душе теснится, Вы здесь — и люди, и дела. Вас прихотливою границей Моя рука не обвела. Ищу безадресную радость, Не изменяя вам ни в чем, А вы входите — и врывайтесь, Но под моим прямым лучом. Томясь потерями своими, Хочу обманчивое смыть, Чтобы единственное имя Смогло на каждом проступить. И подчиняясь жажде острой, В потоке судеб, дней, ночей Спешу я сам на перекресток Людских угаданных лучей.«Ты вернула мне наивность…»
Ты вернула мне наивность. Погляди — над головой Жаворонок сердце вынес В светлый холод ветровой. Расколдованная песня! Вновь я с травами расту, И по нити по отвесной Думы всходят в высоту. Дольним гулом, цветом ранним, Закачавшимся вдали, Сколько раз еще воспрянем С первым маревом земли! Огневое, молодое Звонко выплеснул восток. Как он бьется под ладонью — Жавороночий восторг! За мытарства, за разлуки Навсегда мне суждены Два луча — девичьи руки — Над становищем весны.Неразгаданная глубь
1. «У обрыва ль, у косы…»
У обрыва ль, у косы, Где певучее молчанье, Обронила ты часы… Сказка летняя в начале. Все речные духи вдруг Собрались в подводном мраке И глядят на четкий круг, На светящиеся знаки. Поднести боясь к огню Замурованную душу, Каждый выпростал клешню И потрогал. И послушал. Под прозрачный тонкий щит Не залезть клешнею черной. Духи слушают: стучит Непонятно и упорно. Выжми воду из косы Злою маленькой рукою. Говорил я про часы, Да сказалось про другое. Сверху — зыбью облака. Сверху — солнечная пляска, Но темна и глубока Человеческая сказка. Опусти пред нею щит, И тогда услышим двое, Как на дне ее стучит Что-то теплое, живое.2. «Одичалою рукою…»
Одичалою рукою Отвела дневное прочь, И лицо твое покоем Мягко высветлила ночь. Нет ни правды, ни обмана — Ты близка и далека. Сон твой — словно из тумана Проступившая река. Все так бережно утопит, Не взметнет песку со дна. Лишь невнятный, вольный шепот Вырывается из сна. Что в нем дышит — откровенье? Иль души веселый бред? Вечно тайну прячут тени, Вечно прям и ясен свет. И, рожденная до речи, С первым звуком детских губ Есть под словом человечьим Неразгаданная глубь. Не сквозит она всегдашним В жесте, в очерке лица. Нам постичь ее — не страшно, Страшно — вызнать до конца.3. «Платье — струями косыми…»
Платье — струями косыми. Ты одна. Земля одна. Входит луч, тугой и сильный, В сон укрытого зерна. И, наивный, тает, тает Жавороночий восторг… Как он больно прорастает — Изогнувшийся росток! В пласт тяжелый упираясь, Напрягает острие — Жизни яростная завязь, Воскрешение мое! Пусть над нами свет — однажды, И однажды — эта мгла, Лишь родиться б с утром каждым До конца душа могла.«Схватил мороз рисунок пены…»
Схватил мороз рисунок пены, Река легла к моим ногам — Оледенелое стремленье, Прикованное к берегам. Не зря мгновения просил я, Чтобы, проняв меня насквозь, Оно над зимнею Россией Широким звоном пронеслось. Чтоб неуемный ветер дунул, И, льдами выстелив разбег, Отозвалась бы многострунно Система спаянная рек. Звени, звени! Я буду слушать — И звуки вскинутся во мне, Как рыб серебряные души Со дна к прорубленной луне.«Грязь колеса жадно засосала…»
Грязь колеса жадно засосала, Из-под шин — ядреная картечь. О дорога! Здесь машине мало Лошадиных сил и дружных плеч. Густо кроют мартовское поле Злые зерна — черные слова. Нам, быть может, скажут: не грешно ли После них младенцев целовать?.. Ну, еще рывок моторной силы! Ну, зверейте, мокрые тела! Ну, родная мать моя Россия, Жаркая, веселая — пошла! Нет, земля, дорожное проклятье — Не весне, не полю, не судьбе. В сердце песней — нежное зачатье, Как цветочным семенем — в тебе. И когда в единстве изначальном Вдруг прорвется эта красота, Людям изумленное молчанье Размыкает грешные уста.«Сосед мой спит…»
Сосед мой спит. Наморщенные грозно, Застыли как бы в шаге сапоги. И рукавица электрод морозный Еще сжимает волею руки. Еще доспехи, сброшенные с тела, Порыв движенья жесткого хранят. Сосед мой спит. Весь мир — большое дело, Которым жив он, болен и богат. Часы с браслетом на запястье дюжем Минуты века числят наизусть, И борода — спасение от стужи — Густа и непокорна, словно Русь. Грохочет дом, где хлеб и сон мы делим, И молодая вьюга у дверей По черному вычерчивает белым Изгибы человеческих путей. Они бессмертны — дай им только слиться, Они сотрутся — лишь разъедини. И дни простые обретают лица, И чистый свет кладут на лица дни.«Все, что было со мной, — на земле…»
Все, что было со мной, — на земле. Но остался, как верный залог, На широком, спокойном крыле Отпечаток морозных сапог. Кто ступал по твоим плоскостям, Их надежность сурово храня, Перед тем, как отдать небесам Заодно и тебя и меня? Он затерян внизу навсегда, Только я, незнакомый ему, Эту вещую близость следа К облакам и светилам — пойму. Нам сужден проницательный свет, Чтоб таили его не губя, Чтобы в скромности малых примет Мы умели провидеть себя.«Лучи — растрепанной метлой…»
Лучи — растрепанной метлой. Проклятье здесь и там — Булыжник лютый и литой — Грохочет по пятам. И что ни двери — крик чужих Прямоугольным ртом, И рамы окон огневых Мерещатся крестом. Как душит ветер в темноте! Беги, беги, беги! Здесь руки добрые — и те Твои враги, враги… Ногтями тычут в душу, в стих, И вот уже насквозь Пробито остриями их Все, что тобой звалось. За то, что ты не знал границ, Дал воле имя — Ложь, Что не был рожей среди лиц И ликом — среди рож. Лучи метут, метут, метут Растрепанной метлой. Заносит руку чей-то суд, Когда же грянет — Твой?«Смычки полоснули по душам…»
Смычки полоснули по душам — И вскрикнула чья-то в ответ. Минувшее — светом потухшим, Несбыточным — вспыхнувший свет. Вспорхнула заученно-смело, Застыв, отступила на пядь. Я знаю: изгибами тела Ты вышла тревожить — и лгать. Я в музыку с площади брошен, И чем ты уверишь меня, Что так мы певучи под ношей Людского громоздкого дня? Ломайся, покорная звуку! Цветком бутафорским кружись! По кругу, по кругу, по кругу — Планета, душа моя, жизнь!«Здесь — в русском дождике осеннем…»
Здесь — в русском дождике осеннем Проселки, рощи, города. А там — пронзительным прозреньем Явилась в линзах сверхзвезда. И в вышине, где тьма пустая Уже раздвинута рукой, Она внезапно вырастает Над всею жизнью мировой. И я взлечу, но и на стыке Людских страстей и тишины Охватит спор разноязыкий Кругами радиоволны. Что в споре? Истины приметы? Столетья временный недуг? Иль вечное, как ход планеты, Движенье, замкнутое в круг? В разладе тягостном и давнем Скрестились руки на руле… Душа, прозрей же в мирозданье, Чтоб не ослепнуть на земле.Над полигоном
Летчику А. Сорокину
Летучий гром — и два крыла за тучей. Кто ты теперь? Мой отрешенный друг? Иль в необъятной области созвучий Всего лишь краткий и суровый звук? А здесь, внизу, — истоптанное лето. Дугой травинку тучный жук пригнул. А здесь, внизу, белеют силуэты, И что-то в них от птиц и от акул. Чертеж войны… О, как он неприемлем! И, к телу крылья острые прижав, Ты с высоты бросаешься на землю С косыми очертаньями держав. И страшен ты в карающем паденье, В невольной отрешенности своей От тишины, от рощи с влажной тенью, От милой нам беспечности людей. В колосья гильзы теплые роняя, Мир охватив хранительным кольцом, Уходишь ты. Молчит земля родная И кажет солнцу рваное лицо. И сгинул жук. Как знак вопроса — стебель. И стебель стал чувствилищем живым: Покой ли — призрак иль тревога — небыль В могучем дне, сверкающем над ним?«Ветер выел следы твои…»
Жить розно и в разлуке умереть.
М. Лермонтов Ветер выел следы твои на обожженном песке. Я слезы не нашел, чтобы горечь крутую разбавить. Ты оставил наследство мне — Отчество, пряник, зажатый в руке, И еще — неизбывную едкую память. Так мы помним лишь мертвых, Кто в сумрачной чьей-то судьбе Был виновен до гроба. И знал ты, отец мой, Что не даст никакого прощенья тебе Твоей доброй рукою Нечаянно смятое детство. Помогли тебе те, кого в ночь клевета родила И подсунула людям, как искренний дар свой. Я один вырастал и в мечтах, Не сгоревших дотла, Создал детское солнечное государство. В нем была Справедливость — Бессменный взыскательный вождь, Незакатное счастье светило все дни нам, И за каждую, даже случайную ложь Там виновных поили касторкою или хинином. Рано сердцем созревши, Я рвался из собственных лет. Жизнь вскормила меня, свои тайные истины выдав, И когда окровавились пажити, Росчерки резких ракет Зачеркнули сыновнюю выношенную обиду. Пролетели года. Обелиск. Траур лег на лицо… Словно стук телеграфный Я слышу, тюльпаны кровавые стиснув: «Может быть, он не мог Называться достойным отцом, Но зато он был любящим сыном Отчизны…» Память! Будто с холста, где портрет незабвенный, Любя, Стерли едкую пыль долгожданные руки. Это было, отец, потерял я когда-то тебя, А теперь вот нашел — и не будет разлуки…«Ты отгремела много лет назад…»
Ты отгремела много лет назад. Но, дав отсрочку тысячам смертей, Еще листаешь календарь утрат, В котором числа скрыты от людей. Убавят раны счет живым годам, Сомкнется кругом скорбная семья, И жертва запоздалая твоя Уходит к тем, что без отсрочки — там. И может быть, поймут еще не все У обелиска, где суглинок свеж, Как он глубоко в мирной полосе, Твой самый тихий гибельный рубеж.День и ночь 1965—1968
«Я услышал: корявое дерево пело…»
Я услышал: корявое дерево пело, Мчалась туч торопливая, темная сила И закат, отраженный водою несмело, На воде и на небе могуче гасила. И оттуда, где меркли и краски, и звуки, Где коробились дальние крыши селенья, Где дымки — как простертые в ужасе руки, Надвигалось понятное сердцу мгновенье. И ударило ветром, тяжелою массой, И меня обернуло упрямо за плечи, Словно хаос небес и земли подымался Лишь затем, чтоб увидеть лицо человечье.«Налет каменеющей пыли…»
Налет каменеющей пыли — Осадок пройденного дня — Дождинки стремительно смыли С дороги моей и с меня. И в гуле наклонного ливня, Сомкнувшего землю и высь, Сверкнула извилина длинно, Как будто гигантская мысль. Та мысль, чья смертельная сила Уже не владеет собой, И все, что она осветила, Дано ей на выбор слепой.Мост
Погорбившийся мост сдавили берега, И выступили грубо и неровно Расколотые летним солнцем бревна, Наморщилась холодная река, Течением размеренно колебля Верхушку остро выгнанного стебля, Который стрелкой темный ход воды, Не зная сам зачем, обозначает,— И жизнь однообразьем маеты Предстанет вдруг — и словно укачает. Ты встанешь у перил. Приложишь мерку. Отметишь мелом. Крепко сплюнешь сверху. Прижмешь коленом свежую доску, И гвоздь подставит шляпку молотку И тонко запоет — и во весь рост Ты вгонишь гвоздь в погорбившийся мост. И первый твой удар — как бы со зла, Второй удар кладешь с присловьем хлестким, А с третьим — струнно музыка пошла По всем гвоздям, по бревнам и по доскам. Когда же день утратит высоту, И выдвинется месяц за плечами, И свет попеременно на мосту Метнут машины круглыми очами,— Их сильный ход заглушит ход воды, И проходящей тяжестью колеблем, Прикрыв глаза, себя увидишь ты В живом потоке напряженным стеблем.«На берегу черно и пусто…»
На берегу черно и пусто. Себя не держат камыши. Вода уходит, словно чувство — Из обессиленной души. И обнажает предвечерний Уже не отраженный свет В песке извилины теченья И трепета волнистый след. Сквозная судорога в водах — Как в угасающем лице. Непокоренья гордый подвиг В их преждевременном конце. Не оживив ни луг, ни поле, Здесь устроители земли По знаку неразумной воли Всеосушающе прошли. И пятерни корней обвисли У вербы на краю беды, И как извилина без мысли — Речное русло без воды. Прогресс! И я — за новью дерзкой, Чтобы ее неумный друг Не смог внести в твои издержки Дела слепых и грубых рук.«Мирозданье сжато берегами…»
Мирозданье сжато берегами, И в него, темна и тяжела, Погружаясь чуткими ногами, Лошадь одинокая вошла. Перед нею двигались светила, Колыхалось озеро без дна, И над картой неба наклонила Многодумно голову она. Что ей, старой, виделось, казалось? Не было покоя средь светил: То луны, то звездочки касаясь, Огонек зеленый там скользил. Небеса разламывало ревом, И ждала — когда же перерыв, В напряженье кратком и суровом, Как антенны, уши навострив. И не мог я видеть равнодушно Дрожь спины и вытертых боков, На которых вынесла послушно Тяжесть человеческих веков.«Лежала, перееханная скатом…»
Лежала, перееханная скатом, Дышала телом, вдавленным и смятым. И видела сквозь пленку стылых слез, Как мимо, смертоносно громыхая, Огромное, глазастое неслось. И напряглась, мучительно-живая, О милости последней не прося, Но, в ноздри ей ударив сгустком дыма, Торжественно, замедленно и мимо Прошла колонна вся. Машины уносили гул и свет, Выравнивая скорость в отдаленье, А мертвые глаза собачьи вслед Глядели в человечьем напряженье, Как будто все, что здесь произошло, Вбирали, горестно осмыслить силясь, — И непонятны были им ни зло, Ни поздняя торжественная милость.«И когда опрокинуло наземь…»
И когда опрокинуло наземь, Чтоб увидеть — закрыл я глаза, И чужие отхлынули разом, И сошли в немоту голоса. Вслед за ними и ты уходила, Наклонилась к лицу моему, Обернулась — и свет погасила, Обреченному свет ни к чему. Да, скорее в безликую темень, Чтобы след был надежней затерян, Чтоб среди незнакомых огней Было темному сердцу вольней. Шаг твой долгий, ночной, отдаленный Мне как будто пространство открыл, И тогда я взглянул — опаленно, Но в неясном предчувствии крыл.«Я хочу, чтобы ты увидала…»
Я хочу, чтобы ты увидала: За горой, вдалеке, на краю Солнце сплющилось, как от удара О вечернюю землю мою. И как будто не в силах проститься, Будто солнцу возврата уж нет, Надо мной безымянная птица Ловит крыльями тающий свет. Отзвенит — и в траву на излете, Там, где гнезда от давних копыт. Сердца птичьего в тонкой дремоте День, пропетый насквозь, не томит. И роднит нас одна ненасытность — Та двойная знакомая страсть, Что отчаянно кинет в зенит нас И вернет — чтоб к травинкам припасть.«И все как будто кончено — прощай…»
И все как будто кончено — прощай, А ты — клубись, непролитая туча, Но мой ни в чем не виноватый край Осенней думою не угнетай, Непамятливых памятью не мучай, А помнящим хоть час забвенья дай. И только сердцу вечно быть виновным Во всем, что так мучительно давно в нем И все же чисто, словно в первый час: Вошла — и руки белые сложила, И тонко веки темные смежила, И безысходно в сердце улеглась. Теперь иди, куда захочешь, в мире… А для меня он ни тесней, ни шире, — Земля кругом и мерзлая жива, И вижу я под неподвижной тучей, Как зеленеет смело и колюче Нежданная предзимняя трава.«Тянулись к тучам, ждали с высоты…»
Тянулись к тучам, ждали с высоты Пустым полям обещанного снега, В котором есть подобье доброты И тихой радости. Но вдруг с разбега Ударило по веткам молодым, Как по рукам, протянутым в бессилье, Как будто не положенного им Они у неба темного просили. И утром я к деревьям поспешил. Стволов дугообразные изгибы, Расщепы несогнувшихся вершин, Просвеченные ледяные глыбы, Висячей тяжестью гнетущие мой лес, Увидел я… И все предстало здесь Побоищем огромным и печальным, И полоса поникнувших берез, С которой сам я в этом мире рос, Мне шествием казалась погребальным. Когда ж весною белоствольный строй Листвою брызнул весело и щедро, Дыханье запыхавшегося ветра Прошло двойным звучаньем надо мной. Живое лепетало о живом, Надломленное стоном отвечало. Лишь сердце о своем пережитом Искало слов и трепетно молчало.«Уже огромный подан самолет…»
Уже огромный подан самолет, Уже округло вырезанной дверцей Воздушный поглощается народ, И неизбежная, как рифма «сердце», Встает тревога и глядит, глядит Стеклом иллюминатора глухого В мои глаза — и тот, кто там закрыт, Уже как будто не вернется снова. Но выдали — еще мгновенье есть! — Оттуда, как из мира из иного, Рука — последний, непонятный жест, А губы — обеззвученное слово. Тебя на хищно выгнутом крыле Сейчас поднимет этой легкой силой, — Так что ж понять я должен на земле, Глядящий одиноко и бескрыло? Что нам — лететь? Что душам суждена Пространства неизмеренная бездна? Что превращает в точку нас она, Которая мелькнула и исчезла? Пусть — так. Но там, где будешь ты сейчас, Я жду тебя, — в надмирном постоянстве Лечу, — и что соединяет нас, Уже не затеряется в пространстве.«Небеса опускались мрачней…»
Ночь. Аэропорт.
Небеса опускались мрачней, Я искал три сигнальных огня. Ты скажи, сколько дней и ночей Ожиданью учила меня. И свершилось: мы знаем свой час, Знаем, что нам отныне дано, И не скрыть от взыскующих глаз, Что доступнее счастья оно. И когда три сигнальных огня Вспыхнут в небе — былому в ответ, Все из дали зовешь ты меня — Та, которой в тебе уже нет.«Отдамся я моей беде…»
Р. А.
Отдамся я моей беде, Всему, что слишком кратко встретил, И, отраженную в воде, Тебя слепой расплещет ветер. И, солнце с холодом смешав, Волна запросится в ладони, И пробежит по камышам Мгновенье шумно молодое. Тогда услышу у воды, Как весь насквозь просвистан невод, И навсегда твои следы На берегу окаменеют. Пройдя певучею тропой, Заполнит память их, как чаши, Чтобы продлился праздник мой, Хотя бы в слове прозвучавшем.«И что-то задумали почки…»
И что-то задумали почки, Хоть небо — тепла не проси, И красные вязнут сапожки В тяжелой и черной грязи. И лучшее сгинуло, может, Но как мне остаться в былом, Когда эти птицы тревожат, Летя реактивным углом, Когда у отвесного края Стволы проступили бело, И с неба, как будто считая, Лучом по стволам провело. И капли стеклянные нижет, Чтоб градом осыпать потом, И, юное, в щеки мне дышит Холодным смеющимся ртом.«Зеленый трепет всполошенных ивок…»
Зеленый трепет всполошенных ивок, И в небе — разветвление огня, И молодого голоса отрывок, Потерянно окликнувший меня. И я среди пылинок неприбитых Почувствовал и жгуче увидал И твой смятенно вытесненный выдох, И губ кричащих жалобный овал. Да, этот крик — отчаянье и ласка, И страшно мне, что ты зовешь любя, А в памяти твой облик — только маска, Как бы с умершей снятая с тебя.«Они метались на кроватях…»
Они метались на кроватях — И чей-то друг, и сын, и муж. О них вздыхали, как о братьях, Стыдясь их вывихнутых душ. И, жгут смирительный срывая, Они кричат: «Остановись! Не жги, проклятая, больная, Смещенная безумьем жизнь!» Дежурных бдительные руки Их положили, подоспев. И тут вошли в палату звуки — Простой и ласковый напев. И кротко в воздухе повисла Ладонь, отыскивая лад, И трудно выраженье смысла Явил больной и скорбный взгляд. А голос пел: мы — те же звуки, Нам так гармония нужна, И не избавиться от муки, Пока нарушена она. Взгляни устало, но спокойно: Все перевернутое — ложь. Здесь высоко, светло и стройно, Иди за мною — и взойдешь. Девичье-тонкий в перехвате, Овеяв лица ветерком, Белея, уходил халатик И утирался рукавом.«Эскалатор уносит из ночи…»
Эскалатор уносит из ночи В бесконечность подземного дня, Может, так нам с тобою короче, Может, здесь нам видней от огня… Загрохочет, сверкая и воя, Поезд в узком гранитном стволе, И тогда, отраженные, двое Встанем в черно-зеркальном стекле. Чуть касаясь друг друга плечами, Средь людей мы свои — не свои, И слышней и понятней в молчанье Нарастающий звон колеи. Загорайся, внезапная полночь! В душном шорохе шин и подошв Ты своих лабиринтов не помнишь И надолго двоих разведешь. Так легко — по подземному кругу, Да иные круги впереди. Фонарем освещенную руку Подняла на прощанье: «Иди…» Не кляни разлучающей ночи, Но расслышь вековечное в ней: Только так на земле нам короче, Только так нам на свете видней.«Многоэтажное стекло…»
Многоэтажное стекло. Каркас из белого металла. Все это гранями вошло, Дома раздвинуло — и встало. В неизмеримый фон зари Насквозь вписалось до детали, И снизу доверху внутри По-рыбьи люди засновали. И, этот мир назвав своим, Нещедрой данницей восторга По этажам по зоревым Ты поднялась легко и строго. Прошла — любя, прошла — маня, Но так тревожно стало снова, Когда глядела на меня Как бы из времени иного.«Одним окном светился мир ночной…»
Одним окном светился мир ночной, Там мальчик с ясным отсветом на лбу, Водя по книге медленно рукой, Читал про чью-то горькую судьбу. А мать его глядела на меня Сквозь пустоту дотла сгоревших лет, Глядела, не тревожа, не храня Той памяти, в которой счастья нет. И были мне глаза ее страшны Спокойствием, направленным в упор И так печально уходящим вдаль, И я у черной каменной стены Стоял и чувствовал себя как вор, Укравший эту тайную печаль. Да, ты была моей и не моей… Читай, мой мальчик! Ухожу я вдаль И знаю: материнская печаль, Украденная, вдвое тяжелей.«Вокзал с огнями — неминуем…»
Вокзал с огнями — неминуем, Прощальный час — над головой, Дай трижды накрест поцелуем Схватить последний шепот твой. И, запрокинутая резко, Увидишь падающий мост И на фарфоровых подвесках — Летящий провод среди звезд. А чтоб минута стала легче, Когда тебе уже невмочь, Я, наклонясь, приму на плечи Всю перекошенную ночь.«Вознесенье железного духа…»
Вознесенье железного духа В двух моторах, вздымающих нас. Крепко всажена в кресло старуха, Словно ей в небеса не на час. И мелькнуло такое значенье, Как себя страховала крестом, Будто разом просила прощенья У всего, что пошло под винтом. А под крыльями — пыльное буйство. Травы сами пригнуться спешат. И внезапно — просторно и пусто, Только кровь напирает в ушах. Напрягает старуха вниманье, Как праматерь, глядит из окна. Затерялись в дыму и в тумане Те, кого народила она. И хотела ль того, не хотела — Их дела перед ней на виду. И подвержено все без раздела Одобренью ее и суду.«Везде есть место чувствам и стихам…»
Везде есть место чувствам и стихам. Где дьякон пел торжественно и сипло, Сегодня я в забытый сельский храм С бортов пшеницу солнечную сыплю. Под шепот деда, что в молитвах ник, Быт из меня лепил единоверца. Но, господи, твой византийский лик Не осенил мальчишеского сердца. Меня учили: ты даруешь нам Насущный хлеб в своем любвеобилье. Но в десять лет не мы ли по стерням В войну чернели от беды и пыли? Не я ли с горькой цифрой на спине За тот же хлеб в смертельной давке терся. И там была спасительницей мне Не матерь божья — тетенька из ОРСа. Пусть не блесну я новизною строк, Она стара — вражда земли и неба. Но для иных и нынче, как припек, Господне имя в каждой булке хлеба. А я хочу в любом краю страны Жить, о грядущем дне не беспокоясь. …Святые немо смотрят со стены, В зерно, как в дюны, уходя по пояс.«Когда прицельный полыхнул фугас…»
Когда прицельный полыхнул фугас, Казалось, в этом взрывчатом огне Копился света яростный запас, Который в жизни причитался мне. Но мерой, непосильною для глаз, — Его плеснули весь в единый миг, И то, что видел я в последний раз, Горит в глазницах пепельных моих. Теперь, когда иду среди людей, Подняв лицо, открытое лучу, То во вселенной выжженной моей Утраченное солнце я ищу. По-своему печален я и рад, И с теми, чьи пресыщены глаза, Моя улыбка часто невпопад, Некстати непонятная слеза. Я трогаю руками этот мир — Холодной гранью, линией живой Так нестерпимо памятен и мил, Он весь как будто вновь изваян мной. Растет, теснится, и вокруг меня Иные ритмы, ясные уму, И словно эту бесконечность дня Я отдал вам, себе оставив тьму. И знать хочу у праведной черты, Где равновесье держит бытие, Что я средь вас — лишь памятник беды, А не предвестник сумрачный ее.«Я тебя молю не о покое…»
Я тебя молю не о покое, Ты иным зовешь меня сюда: Надо мной бессмертье голубое — Купола твои, Шах-и-Зинда. Я пришел не скорбным и не нищим, Но в священной каменной пыли Мы смятенным духом вечно ищем, Словно там родное погребли. О искусство, возврати потери, Обожги узором древних стен, Чтобы мог я в мире соизмерить, Что ушло и что дано взамен.«А когда глаза открыл…»
А когда глаза открыл, Сердцу показалось — От неисчислимых крыл Небо колыхалось. Я видение не вдруг По небу развеял. Я спросил: «Они — на юг? Иль уже — на север?» Я спросил: «А где я был От зимы до лета?» Но высокий посвист крыл Мне не дал ответа.«Лес расступится — и дрогнет…»
Лес расступится — и дрогнет, Поезд — тенью на откосах, Длинновытянутый грохот На сверкающих колесах. Раскатившаяся тяжесть, Мерный стук на стыках стали, Но, от грохота качаясь, Птицы песен не прервали. Прокатилось, утихая, И над пропастью оврага Только вкрадчивость глухая Человеческого шага. Корни выползли ужами, Каждый вытянут и жилист, И звериными ушами Листья все насторожились. В заколдованную небыль Птица канула немая, И ногой примятый стебель Страх тихонько поднимает.«Привиденьем белым и нелепым…»
Привиденьем белым и нелепым Я иду, и хаос надо мной — То, что прежде называлось небом, Под ногами — что звалось землей. Сердце бьется, словно в снежном коме, Все лишилось резкой наготы, Мне одни названья лишь знакомы И неясно видятся черты. И когда к покинутому дому, Обновленный, я вернусь опять, Мне дано увидеть по-иному, По-иному, может быть, понять… Но забыться… Вейся, белый хаос! Мир мне даст минуту тишины, Но когда забыться я пытаюсь, Насылает мстительные сны.«Еще метет во мне метель…»
Еще метет во мне метель, Взбивая смертную постель, И причисляет к трупу труп,— То воем обгорелых труб, То шорохом бескровных губ Та, давняя метель. Свозили немцев поутру. Лежачий строй — как на смотру, И чтобы каждый видеть мог, Как много пройдено земель, Сверкают гвозди их сапог, Упертых в белую метель. А ты, враждебный им, глядел На руки талые вдоль тел. И в тот уже беззлобный миг Не в покаянии притих, Но мертвой переклички их Нарушить не хотел. Какую боль, какую месть Ты нес в себе в те дни! Но здесь Задумался о чем-то ты В суровой гордости своей, Как будто мало было ей Одной победной правоты.«Как прянет луч вечерний…»
Как прянет луч вечерний, Ударит в грудь мою, Я тихое свеченье К ногам твоим пролью. Тревожным черноземом С краев окаймлено, Забытым и знакомым Увидится оно. По залитой дороге Пройдешь ты без следа, И лишь кругами дрогнет Глядящая вода. Широкою водою, Как сон твой наяву, Я — облачко цветное — Вожатым поплыву. Иди за мною следом. Предчувствую межу. Спеши — последним светом Я в бездне исхожу. Все ближе камень серый — Однообразный путь. Здесь гибельный мой берег… Прощай и не забудь.«Поднялась из тягостного дыма…»
Поднялась из тягостного дыма, Выкруглилась в небе — И глядит. Как пространство Стало ощутимо! Как сквозное что-то холодит! И уже ни стены, Ни затворы, Ни тепло зазывного огня Не спасут… И я ищу опоры В бездне, Окружающей меня. Одарив Пронзительным простором, Ночь встает, Глазаста и нага. И не спит живое — То, в котором Звери чуют брата и врага.«Всю ночь шумело…»
Всю ночь шумело Надо мной Тысячелисто и шершаво. Земля, Храня вчерашний зной, Еще в беспамятстве дышала. И каждый звук — Вблизи, вдали — И умирая был неведом: Он не был голосом Земли — Он был ее тяжелым бредом. Но и в бреду Все тот же строй, Что в час — И первый и последний — С неотвратимостью крутой Выравнивает наши бредни.«Зачем так долго ты во мне?..»
Зачем так долго ты во мне? Зачем на горьком повороте Я с тем, что будет, наравне, Но с тем, что было, не в расчете? Огонь высокий канул в темь, В полете превратившись в камень, И этот миг мне страшен тем, Что он безлик и безымянен, Что многозвучный трепет звезд Земли бестрепетной не будит, И ночь — как разведенный мост Меж днем былым и тем, что будет.«Я ее никогда, никогда…»
Я ее никогда, никогда Не отдам твоей ночи и дню. Не ступай по провалам следа, Не надейся, что я оброню. Вот она — на руках, на весу. Донесу. Вот он — тихий усталый огонь. Только тронь. Он тяжелым дыханьем твоим Негасим. У зимы в необжитом плену В этот миг Принимаю свободу — одну На двоих. Слушай, ты, за плечом! Не бегу. Восхожу. Не прощай мне обид. Твой оборванный след на снегу Чернорото кричит.«Скорей туда…»
Скорей туда, На проводы зимы! Там пляшут кони, Пролетают сани, Там новый день У прошлого взаймы Перехватил Веселье с бубенцами. А что же ты? Хмельна Иль не хмельна? Конец твоей Дурашливости бабьей: С лихих саней Свалилась на ухабе И на снегу — Забытая, одна. И на лету Оброненная в поле, Ты отчужденно Слышишь дальний смех, И передернут Судорогой боли Ветрами косо Нанесенный снег. Глядишь кругом — Где праздник? Пролетел он. Где молодость? Землей взята давно. А чтобы легче было, Белым, белым Былое Бережно заметено.«Над сонным легче — доброму и злому…»
Над сонным легче — доброму и злому, Лицо живет, но безответно. Там, Наверное, свет виден по-иному, И так понятно бодрствующим нам: Там жизнь — как луч, который преломила Усталости ночная глубина, И возвращает мстительная сила Все, что тобою прожито, со дна. Минувший день, назойливым возвратом Не мучь меня до завтрашнего дня, Иль, может, злишься ты перед собратом, Что есть еще в запасе у меня? Но, может, с горькой истиной условясь, В такие ночи в несвободном сне Уже ничем не скованная совесть Тебя как есть показывает мне.«Сказали так, что умер я…»
Сказали так, что умер я. Не знал. Но слишком многих я похоронил. Идет душа, храня живой накал, Идет — среди живых и средь могил. И как-то странно чувствую порой В глазах людей, увидевших меня, То отраженье, где еще живой Встаю — свидетель нынешнего дня. И те, кого я скорбно хоронил, Глядят моими честными глазами На этот мир, где жизней и могил Число должны определять мы сами.«И я опять иду сюда…»
И я опять иду сюда, Томимый тягой первородной. И тихо в пропасти холодной К лицу приблизилась звезда. Опять знакомая руке Упругость легкая бамбука, И ни дыхания, ни звука — Как будто все на волоске. Не оборвись, живая нить! Так стерегуще все, чем жил я, Меня с рассветом окружило, Еще не смея подступить. И, взгляд глубоко устремя, Я вижу: суетная сила Еще звезду не погасила, В воде горящую стоймя.«Ночь идет подземным переходом…»
Ночь идет подземным переходом, В свете газа Мертвенно-бела. Мерно повторяемая сводом, По ступеням шаркает метла. Там немолодая, В серой шали Женщина метет, Метет, метет, Пешеходы реже, Реже стали, Наверху машин Чуть слышен ход. И она По каменным ступеням Тихо поднимается с метлой, Дышит крепким Воздухом осенним И глядит На небо над Москвой. А оно темно и величаво, И, на площадь Не пуская тьму, Свет Столбообразными лучами Отовсюду Тянется к нему. Башня Часовым певучим боем Ночь державно Делит пополам. И таким осенены покоем Золотые купола! Развязала шаль Рукой усталой, Слушая высокий, Чистый бой, И вздохнула — Словно легче стало Бремя жизни, Жизни прожитой.«Мрак расступился — и в разрыве…»
Мрак расступился — и в разрыве Луч словно сквозь меня прошел. И я увидел ночь в разливе И среди ночи — белый стол. Вот она, родная пристань. Товарищ, тише, не толкай: Я полон доверху тем чистым, Что бьет порою через край. Дай тихо подойти и тихо Назваться именем своим. Какое ни было бы лихо — Я от него хоть здесь храним. Вокруг меня — такое жженье, Вокруг меня — и день и ночь Вздыхает жизнь от напряженья И просит срочно ей помочь. И все размеренно и точно: Во мраке ль ночи, в свете ль дня В ней все неумолимо-срочно — Ну что же, торопи меня, Людская жизнь, но дай мне в меру В том срочном вынести в себе С рожденья данную мне веру, Что вся — насквозь — в твоей судьбе. И этой вере дали имя Понятное, как слово «мать». А нас зовут, зовут детьми твоими. Так дай взаимно нас понять.«В такие красные закаты…»
В такие красные закаты Деревья старые и те Дрожат, Как будто виноваты В своей осенней нищете. Но в их изгибах обнаженней Я вижу напряжение сил, С которым леса шум тяжелый Здесь каждый ствол их возносил.«Весь день как будто жду кого-то…»
Весь день как будто жду кого-то. Пора, пора! Вон пыль собакой под ворота И — со двора. С такою пылью только давний И скорый друг. Минута встречи — все отдай ей Сполна и вдруг. Звенело золотом нам слово И серебром, Так чем поделимся мы снова, Каким добром? Входи скорей, не стал я нищим, Хоть знал семь бед, А что потеряно — отыщем, Как вспыхнет свет. Не будет света — вздуем мигом Огонь в ночи. Ты только мимо, мимо, мимо Не проскочи.«Давай погасим свет…»
Давай погасим свет — Пускай одна Лежит на подоконнике Луна. Пускай в родное Тихое жилье Она вернет Спокойствие мое. И, лица приподняв, Услышим мы, Как звуки к нам Идут из полутьмы. В них нет восторга И печали нет, Они — как этот Тонкий полусвет. А за окном Такая глубина Что, может, только Музыке дана. И перед этой Странной глубиной Друг друга мы Не узнаем с тобой.«Ты пришла, чтоб горестное — прочь…»
Ты пришла, чтоб горестное — прочь, Чтоб земля светилась, как арена, Чтобы третьей — только эта ночь На огне на праздничном горела. И пускай взывает к небу дым, Пусть ночная кровь заговорила, На земле мы верно повторим Только то, что в нас неповторимо.«Прощаясь с недругом и другом…»
Г. Улановой
Прощаясь с недругом и другом, Взвивает занавес края, И сцена — Палуба моя — Всплывает белым полукругом. Уже тревогой Распят фрак Перед оркестром, ждущим знака, И тишина — как чуткий враг, И там, Угаданный средь мрака, Огромный город впереди, Нагроможденный ярусами. Так что ж, Пронзай, казни, гляди Неисчислимыми глазами! Я здесь. Я словно в первый раз Свое почувствовала тело. Я притяженье Этих глаз Превозмогла, преодолела. И вот лечу, и вот несу Все, с чем вовеки не расстанусь, И тела собственного танец Я вижу Где-то там, внизу. А как оно послушно мне, И как ему покорны души! Я с ними здесь Наедине, Пока единства не нарушит Аплодисментов потный плеск, Ответные поклоны тела, А я под этот шум и блеск, Как легкий пепел, отлетела.«Все — без нее: и этот стих…»
В. М.
Все — без нее: и этот стих, И утра, ставшие бездонней. Но холодок живых ладоней Еще я чувствую в своих. О музыкант, лишенный рук! Ты ощущать не перестанешь, Как он под пальцами упруг, Нетронуто-холодный клавиш. И словно вновь исполнят долг Несуществующие руки — И ты опять услышишь звуки, Как я тот голос, что умолк…«В этом доме опустелом…»
В этом доме опустелом Лишь подобье тишины. Тень, оставленная телом, Бродит зыбко вдоль стены. Чуть струится в длинных шторах Дух тепла — бродячий дух. Переходит в скрип и шорох Недосказанное вслух. И спохватишься порою, И найдешь в своей судьбе: Будто все твое с тобою, Да не весь ты при себе. Время сердца не обманет: Где ни странствуй, отлучась, Лишь сильней к себе потянет Та, оставленная, часть.«К чему б теперь о днях недобрых…»
К чему б теперь о днях недобрых, О выжженных Вагонных ребрах, О бомбах, Плавящих песок? Скользит по проводу Пантограф, Гудит торжественно Гудок. Ни станций, От мазута грязных, Ни лиц, Что угольно-черны. Несется поезд, Словно праздник, Где окна все освещены. А там, Холодный и могучий, Стоит в запасе паровоз. В его груди гудок ревучий, Тревожно рвавшийся под тучи, Все жив. О, только б не вознес Он голос свой, Сирене сродный, Туда, где мечутся лучи Прожекторов… …Так стой, холодный, И отдохни. И помолчи.«О первая библиотека…»
О первая библиотека, Весомость тома на руке! России два различных века Лежат в домашнем сундуке. И прошлый век в сознанье раннем Звенел мне бронзою литой: Там Пушкин встал у основанья, У изголовья — Лев Толстой. А этот век… За взрывом — взрыв! В крови страница за страницей. И от огня не отстранишься, Одних бессмертно озарив. Других под бурею отвеял Не без мучительных потерь. Но стало тише… И теперь Звук словно сам в себя поверил И, донося значенье слов, Восходит чище и свободней, Как выражение природной Естественности голосов.«И луна влепилась в лоб кабины…»
И луна влепилась в лоб кабины, И легла за плугом борозда. Взрезывай тяжелые глубины, Думай, что там было и когда? Не враждует прах с безгласным прахом, Где прошли и воды и лучи, И не глянет в небо черным страхом Борозда, рожденная в ночи. И вдали от суетного стана Вдруг возникнет, как из-под земли, Скорбная торжественность тумана В память тех, что раньше здесь прошли. Пусть они живому не ответят, Пусть туман, как привиденье, — прочь, Ты вернешься к людям на рассвете, Но не тем, каким ушел ты в ночь.«Заняться как будто и нечем…»
Заняться как будто и нечем, Вот лестницу он смастерил. Ведь жизнь оставляет под вечер Немного желаний и сил. И тихо — ступень за ступенью — Он стал подниматься туда, Где пенье, морозное пенье Над крышей несли провода. А все, что отринуто, глухо Замкнули четыре стены. Там, как изваянья недуга, — Подушка и ком простыни. И встал он — высоко, высоко — Не краткий закат подстеречь, А холод незримого тока У самых почувствовать плеч. Увидеть в каком-то наитье (Как будто провел их не сам) Вот эти смертельные нити, Ведущие к первым огням. Ну что же, теперь не в обиде: В порыве желаний простых Огни на поверке увидел И что осветил он — постиг. Но старое сердце дивилось: И в счастье есть горький удел — И выше бывать приходилось, А что-то навек проглядел.Во имя твое 1968—1972
«Опять мучительно возник…»
Но лишь божественный глагол…
А. Пушкин Опять мучительно возник Передо мною мой двойник. Сперва живет, как люди: Окончив день, в преддверье сна Листает книгу, но она В нем прежнего не будит. Уж все разбужено давно И, суетою стеснено, Уснуло вновь — как насмерть. Чего хотелось? Что сбылось? Лежит двойник мой — руки врозь, Бессильем как бы распят. Но вот он медленно встает — И тот как будто и не тот: Во взгляде — чувство дали, Когда сегодня одного, Как обреченного, его На исповедь позвали. И сделав шаг в своем углу К исповедальному столу, Прикрыл он дверь покрепче, И сам он думает едва ль, Что вдруг услышат близь и даль То, что сейчас он шепчет.«Нет, лучше б ни теперь, ни впредь…»
Нет, лучше б ни теперь, ни впредь В безрадостную пору Так близко, близко не смотреть В твой зрак, ночная прорубь. Холодный, черный, неживой… Я знал глаза такие: Они глядят, но ни одной Звезды в них ночь не кинет. Но вот губами я приник Из проруби напиться — И чую, чую, как родник Ко мне со дна стремится. И задышало в глубине, И влажно губ коснулось, И ты, уснувшая во мне, От холода проснулась.«Померк закат, угасла нежность…»
Померк закат, угасла нежность, И в холодеющем покое, Чужим участием утешась, Ты отошла — нас стало двое. Ах, как ты верила участью! Тебе вины любая малость Неразделимой на две части И не всегда твоей казалась. Я оглянулся и увидел, Как бы внесенные с мороза, Твоей неправедной обиды Такие праведные слезы. И вызрел приступ жажды грубой — На все обрушить радость злую, Таили дрожь презренья губы, Как смертный трепет поцелуя. Но отрезвляющая воля Взметнула душу круче, выше, — Там нет сочувствия для боли, Там только правда тяжко дышит. Уже — заря. В заботе ранней Внизу уверенно стучатся. Я не открою. Спи, страданье. Не разбуди его, участье.«Мать наклонилась, но век не коснулась…»
Мать наклонилась, но век не коснулась, Этому, видно, еще не пора. Сердце, ты в час мой воскресный проснулось — Нет нам сегодня, нет нам вчера. Есть только свет — упоительно-щедрый, Есть глубиной источаемый свет, Незащищенно колеблясь без ветра, Он говорит нам: безветрия нет. Мать, это сходятся в сердце и в доме Неразделимые прежде и вновь, Видишь на свет — в темножилой ладони Чутко и розово движется кровь. Видишь ли даль, где играют, стремятся, Бьются о стены и бьют через край, Реют, в извилинах темных змеятся Мысли людские… Дай руку. Прощай.«Нет, не соленый привкус нищеты…»
Нет, не соленый привкус нищеты — Нам сводит губы жажда этой жизни, Боясь того, что, до конца не вызнав Ее щедрот, исчезнем — я и ты. Болезней много мы превозмогли, Так дай нам бог не увидать земли, Где изобилье, ставши безобразьем, Уже томит создателей своих, И властно подчиняет чувства их, И соблазняет прихотями разум.«Теперь не для того тебя зову…»
Теперь не для того тебя зову, Чтоб возвратить души моей невинность, Чтоб вновь увидеть, как подснежник вынес Внезапную — над тленьем — синеву. Да, искушенный, все я сохранил — И чистоту, и сердце непустое, И в зрелой нерастраченности сил Мне жить сегодня тяжелее вдвое. Не принимал я чувство никогда Как дань весны всесильной и летучей, В ней сквозь безгрешность — жжение стыда, Которое нас запоздало мучит…«Ничего, что этот лед — без звона…»
Ничего, что этот лед — без звона, Что камыш — не свищет, В немоте прозрачной и бездонной Нас никто не сыщет. Мы опять с тобою отлетели, И не дивно даже, Что внизу остались только тени, Да и те не наши. Сквозь кристаллы воздуха увидим То, что нас томило… Но не будем счет вести обидам, Пролетая мимо. А пока — неузнанные дали, Как душа хотела, Будто нам другое сердце дали И другое тело.«Не бросал свое сердце, как жребий…»
Не бросал свое сердце, как жребий, На дороге, во мгле. Три огня проносила ты в небе, А теперь твой огонь — на земле. Эти рельсы, сведенные далью, Разбежались и брызнули врозь. Но огонь — над обманчивой сталью Средь раздвинутых настежь берез. И гнетущая свеяна дрема С твоих плеч, со сквозного стекла, — Недоступно, светло, невесомо Поднялась и в окне замерла. И глядишь сквозь мелькающий хаос, Как на самом краю Я с землею лечу, задыхаясь, На притихшую душу твою.«Зажми свою свежую рану…»
Зажми свою свежую рану, Пусть кровь одиноко не свищет, Она, как душа в нашем теле, Смертельного выхода ищет. В глаза ли глубокие гляну — Живое в них дышит сознанье, Что рана — твое обретенье, А с ним ты сильнее страданья. И словно отысканный выход — В душе отступившая смута, И, ясная в трепете боли, Начальная светит минута. А мы осененно и тихо Столпились, чего-то не смея: В животном предчувствии доли Нетронутым рана страшнее.«Замученные свесились цветы…»
Замученные свесились цветы — От чьих-то рук избавила их ты. И вот теперь они у изголовья Губами свежесть ночи ловят. И эта ночь с холодною звездой, С цветами, что раскрылись над тобой, С твоим теплом, распахнутым и сонным, Пронизана высоким чистым звоном. Но я шагну — и в бездне пустоты Насторожатся зрячие цветы, И оборвется звон высокой ночи — Все это ложь, что сердце мне морочит. Еще мой день под веками горит, Еще дневное сердце говорит, Бессонное ворочается слово — И не дано на свете мне иного.«И с горы мы увидели это…»
И с горы мы увидели это: Островки отрешенной земли И разлив, как внезапный край света, — Вот куда мы с тобой добрели. Видишь — лодка стоит у причала И весло от лучей горячо. В складках волн я читаю начало, А чего — неизвестно еще. И, встречая раздольные воды, Этот ветер, что бьет по плечу, Я вдыхаю избыток свободы, Но пустынности их не хочу. Эти кем-то забытые сходни — Для шагов осторожных твоих, — Так всходи и забудь, что сегодня Слишком много дано на двоих.«В эту ночь с холмов, с булыжных улиц…»
А. С.
В эту ночь с холмов, с булыжных улиц Собирались силы темных вод, И когда наутро мы проснулись, Шел рекой широкий ледоход. Размыкая губы ледяные, Говорила вольная вода,— Это было в мире не впервые, Так зачем спешили мы сюда? А река — огромная, чужая, Спертая — в беспамятстве идет, Ничего уже не отражая В мутной перекошенности вод. От волны — прощальный холод снега, Сочный плеск — предвестье первых слов, И кругом такой простор для эха, Для далеких чьих-то голосов. Нет мгновений кратких и напрасных, Доверяйся сердцу и глазам: В этот час там тихо светит праздник, Не подвластный нам.«…Да, я не часто говорю с тобой…»
Н. Б.
…Да, я не часто говорю с тобой И, кажется, впервые — слишком длинно. Здесь ветер, долгий, жаркий, полевой, Идет спокойно ширью всей равнины. И вот, встречаясь с ветром грудь на грудь, Себе кажусь я грубым и плечистым. И я, и он на стане где-нибудь, Мы оба пахнем, словно трактористы, Дымком, соляркой, тронутой землей, Горячей переломанной соломой. Здесь жизни ход — нагруженный, иной (И, может статься, чересчур земной), Чем там, где люди сеют в мире слово, А пожинают — впрочем, что кому. Те два посева сравнивать не ново И не всегда разумно — потому Давай с тобой доверимся на свете В стихии — чувству, в остальном — уму. И даже если все смешает ветер, Как этой жизни, отдаюсь ему.Рассвет
1. «Пройдя сквозь ночь, я встретил рано…»
Пройдя сквозь ночь, я встретил рано Рассвет зимы лицом к лицу. Рассвет работал — поскрип крана Шел в тон скрипящему крыльцу. Над грудой сдвинутого праха, Как ископаемое сам, Скелет гигантского жирафа Явив земле и небесам. Кран с архаичностью боролся, Крюком болтая налегке, А после — пирамиду троса Неся сохранно на крюке. От напряженья бледно-синий, Воздушный с виду в той судьбе, Стальной пронзительностью линий Он поражал ее в себе.2. «А кто там в будке — тот ли, та ли…»
А кто там в будке — тот ли, та ли, — Душа ль, в которой — высота? Душа ль, что рвется, вылетая Клубочком белым изо рта? Иль, отрешенный, застекольный, Мой ближний стерся и умолк, Чтобы — ни радостно, ни больно, Чтоб только волю втиснуть в долг? Молчанье. Кран, как дух рабочий, Стрелою с хрустом поведя, Покончил вдруг с застоем ночи, Напружился — и, погодя… Не отрывалась, а всплывала Плита, теряющая вес, Как удивленная сначала, Она недолгий путь свой весь Чертила вытянуто, странно, Не отклоняясь ни на пядь: Она боялась грубой гранью Рассвет до крови ободрать. И двуединое подобье Бетон со спуском обретал: Неотвратимый — как надгробье, Торжественный — как пьедестал.3. «То в профиль, то лицом — при спуске…»
То в профиль, то лицом — при спуске — Там, надо мной, горит душа, На вечность плюнувши по-русски, Живой минутой дорожа. А здесь, по русскому присловью: «Один работай, семь дивись», — По-русски ртами диво ловят И головой — то вверх, то вниз. Железный жест под грузом точен, Без груза — радостно-широк: Талант наукой не источен, Науке дар свободный — впрок. Жаль, с ним — с безвестным — я расстанусь. Да что ему? В пылу труда Хранит в нас душу безымянность Надежней славы иногда…«Вчерашний день прикинулся больным…»
Вчерашний день прикинулся больным И на тепло и свет был скуп, как скряга, Но лишь зачуял свой конец — от страха Стер сырость, разогнал ненастный дым И закатил роскошный, незаконный, В воде горящий и в стекле оконном Нелепо торжествующий закат. А нынешний — его веселый брат — Светил широко, но не ослепляя, И сам как будто был тому он рад, Что видится мне дымка полевая, Как зыбкое последнее тепло Земли тяжелой, дремлюще-осенней. Но время угасанья подошло — Его неотвратимое мгновенье Не отразили воды и стекло, Лишь на трубе, стволом упертой в небо, Под дымом, что струился в том стволе, Прошло сиянье — легкое, как небыль. …Еще один мой вечер на земле.«Я не клянусь, прости меня…»
Я не клянусь, прости меня. Я слышал много клятв на свете, Не зная будущего дня, Клялись и верили — как дети. А после видел я не раз Лицо одной несытой страсти, Потом — тоску огромных глаз И детских — горькое участье. От слова не прочнее связь: Избыв счастливую истому, То сердце, за себя боясь, И в честной клятве лжет другому.«Она вошла во двор несмело…»
Она вошла во двор несмело, И средь больничной суеты Ей утро в душу не успело Дохнуть Предчувствием беды. К стволу сосны прижалась телом, Зовущий взгляд — в окно отца. Но кто-то выглаженный, В белом, Сказал два слова ей с крыльца. И, тем словам Еще не веря, Увидела со стороны И морга отпертые двери, И тень носилок У стены. Дверной проем, Глухой и черный, — Как зов старушечьего рта, И солнцем Косо освещенный Порог — Как смертная черта. И, глядя пристально И слепо, Меж сосен девочка пошла. В руке, Распертая нелепо, Авоська стала тяжела. А тот, Кто вынес весть навстречу, Не отводил усталых глаз И ждал: Вот-вот заплачут плечи, Сутулясь горько и трясясь, Но парк укрыл ее поспешно, Давая втайне перейти Ту грань, Откуда к жизни прежней — Наивно-детской — Нет пути.«Как ветки листьями облепит…»
А. Т. Т.
Как ветки листьями облепит, Растают зимние слова, И всюду слышен клейкий лепет — Весны безгрешная молва. И сколько раз дано мне встретить На старых ветках юных их — Еще неполных, но согретых, Всегда холодных, но живых? Меняй же, мир, свои одежды, Свои летучие цвета, Но осени меня, как прежде, Наивной зеленью листа. Под шум и лепет затоскую, Как станет горько одному, Уйду — и всю молву людскую, — Какая б ни была, — приму.«Уходи. Я с ней один побуду…»
Как и жить мне с этой обузой, А еще называют Музой… А. Ахматова Уходи. Я с ней один побуду, Пусть на людях, но — наедине. Этот час идет за мной повсюду, Он отпущен только ей и мне. Я к ее внезапному приходу Замираю, словно на краю, Отдаю житейскую свободу За неволю давнюю мою. Обняла — и шум пошел на убыль, И в минуты частых наших встреч, Чем жесточе я сжимаю губы, Тем вернее зреющая речь. Эта верность, знаю я, сурова К тем, кому дается с ранних дней, И когда ей требуется слово, Дай — судьбой рожденное твоей. И опять замрет звучанье чувства, И глаза поймут, что ночь светла. А кругом — торжественно и пусто: Не дождавшись, ты давно ушла.«И опять возник он с темным вязом…»
И опять возник он с темным вязом — Прямо с неба нисходящий склон. Ты с какой минутой жизни связан? Памятью какою осенен? Ничего припомнить не могу я, Ничего я вслух не назову. Но, как речь, до времени глухую, Шум листвы я слышу наяву. В этом шуме ни тоски, ни смуты, Думы нет в морщинах на стволе, — Делит жизнь на вечность и минуты Тот, кто знает срок свой на земле. И к стволу я телом припадаю, Принимаю ток незримых сил, Словно сам я ничего не знаю Или знал, да здесь на миг забыл.«В ковше неотгруженный щебень…»
В ковше неотгруженный щебень, Как будто случилась беда. В большой котловине от неба Глубокой казалась вода. К холодной и чистой купели Сходил по уступам мой день, И грани уступов горели, Другие — обрезала тень. Я видел высокую стену, Что в небо и в воду ушла, И росчерком — белую пену, Что ярко к подножью легла. Я слышал, как звонче и чаще — Невидимый — камень стучал, Обрушенный днем уходящим, За ним он катился в провал. В паденье ничто не боролось, Лишь громко зевнула вода — И подал призывный свой голос, И подал я голос тогда. И грозным иссеченным ликом Ко мне обернулась стена, С вниманьем таинственно-диким Его принимала она. А голос в пространстве вечернем, Какою-то силой гоним, Метался — огромный, пещерный, Не сходный с ничтожным моим. И бездна предстала иною: Я чувствовал близость светил, Но голос, исторгнутый мною, — Он к предкам моим восходил.«И вышла мачта черная — крестом…»
И вышла мачта черная — крестом, На барже камень, сваленный холмом, И от всего, что плыло мне навстречу, Не исходило человечьей речи. И к берегам, где меркли огоньки, Вода ночная в ужасе бросалась, А после долго посреди реки Сама с собой с разбегу целовалась. Сгустилась темь. Костер совсем потух. Иными стали зрение и слух. Давно уж на реке и над рекою Все улеглось. А что-то нет покоя.«В тяжких волнах наружного гула…»
В тяжких волнах наружного гула И в прозрачном дрожанье стекла Та же боль, что на время заснула И опять, отдохнув, проняла. Вижу — смотрит глазами твоими, Слышу — просит холодной воды. И горит на губах моих имя Разделенной с тобою беды. Все прошло. Что теперь с тобой делят? Это старый иль новый обряд? Для иного постель тебе стелют И другие слова говорят. Завтра нам поневоле встречаться. Тихий — к тихой взойду на крыльцо, И усталое грешное счастье, Не стыдясь, мне заглянет в лицо. И, как встреча, слова — поневоле, Деловые слова, а в душе Немота очистительной боли — Той, что ты не разделишь уже.«Я губ твоих не потревожу…»
Я губ твоих не потревожу… Дремли, не злясь и не маня. Огнем небес и дрожью кожи Мой день выходит из меня. Необожженной, молодой — Тебе отрадно с этим телом, Что пахнет нефтью, и водой, И теплым камнем обомшелым.«В час, как дождик короткий и празднично чистый…»
В час, как дождик короткий и празднично чистый Чем-то душу наполнит, Молодая упругость рябиновой кисти О тебе мне напомнит. Не постиг я, каким создала твое сердце природа, Но всегда мне казалось, Что сродни ему зрелость неполного раннего плода И стыдливая завязь. А мое ведь иное — в нем поровну мрака и света, И порой, что ни делай, Для него в этом мире как будто два цвета — Только черный и белый. Не зови нищетой — это грани враждующих истин. С ними горше и легче. Ты поймешь это все, когда рук обессиленных кисти Мне уронишь на плечи.«Белый храм Двенадцати апостолов…»
Белый храм Двенадцати апостолов, Вьюга — по крестам, А внизу скользят ладони по столу — Медь считают там. Вот рука моя с незвонкой лептою, Сердце, оглядись: В этом храме — не великолепие Освященных риз. Что за кровь в иконописце-пращуре, Что за кровь текла, Говорят глаза — глаза, сквозящие Из того угла. Суждено нам суетное творчество, Но приходит час — Что-то вдруг под чьим-то взглядом скорчится, Выгорая в нас. Но мечта живая не поругана, Хоть и был пожар, И зовет, чтоб я ночною вьюгою Подышал.Дом беды
— Я прокляну тебя тройным проклятьем, Когда свое пойду искать в другом. — Благодарю. Порой мы больше платим, Когда прощают, чтоб проклясть потом. Набухнет стон, как ступишь на крыльцо, В уме сотрется даже цифра часа, Обложит полночь густотертой массой, И в ней оттиснется мое лицо. И, ощупью ступая, как по краю, Теперь-то мне и хочется сказать, Когда я ничего уже не знаю, Когда я проклят иль прощен опять? Когда словам не в силах доверять И, открывая чистую тетрадь, На помощь только время призываю Да совесть… А покуда, печка, грей Не одного меня, а всех, кто в Доме. Чего порой не сыщешь у людей, Найдешь в дровах, иль угле, иль соломе. И прояснится ум в тебе тогда, И счет пойдет, но не такой, как прежде: Что называлось именем — Беда, Ты сбросишь, словно стылые одежды, И вот в одной рубашке, не кляня — Благодаря без слова за проклятье, Как от успеха, руки от огня Ты потираешь — ты готов к расплате. И станешь думать: странен человек! Всю жизнь себя передает другому Через предметы: вот он, мой ночлег, Где три хозяйки вверенному Дому Придали вновь гостеприимный вид, И в книге, что подсунута на случай, Мое перо не жалобно скрипит, А свищет благодарно и певуче. Хозяйки русской добрые черты Распознаешь в бесхитростных предметах: Там — знак ее труда и чистоты — Две простыни, как два квадратных света. Они морозцем тонким отдают И ждут усталых после обогрева, А печка, довершая весь уют, Теплом и гулом каменного чрева Пробудит что-то древнее в тебе: Быть может, тягу к Очагу и Дому, Что столько лет в кочующей судьбе, Как к своему, ведет меня к любому. И час такой настроил бы меня На этот лад надолго — хоть до утра. Здесь лица барельефны от огня, Здесь мысль приходит первобытно-мудрой, И все, что называем суетой, Которая дана взамен событий, Уже пережитое, на отстой В душе пойдет, чтоб завтра стать забытым. Пока ж оно, немирное еще, Во мне перекипает, словно пена. Зачем, подсвеченная горячо, Ты из него выходишь постепенно? Скажи, зачем со мной пришла сюда? Мужские сны подсматривать? Подслушать, Как их словами бредит темнота, Как в ней неусыпленно реют души? Как этот навзничь брошенный пилот Из сельской авиации, как плена, Боящийся ненастья, — солнца ждет, Оборотясь лицом ко всей Вселенной? Ты слышишь, как он вскрикнул и затих, Как будто понял: звуки слишком грубы, И чье-то имя, трудное, как стих, Вылепливают судорожно губы. И та, кому принадлежит оно, Не знает, что коротенькое имя Примерено и накрепко дано Всей жизни, на двоих уж неделимой. И мне какое дело в этот час До наших бед — они добра приметы, Когда взаимно мы в самих же нас — Переданные не через предметы!Последняя встреча
Как будто век я не был тут, Не потому, что перемены. Все так же ласточки поют И метят крестиками стены. Для всех раскрытая сирень Все так же выгнала побеги Сквозь просветленно-зыбкий день, Сквозь воздух, полный синей неги. И я в глаза твои взглянул — Из глубины я ждал ответа, Но, отчужденный, он скользнул, Рассеялся и сгинул где-то. Тогда я, трепетный насквозь, Призвал на помощь взгляду слово, Но одиноко раздалось Оно — и тихо стало снова. И был язык у тишины — Сводил он нынешнее с давним. И стали мне теперь слышны Слова последнего свиданья. Не помню, пели ль соловьи, Была ли ночь тогда с луною, Но встали там глаза твои, Открывшись вдруг передо мною. Любви не знавшие как зла, Они о страсти не кричали, В напрасных поисках тепла Они как будто одичали. И вышли ночью на огонь, И был огонь живым и щедрым — Озябшим подавал ладонь И не кидался вслед за ветром. Своею силой он играл — Ему не надо было греться: Он сам и грел, и обжигал, Когда встречал дурное сердце. А здесь он дрогнул и поник Перед раскрытыми глазами: Он лишь себя увидел в них И, резко выпрямившись, замер. Все одиночество его, Там отраженное, глядело И в ту минуту твоего В себя впустить не захотело. И, одинокий, шел я прочь, И уносил я… нет, не память! Как жадно всасывали ночь Цветы припухшими губами! Как время пестрое неслось, Как день бывал гнетуще-вечен, Как горько всем отозвалось Мгновенье той последней встречи! Прости! Последней — для тебя, А для меня она — в начале… И стал я жить, не торопя Души, которой не прощал я. Прости, и пусть, как чистый день, Мой благодарный вздох и радость Вдохнет раскрытая сирень За домовитою оградой. Не ты ль понять мне помогла (Как я твои не смог вначале) Глаза, что в поисках тепла Мне вновь открылись одичало.«Налево — сосны над водой…»
Налево — сосны над водой, Направо — белый и в безлунности — Высокий берег меловой, Нахмурясь, накрепко задумался. Еще не высветлен зенит, Но облака уже разорваны. Что мне шумит? Что мне звенит Далече рано перед зорями? Трехтонка с флягами прошла, И, алюминиево-голые, Так плотно трутся их тела Как бы со срезанными головами. Гремит разболтанный прицеп, Рога кидая на две стороны. Моторный гул уходит в степь Далече рано перед зорями. Теки, река, и берег гладь, Пусть берег волны гранью трогает. Иные воды, да не вспять, А все сужденной им дорогою. И сколько здесь костей хранит Земля, что накрест переорана!.. Звезда железная звенит Далече рано перед зорями.На реке
Воткнулись вглубь верхушки сосен, Под ними млеют облака, И стадо медленно проносит По ним пятнистые бока. И всадник, жаром истомленный, По стремя ярко освещен Там, где разлился фон зеленый, И черен там, где белый фон. А я курю неторопливо И не хочу пускаться вплавь Туда, где льется это диво И перевертывает явь.На рассвете
Снегирей орешник взвешивал На концах ветвей. Мальчик шел по снегу свежему Мимо снегирей. Не веселой, не угрюмою, А какой — невесть, Вдруг застигнут был он думою И напрягся весь. Встал средь леса ранним путником, Набок голова — И по первоснежью прутиком Стал чертить слова: «Этот снег не белый — розовый, Он от снегиря. На рассвете из Березова Проходил здесь я…» И печатно имя выставил Прутиком внизу, И не слышал, как высвистывал Некий дух в лесу. Снегирей смахнув с орешника, В жажде буйных дел, Дух над мальчиком — над грешником — Зычно загудел: «А зачем ты пишешь по лесу Имя на снегу? Иль добрался здесь до полюса? Иль прошел тайгу? Снег ему не белый — розовый… Погляди сперва!» И под валенками россыпью — Первые слова. Но едва спиной широкою Повернулся дух, Мальчик вслед ему сорокою Прострочил их вслух. Первый стих, сливая в голосе Дерзость, боль и смех, Покатился: эхом — по лесу И слезами — в снег.«На пустыре обмякла яма…»
На пустыре обмякла яма, Наполненная тишиной, И мне не слышно слово «мама», Произнесенное не мной. Тяжелую я вижу крышу, Которой нет уже теперь, И сквозь бомбежку резко слышу, Как вновь отскакивает дверь.Дымки
Дорога все к небу да к небу, Но нет даже ветра со мной, И поле не пахнет ни хлебом, Ни поднятой поздней землей. Тревожно-багров этот вечер: Опять насылает мороз, Чтоб каменно увековечить Отвалы бесснежных борозд. И солнце таращится дико На поле, на лес, на село, И лик его словно бы криком Кривым на закате свело. Из рупора голос недальний Как будто по жести скребет, Но, ровно струясь и не тая, Восходят дымки в небосвод. С вершины им видится лучше, Какие там близятся дни, А все эти страхи — летучи И сгинут, как в небе, они.«Аэропорт перенесли…»
Аэропорт перенесли, И словно изменился климат: Опять здесь морось, а вдали Восходят с солнцем корабли. Я жил как на краю земли, И вдруг — так грубо отодвинут. Где стройность гула? Где огни? Руками раздвигаю вечер. Лишь звуки острые одни Всей человеческой возни, Шипам терновника сродни, Пронзают — ссоры, вздохи, речи. Рванешься — и не улетишь, — Таких чудес мы не свершили. Но вот конец. Безмолвье крыш, И точат полночь червь и мышь, И яблоком раздора в тишь Летит антоновка с вершины. Стою, как на краю земли. Удар — по темени, по крыше! Сопи, недоброе, дремли! К луне выходят корабли. Как хорошо, что там, вдали, А то б я ничего не слышал.«Я умру на рассвете…»
Я умру на рассвете, В предназначенный час. Что ж, одним на планете Станет меньше средь вас. Не рыдал на могилах, Не носил к ним цветов, Только все же любил их И прийти к ним готов. Я приду на рассвете Не к могилам — к цветам, Все, чем жил я на свете, Тихо им передам. К лепесткам красногубым, К листьям, ждущим луча, К самым нежным и грубым Наклонюсь я, шепча: «Был всю жизнь в окруженье, Только не был в плену. Будьте вы совершенней Жизни той, что кляну. Может, люди немного Станут к людям добрей. Дайте мне на дорогу Каплю влаги своей. Окруженье все туже, Но, душа, не страшись: Смерть живая — не ужас, Ужас — мертвая жизнь».«Осень лето смятое хоронит…»
Осень лето смятое хоронит Под листвой горючей. Что он значит, хоровод вороний, Перед белой тучей? Воронье распластанно мелькает, Как подобье праха, — Радуясь, ненастье накликает Иль кричит от страха? А внизу дома стеснили поле, Вознеслись над бором. Ты кричишь, кричишь не оттого ли, Бесприютный ворон? Где проселок, где пустырь в бурьяне? Нет пустого метра. Режут ветер каменные грани, Режут на два ветра. Из какого века, я не знаю, Из-под тучи белой К ночи наземь пали эти стаи Рвано, обгорело.«И вдруг за дождевым навесом…»
И вдруг за дождевым навесом Все распахнулось под горой, Свежо и горько пахнет лесом — Листвой и старою корой. Все стало чистым и наивным, Кипит, сверкая и слепя, Еще взъерошенное ливнем И не пришедшее в себя. И лесу точно нет и дела, Что крайний ствол наперекос, В изломе розовато-белом — Как будто выпертая кость. Еще поверженный не стонет, Еще, не сохнув, не скрипит, Обняв других, вершину клонит, Но не мертвеет и не спит. Восторг шумливо лист колышет, Тяжел и груб покой ствола, И обнаженно рана дышит, И птичка, пискнув, замерла.«Листа несорванного дрожь…»
Листа несорванного дрожь, И забытье травинок тощих, И надо всем еще не дождь, А еле слышный мелкий дождик. Сольются капли на листе, И вот, почувствовав их тяжесть, Рожденный там, на высоте, Он замертво на землю ляжет. Но все произойдет не вдруг: Еще — от трепета до тленья — Он совершит прощальный круг Замедленно — как в удивленье. А дождик с четырех сторон Уже облег и лес и поле Так мягко, словно хочет он, Чтоб неизбежное — без боли.Юрий Кузнецов. Подвиг поэта
Поэт Алексей Прасолов обычно ходил твердым размашистым шагом, но иногда его походка менялась. Может быть, это случалось в минуты, когда он внезапно задумывался или его осенял стих, и тогда он шел немного боком (это было заметно) и наклонившись корпусом вперед. Так протискиваются через толпу или идут в метель, преодолевая силу снежного потока, секущего лицо.
Именно такой походкой он шел в поэзии — он преодолевал встречное сопротивление. Его отвергали. В тридцать пять лет он горько сетует в письме: «Почему меня все хотят столкнуть с той колеи, которую я начал?..»
Он поздно начал эту колею. Еще поздней начал учиться. Наверстывал упущенное. Поэтому его учеба была форсированной и походила на ликбез. Но ликбез, как известно, не дает образования. И, пройдя жестокие университеты жизни, в поэзии он так и остался учеником. Он не плелся в хвосте, но он шел сбоку и смотрел на учителя. Напомню его походку, когда он внезапно задумывался. Он шел так, словно смотрел на кого-то, идущего рядом. Читая Прасолова, вы невольно ощущаете, что он идет с кем-то рядом и смотрит на него, и в том другом без труда узнаете Заболоцкого. Но это не все. Вы догадываетесь, что и Заболоцкий, идя с кем-то рядом, тоже смотрит на него. И тот, на которого он смотрит, — Тютчев. Тютчев ни на кого не глядит. Он велик и самодовлеющ. Так идут эти трое. Но тут, конечно, не хватает четвертого — Боратынского. Этот идет где-то особняком, и если Прасолов и Заболоцкий зависят от него, а это так, то значит, им порою приходится озираться. Все они идут строем, развернутым во времени и называемым условно философской лирикой.
Жизнь поэта, великого и малого, — всегда подвиг. И Прасолов совершил свой подвиг. Только ему пришлось трудней, чем другим, даже равным ему по таланту. На это были свои причины.
Что такое поэт? Голос или эхо? Прасолов думал об этом не раз. Обратившись к Пушкину: «Но лишь божественный глагол…», он написал стихи о себе:
Как обреченного, его На исповедь позвали. И, сделав шаг в своем углу К исповедальному столу, Прикрыл он дверь покрепче, И сам он думает едва ль, Что вдруг услышат близь и даль То, что сейчас он шепчет.Напрасно написал. Ни о какой исповеди тут не может быть речи. Трагедия в том, что на духу поэт Прасолов будет молчать. Ситуация уникальная в поэзии. И это не просто молчание — самое продолжительное молчание может однажды разразиться удивительной речью. Это немота. Само слово «немота» мелькает в его стихах не случайно. Вон оно:
…а в душе Немота очистительной боли.Как человек Прасолов, конечно, обладал пятью чувствами, но как поэт он был обойден и владел только двумя из них: зрением и осязанием. Остальные ему приходилось восполнять посредством имеющихся, а также путем заема, так сказать, литературной пересадки, что всегда таит в себе опасность «биологической несовместимости». Так оно и было. Особенно это касается интонации. Она всегда индивидуальна и неповторима. Некрасова, Блока, Есенина, Твардовского узнаешь по голосу. Но Прасолова нельзя узнать по голосу, он не певец, а поэт письменного слова. У него нет собственной интонации. В жизни он иногда любил петь, особенно малороссийские песни, но его стихи нельзя петь. Их нужно читать, а не слушать. Кстати, свои стихи он не любил читать вслух, а если приходилось, то читал их отрешенно. И в своих стихах он никогда не смеялся. Смех как состояние души остался за пределами его опыта.
Поэт его типа немыслим в дописьменный период. Больше того — немыслима вся философская лирика. Разница между печатным и устным словом слишком велика, чтобы ее не заметить даже в наш просвещенный век. Ох, велика. И выводы из этого факта, как сказал бы Бахтин, имеют громадную важность. С печатным словом не идут в атаку, поднимает в атаку изначальное, изустное слово, слово — бог. Которое действует мгновенно. Письменность ослабила философию и поэзию. Зато создала философскую лирику. Это поэзия для грамотных. Но даже при поголовной грамотности народной она не бывает. Народ любит слушать, а не читать.
Печатное слово Прасолова не действует мгновенно. Оно подчинено задачам пластики. В него надо вживаться, не отрывая глаз. Прасолов пишет о воздействии красоты, когда:
Людям изумленное молчанье Раскрывает грешные уста.Опять-таки размыкает уста молчанье, а не слово. Звуки он может передавать только через те чувства, которыми владеет: через зрение и осязание. Поэтому и звуки у него необычны: зрительно-осязательны.
А я стою средь голосов земли. Морозный месяц красен и велик, Ночной гудок ли высится вдали? Или пространства обнаженный крик?.. … … … … … … … … … … … … … … … Звени, звени! Я буду слушать — И звуки вскинутся во мне, Как рыб серебряные души Со дна к прорубленной луне… … … … … … … … … … … … … … … … Лишь звуки острые одни Всей человеческой возни, Шипам терновника сродни Пронзают — ссоры, вздохи, речи.Восторженную трель жаворонка он воспринимает, как глухонемой, — через вибрацию воздуха. Нить трели у него трепещет в ладони.
У его весны «клейкий лепет». Попадается даже «аплодисментов потный плеск». Любимую женщину он просит:
Дай трижды накрест поцелуем Схватить последний шепот твой.Схватить! Но не слухом, а губами.
К музыке он относился ревниво. Она была далека от него. Она не окрыляла его, а странно холодила.
Столб, наклонившийся вперед, И на столбе измятый рупор — Как яростно раскрытый рот. Но так прозрачно, так певуче Оттуда музыка лилась… … … … … … … … … … … … … … … … А душу странно холодила Восторженная высота… … … … … … … … … … … … … … … … И землю заново открыл я, Когда затих последний звук. И ощутил не легкость крыльев, А силу загрубелых рук.Тяжкие, густые, неодолимые звуки озабоченно-земного дня заглушили музыку. Может, она исходила из безобразного источника — яростно раскрытого рта репродуктора? Ладно. Возьмем другой источник. Вот певичка. Он ей не доверяет.
Я знаю: изгибами тела Ты вышла тревожить — и лгать. … … … … … … … … … … … … … … … Я в музыку с площади брошен, И чем ты уверишь меня, Что так мы певучи под ношей Людского громоздкого дня?Поет ли душа человека? Он в этом сомневается.
Одно из сильных стихотворений он начинает так: «Я услышал: корявое дерево пело». Но услышал с чужого слуха. Это у Заболоцкого: «Пой мне песню, дерево печали». Прасолов занял слух у него. А «корявое» — это прасоловское. Как и «яростно раскрытый рот» репродуктора.
Есть, есть в мире звуки. Он знает об этом. Но как их передать?
Живое лепетало о живом, Надломленное стоном отвечало. Лишь сердце о своем пережитом Искало слов и трепетно молчало.Душа не может петь, но «немота очистительной боли» заставляет руку писать. У письма есть свой недостаток — косноязычие. Зато создается зримый пластический мир. Его можно пощупать: он жестко-рельефный. Его можно увидеть: он черно-белый. Но он лишен красок, как и звуков. Ибо цвет таинственным образом связан со звуком. Я не ссылаюсь на цветовую музыку, на мой взгляд, она формальна, а ее эксперименты безуспешны и вредны: отбивают вкус к настоящей музыке. Но связь между цветом и звуком чувствуют многие поэты и музыканты. Это факт. От него не отмахнешься, на него не топнешь ногой.
Черно-белый мир поэта почти лишен запаха. Я смог найти только три запаха — во всех его стихах! Три грубых запаха. Запах подвала из военного детства:
А мрак пещерный на дрожащих лапах Совсем не страшен. Девочка, всмотрись: Он — пустота, он — лишь бездомный запах Кирпичной пыли, нечисти и крыс.И дважды — рабочий запах:
Мы оба пахнем, словно трактористы, Дымком, соляркой, тронутой землей, Горячей переломанной соломой.И еще:
Необожженной, молодой — Тебе отрадно с этим телом, Что пахнет нефтью, и водой, И теплым камнем обомшелым.Это прасоловские запахи. Больше ничего нет. Его цветы и деревья не пахнут.
Что же остается? Остается касание. К миру можно прикоснуться.
Я понимал затронутых ветвей Упругое упрямство молодое, Когда они в невинности своей Отшатывались от моих ладоней.А вот изумительное:
И, юное, в щеки мне дышит Холодным смеющимся ртом.Дышит, но не говорит. Так оно и должно быть.
Поэт резко ощущает два полюса: жар и холод. Холод особо. И все-таки душа его тепла.
Но вот губами я приник Из проруби напиться — И чую, чую, как родник Ко мне со дна стремится. И задышало в глубине, И влажно губ коснулось, И ты, уснувшая во мне, От холода проснулась.Что же остается еще? Мысль. Миросозерцательная мысль.
Светла, законченно-стройна, Чуть холодна и чуть жестока, На гордый риск идет она, Порой губя свои истоки. Не отступая ни на пядь Перед бессмыслием постылым, Она согласна лишь принять Вселенную своим мерилом.Это верно. Думать нужно о большом — и образами. Возникает зрительный образ:
И в гуле наклонного ливня, Сомкнувшего землю и высь, Сверкнула извилина длинно, Как будто гигантская мысль. Та мысль, чья смертельная сила Уже не владеет собой, И все, что она осветила, Дано ей на выбор слепой.Вот какие молнии сверкают над шероховатой поверхностью его стиха. Писал он всегда шероховато. Его поэзию можно сравнить с размытой, резко пересеченной местностью — меловым Дивногорьем, расположенным при впадении Тихой Сосны в Дон. Прасолов любил там бывать.
Москва и Воронеж не приняли его при жизни. Их можно не винить за это. Его просто не слыхали. Его и не могли услыхать. Вот почему признание к нему пришло поздним числом — усилием друзей, через печатное слово.
Он рано ушел из жизни, не зная ее вкуса: сладка она или горька. Он ощущал только ее удары, от которых в его стихах даже солнце сплющивалось о землю. Даты его рождения и смерти: 1930—1972. Он успел написать «Еще метет во мне метель» — вообще одно из лучших стихотворений о прошлой войне. В нем он выразил такую силу русского человеколюбия, которая и не снилась нашим «гуманным» врагам. Он создал уникальный мир неречевого слова. И создал надолго, а это, при нашей скудости и расточительности, кое-что да значит. Я склоняю голову перед его подвигом.

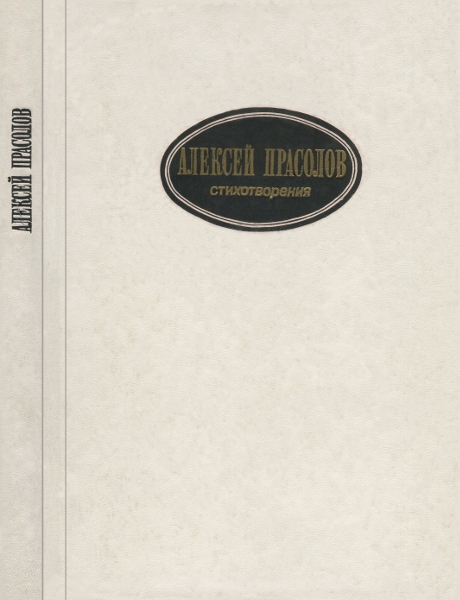




Комментарии к книге «Стихотворения», Алексей Тимофеевич Прасолов
Всего 0 комментариев