ИННА КАБЫШ МАМА МЫЛА РАМУ
Игорь Волгин Невеста без места: личные трудности Инны Кабыш
В бестрепетной отчизне
У Евг. Винокурова есть строки: «Поэт и женщина — два разных существа. Их смертный поединок вечен, право!» Поэт знал, о чем говорил. Как, однако, быть в том довольно распространенном случае, когда поэт и женщина совмещаются в одном лице? Каждая из составляющих этого рискованного союза может легко угробить другую (примеры известны). И в любом случае победа — неважно, поэта над женщиной или, напротив, ее над ним — оборачивается драмой.
В стихах Инны Кабыш нет ничего дамского, даже если иметь в виду не расхожий — гламурный — смысл, а понятие, запечатленное в высоком названии ранней блоковской книги. С другой стороны, героиня вроде бы не рвется останавливать коней на скаку или входить в горящие избы. Хотя, как с горечью сказано в песне о погибших десантниках, — «в жизни есть место подвигу, / слишком много есть мест». Помнится, Веничка Ерофеев в качестве идеала противополагал навязываемым сверху подвигам «всеобщее малодушие». У Кабыш другое: не столько «вечно женственное», сколько «женское, слишком женское». Поэтому она говорит с Родиной на равных — как, пожалуй, не смел бы разговаривать мужчина, но как одна мать может обратиться к другой: «Россия, береги своих детей, / не то одна останешься на свете».
Вообще, на месте тех, кто занимается таким благородным делом, как сочинение вопросов к ЕГЭ, я бы рекомендовал школьникам (ученикам И. Кабыш) поразмышлять над «образом Родины» в стихах своего педагога. Интересно, какие будут предложены варианты.
Я родилась в большой стране: пусть больше нет ее снаружи, она целехонька во мне — я никогда не буду уже.«А если когда-нибудь в этой стране…» — сказала Анна Ахматова. Здесь нет ни высокомерия, ни гордыни. А только скорбная отстраненность, право на которую дается лишь страстной и безответной любовью. Исчезновение государства, где ты родился и вырос, — это тоже «личные трудности»: так обозначила И. Кабыш свою первую книгу.
Неотделимость от судеб Родины — какой бы она ни была — сродни неотделимости от поэзии, которая только и дает шанс сохранить в себе и то и другое.
В моей бестрепетной отчизне, как труп, разъятой на куски, стихи спасли меня от жизни, от русской водки и тоски.Отчизна названа «бестрепетной»: жестоко, но справедливо. Во всяком случае, это куда правдивее, чем обращенные к той же отчизне дежурные уверения в трепетных чувствах.
«Я не научился любить свою родину, — говорит П. Я. Чаадаев, — с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло…» Автору «Философического письма» приходится как можно доходчивее объяснять современникам мотивы своего умозатмения: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать».
Впоследствии это будет названо негативным патриотизмом.
Лермонтовское «…но странною любовью», пушкинское «черт догадал меня родиться в России…» и т. д. — ни одного из этих самооправданий-самообвинений «не объяснит рассудок». Инна Кабыш в своих отношениях с Родиной еще более иррациональна: «Даже если ты станешь богатой и сильной, / я буду тебя любить».
Но до этого (то бишь до богатства и силы) еще очень неблизко. А «в натуре» — метафизическая реальность (не знаешь, какая Россия метафизичнее — земная или небесная), которая наподобие музы диктует ставшие уже хрестоматийными строки:
Кто варит варенье в июле, тот жить собирается с мужем…На сакраментальный (и общенациональный) вопрос «что делать?» В. В. Розанов в «Эмбрионах» ответил просто: «Если это лето — чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай». Его не послушались — и спустя почти век приходится констатировать: «Кто варит варенье в России, / тот знает, что выхода нет». («Выхода нет», — читаю привычную надпись над турникетами Киевского вокзала — и всякий раз невольно подставляю эти слова в знакомую стихотворную строчку: явное доказательство того, что поэзия первична.)
Надежду на будущее дает только отсутствие надежды: этот эсхатологический оптимизм, кажется, не чужд жителям страны, в которой «не больно умирать» и к которой принадлежит Инна Кабыш. Вернее, тем из этих жителей, кто, оказавшись на переломе времен, не стал во искупление недавних грехов публично посыпать голову пеплом и не поспешил решать «личные трудности» за счет ближнего своего. Но — «с холодным вниманьем» взглянул окрест себя. У этого переходного времени должен был прорезаться собственный голос. И он оказался очень мучительным — каким всегда бывает голос собственной совести.
Эдем как детский сад
У каждого поэта — свои отношения с Богом. Я говорю не о так называемых духовных стихах, как правило лишь иллюстрирующих Священное Писание или предание. Я имею в виду сотворение (со-творение) поэтом новой эстетической реальности — от пушкинского «Отцы пустынники и жены непорочны», бунинского «…к милосердным коленям припав» или пастернаковского «о Господи, как совершенны…» до легкомысленного запускания в небеса ананасом или грозного богоборческого рыка «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу! Я иду!» И. Кабыш не молитвословит и не кощунствует (хотя в последнем ее не без оснований может упрекнуть истинно верующий). Она говорит с Богом как свободный человек — каким он и замышлялся в шестой день творения. Она смеет задавать Ему неудобные вопросы. Подозреваю, что Богу это угодно. Ибо Он поругаем не бывает.
Ее героине снятся разметанные взрывом «летящие дети», и она в свою очередь готова «возвратить билет»: «Оставь меня, Господи, лучше в покое!.. / Когда подымаешь над миром пращу, / подумай о том, что мы знаем лишь двое: / чего я тебе никогда не прощу…» Да уж. Как та мать, которая, по мысли Ивана Карамазова, даже в вечности не смеет обняться с мучителем своего ребенка, — она, лирический поэт, склонна «не плакать и молиться, / а молча пить из черепа врага». И вопреки всякой политкорректности заявить: «Мало мне ока боевика, / подрывника — частей». Может ли поэт ставить Творцу ультиматум? «…Господи, если ты их простишь, / то не прощай меня».
Конечно: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но женщине дано иное устройство зрения: «Видит Бог, кому все это надо — / женщина не видит из-за слез».
«Сквозь увеличительные слезы» (если воспользоваться строкой К. Ваншенкина) смотрит на мир лирическая героиня Инны Кабыш. В том числе — на детский мир, как многознаменательно названа вторая ее книга. (Кстати, название еще одного цикла — «Безотцовщина» — не есть ли метафора все той же богооставленности?) Пожалуй, редко кому из русских поэтов присуще такое пронзительное и трагедийное ощущение детства — как единственно подлинной жизни, ее единственного мерила. Например, детство почти проигнорировал (по причинам, впрочем, понятным) автор «Прибежали в избу дети»: для него значима только лицейская юность. Для Кабыш — «рай — это там, где нет людей, / а только дети и собаки». Нет, это не инфантильная «остраненка» (хотя сравнить птиц с бельевыми прищепками способен как раз ребенок). Это взгляд женщины взрослой и достаточно умудренной, которая знает, что «действительно смерть придет». Не может не поразить соединение детства и того неведомого загробья, где пребывают родные души: «Так ждут нас наши мертвые в могилах, / как дети у забора в детсаду». А с другой стороны — «ад — пребывать в Эдеме, зная, / что за тобою не придут». Ибо насельники рая и ада — все те же дети.
«Он награжден каким-то вечным детством» — это Ахматова о Пастернаке. «Детство — Отрочество — Детство»: это Кабыш — о себе. Вечное детство. При том, что авторской искушенности хватило бы на десятерых.
«Не хочу другого мальчика!»
Обычно определение «книжный», прилагаемое к поэту, несет в себе оттенок некой вторичности, второстепенности по отношению к «основному заболеванию» (то есть к «высокой болезни», которая, как принято считать, должна питаться непосредственным чувством). Адепты своеобычности забывают, что, скажем, тот же Пушкин был поэтом в высшей степени книжным (чего стоит взятое напрокат «гений чистой красоты» или дельвиговское «гордое терпенье» — типичные постмодернистские заимствования). Культура как таковая может явиться источником сильнейшего и непосредственнейшего переживания. «Мне жалко Мону Лизу, / мадонну без младенца» — что ж, теперь придется учитывать и эту версию. И даже замена одного слова в каноническом тексте — «дорогая моя столица, / золотая моя орда» — может принести ни с чем не сравнимую «радость узнаванья». Инна Кабыш, конечно же, постмодернист — хотя язык не поворачивается так ее называть. Она продирается сквозь толщу культурных смыслов, а иногда и открыто декларирует свои художественные предпочтения:
Я переделать мир хочу — и от бессилия кричу. Я Достоевского читаю, я русских мальчиков учу.Она учит «русских мальчиков» в прямом и переносном смысле — как школьный учитель и как поэт. И при этом не может забыть мальчиков других — нерожденных.
…Пусть всех рожу я по второму разу, — кто возвратит мне первенцев моих?
Вспомним горестный вопль штабс-капитана Снегирева из «Братьев Карамазовых» — в ответ на утешительный совет умирающего Илюшечки завести «хорошего мальчика, другого»: «Не хочу хорошего мальчика! не хочу другого мальчика!» Что с того, что мы читали книгу Иова.
Мужчины в ее жизни
Кстати, эрос у Кабыш не менее драматичен, чем любимое ею детство. И если судьба начинается «с крови, с мужчины», то и в дальнейшем этот навязчивый персонаж — вечный оппонент, тайный враг, предатель, кумир, предмет восхищения и поношения — кто угодно, но только не друг. У пациенток гинекологического отделения — собственная оптика: «Здесь женщины, / а за окном — / мужчины. / Здесь следствие, — / а за окном — / причины». Обитательницы палаты связаны с теми, кто «за окном», далеко не равным образом. «Есть любовь. / И как следствие — боль». За первородный грех расплачивается только одна из сторон. Та, у которой есть право сказать: «Изо всего народа русского / любя тебя лишь одного». Народ, если он умный, этим не оскорбится. Мужчине, правда, о женщине такое говорить не пристало: лучшая часть народа его не поймет.
В «случае Кабыш» приведенные в начале этих заметок стихи Винокурова меняют свой смысл. Поэт (если это женщина) и мужчина — тоже два разных существа. И в их «смертном поединке», как всегда, прав оказывается поэт.
…Помню Инну Кабыш еще совсем юную — она пришла в университетскую литературную студию, которой я имел удовольствие руководить. На первом обсуждении, почуяв живую кровь, оппоненты возбудились и, перебивая друг друга, обрушились на обсуждаемую с кучей полезных советов. Инна слушала вполуха и чуть иронично. Было ясно, что до всего, что ей нужно, она дойдет сама.
Ее приветили старшие — те, чьим мнением нельзя не дорожить: В. Корнилов, Т. Бек, Ю. Ряшенцев, Е. Евтушенко, Л. Аннинский… Они заметили ее раньше, чем других в том переломном (но, слава богу, не переломанном) поколении, к которому принадлежат В. Павлова, Ю. Гуголев, Е. Исаева, В. Степанцов, В. Иноземцева, М. Ватутина, Л. Каганов — и, наконец, Д. Быков, чьего феерического таланта с лихвой хватило бы на три-четыре литературные генерации. (Я упоминаю здесь только своих студийцев.) Вместе с ними И. Кабыш свидетельствует, что поколение состоялось.
…Среди той виртуозной невнятицы, пифического бормотания, и претенциозной зауми, которая спешит выдать себя за последний поэтический писк (каковым, к сожалению, является), стих Инны Кабыш звучит трезво и внятно. Она смысловик — в том понимании, в каком говорил о себе О. Мандельштам, написавший «Мы живем, под собою не чуя страны»… Она смысловик, ибо ее интересует смысл происходящего — с ней, с историей, со страной, с народом. Она — не побоюсь этого слова — поэт социальный и, более того, социально ответственный. Но прежде всего — поэт. Потому от нее можно ждать каких угодно сюрпризов. «Невеста без места» называется ее предыдущая книга. Она из тех невест, которые убегают из-под венца.
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ
«Учебой ли, в тимуровцы игрой…»
Учебой ли, в тимуровцы игрой охвачена, — была я всюду первой. Отличницей. Общественницей. Стервой. Меня не научили быть второй. Остановить бы тройку на скаку, спросить: «Куда, родимая, несешься?..» Что первенством от смерти не спасешься, я знаю. Чем спасешься — не секу. Переборов ребяческую прыть, живу неспешно, то есть драматично, предпочитая не демократично, а царственно решать, куда мне плыть. …И мне уже не страшно быть второй. И пятой. И десятой. И последней. Да может, тот бессмертней, кто бесследней, и тот первей, кто замыкает строй.«Если поезд ушел, надо как-нибудь жить на вокзале…»
Юрию Ряшенцеву
Если поезд ушел, надо как-нибудь жить на вокзале: в туалете, в буфете, под фикусом пыльным, у касс, ибо нам небеса это место и век навязали, как вовек полагалось верхам: не спросивши у нас. Надо ставить заплатки на платья и ставить палатки, разводить не руками, а кур, хризантемы, костры, и Писанье читать, и держать свою душу в порядке, и уехать хотеть за троих, то есть как три сестры. И кругами ходить, как в тюрьме, по сквозному перрону, — и понять, и проклясть, и смириться, и все расхотеть, и без зависти белой смотреть на дуреху ворону, что могла б и в Верону на собственных двух улететь. И на этом участке планеты дожить до рассвета, и найти себе место под крышей и солнцем в виду раскуроченных урн, и дожить до весны и до лета, и слова рифмовать, и не тронуться в этом аду. И стоять на своем, и пустить в это месиво корни, и врасти, а потом зацвести и налиться плодом, ибо поезд запел в небеса и свистки его горни, но остался вокзал, на котором написано: «Дом».«У, Москва, калита татарская…»
У, Москва, калита татарская: и послушлива, да хитра, сучий хвост, борода боярская, сваха, пьяненькая с утра. Полуцарская — полуханская, полугород — полусело, разношерстная моя, хамская: зла, как зверь, да красна зело. Мать родная, подруга ситная, долгорукая, что твой князь, как пиявица ненасытная: хрясь! — и Новгород сломлен — хрясь! всё ее — от Курил до Вильнюса — эк, разъела себе бока! — то-то Питер пред ней подвинулся: да уж, мать моя, широка! Верит каждому бесу на слово — и не верит чужим слезам: Магдалина, Катюша Маслова, вся открытая небесам. И Земле. Потому — столичная, то есть общая, как котел. Моя бедная, моя личная, мой роддом, мой дурдом, мой стол. …Богоданная, как зарница, рукотворная, как звезда, дорогая моя столица, золотая моя орда.«Кто варит варенье в июле…»
Кто варит варенье в июле, тот жить собирается с мужем, уж тот не намерен, конечно, с любовником тайно бежать. Иначе зачем тратить сахар, и так ведь с любовником сладко, к тому же в дому его тесно и негде варенье держать. Кто варит варенье в июле, тот жить собирается долго, во всяком уж случае зиму намерен пере-зимовать. Иначе зачем ему это и ведь не из чувства же долга он гробит короткое лето на то, чтобы пенки снимать. Кто варит варенье в июле в чаду на расплавленной кухне, уж тот не уедет на Запад и в Штаты не купит билет, тот будет по мертвым сугробам ползти на смородинный запах… Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет.Екатерина Великая
Та, что не знала другого отечества, кроме чужого, его внутрь, как мужчину, впустив, молодечество ставя превыше всего. Та, что Россию любила за удаль, та, что до смерти пила воду с лица. Что дала она, сударь, русским? Да просто — дала! Та, что по-женски к Москве ревновала, ибо равно велики, та, что, как пахарь, на зорьке вставала, не покладая руки. Та, у которой рука не разжалась эту державу держа, та, что рожала, когда ей рожалось, словно Везувий дыша. Та, разгадавшая русского сфинкса: всё и всегда на авось, баба — не Петр, но средь нашего свинства лично толкавшая воз. Мне — далеко: и не то что парчова та или весит за сто: я не могла бы казнить Пугачева, хоть оно было за что.«Господи, вот он, покой…»
Господи, вот он, покой, — мысли густые, кисельные… Вот он, выходит, какой: дом, занавески кисейные. Разве бывает полней? Речка, ребенок, смородина… Прочь от калитки моей, родина!..«Я люблю тебя так, словно я умерла…»
Н. С.
Я люблю тебя так, словно я умерла, то есть будто смотрю на тебя с того света, где нам каждая жилочка будет мила, где любовь так полна, что не надо ответа. Мне не нужно уже от тебя ничего… Все земные сужденья о счастии лживы, ибо счастье — оно не от мира сего. И тем более странно, что мы еще живы…Гори, гори, моя звезда
Данте ничего не придумал: он был на том свете и видел все своими глазами, а когда вернулся, одна прядь в его черных волосах была совершенно седая, как у Лешки, которому я писала стихи и с которым мы сидели за одной партой, и стояли такие морозы, что нас возили в школу на молоковозе вместе с флягами, заляпанными застывшим молоком. Мы сидели в шубах и валенках, и учительница в варежках вывела на доске: «Кем я хочу быть». И Лешка написал: «Адским водителем». А я вздохнула и написала, что хочу быть поэтом. А все остальные — что космонавтами. И учительница в варежках ругала нас с Лешкой, что один насмотрелся западных фильмов, а другая бог знает что о себе воображает, — вместо того чтобы жить жизнью своей страны, а космонавтов хвалила. И тогда Лешка сказал — сказал мне, но услышали все: «Поехали», — и мы полетели. И я сидела рядом в красном мотоциклетном шлеме, и впереди была вся жизнь и Новый год. Не было только верхушки на елку, и Лешка сказал, что у него есть звезда и он сгоняет домой, и я ответила, что вот и отлично, только возвращайся скорей, и, сняв туфли, встала на табуретку и стала наряжать елку: повесила стеклянные часы, бусы, яблоки, — и хотя стрелки на часах были нарисованные, начало смеркаться, а потом стало совсем темно — и тихо, только яблоки на елке зазвенели, когда распахнулась дверь и ввалился Тимоша, водитель молоковоза. Он тяжело дышал, комкая в руках шапку, и я усмехнулась: «Горючее кончилось?» Он ничего не ответил, только посмотрел на меня так, что я вдруг спросила: «Где Лешка?» И дядя Тимоша мотнул обнаженной головой в сторону дороги. — Он что… звезду разбил? Дядя Тимоша молчал. — И… сильно разбил? Плечи его затряслись, и он уткнул лицо в шапку. И я — в белом платье и тонких колготках — прошла мимо дяди Тимоши, пересекла двор и вышла на дорогу, где не горел ни один фонарь, — во тьму, коловшую глаз осколками Лешкиной звезды, и только тут до меня дошло, что не горючее — свет кончился, — и я побежала: по морозу босиком… И все думали, что я умру, — а я стала поэтом. И встретила другого адского водителя. Его звали Данте. И когда он повел меня — круг за кругом, — я взглянула на седую прядь в его черных волосах и подумала, что таким, каким он вернулся с того света, Лешка был с детства, а значит, тот свет и есть детство. А мое детство — звезда моих минувших дней — Лешка. И стало быть, все будет хорошо и мы поженимся. И он будет улыбаться мне своей гагаринской улыбкой, потому что на самом деле он больше всех хотел стать космонавтом. А я и на этом не хотела быть поэтом, но не могла же я написать, что хочу быть Лешкиной женой.«Рай — это так недалеко…»
Рай — это так недалеко… там пьют парное молоко, там суп с тушенкою едят и с Дантом за полночь сидят. Там столько солнца и дождей, чтоб вечно алы были маки: рай — это там, где нет людей, а только дети и собаки.«Дача: клубничное жаркое детство…»
Дача: клубничное жаркое детство, плюсквамперфект, почти мезозой, гений: ребенок с геном злодейства хищно охотится за стрекозой. Археоптерикс щебечет на ветке с рыжим охотником накоротке, и преспокойно, как в маминой сетке, груши-двойняшки спят в гамаке. Ночью на даче скрипят половицы, зябнет старуха на кресле-одре, шепчутся девочки-отроковицы, бродит смородина в красном ведре. Ночью растут позвонки и суставы, грудь набухает, как белый налив, в дальние страны уходят составы, в юность, и до посинения слив, до сентября, до начала мученья: море и солнце — дачный сезон. Это наш дом золотого сеченья. Южная ссылка: Пушкин, Назон.Мария-Антуанетта
У меня в Трианоне деревьев подстрижены кроны, будет ночь — будет бал: королевское наше житье. Но я чувствую кожей, моей ты робеешь короны. Перестань, дурачок, я ж в постели снимаю ее. Я корону сниму, но сначала сними остальное: мои туфли, подвязки, чулки, кружева, кружева… Поскорее, родной! Скоро утро настанет стальное и потребует хлеба, и смелют меня жернова. Но должно же меж ночью и утром быть что-нибудь третье, но должно ж между жизнью и смертью быть что-то еще… Я корону сниму, как бродяга снимает отрепья, и мне станет теплее, тепло, горячо, горячо… Впрочем, стой… Ничего мы уже не успеем с тобою… Вот идет мой народ — и я чувствую боль в волосах, потому что короны снимают всегда с головою. Так что я без всего буду ждать тебя на небесах.«В моей бестрепетной отчизне…»
В моей бестрепетной отчизне, как труп, разъятой на куски, стихи спасли меня от жизни, от русской водки и тоски. Как беженку из ближней дали, меня пустивши на постой, стихи мне отчим домом стали, колодцем, крышею, звездой… Как кесарево — тем, кто в силе, как Богово — наоборот, стихи, не заменив России, мне дали этот свет — и тот.«К нам равнодушна родина — Бог с ней…»
Н. С.
К нам равнодушна родина — Бог с ней, и эта боль уже переносима. И берег, что похож на берег Крыма, теперь мне с каждым годом все родней. Тот берег только издали скалист — вблизи же он поблескивает влажно и что-то, что совсем уже неважно — подъем или отбой, — трубит горнист. Там солнце светит, и звезда горит, и смуглый мальчик что-то говорит, и рыбаки вытаскивают сети, и весело сгружают свой улов, и так шумят, что мне не слышно слов. Но мальчик не нуждается в ответе.«Юрий Гагарин был великий русский поэт…»
Юрий Гагарин был великий русский поэт: Россия выпихнула его из себя в небо, как в ссылку, как на Кавказ, и он сел в карету, то есть в ракету, — ибо путь ракет — поэтов путь, — сказал: «Поехали!..» — и улыбнулся своей гагаринской улыбкой. И в этой улыбке была вся Земля, все лучшее, что на ней есть, «Земля в сиянье голубом», весть — небу от человечества, — потому что поэт — тот, кто говорит с небом, словно языковой барьер, преодолевая земное притяжение.«Сначала жаль только Татьяну…»
Сначала жаль только Татьяну, потому что ее не любят, и Ленского, потому что его убивают. А потом жаль Онегина, потому что куда страшней, когда не любят и убивают не тебя, а ты. А потом — Ольгу, потому что самое страшное — убивать, не замечая, что убиваешь. А потом — опять Татьяну, потому что она любит того, кого убивает. А потом — опять Онегина, потому что он все-таки жив, А потом жаль всё: «наше всё», — потому что его убили. А потом жаль всех нас, потому что мы лишние, потому что в России все живые лишние.Метемпсихоза
Себе в день рождения
Несметность тел и неизменность душ. Когда б могла я верить в эту чушь, я б захотела быть не мотыльком, не птицею, не рыбой, не цветком, не горною вершиной, не звездой, а женщиной. Причем, не молодой, а между тридцатью и сорока: не больше и не меньше. На века.«Об жизнь земную изувечась…»
А. В.
Об жизнь земную изувечась, о всех, кто в ней — меж нас — гурьбой, я знаю, для чего мне вечность за гробом: чтобы быть с тобой. Здесь места нет, где быть нам вместе, но там, где ты мне будешь брат, нет места ревности и мести… …Жаль только, с братьями не спят.«Курск»
[1]
А родина, как водится, одна, а у нее нас много, слишком много… И если на нее взглянуть со дна, то до нее нам дальше, чем до Бога. И нет нас там, где ищете вы нас: в гробу железном нас искать нелепо, последний в жизни выполнив приказ, всем экипажем поднялись мы в небо. …Такая смерть — что не собрать костей, такая жизнь — где ничего не светит… Россия, береги своих детей, не то одна останешься на свете. Не реки впадают в море — в море впадает горе: никогда его на карте не убавится… Нынче самое большое море — Баренцево.Песня о десантниках
Поскидали десантники, словно формы, тела. Улетели, касатики, не дождавшись тепла. То не ангелов пение, не оркестр духовой — это бабье терпение, перешедшее в вой. Кто-то скажет: «За Родину…» Кто-то всхлипнет: «Зазря…» И, подобная ордену, загорится заря. Дать бы всем: Богу — Богово и царево — царю, а всем прочим немногое — вот такую зарю. Станут младшие старшими — в небеса из грязи. Не торгуются с павшими: все, что хочешь, проси. Только мертвым, им пофигу: что звезда им, что крест. …В жизни есть место подвигу, слишком много есть мест.«Снова в поле чистом кто-то стонет…»
Снова в поле чистом кто-то стонет, а над ним кружится воронье… Никакая родина не стоит тех, кто умирает за нее. В небесах высокая награда будет всем, кто до нее дорос. Видит Бог, кому все это надо, — женщина не видит из-за слез.«Нет хуже месяца, чем ноябрь…»
Юрию Полякову
Нет хуже месяца, чем ноябрь, и нету места грустней России. Собака воет как волк. Но я бы, если б, конечно, меня спросили, сказала: «Чтобы бежать в Египет, нужна причина не дай-то Боже!.. А у меня и стакан не выпит: Что ж я все так вот возьму и брошу?..»Полет шмеля
Мой маленький сын нашел мертвого шмеля и, рыдая, прибежал ко мне. Я, не моргнув глазом, сказала, что если шмеля положить на веранде на солнце, он оживет… Рано утром сын первым делом побежал на веранду. Обогнав его в три прыжка, я спихнула шмеля на землю и ткнула пальцем в небо: «Вон он!.. Видишь?..» Сын задрал голову и, щурясь от солнца, сказал: «Здорово летит!..» А я опустилась в кресло и подумала, что осушить слезинку ребенка может только высшая гармония, то есть сказка, потому что она самая большая правда, которая принимает форму маленькой лжи, чтобы ребенок мог ее вместить, и что Евангелие — это, конечно, сказка, но ведь нас предупредили: «Будьте как дети», — только тогда вы сможете увидеть полет шмеля в пустом небе.«Что там юность…»
Что там юность, что молодость, что тридцать пять! — впереди еще вся красота, ибо нужно по капле ее собирать, словно воду в пустыне с куста: и младенческий смех, и морщину на лбу, и слезу, и рубец, и венец… И взаправду красивой я буду в гробу, когда всё соберу наконец.Воспоминание о пионерлагере
Я помню лагерь в Кобулети, где было море — в первый раз и где совсем еще мы дети — шестой, а может, пятый класс. Мы пионеры. Пионерки. У нас горнист трубит чуть свет. У нас десанты и проверки. У нас котлеты на обед. Мы ходим строем, дышим хором, у нас не танцы, так кино, а за некрашеным забором с утра до ночи пьют вино. И, дружка дружку в бок толкая, мы ненасытно смотрим в щель: там жизнь настолько не такая: ну где в ней смысл? ну где в ней цель? Там бесконечное застолье — не пашут, не читают книг. Они едят все время, что ли? Лаваш, долма, реган, шашлык. Едят — а все не убывает, пьют — а бутылка все полна: ведь так на свете не бывает! На этом, дорогая, на том — только так и будет: пир на весь мир, отец и мать: никто нас горном не разбудит, никто вовек не будет спать.НОВЫЕ СТИХИ
Золотые ранеты
А пастор говорил про Небесное Царство, где будет «вечное блаженство», и старушки на скамейках согласно кивали головами, а я никак не могла представить себе «блаженство», тем более «вечное», и потому не верила в Царствие Небесное и возвращалась домой грустная. А бабушка, которая вела меня за руку, думала, что ребенок просто устал, а сама всю дорогу пела. И мне было стыдно, что бабушка и все остальные верят, а я — нет, но мне стыдно было в этом признаться. Но однажды, когда мы возвращались с вечерней службы и бабушка по обыкновению запела: Скоро кончатся мытарства и настанет Божье царство… — я вдруг спросила: «А как ты себе его представляешь?» И бабушка, прервав пение, покосилась на меня и сказала: «Там всюду яблони, а на них — всегда яблочки». «Золотые?» — уточнила я. «Что? — не поняла бабушка, но, сообразив, добавила: — золотые ранеты». И я аж подпрыгнула от радости: ранеты росли у нас в саду, это были мои любимые яблоки. Мы отправились дальше, и бабушка снова запела, а я всю дорогу домой шла вприпрыжку, потому что теперь тоже верила в Небесное Царство, как верю в него и теперь, хотя теперь знаю, что там нет никаких ранетов.«И хотя стоял только ноябрь…»
И, взяв девицу за руку,
говорит ей: «талифа-куми»,
что означает: «девица,
тебе говорю, встань».
Мк. 5:41 И хотя стоял только ноябрь, сад выглядел совсем по-зимнему: всюду лежал снег и деревья были голые и только на одной яблоне — черной и усыпанной снегом — висели яблоки, крупные и красные. Как будто она только что стряхнула последний лист, но вдруг раздалось «талифа-куми» — и на ней — мертвой и покрытой белым саваном — тут же, как румянец на щеках, заалели яблоки, и я впервые подумала, что воскреснут не только все, но и всё, например, деревья, и что, может быть, в раю будет эта самая яблоня и, может, вообще, это уже рай, которого я просто не замечала, потому что не ожидала, что он так близко.«Мне сорок пять — какое счастье…»
Мне сорок пять — какое счастье, что, например, не двадцать пять, что страсти сгинули мордасти и не воротятся опять. Что от любви и от плакатов свободна, как сказал поэт, от ползунков и автоматов (и жаль, что от тетрадей — нет). Что так спокойно и смиренно я день за днем смотрю вперед. Теперь я знаю: тело бренно, и все бреннее каждый год. И я могу не быть красивой — другим оставлю этот крест. А в отношениях с Россией — она теперь меня не съест. И что мне все на свете храмы, когда чем дальше, тем ясней: я скоро стану старше мамы, я скоро буду вместе с ней. И хорошо, что стали дети и выше, и умней меня. И так прекрасно жить на свете — и день прекрасней ото дня.После падения самолета «ТУ-154» 22 Августа 2006 года
Господи, если захочешь взять, то не бери частями: раз у меня забираешь мать — всю забирай, с костями! Ты ведь любого страшней огня, так забирай помногу: лучше возьми у меня — меня всю — не дитя, не ногу. Или весь мир у меня возьми — с розами и цикутой, — или со всеми оставь детьми. Слышишь, не перепутай!..«Постою я над папой с мамой…»
Постою я над папой с мамой, над могильным холмом, точней, над невидимой миру ямой — ох, и тесно же будет в ней! Впрочем, спали же мы все трое в том бараке и той зимой в той стране и при том, брат, строе, что не верится и самой. Так что все уже это было и не страшно совсем почти: ну, подумаешь, ну, могила — утром снова в детсад идти.«Вдруг я вспомнила старую дачу…»
Отрадно спать, отрадней
камнем быть.
Микеланджело Вдруг я вспомнила старую дачу, свои слезы над телом Христа. Я теперь о Христе не заплачу поумнела — и стала не та. И, привыкшая к виду распятья, машинально поставлю свечу. В детстве плакала на день раз пять я нынче я, словно камень, молчу. Но однажды, бродя по музею с неизменною жвачкой во рту, на богов и богинь поглазею и внезапно наткнусь на «Пьету». И зайдусь незаметно слезами над поникшей Его головой: вот ведь мальчик совсем, как мой Саня. И из каменной стану живой.«А это август близится к Успению…»
А это август близится к Успению и каждый лист висит на волоске. Но я теперь не мучаюсь, успею ли, как я когда-то мучилась в тоске. Теперь я знаю: всё на свете правильно: мы все умрем и с нами — Божья мать. Я утром встала и кровать заправила, как в детстве научили заправлять. Идет бычок по досточке, качается — уже лет сто ходить ему не лень. Но всё на свете вовремя кончается, как школьные каникулы: день в день.«Даже осень — худшее на свете…»
Даже осень — худшее на свете — мы теперь с тобой переживем. Дальше всё уходят наши дети — скоро мы останемся вдвоем. Что прошло, и вправду стало мило: жизнь, она не так уж и мала. Ну по крайней мере мне хватило, чтобы переделать все дела. Пусть дожди осенние стучатся, ни стирать не нужно, ни сушить: нам осталось только обвенчаться. Но и с этим некуда спешить.Десять лет без права переписки
1
Какая русская погода — почти забытая зима. Обещанного ждут три года — жду шесть и не сошла с ума. Мне ожиданье как работа, как жизнь, как смерть, как первый бал… Я научилась ждать без счета: ты ничего не обещал.2
Кому — война, кому-то мать родна: точней не скажешь. Так же и разлука. Она кому-то крест, кому-то мука, а мне звезда и свет в окне — она. И каждый день, вставая поутру, я вижу смысл во всем: и в том, и в этом, поскольку, даже если я умру, ты возвратишься. Не зимой, так летом.3
С каждым годом, с каждым твоим уходом, мой хороший, все меньше пустеет вокруг земля, наполняясь родным и не очень родным народом от двери — через двор — до Кремля — уходя в поля. Даже просто взглянуть, не покажется мало, а ему от меня что-то до смерти нужно — сейчас и здесь, и что делать, когда я в упор его не видала — ты мне всех заслонял — а теперь его вижу весь. Ну, одна на весь мир я натку полотна им, ну, им пир приготовлю на весь христианский мир: проходили, читали, сдавали, знаем — это лепта моя, или, как его там, статир. Пенелопа пускай отдыхает: все буду прясть я, поварихи в бессрочный отпуск пускай идут: я учила в школе, что нету на свете счастья, а оно, стоит только уйти тебе, тут как тут…4
— Извини, не расслышала из-за гвалта: я в троллейбусе, еду сейчас домой… Уезжаешь? Господи, напугал-то! Я подумала, что-то стряслось с тобой… Ну конечно, «счастливого» — как иначе, ну, конечно, «полный» тебе «вперед». Где-то есть большие дома и дачи — там теплей, ибо солнце там круглый год… Уходить — как же это всегда красиво, ведь «прощай» не то что «пока-пока»! Согласись, родной, велика Россия, я бы сузила: больно уж велика. Только некуда мне отступать — я дома: ставлю сумки в угол и зажигаю свет. Он горит всегда по закону Ома, потому что другого закона нет. Я, мой свет, не жена тебе, не невеста и не мать, и тем более не отец я и. о. начальника свята места: нас, точнее, двое здесь: я и телец.5
Десять лет без права переписки — вот как я бы это назвала, а стихи — клочки они, огрызки, только чтобы сунуть в глубь стола. Я ее у Бога не просила, да Всевышний и не Дед Мороз, значит, есть во мне такая сила, чтобы гибнуть столько лет всерьез. И хотя к концу подходят сроки, я-то знаю, что конца им нет. И бегут беспомощные строки в глубь стола без права на ответ. …Я когда-то в школьном пела хоре (или, может, это был детсад?): есть любовь, соленая как море, не приходят из нее назад.6
Ох, ты глупая голова, голова моя золотая, я же слушаю не слова — я на голос твой залетаю. Слов и я знаю через край — силу их, высоту и градус… Но вот ты говоришь «прощай», а я чувствую только радость.7
Милые бранятся — только тешатся. От такого счастья впору вешаться. Я такого счастья не хочу. Я устала, понимаешь, милый? Я пошла б к знакомому врачу и тебя бы вырезала силой из себя. Но от меня тогда в мире не останется следа…8
Прощай! Ни в чем не упрекну. Я наперед тебя прощаю. Я подойду сейчас к окну и буду ждать. Я обещаю. Хоть уезжай, хоть уплывай, хоть улетай в свое далёко. Кого-то где-то убивай иль кем-то будь убит жестоко. Опохмелись в чужом пиру иль переспи со всей Россией, всегда впущу. Не отопру, лишь если стану некрасивой.9
Я ждала не больше, чем другие. Я любила не сильней других. …А деревья до того нагие, кажется, содрали кожу с них. Как же раньше я не замечала, что сто лет назад заметил Фет, то ли раньше горя было мало, а сегодня вижу на просвет, а сегодня различаю стуки, что чужие издают сердца. …Я терпела не страшнее муки — просто я терпела до конца.10
А в Воскресение Прощеное, свою гордыню истребя, я за тебя — ведь я ж крещеная! — прошу прошенья у себя. Юродивая или дура я — лишь умной быть не дай мне Боже! — я столько за тебя придумала: чего уж там — прощеньем больше…Тамарин двор
1
Я снимаю нынче дачу старую, я живу бок о бок с баб-Тамарою. Баб-Тамара — золото-брильянт. И один лишь у нее талант, но такой, что стоит наших всех. У соседей — песни-пляски-смех. А у нас покой и тишина. И мой стол — у самого окна. Из него — немытого, без штор — станция видна — Шатураторф.2
Все не свое мое — заемное: и эта дача, и этот сад, и это небо над ним огромное, и эти сливы, что в нем висят. И это чучело огородное, и шланг змеящийся, и струя. Вот и в стихах моих слова — народные и только музыка одна моя.3
Больше нет у нас очередей, только эта вот — в дачный ларек: и, казалось бы, столько людей и когда еще выйдет твой срок. Но то этот исчезнет, то тот: вроде был — и уже его нет. — Ваша очередь! — кто-то зовет, и из тени выходишь на свет.4
Я принесу тебе воды в бутылке из ларька: невелики мои труды, вода моя легка. Ведь кто-то матери моей в небесном том краю сейчас дает вот так же: «Пей!» как я тебе даю.5
Красота — это страшная сила, а горбатых исправит могила. Но глядишь на красивых в гробу — и где, скажите мне, их красота? …Я живу у Тамары-горбуньи, как за пазухой у Христа.6
Смотрит «Время» нищая старуха, хоть глаза давно уже не те, хоть уже и слышится вполуха: что ей в нем — на финишной черте? А она жалеет террористов, но не всех, а только молодых: «Это с автоматом он неистов, а без автомата он жених…» И скинхедов жалко ей, и черных: «Тоже люди», — говорит она. А еще артистов и ученых: то-то жизнь, поди, у них трудна. Не клянет погодные прогнозы: «Это нам дожди одна беда, а они, — кивает на березы, — а оно», — на поле у пруда. Обещают повышенье пенсий — «Вот спасибо, — говорит, — сынок — президенту. — Деньги, чай, полезней мог потратить». — Господи, не мог!7
Баб Тамара сидит над кроссвордом, рядом белый мурлыкает кот, под шатурским сидит небосводом вечность, кажется, всю напролет. И дожди собираются в ванну, что ржавеет в саду у нее, и цветы зацветают и вянут, и то сохнет, то мокнет белье. Покраснеет малина и снова помаленечку сходит на нет… А она ищет нужное слово, как Последний Великий Поэт.Новогоднее
Лене
В далеком дачном городке у разгорающейся печки в гостях, а значит, налегке, когда с собою только свечки, шары, гирлянды, мишура, для всех и каждого подарки. Часы двенадцать бьют — «ура»! На дачах фейерверки ярки, при том, что в дефиците свет. Мороз и елка. С винегретом. И может, смысла в этом нет. …Но смысла нет не только в этом.«Любимый мой играл в рулетку…»
Любимый мой играл в рулетку — и дни, и ночи напролет. А я ревела — впрочем, редко. А я ждала — за годом год, хотя надежды было мало, ведь страсть, она до гроба страсть. Я просто ясно понимала: без нас двоих ему пропасть.«Но если нет у смерти жала…»
Сыну
Но если нет у смерти жала, то, значит, нам нельзя не быть… Я не затем тебя рожала, чтобы налил воды попить. Я не затем стихи писала, чтоб заглушить загробья тишь. Ведь жизни не бывает мало: ее, брат, столько — не вместишь.«У меня, как у всех, нынче есть свой e-mail…»
У меня, как у всех, нынче есть свой e-mail, нынче есть, как у каждой собаки, мобила. Но кто письма писал, тот теперь онемел, и ушел, кто звонил и кого я любила. И уходит день за день земля из-под ног, мои дети уходят — свои и чужие. Только вскрикнешь по-бабьи: «Куда ты, сынок?..» А они всё идут — все такие большие. Даже буквы срываются нынче с листа и летят, словно клин, а потом — словно точка… Я стою на ветру, я совсем сирота, одиночка ли мать, капитанская ль дочка, хоть горшком назови, хоть совком — не боюсь: я как мертвый, который не ведает сраму. …А ночами мне снится Советский Союз, тот, где мама моя моет вечную раму.«Я б уходящим потеряла счет…»
Я б уходящим потеряла счет, когда бы всех и каждого считала… А в жилах кровь по-прежнему течет, но кажется, совсем осталось мало. …Я почему-то не машу им вслед: то нет платка, то нет руки свободной, а то меня во всем народе нет — смешно сказать: меня-то, всенародной.«Ей, казалось бы, так повезло…»
Ей, казалось бы, так повезло, этой глупенькой бабочке в храме! А она отдохнула на раме и опять стала биться в стекло. И чего ей не нравится тут, где не слышен ни грохот, ни скрежет, не стреляют, не ловят, не режут — ставят свечки себе да поют? И чего она рвется туда, где и листья давно облетели и — моргнуть не успеешь — метели, а в канале застыла вода? А ведь бьется, на ладан дыша, словно там у ней малые дети! Уж не так ли об твердь на том свете материнская бьется душа?В Степанакертском музее
На стенах — фотографии убитых, в витринах — пули, сумки, фляжки — быт их, и мама-Галя, наш экскурсовод, нам говорит про маленький народ и про одну его большую душу, про танки, «грады», вертолеты, Шушу… Такая уж досталась ей работа. — А этот? — Был у матери один, — ее рука скользит от фото к фото. — А эти? — Братья. — А вон тот? — Мой сын…«Тот грузин, на рынке продавец…»
Тот грузин, на рынке продавец, торговал домашней «изабеллой». Рынок срыли. И пришел конец — не застольям, а эпохе целой. Целой жизни — уж какой была, и любви — какая уж досталась. Я б в гробу хрустальном проспала бабий век оставшийся и старость. …Мне его вовеки не забыть — как звезда, рубинового цвета. «Что мне пить?» — в ответ: «Куда ж нам плыть?» Впрочем, я и не ждала ответа.«Я пропела это дело, проспала…»
Я пропела это дело, проспала, и меня не дозвались колокола, хоть под утро и приснился мне их зов… Было больше, чем одиннадцать часов. Было больше, чем двенадцать. Или — час. Бог не выдал — это да, но и не спас: я пришла, когда на двери был замок: что ж роптать теперь — он сделал все, что мог. И несолоно хлебавши, и — без слез шла я гордо мимо зелени и роз, мимо птицы и яиц с табличкой «Бой», мимо нищенки, вздохнувшей: «Бог с тобой…»Воспоминание об Алексее Дидурове
Я говорила — дурочка, коза: «Как жалко, что в стихах у вас нет Бога…» И округлялись у него глаза, а я, не видя, продолжала строго, что, мол, стихи его — сплошная плоть… Не ведая, а может, забывая, что во плоти явился нам Господь и тем она бессмертна, что живая.«И видела я, как снимают кино…»
…над вымыслом слезами обольюсь.
А. Пушкин И видела я, как снимают кино. Да что там «я видела» — я в нем снималась, я кем-то была, и не все ли равно, что этой меня была самая малость. Была у героя жена на сносях, в другой сериал героиня спешила… А всё же работали все не за страх и жизнь, а не шило меняли на мыло. Колодец потемкинским был там — и дом, и дети, которые льнули к окошку (но правда, она заключается в том, что все умирают всегда понарошку). Искусства едва ли там было на треть (и те, кто снимал, это видели сами), но кто-то кино это будет смотреть и (в том его смысл!) обольется слезами.«И помню я не мамин гроб…»
И помню я не мамин гроб, не чей-то черный шелк и не ее холодный лоб, а то, что дождь пошел. И то, что гроб стоял в траве — забыли табурет. И бабочек. Их было две. …А гроб не помню, нет.«Мы с моим четырнадцатилетним сыном…»
Мы с моим четырнадцатилетним сыном пришли на Троицу в храм. Пол в храме был посыпан травой, а вдоль стен стояли березки. «Благодать!» — подумала я, вдыхая запах свежей зелени. «Бедные! — вдруг сказал мой сын, кивая головой на березки. — Такие молодые, им бы еще жить и жить…» Я вспыхнула: «И что хорошего? В конце концов их изрезали бы ножами любители березового сока, порубили на дрова любители шашлыков или они засохли бы сами, а так они попали в рай, — я перевела дыхание, — потому что ведь это только нас, людей, ждет Царствие Небесное, а растения исчезнут без следа, а вот эти, — я обвела рукой храм, — сподобились…» — «Все равно, — упрямо сказал сын, — они здесь совсем завяли (я пригляделась: листья на березах действительно подсохли), а у тех, что растут у нас во дворе, такие клейкие листочки…» «Ты что… читал „Братьев Карамазовых“?» — опешила я. «Карамазовых? — переспросил мой сын. — Не-е… Стругацких — читал…» И я усмехнулась, ох уж эти мне русские мальчики, потому что видела, что мой сын не согласен заплатить листком березы за рай, и подумала, что это здорово, хоть он и не прав.«Сворачивается, сорвавшись с губ…»
Свора- чива- ется, сорвавшись с губ, сегодня стих: так самый воздух груб, как будто в нем повсюду разлита смертельная для слова кислота. Стих не жилец, и дело его швах, и потому он стынет на губах поэта, где не сохнет молоко, мед-пиво, гоголь-моголь и Клико.«Великим, Господи, постом…»
Великим, Господи, постом Тебя прошу я о простом, но страшно трудном почему-то мое унынье превозмочь. Чтобы и день любить, и ночь, и утро, Господи, и утро!..«Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно…»
Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно — не то что куда-то ехать, хороший мой, когда по утрам за окном до того темно… короче, нашей отечественной зимой, когда я со всеми вместе иду к метро и в сумке бездонной моей вся война, весь мир, все слезы мира, все зло его, все добро — и йогурт, а иногда кефир, когда я штурмом, как крепость, беру вагон, где глупо держаться и трудно порой дышать, где я засыпаю стоя и вижу сон, где ты не ушел и где живы отец и мать, где все до того близки мне — со всех сторон, что чья-то ушанка мне лезет упорно в рот, — я вдруг понимаю, что я — это, в общем, он, прости за пафос, имея в виду народ. И если меня не грохнули в тридцать пять, и если я не повесилась в сорок семь, то, значит, надо как-нибудь доживать не чтоб назло или на радость всем. А просто — проехали — всё — не вернешь билет, и с каждым годом светлее моя печаль, и смысла теперь умирать никакого нет, поскольку старых, их никому не жаль.«Когда от мужчины уходит женщина…»
Когда от мужчины уходит женщина, она, как беременная в животе, уносит весь мир с собой: горы, трещины, и лист, и бабочку на листе. Она уносит всё без остатка, поскольку дело идет к зиме. Забудет разве что лишь перчатку на совершенно пустой земле. И поднимает ее мужчина, не зная, к чему ее приложить: ей нету пары — и вот причина, что, в общем, незачем дальше жить. …Когда же мужчина навек уходит, он не берет с собой ничего: и солнце всходит, и леший бродит, и, Боже, столько кругом всего!..«Жизнь, она настолько не мала…»
Жизнь, она настолько не мала, что сегодня, рано поутру, я почти с испугом поняла: если ты уйдешь, я не умру.«Я всё меньше люблю жить…»
Я всё меньше люблю жить и всё больше люблю спать, потому что во сне нить всё цела — и жива мать. Потому что только во сне иногда навещаешь ты. Не грущу о прошедшем дне, а сильнее жду темноты. И мне снится моя страна — вся довольство и красота, и чем глубже сон, тем она, словно в детстве, родная, та… Всё спала б я ночной порой и дневною (хоть это дичь). И любимый теперь герой мой — Обломов. Илья Ильич.«Пора, мой друг, и нам с тобою…»
Пора, мой друг, и нам с тобою замыслить собственный побег. И я уже готова к бою за нас, мой главный человек. Давай поселимся на даче — не на своей, так на чужой — и станем жить с тобой иначе, точней, как все: как муж с женой. Прощай, эпоха романтизма — цветов, свиданий и разлук… Да будет дом, семья, отчизна. Да будет Бог! Пора, мой друг…«А если, как тряпку, меня отжать…»
А если, как тряпку, меня отжать, что у меня остается? Мать. А если еще посильнее? Муж. Хоть он ходок. И игрок к тому ж. А если совсем — чтоб один лишь вздох. А если совсем — чтобы вздох один? Что у меня остается? Бог? Нет, у меня остается сын.«Рухнул дом, и не светит свет…»
Рухнул дом, и не светит свет, но осталась кариатида; так сегодня и ты, поэт: не показывая вида, держишь то, чего больше нет.«Моя домработница Шура…»
Моя домработница Шура вечно просит взаймы, и я, как последняя дура, достаю из своей сумы, потому что учила в школе… Но настал двадцать первый век: что я, маленькая, что ли? Кто тут маленький человек? Кто мы — сестры с ней или братья? Кто — она или я — народ? …Я дарю ей свои платья, и она кое-что берет…«Что есть стихи?..»
Что есть стихи? Цель или средство? Искусство выше или жизнь? Талант правее или сердце, и кто — нормальный или шиз? Растут баллады из навоза? Поэту писан ли закон? Где прошлогодний снег? А розы? В раю или в аду Вийон?..«А ведь летом здесь была малина…»
А ведь летом здесь была малина, и краснее не было куста. А сейчас какая-то могила: снежный холмик, только без креста. Неужели этот снег растает? Ведь осталось времени в обрез… Неужели этот день настанет? Неужели вправду Он воскрес?«Вот так сквозь текст старославянский…»
Вот так сквозь текст старо — славянский, как через лес — густой и вязкий, — который впору прополоть, бредешь — и выведет Господь…«Мне у ног Твоих, Господи, было сидеть недосуг…»
Мне у ног Твоих, Господи, было сидеть недосуг, вечно я то латала, то шила, то штопала… Не хватало мне в сутках часов, не хватало мне рук, но слова Твои я повторяла в трудах моих шепотом. Повторяла, когда бесконечные мыла полы, повторяла, когда обмывала умершего брата я, и тогда мне не сутки — столетия были малы и мой дом был мне крест, на котором была я распятая. И устала я так, век за веком держа этот дом, дом, в котором я каждую щелку и угол излазала, что, когда Ты придешь, я в углу буду спать мертвым сном и меня разбудить тяжелей Тебе будет, чем Лазаря.РАССКАЗЫ
Так говорил Вася Пупкин
1
— А почему у тебя унитаз посреди комнаты? — спросила Марья Ивановна, входя в комнату дочери.
И Лена с раздражением ответила, что я тебе уже сто раз говорила, что у меня ремонт и не отвлекайся, пожалуйста, на мелочи, потому что у меня к тебе важное дело…
Но Марья Ивановна возразила, что жизнь состоит из мелочей и вдруг мне приспичит. Но дочь успокоила, что я договорилась с соседкой, бабулькой, по 20 рублей…
— По 20 рублей? — ужаснулась Марья Ивановна и, вздохнув, добавила, что чему тут собственно удивляться, такое время, и вопросительно посмотрела на дочь.
Но тут в дверь позвонили и Лена, бросив на ходу, что это, наверное, Антон, потому что я и его позвала, пошла открывать.
Вернулась она действительно со своим бывшим мужем, который полгода назад ушел к другой.
— А почему у тебя унитаз посреди комнаты? — спросил Антон и, увидев бывшую тещу, смутился, что, извините, Марья Ивановна, я вас не заметил…
И Марья Ивановна съязвила, что ты теперь замечаешь только тех, которые тебе в дочки годятся…
Но Лена зыркнула на мать и, закурив, сказала, что я пригласила вас, чтобы сообщить одну неприятную вещь…
— К нам едет ревизор? — перебил Антон, а Лена, стряхнув пепел, закончила:
— Наш Павел бросил училище…
— Как бросил? — хором переспросили Антон и Марья Ивановна, и последняя заголосила, что его же теперь в армию заберут, а Антон предположил, что у мальчика роман…
— Это у тебя роман! — зло бросила Лена.
А Антон, который был писателем, парировал, что в наше время написать роман невозможно…
— Это почему? — живо поинтересовалась Марья Ивановна, работавшая в школе учительницей литературы.
— Что-то такое происходит в атмосфере, — Антон сделал неопределенный жест рукой. — Текст съеживается, умаляется; короче, стремится не быть, — и с грустью подумал, что поэтому я и стал писать детективы…
— Какой ужас! — всплеснула руками Марья Ивановна и, нехорошо посмотрев на бывшего зятя, изрекла: — Загубили русскую литературу!
А Лена перебила, что мне сейчас не до литературных вопросов, а надо срочно решать, что делать.
И Антон сказал, что это самый литературный вопрос и у нас, в России, вообще других не бывает. И только Лена хотела возразить, как, позвякивая ключами, на пороге появился Павел.
Он обвел взглядом присутствующих и угрюмо спросил:
— Совет в Филях?
И Лена, гася окурок, поинтересовалась, а почему ты не спрашиваешь про унитаз…
И Павел пожал плечами, что, по-моему, унитаз как унитаз, а что?
И Лена вспыхнула, а Антон, желая предотвратить скандал, поспешно согласился, что, конечно, ничего особенного, вопрос в том, почему он тут стоит!..
И Лена вдруг засмеялась, что вы не поверите, но семейная пара, которая делает у меня ремонт, Вася и Надя, совершенно… (она посмотрела на мать) маленькие люди, оказывается, каждый вечер после работы играют в казино, и представьте (Лена опять закурила), на днях эта парочка выиграла машину, кажется «Audi», так что у них от радости просто крышу снесло, не только мой унитаз, и они вот уже несколько дней не появляются…
— Отмечают, — высказала предположение Марья Ивановна.
А Антон покачал головой, что напиши о таком в книге, никто не поверит.
А Павел, так и стоявший у двери, заметил, что, стало быть, люди, устанавливающие унитазы, не считают себя маленькими…
И Марья Ивановна поддакнула, что действительно трудно представить себе играющим в казино… Акакия Акакиевича…
— Обкакия Обкакиевича, — пошутил Павел.
А Лена крикнула, что он еще каламбурит и зато ты ведешь себя как маленький, если бросил театральное училище…
И Павел усмехнулся, что вот, значит, из-за чего сыр-бор, и, обращаясь к матери, спросил:
— Что значит мое имя?
И Лена, словно оправдываясь, объяснила, что просто Павел считал, что он маленький по сравнению с другими апостолами, потому что те видели Христа, а он нет, — и добавила, что и вообще это в честь твоего деда по отцу…
И Павел, переведя глаза на отца, желчно заметил, что согласись, Павел Антонович — это не Антон Павлович, а совсем наоборот…
— Что за бред! — возмутилась Лена, и ты лучше скажи, что ты теперь собираешься делать…
И Павел, глядя на нее в упор, спокойно ответил:
— Пойду в бухгалтеры…
И Лена задохнулась от гнева, а Антон, стараясь казаться спокойным, предложил:
— А может, сразу в управдомы, чтобы потом не переквалифицироваться?
А Павел повернулся к бабушке и спросил:
— А почему ты не скажешь: «А может, в станционные смотрители?»
И Марья Ивановна растерялась:
— А почему я должна так сказать?
И Лена, справившись с приступом гнева, ехидно спросила:
— А действительно — почему? Это же так естественно для того, у кого мать — актриса, а отец, — она сделала паузу и выдавила, — писатель!..
— А бабушка, — добавил Павел, — заслуженный учитель.
— Не паясничай! — ударила кулаком по столу Лена.
— Но ведь ты же сама хотела, чтобы я занимался этим всю жизнь, — парировал Павел.
— Я хотела, — крикнула Лена прерывающимся голосом, — чтобы ты был великим, а ты… — она вздохнула, — ничтожество!
— Ошибаешься, — ледяным голосом отозвался Павел, — я просто маленький. Как и было записано.
— Ты не маленький, — зашлась Лена, — ты… ты… говно!
— Лена! — прикрикнула на дочь Марья Ивановна.
А Павел рассмеялся, что «неужто слово найденó», и тут же со злостью добавил, что хватит того, что вы с отцом считаете себя великими, — и закричал, что если бы вы только знали, как мне надоели все эти ваши афиши, гастроли, премьеры и презентации, ваша жизнь, в которой у каждого никогда не было места для другого, и у обоих — для меня.
Он быстро пошел по коридору к двери и вдруг, резко повернувшись, заявил:
— Я хочу быть маленьким человеком.
— Я же говорила, — встрепенулась Марья Ивановна, — что нужно назвать его Александром, — и, выразительно глянув на зятя, уточнила: — В честь другого деда…
— Нужно было сразу назвать его Александром Великим, — огрызнулся Антон и крикнул сыну: — И насколько маленьким ты собираешься стать? Потому что я ведь понимаю, что «бухгалтер» — это просто метафора.
И Павел нахмурился, что много не покажется, и вышел из дома, хлопнув дверью.
— Вот до чего доводят детей разводы родителей, — учительским тоном произнесла Марья Ивановна.
А Лена зарыдала, что это он мне назло.
А Антон задумчиво произнес, что, по-моему, у него какая-то идея фикс, и вышел вслед за сыном.
Он догнал Павла на улице и сказал, что давай я тебе подвезу.
И они молча подошли к серой «Audi».
Антон открыл переднюю дверь, и Павел увидел девушку.
— Знакомься: Женя! — повернулся Антон к сыну, а девушке процедил, что это мой сын Павел.
— Что вы так долго? — недовольно спросила Женя.
— Решали один извечный русский вопрос, — ответил Антон, садясь за руль.
— Быть или не быть, что ли? — протянула Женя.
Павел усмехнулся и захлопнул дверь.
— А что случилось? — поинтересовалась Женя.
— Да вот на пятом курсе бросил театральное училище, — кивнул Антон в сторону сына.
— И куда теперь? — спросила Женя, закуривая.
— В бухгалтеры, — отрезал Павел.
— А чего ждал так долго? — Женя стряхнула пепел. — Боялся мать расстроить?
— Типа того… — пробурчал Павел.
— А она считает, что все на свете должны быть артистами? — продолжала Женя.
Павел рассмеялся:
— Хуже. Она считает, что все на свете должны быть великими.
В машине повисла пауза.
— Она что — сумасшедшая? — Женя посмотрела на Антона.
— Просто она максималистка, — пояснил тот, — а тут родной сын…
— Она разве не понимает, что сейчас совсем другое время? — возмутилась Женя. — Люди хотят покоя и… денег.
— На свете счастья нет, но есть покой и деньги, — продекламировал Павел.
— Хорошо сказал, — одобрила Женя. — И вообще, что это за профессия для мужика: артист?
— А как насчет писателя? — поинтересовался Антон.
— Ты не писатель, — Женя погасила окурок. — Ты автор детективов.
Антон покраснел. А Павел вдруг спросил Женю:
— А кем работаешь ты?
— Я? — Женя повернулась к Павлу. — Менеджером в компьютерной компании.
— Останови! — вдруг сказал Павел отцу.
— А что такое? — затормозил Антон.
— Ничего, просто я тут живу, — ответил Павел и пояснил: — Со своей девушкой.
— Так и не поговорили, — огорчился Антон.
— А чего тут говорить, — хмыкнул Павел и вдруг сказал: — А свой новый роман назови «Так говорил Вася Пупкин».
— Ты снова пишешь романы? — повернулась Женя к Антону.
Но тот не ответил, как бы что-то обдумывая, и спросил сына:
— Но куда ты все-таки собрался? Я не верю, что в бухгалтеры…
— А что, — вспыхнула Женя. — Между прочим, мой факультет назывался «Менеджмент и бухгалтерский учет», — и добавила, обращаясь к Антону: — Это ведь не помешало уйти тебе от нее ко мне.
И Антон огрызнулся, что в данном случае меня интересует, куда уйдет мой сын.
Павел вышел из машины.
Антон тоже вышел и подошел к сыну.
— Пап, — вдруг сказал Павел, — помнишь, Раскольников хотел сделаться Наполеоном?
— Ну, — удивленно кивнул Антон.
— Так вот, я уверен, что в наше время у него была бы совсем другая теория… — Павел повернулся и зашагал прочь от машины.
2
А Марья Ивановна успокаивала дочь, что ты не расстраивайся: они все сейчас такие.
— Какие? — всхлипнула Лена.
— Ну… прагматичные, что ли… — Марья Ивановна налила дочери чаю. — Раньше, когда ты была маленькая, даешь в классе сочинение: «Кем я хочу быть», так десять напишут, что космонавтами, пять — учителями, еще пять — врачами, а остальные — артистами. А теперь: десять — бизнесменами, пять — риелторами, пять — менеджерами, а остальные… — она покосилась на дочь, — бухгалтерами. — Марья Ивановна резко отставила чашку. — А один написал «Килером», с одной «л», представляешь?
— Ужас! — согласилась Лена и усмехнулась. — Прям как в том анекдоте. Убил мужик старушку. Поймали его, спрашивают: «Зачем убил?» — «А мне ее заказали». — «И много дали?» — «Сто баксов» — «Сто баксов?!» — «Так ведь десять старушек — штука!»
— Во-во! — рассмеялась Марья Ивановна и, помолчав, добавила: — А девочки так прямо и пишут: «Хочу быть женой бизнесмена».
Лена прошлась по комнате.
— Они не хотят быть, скажем так, хорошими, — они хотят хорошо жить.
— Но ведь и бизнесмен, наверное, может быть хорошим, — неуверенно произнесла Марья Ивановна.
— Но самое ужасное, — как бы не слыша ее, продолжала Лена, — что мой сын такой, как все…
— А ты бы хотела, чтобы он был такой, как ты? — Марья Ивановна взяла сигарету из Лениной пачки.
— Разве ты куришь? — удивилась Лена, щелкая зажигалкой.
Марья Ивановна махнула рукой.
— Есть такой педагогический афоризм: дети похожи не на своих родителей, а на свое время.
Марья Ивановна затянулась.
— А директор моей школы, молодой человек лет тридцати пяти, сказал мне в приватной беседе: «Зачем вы заставляете детей читать такие тяжелые книги — „Преступление и наказание“, например, или — еще хуже — „Войну и мир“. Есть же дайджесты и кино, а у них и так близорукость и сколиоз».
— Добрый… — усмехнулась Лена.
— Неомарксист, — уточнила Марья Ивановна.
— Неомарксист?! — рассмеялась Лена и хотела что-то спросить, но в дверь позвонили.
— Кто бы это? — удивилась Лена и пошла открывать.
И через минуту Марья Ивановна услышала детский плач и вскочила со стула, но в комнату уже входила Лена со своей подругой Кирой, тоже актрисой, с ребенком на руках.
— Как это понимать? — спросила Марья Ивановна, подходя и улыбаясь Кире. — Очевидно, перед нами счастливая бабушка?
— Перед вами, Марь-Иванна, несчастная мать, — ответила Кира со слезами на глазах.
— С Дашкой что-нибудь? — сжалась Марья Ивановна.
И Лена приложила палец к губам, но Кира мотнула головой, что почему же, я расскажу…
И рассказала, что ее дочь Даша явилась к ней вчера вечером и заявила, что этот ребенок, представляете, «этот», мешает мне делать карьеру, и с ним я не смогу раскрутиться, а мне как раз сейчас предложили большую роль в сериале, и что если ты, мама, не уйдешь из своего говенного театра, где вдобавок играешь одни маленькие роли, и не возьмешь Егора к себе, я сдам его в детский дом.
Кира разревелась. Вслед за ней заревел Егор. И Марья Ивановна взяла Егора у Киры и затетешкала:
Из-за леса, из-за гор, Ехал маленький Егор…А Лена заметила матери, что сначала они отказываются от «Войны и мира», а потом от собственных детей.
— Не вижу связи, — пожала плечами Марья Ивановна.
— Прямая, — вспыхнула Лена. — Нежелание грузиться проблемными книгами оборачивается нежеланием грузиться какими бы то ни было проблемами.
— Но Даша читала «Войну и мир», — не понимая, о чем речь, встряла Кира.
— Вот видишь, — подхватила Марья Ивановна, — если человек, осиливший «Войну мир», собирается сдать своего ребенка в детдом, то, может, не так уж и страшно, что Паша бросил училище…
— Паша бросил училище? — удивилась Кира и, помолчав, спросила: — И кем же он собирается быть?
— Бухгалтером, — буркнула Лена.
— А серьезно? — спросила Кира.
И Лена промолчала, а Кира неуверенно заметила, что, может, это действительно лучше…
И тут послышался звук открывающейся двери и на пороге появились Вася и Надя, рабочие, делавшие ремонт.
3
При виде чужих успокоившийся было Егор опять разревелся.
— Что за шум, а драки нету? — спросил Вася.
А Надя начала извиняться, что они не приходили целую неделю, потому что с машиной такая морока, пока ее оформишь, застрахуешь, а тут еще это кладбище…
— Какое кладбище? — спросила Лена.
— Да ведь сын-то наш… — Надя замялась, — от передоза умер, — она всхлипнула.
— Когда? — похолодела Лена.
— Да нет, — успокоила ее Надя, — не сейчас… Пять лет назад.
— Ему бы сейчас двадцать три было, — добавил Вася, закуривая «Беломор».
— Ну вот, — вытерла слезы Надя, — а мы, как эту машину выиграли, я гляжу на его фотку, что у нас на стене висит, в рамочке, а на ней фон, — Надя расширила глаза, — из белого голубым сделался, вот прям, как это, — она дотронулась до ползунков Егора. — Хотите верьте, хотите нет!..
— Мы и махнули на кладбище, — подхватил Вася, — а там… — он оглядел присутствующих невидящими глазами, — на фотографии, которая на плите, то же самое…
В комнате наступила гробовая тишина.
Даже Егор замолчал.
А Вася затянулся беломориной и спросил:
— Вы все тут люди образованные, вот вы мне и объясните, что все это значит?
— Пить надо меньше, — отчеканила Марья Ивановна.
Но Вася, как будто не слыша, продолжал:
— Радуется мой сын нашему выигрышу или нет?
Егор забухтел, и Надя ласково спросила:
— Это чей же такой? — и, обращаясь к Кире, добавила: — Твой?
Кира вздохнула:
— Мой…
— Внук?
— Сын, — резко сказала Лена.
Надя вопросительно посмотрела на Киру.
— Дочь подбросила, — объяснила та и, помолчав, повернулась к Лене: — А может, мне правда уйти из театра?
Но Марья Ивановна перебила, что лучше уж мне уйти из школы, потому что я больше не вижу в этой работе никакого смысла, и, обращаясь к Кире, закончила, что а так помогу конкретному человеку, и запела:
Ладушки, ладушки, Где были? У бабушки. А оттуда полетели, На Егорку сели…— Вот и мы с отцом своего Юрку всё Егоркой звали… — сказала Надя.
Вася потянулся за новой беломориной.
— Слушайте, — вдруг предложила Надя, — а давайте я его возьму? — она посмотрела на Киру. — В смысле буду у вас няней, — и, оглянувшись на мужа, добавила, что, может, это наш Егор нам знак подает.
И Кира от неожиданности расплакалась, а Вася пробормотал, что черт его знает, может, правда хватит со мной по ремонтам мотаться. А Лена улыбнулась, что теперь мой унитаз точно останется стоять посреди комнаты до второго пришествия…
И тут в дверь позвонили.
«Безумный день!» — подумала Лена и пошла открывать, а Надя взяла Егорку у Марьи Ивановны и стала приговаривать:
Из-за леса, из-за горки Едет к бабушке Егорка…И Лена вернулась в комнату с незнакомой девушкой.
— Это Саша, — представила она девушку. — Девушка Паши. Ей нужно со мной поговорить.
И Надя с Егором на руках двинулись к двери, за ней заторопился Вася, за ним — Кира, а Марья Ивановна шепотом спросила у дочери, в какой квартире та бабулька, которая берет по 20 рублей…
И Лена ответила, что напротив и давай я дам тебе 20 рублей. Но Марья Ивановна обиделась, что ты, наверное, забыла, что я заслуженный учитель, и — вслед за всеми — пошла к выходу.
— Всех гостей ваших разогнала, — сказала Саша, — и извините, что я без звонка: просто у вас все время занято, а мобильного я не знаю…
И Лена ответила, что ничего и, подойдя к телефону, поправила трубку.
Саша молчала.
И Лена подумала, что девочка небось беременна, и медленно закурила.
— Так о чем ты хотела со мной поговорить?
И Саша, краснея, спросила:
— А почему у вас унитаз в комнате?
Лена затянулась и с досадой сказала:
— Жизнь, в сущности, такое говно, — она выпустила дым. — Ты так не считаешь?
И Саша натужно улыбнулась и залепетала, что вы ведь знаете, мы с Пашей живем уже два года и я всегда хотела ребенка…
У Лены екнуло сердце.
А Саша продолжала:
— Квартира у меня есть, профессия тоже…
— А кто ты, кстати? — поинтересовалась Лена.
— Медсестра… — Саша улыбнулась. — Помните, Паша два года назад в больнице лежал?
— А-а… — протянула Лена и стряхнула пепел. — Да ты говори, говори…
— …и мама помогла бы, она у меня на пенсии, потому что работала на вредном производстве…
— Но ведь Паша учится! — перебила Лена.
— Да, — подхватила Саша. — Я сначала тоже так думала, в смысле, что в этом причина, но в последнее время поняла, что тут что-то другое…
Лена усмехнулась:
— Ты не обижайся, но может, Паша, как бы это выразиться, не собирается связывать с тобой свою судьбу?
— Нет! — решительно замотала головой Саша. — Здесь не то… Когда я недавно снова завела разговор о ребенке, он сказал… — Саша наморщила лоб, стараясь точнее вспомнить, — «Ребенок — это продление себя во времени и пространстве. А я хочу быть маленьким, — она облизнула пересохшие губы. — Лягушонкой в коробчонке. — И закончила: — Ребенок противоречит моей теории…»
— Какой теории? — насторожилась Лена.
Саша пожала плечами.
Лена прошлась по комнате.
— Ты знаешь, что Паша бросил училище?
— Нет… — дрогнувшим голосом сказала Саша и стала рыться в своем рюкзаке. — Сегодня я нашла вот это…
Она протянула Лене листок, и та прочитала: «Санька, ты самая лучшая, и при другом раскладе мы с тобой обязательно завели бы ребенка. Подробности в ЖЖ (когда ты туда войдешь). Павел».
— Что такое ЖЖ? — с раздражением спросила Лена.
— Живой Журнал, — ответила Саша и пояснила: — это в сети…
— А почему он пишет «когда ты туда войдешь»? — допытывалась Лена.
— Потому что он сменил пароль…
— Какой пароль? — простонала Лена.
— Да не волнуйтесь вы так, — попыталась успокоить ее Саша. — Я сейчас объясню…
Лена залпом выпила остывший чай.
— Ну?
— У нас с Пашей в ЖЖ был аккаунт на двоих…
— Я сейчас сойду с ума!.. — Лена снова закурила.
— Аккаунт, — спохватилась Саша, — это почтовый ящик. Только виртуальный. На этом ящике висит замок, ключи от которого есть только у нас двоих, — продолжала она. — Мы оставляем друг другу сообщения, и никто чужой не может их прочитать. Это понятно?
— А почему он пишет «когда ты туда войдешь»? — упрямо повторила Лена.
— Так ведь я с этого начала: он сменил пароль, заменил замок, по-вашему…
— И что нужно сделать, чтобы открыть этот замок? — нетерпеливо спросила Лена.
— Найти новый ключ, — ответила Саша, — ключ это пароль, то есть какое-то слово…
— Какое? — Лена погасила окурок.
Саша пожала плечами:
— В том-то и дело, — и добавила, что а ведь скорее всего это что-то совсем простое…
Повисла пауза.
— А зачем он, по-твоему, это сделал? — резко спросила Лена.
— Сменил пароль? — уточнила Саша.
Лена кивнула.
— Думаю, ему нужно выиграть время…
— Выиграть время, — побледнела Лена и, схватив Сашу за руку, приказала: — Едем к тебе!
4
— Ой! — вскрикнула Марья Ивановна, увидев на пороге внука и, пропуская его в прихожую, добавила: — Ты, может, есть хочешь?
И Павел усмехнулся, что как это ни странно, хочу, а Марья Ивановна возразила, что же тут странного, ты ведь растешь… — и засеменила на кухню.
И Павел пошел следом за ней и, сев на табуретку, вдруг спросил:
— А что, в школе сейчас «Преступление и наказание» проходят?
— Куда ж оно денется, — улыбнулась Марья Ивановна, ставя кастрюлю на плиту. — У меня не проскочишь…
— И сочинение «Теория Раскольникова» пишут? — снова спросил Павел.
— Куда ж они денутся, — засмеялась Марья Ивановна, нарезая хлеб.
— И что пишут? — поинтересовался Павел.
— Ну ты прям как маленький! — удивилась Марья Ивановна и, прикусив язык, протараторила: — Всё как надо пишут.
— «Тварь ли я дрожащая или право имею?» — усмехнулся Павел.
— А что же еще? — удивилась Марья Ивановна. — Да тебе зачем?
Павел взял ложку и повертел в руках.
— А ты можешь представить себе теорию, противоположную теории Раскольникова?
Марья Ивановна стала посреди комнаты и почему-то шепотом спросила:
— Как это?
— Ну как тебе сказать? Чтобы Раскольников захотел стать не Наполеоном, а… Акакием Акакиевичем, например?
— Господи!.. — испугалась Марья Ивановна.
Павел рассмеялся:
— За что я всегда любил учителей, так это за верность устоям.
И Марья Ивановна обиженно поджала губы, а Павел встал, крепко обнял ее и пошел к двери.
— Да ты что, уезжаешь, что ль, куда? — кинулась за ним Марья Ивановна.
— В некотором смысле, — хмыкнул Павел. — Но ты слишком хорошо знаешь текст, чтобы так подставляться…
5
А Лена и Саша подошли к дверям Сашиной квартиры.
Саша открыла дверь, и они оказались в чистенькой прихожей.
Саша ринулась к компьютеру и, включив его, зашла на сайт ЖЖ.
«Введите пароль» — высветилось на мониторе.
— Вот видите, — вздохнула Саша.
— Вижу, — расстроилась Лена и, подумав, сказала: — Я, конечно, ничего не понимаю в компьютерах, но не может быть, чтобы туда нельзя было войти: у любой загадки есть отгадка… У тебя есть знакомые, которые хорошо разбираются в компьютерах?
Саша задумалась.
А Лена вдруг вскочила: «А у меня есть» — и, вытащив мобильник, набрала номер.
— Антон? Это я. Тут такое дело… Это касается Паши. По-моему, он что-то задумал… Короче, ты не мог бы срочно приехать по одному адресу вместе… со своей девушкой? — она повернулась к Саше: — Какой у тебя адрес? — и, повторив сказанное Сашей в телефонную трубку, умоляюще добавила: — Только ради бога скорее…
— Может, кофе? — спросила Саша.
И Лена ответила, что вообще-то я кофе не пью, но сейчас давай. И Саша ушла на кухню. А Лена закурила и стала ходить по комнате.
Когда Саша вернулась с кофе, Лена села и отпила глоток.
— Здесь вы и жили все это время? — спросила Лена.
Саша кивнула.
— А это твоя квартира? — продолжала Лена.
Саша снова кивнула:
— Я же говорила, бабушка оставила…
Лена махнула рукой, и тут в дверь позвонили.
— Надеюсь, это они, — и почему-то пошла открывать. Она вернулась с Антоном и Женей, и Саша встала навстречу вошедшим.
Лена представила хозяйку:
— Это Саша, девушка Паши, — и, глянув на Женю, добавила: — А это, если не ошибаюсь, Женя. Девушка Пашиного отца…
Женя усмехнулась. А Лена попросила, чтобы Саша на вашем птичьем языке объяснила Жене, в чем проблема.
И Женя, внимательно выслушав, подошла к компьютеру и, пошарив мышкой, заметила, что плохо дело, потому что Павел, кроме ЖЖ, сменил пароль и на почте.
— Что же делать? — с отчаянием спросила Лена, но у нее зазвонил мобильник и она раздраженно ответила, что да, мама, и вдруг встрепенулась: «Только что был у тебя?» — и решительно добавила, что расскажешь на месте и приезжай немедленно, потому что нам сейчас надо держаться вместе, возьми машину, я оплачу, тьфу! — да знаю я, что ты заслуженный учитель… — и передала трубку Саше, чтобы та продиктовала адрес.
— Паша только что от нее ушел, — Лена снова закурила и с недоумением добавила: — Спрашивал, как она представляет себе теорию, противоположную теории Раскольникова…
— Ясное дело, — отозвался Антон.
И Лена быстро спросила:
— Ты что-нибудь понимаешь?
— Пашка назло нам решил стать маленьким человеком… эдаким… — Антон хмыкнул, — «бухгалтером»…
— Это я и сама понимаю, — Лена потянулась за очередной сигаретой. — А что дальше?
— А можно кофе? — вдруг попросил Антон у Саши и, как бы извиняясь, добавил: — Не могу без кофе сосредоточиться…
Лена понимающе кивнула и затянулась. Женя тоже вытащила сигарету и закурила. Все молчали, пока в дверях кухни не появилась Саша с подносом, на котором стояли три чашки. Антон и Женя взяли по одной: «Спасибо».
А Лена погасила окурок и повернулась к Антону:
— Выпей и мой…
Антон кивнул.
А Саша усмехнулась: третью чашку она сварила для себя, но почему-то это никому не пришло в голову.
Выпив две чашки кофе, Антон прошелся по комнате и сказал:
— С год назад я прочел в одной немецкой газете, что в Германии некий юноша решил покончить с собой. Но очень своеобразным способом. Он нашел по интернету исполнителя, человека, готового сначала его убить, а потом… — Антон сделал паузу, — расчленить и съесть…
— Господи! — прикрыла ладонью рот Лена.
— …чтобы он мог превратиться в Scheisse…
— Что такое «шайсе»? — хором спросили Лена и Саша.
— «Шайсе» — это «говно», — быстро ответила Женя и добавила, что два года назад стажировалась в Гамбурге.
В дверь позвонили, и Саша вышла в прихожую и вернулась с Марьей Ивановной. Марья Ивановна оглядела присутствующих и уставилась на Женю.
— Мама, — спохватилась Лена, — это Женя, — и кивнула Антону, чтобы он продолжал.
— Автор статьи не мог найти этому хоть какого-нибудь внятного объяснения…
— Какой статьи? — перебила Марья Ивановна.
Но Лена сделала ей знак, что потом, и умоляюще посмотрела на Антона.
— …а я думаю, что здесь своего рода теория… — продолжал тот.
— Вот-вот! — встряла Марья Ивановна, — стать не Наполеоном, а Акакием Акакиевичем…
— Обкакием Обкакиевичем, — уточнил Антон и прошелся по комнате. — Человек хочет быть настолько маленьким, что это уже равно «не быть». Но самоубийство, по тому же Достоевскому, — это высшее проявление своеволия, чего Обкакий Обкакиевич по определению позволить себе не может, поэтому исполнение своего плана он поручает другому…
— Но почему он хочет, чтобы его… съели? — тихо спросила Саша.
— Да объясните же мне, наконец!.. — простонала Марья Ивановна.
— А чтобы показать всем, что человек — говно… — чуть не крикнул Антон.
— А ведь ты сегодня назвала Пашу этим словом, — в наступившей тишине сказала Марья Ивановна, с упреком глядя на дочь.
Лена вспыхнула:
— Да просто с языка сорвалось! — она дрожащей рукой вытащила из пачки сигарету. — Мало ли чего не скажешь… в полемическом задоре!
— А между тем, — настаивала Марья Ивановна, — он тогда сказал: «Неужто слово найдено». Я еще подумала, как это славно, что мальчик помнит Пушкина…
Саша вдруг подошла к компьютеру, за которым сидела Женя, и набрала слово: «говно».
— Открылось! — ахнула Жена.
И все столпились у монитора и увидели текст, начинавшийся словами: «Дорогая Санька!»
— Может, нам уйти? — предложила Женя.
Но Саша покачала головой и стала читать вслух: «Я тебе говорил, что мать у меня актриса, а отец — писатель. Я же еще со школы не отличался никакими талантами и очень переживал по этому поводу. Психологи называют это „синдром успешных родителей“. Но в театральное меня взяли (с подачи матери). Мне все время хотелось доказать родителям, что я тоже что-то могу, а между тем в училище, я это понимал, меня держат только из-за матери. И тогда я решил обогнать их с другого конца: стать, как писали в школе, „маленьким человеком“, или, как называет это мать, „человеком из зала“.
Я решил не жениться, потому что, женившись, человек как бы удваивается, и тем более не заводить детей (вот ответ на твои просьбы).
Я престал учиться, а недавно забрал документы из училища.
Но всего этого мне было мало. Мне хотелось стать еще меньше.
Год назад я наткнулся на немецкую газету, оставленную отцом (немецкий я знаю неплохо: это мой единственный „талант“), где была обведена статья (наверное, отец присмотрел ее для одного из своих говенных детективов)…» — Саша бегло пробежала текст и неуверенно сказала: — Он тут пересказывает содержание статьи…
А Марья Ивановна со словами: «Дайте-ка я, наконец, почитаю, что за статья, а то я никак в толк не возьму…» — вытащила из сумки очки и стала читать и вдруг побледнела и опустилась на стул, с которого соскочила Женя. А Саша продолжала: «Автор признавался, что не находит этому факту никакого разумного объяснения, а я подумал: „Вот дурак…“
Это было как раз то, что мне нужно: превращение в маленького человека, доведенное до предела.
У Достоевского Раскольников убивает старушку, чтобы стать Наполеоном, а Кириллов совершает самоубийство, чтобы стать Богом…» — Саша замолчала и вопросительно поглядела на окружающих… А Лена стала читать дальше: «Мне предстояло совершить нечто небывалое: доказать, что я самый маленький, и совершить это сознательно, впрочем, разумеется, с чьей-то помощью, — Лена сглотнула. — Я подумал, что хотя немец проделал все это первым, он не объяснил миру своей теории (а может, ее у него не было вовсе, а он был просто сумасшедшим), а значит, она по праву может считаться моей…
В мире идет сознательная игра „на понижение“, сейчас никто не хочет быть великим (скорее богатым).
Рано или поздно все люди станут маленькими (как бы это ни бесило мою мать), — читала Лена. — Пусть же я буду первым, самым маленьким и дрожащим, лягушонкой в коробчонке (помнишь, как в детстве мы сдавали анализ в спичечном коробке?)», — голос у Лены пресекся.
И тогда Антон дочитал: «Я почти год думал об этом и вот сегодня, когда мать назвала меня „говном“, как когда-то Павлом, что в переводе с греческого значит „маленький“, я решил: пора.
P. S. Интересно, сделает ли мой отец из этого сюжета (я имею в виду себя) роман?
С него станет», — Антон замолчал.
А Марья Ивановна вдруг всхлипнула, что ведь это я читала ему «Царевну-лягушку»…
— А «Преступление и наказание»? — резко произнес Антон.
А Саша спросила у всех:
— Где он сейчас может быть?
И Женя ответила, что наверное в каком-нибудь интернет-клубе ищет исполнителя своего… заказа, и добавила:
— У него есть любимый компьютерный клуб?
— Есть, — подумав ответила Саша. — Но… неужели ты думаешь, что, задумав такое дело, он пойдет в компьютерный клуб на соседней улице?
— Вполне возможно, — подал голос Антон. — Преступники… — он кашлянул, — особенно начинающие, часто бывают очень наивными.
— Тогда поехали, — вскочила Женя.
И все, включая Марью Ивановну, побежали к двери, а на лестничной площадке даже забыли вызвать лифт — так и бежали с седьмого этажа.
— А мы поместимся? — заволновалась Марья Ивановна, кивнув на машину Антона.
— Слава богу, — попробовал пошутить Антон, — мы все достаточно маленькие люди, — и сел за руль, рядом плюхнулась Женя, а сзади Саша, Лена и Марья Ивановна.
Когда они подъехали к интернет-клубу, Саша попросила Антона припарковаться так, чтобы видны были окна: у Павла было любимое место у окна, и радостно вскрикнула: «Он здесь!»
И Лена перекрестилась и резко заметила Антону, что в следующий раз, когда будешь оставлять газету с такими статьями, не забудь оставить записку: «Что немцу хорошо, то русскому смерть».
И Антон усмехнулся, что она забыла, что я ушел, и скомандовал:
— Всем оставаться на своих местах! А то мы его спугнем, и ищи ветра в поле…
— Но кто-то должен к нему пойти, — возразила Лена. — Не МЧС же вызывать…
И Саша твердо сказала: «Я» — и вышла из машины.
…Войдя в клуб, она решительно подошла к Павлу:
— Привет!
Павел вздрогнул и оглянулся.
— Ты… прочла мое письмо? — Саша кивнула. — А ты продвинутая…
— И ты даже не представляешь себе, до какой степени, — ответила Саша и добавила: — Только у тебя ничего не получится…
— Почему? — резко спросил Павел.
— У нас будет маленький, — улыбнулась Саша, — я обманула тебя, когда у меня были критические дни…
— Сука! — крикнул Павел, вскакивая с кресла и ударил Сашу по лицу.
Она зажмурилась.
— Молодые люди! — крикнул им администратор клуба. — Компьютерный клуб не место для выяснения отношений…
И Саша быстро пошла к выходу, а Павел поплелся за ней.
Они вышли на улицу.
— Слава богу! — заплакала Марья Ивановна.
А Саша подумала, что Бог простит ей эту ложь, потому что сейчас главное — выиграть время, а Пашка все это перерастет, ведь мужчины растут до двадцати пяти лет, а она, глядишь, и в самом деле забеременеет…
Саша плюс Маша
— Вовк, отвези меня на кладбище! — с места в карьер, будто с их последней встречи не прошло больше года, выпалила в телефонную трубку Светка.
(И Роман Вовк, которого еще в школе одноклассники перекрестили в Вовку, подумал, что Светка не меняется: им было по шесть и Светку на все лето отвезли к бабушке, а когда в конце августа привезли обратно, она выскочила из машины и, подбежав к нему, слонявшемуся по двору, протянула распухший указательный палец и сказала — так, будто они расстались час назад: «Это меня оса ужалила!..»)
— Не рано ли? — усмехнулся Вовка.
— Шутишь? — возмутилась Светка. — Я пять лет не была…
— А это далеко? — поинтересовался Вовка.
— Вообще-то у черта на куличиках, — вздохнула Светка. — Но мне туда не надо — мне нужно заказать памятник, то есть памятник — это громко сказано, а просто плиту, потому что, когда умер, а точнее попал под поезд отец, плиту ему поставил Газпром, который тогда еще так не назывался, а когда через двадцать пять лет умерла мать, работавшая библиотекаршей, денег совсем не было, и какой-то мужик из соседней деревни предложил мне добить мать на отцовской плите… — Светка перевела дыхание.
— Ну и?.. — нарушил паузу Вовка.
— Ну и получилась лажа, — Светка закурила, — потому что отец на фотографии молодой, а матери все-таки за пятьдесят, так что они смотрятся не как муж и жена, а как сын и мать, и потом… — Светка замолчала.
— Что? — насторожился Вовка.
— Неважно, — отрезала Светка и закончила, что я хочу заказать новую плиту, но поскольку в нашей глухомани нет никаких удобств, отвези меня на любое другое кладбище, где есть гранитная мастерская.
— Не вопрос, — ответил Вовка и добавил, что ведь мы часа за два управимся, а то мне на работу?
И Светка заверила, что конечно: делов-то куча!..
— Я слышал, ты сейчас в школе работаешь? — спросил Вовка, поворачивая руль.
— Ну да, — Светка затянулась.
— А ты любишь детей? — снова спросил Вовка.
— Знаешь, как в том анекдоте, когда грузина спрашивают: «Вы любите помидоры?» — а он отвечает: «Кушать люблю, а так нет…» — Светка выпустила дым. — Учить люблю… — и повернулась к Вовке:
— Ты, говорят, развелся?
Вовка кивнул.
— Странно, — пожала плечами Светка. — В детском саду, когда мы с девчонками играли в «дочки-матери», все всегда хотели, чтобы именно ты был «мужем», потому что другие мальчишки говорили, что хорошо, только я пошел на войну, а ты коляску возил…
Вовка затормозил.
— Приехали.
Сторож показал, где находится контора, и они пошли по длинной, усыпанной гравием дорожке.
— Я давно хотел тебя спросить… — начал Вовка, — еще когда в школе учились… — он посмотрел на Светку. — Как человек, если он не Анна Каренина, может попасть под поезд?
— Мать всю жизнь была уверена, что это дело рук гэбэшников, — как бы нехотя начала Светка. — Отец ведь в институте был всеобщим любимцем… А однажды, — продолжала она, не глядя на Вовку, — отец вернулся домой и сказал матери, что меня сегодня вызывали в комитет комсомола и предложили… осведомлять органы о настроениях среди студентов. И неделю на размышление дали. — Светка замолчала.
— А он? — прервал молчание Вовка.
— Мать говорила, что он ей это сказал, конечно, с возмущением, но и как бы с гордостью: вот, мол, понимают, кто в институте лидер… — Светка вздохнула. — Мальчишка!.. — и опять замолчала.
— И что дальше? — не унимался Вовка.
— А дальше… мать, она ж у меня с Западной Украины, заявила отцу, что я не сомневаюсь, что ты им ответишь, только на всякий случай знай: или я, или они.
— Понятно… — Вовка помолчал. — И ты думаешь, они…
— Не я, — перебила Светка. — Но мать была уверена, что ему этого не простили, и через пятнадцать лет, когда он получил такое блестящее назначение — главным инженером, в Москву, — отомстили… — Светка вытащила сигарету. — Как ты думаешь, здесь можно курить? — и добавила: — Мать говорила, что это как в «Выстреле», только там Сильвио свой удар не нанес… — Светка положила сигарету обратно в пачку. — Впрочем, она была помешана на русской литературе.
— А говоришь, с Западной Украины, — усмехнулся Вовка и, толкнув дверь конторы, пропустил Светку.
Заполнив заявление, Светка протянула его начальнику кладбища.
— И документы, пожалуйста, — попросил тот, не глядя на Светку.
Светка достала из сумки два свидетельства о смерти.
Начальник механически пробежал первое и раскрыл второе.
— Это… как? — он поднял глаза на Светку.
— Что — как? — с вызовом ответила Светка.
— Да вот же, — начальник ткнул пальцем в заявление, — в графе «Фамилия», перед «Мария Николаевна», вы пишете «Корч…» — он запнулся, — «Коч…»
— Кочмарчик, — перебила Светка.
— Правильно, — кивнул начальник. — А в свидетельстве у вас — «Яшина», — он снова посмотрел на Светку.
— Ну и что? — огрызнулась та.
— То есть как это «ну и что»? — строго сказал начальник. — У нас тут не шарашкина контора, а государственное учреждение: мы изготавливаем плиты согласно документам. А у вас, — он постучал пальцем по Светкиному заявлению, — вместо одного человека написан другой, — начальник понизил голос, — может, вообще живой… — и хмыкнул: — Прям Гоголь какой-то!
— Ничего не Гоголь! — вспыхнула Светка. — Просто мать потом замуж вышла и взяла фамилию отчима.
Начальник задумался.
— Ну и… почему вы не пишете в заявлении фамилию этого, как вы выражаетесь, отчима?
— Да потому что я его ненавидела! — взорвалась Светка.
— Попрошу не шуметь в общественном месте, — постучал карандашом по столу начальник кладбища. — А собственно, почему?
— Потому что он был парторгом в своем институте и вечно бубнил, что «советское значит отличное», а сам из всех заграниц привозил тряпки — себе и матери.
— А вам нет? — уточнил начальник.
— Да не в этом дело! — Светка вытащила сигарету. — А в том, что, когда я ушла из дома, мать сказала соседке, Вере Акимовне, а та мне потом передала, что я хоть и Мария Николаевна, но не Волконская, которая выбрала мужа, а ребенок тем временем погиб, и развелась с отчимом…
Светка покрутила сигарету в пальцах.
А молчавший до сих пор Вовка поддержал, что да, действительно, когда Светка ушла из дома, то жила у меня, как раз родители в командировку уехали, и Мария Николаевна тогда чуть с ума не сошла, а вы тут бюрократию разводите…
Начальник нахмурился.
— Хорошо, пусть так. Но вот в графе «Дата смерти» вы пишете… — он надел лежавшие на столе очки, как если бы для того, чтобы разглядеть цифры, нужно было более острое зрение, чем для того, чтобы разглядеть буквы, — «1970», хотя в свидетельстве у вас стоит «1995». — Он снял очки. — А это как?
— А так, — Светка сломала сигарету, — что когда мать умирала от рака, а участковый врач выписывал ей омнопон в расчете на один раз в сутки, а нужно было восемь, как выяснилось потом в хосписе, когда мне — по блату, то есть с помощью того же отчима, который, несмотря на то что времена переменились, остался номенклатурщиком, хотя и перестал быть отчимом, — удалось ее пристроить, чтобы она не сошла с ума от боли, она сказала, что мои муки — адские, потому что жизнь кончилась, когда погиб твой отец… А отец погиб в семидесятом.
— Н-да… — протянул начальник кладбища. — А свидетели есть?
— Свидетели чего? — не поняла Светка.
— Что она так сказала, — пояснил начальник.
Светка задумалась.
— Сын… — и, прикинув, добавила: — Ему было тогда два года было…
— Два года не считается, — твердо сказал начальник кладбища и отодвинул Светкины бумаги.
Светка и Вовка подошли к машине.
— Вовк… — Светка копнула носком туфли гравий. — А ты не мог бы… свозить меня в еще одно место?..
— Нет проблем, — Вовка открыл дверцу, пропуская Светку.
— Я тут вспомнила, — затараторила та, пристегивая ремень, — когда мы с Петровым венчались, там сбоку от храма была вывеска не то «Бюро похоронных процессий», не то «Нимфа». Я еще тогда подумала, что это плохая примета. — Светка посмотрела на Вовку. — Это недалеко…
— Так вы с Петровым венчались? — включил зажигание Вовка.
— Ну да, — Светка достала сигарету. — А потом развелись…
— Что развелись, я знаю, — Вовка крутанул руль. — А что венчались — впервые слышу.
Светка посмотрела в окно на уплывающее кладбище.
— Мне что обидно — что мать после развода не поменяла фамилию обратно, — она стряхнула пепел в пачку. — А я хочу, чтобы отец не знал…
Вовка вопросительно посмотрел на Светку.
— …что она второй раз замуж выходила, — пояснила Светка и сердито затянулась. — Зачем она вообще ее меняла!.. — и, помолчав, добавила с усмешкой: — Впрочем… я же поменяла…
— Так ты что — Петрова? — изумился Вовка.
— Была, — Светка опять посмотрела в окно. — Три года… Малодушие, конечно, с моей стороны… — Она повернулась к Вовке. — Но, знаешь, как тяжело быть Кочмарчик в России! Ты же помнишь, как учителя вечно перевирали мою фамилию! И преподаватели в институте. И приемщицы в прачечной… — Светка махнула рукой. — А тут — Петрова. Простая фамилия.
— Главное, русская, — заметил Вовка и вдруг спросил: — Может, ты за меня потому и замуж не вышла, что менять Кочмарчик на Вовк — как шило на мыло?
— Да нет! — усмехнулась Светка. — Просто для меня два года — это слишком много, — и добавила: — Наташа вон даже год не выдержала…
— Какая Наташа? — не понял Вовка.
— Ростова, — засмеялась Светка и откинулась на сиденье. — А помнишь, Пашка Безукладников написал про меня на доске:
Пока Светка — детка — это лишь кошмарчик, а как станет бабой — вообще кошмар, —и захохотала:
— Ты ему еще тогда морду набил, и тебя в комитет комсомола вызывали…
— Морду набил, — согласился Вовка, — а в комитет комсомола вызвали не за это.
— А за что?
— Здесь, что ли? — кивнул Вовка на появившиеся за окном купола.
— Но самое смешное, — сказала Светка, открывая дверь с надписью «Последний приют», — что он оказался совершенно прав…
В комнате, куда они вошли, по периметру были расставлены образцы памятников и плит, а в центре за столом с компьютером сидела средних лет женщина в очках и платке.
— Мы бы хотели заказать плиту, — без предисловий сказала Светка и, подумав, добавила: — Матушка.
Матушка обвела рукой комнату:
— Выбирайте!..
Светка не спеша обошла комнату и вернулась к столу.
— Вот такую! — показала она на плиту с двумя портретами.
— Двойной, — застучала по клавиатуре матушка. — Имена и фамилии?
— Кочмарчик Александр Петрович и Кочмарчик Мария Николаевна, — четко произнесла Светка.
— Даты рождения и смерти?
Светка опустила глаза.
— Тысяча девятьсот тридцать седьмой и тысяча девятьсот семидесятый…
— У обоих? — уточнила матушка.
Светка кивнула.
— Пожелания по оформлению, — деловито осведомилась матушка. — Цветы, рамка, крест…
— Крест! — обрадовалась Светка.
— Крест, — повторила матушка и автоматически спросила: — Покойники крещеные? Православные?
Светка посмотрела на Вовку.
— Вообще-то отец был коммунистом, — начала она, — но его двоюродная сестра, — Светка облизала пересохшие губы, — когда утопился его старший брат, сказала мне на похоронах, что их в детстве вроде бы крестили…
— Вроде бы! — проворчала матушка. — А мать?
— Мать крещеная, — радостно выпалила Светка, — в протестантской церкви… — и, поняв, что дала маху, понуро добавила: — В баптистской.
Матушка отстранилась от компьютера.
— Как все запущено! Тут тебе и коммунисты, и баптисты, и… — она выдержала паузу, — самоубийцы…
— Это жизнь, — возразила Светка.
— Земная, — уточнила матушка. — В ней у нас, известно, бардак. Но в вечности, — она подняла кверху палец, — должен быть полный порядок!
Светка побледнела.
— По-вашему, в вечности они не будут вместе?
Матушка пожала плечами, что, может, коммунисты и баптисты как раз и будут, а вот самоубийцы…
— Господи! — Светка умоляюще посмотрела на матушку. — А они так любили друг друга. — Она перевела глаза на Вовку. — В смысле отец и его брат. И дядя Борис, который был всего на два года старше отца, даже всегда ходил к директору, когда вызывали родителей, потому что их отец погиб в финскую, а мать вечно где-то подрабатывала, потому что отец бил футбольным мячом окна и вообще не учился, это уж потом, в институте, он был гордостью курса, так как искренне верил, что коммунизм — это советская власть плюс газификация всей страны, а дядя Борис вообще по жизни был отличником… — Светка снова посмотрела на матушку.
Но та развела руками, что, конечно, все это очень трогательно, но выбивать православный крест над ними я позволить не могу.
И Светка сжала кулаки, а Вовка быстро схватил ее за локоть и вытолкал за дверь.
В машине Светка разревелась, а Вовка, сказав в мобильник, что меня сегодня не будет, достал карту и спросил:
— Так где, ты говоришь, твое кладбище?
— Около… деревни… Клушино, — всхлипнула Светка. — Это по Калужскому шоссе… Но…
— За пять лет, — перебил Вовка, — что ты там не была, а в России не осталось ни одного неприватизированного туалета, там могла появиться мастерская величиной с Газпром…
— Или наоборот, — закончила Светка и, развернув к себе зеркало заднего вида, стала вытирать платком потекшую тушь.
— Я вот что в толк не возьму… — Вовка подождал, когда она закончит, и вернул зеркало на прежнее место. — Как, имея папу-коммуниста и маму-баптистку, ты умудрилась венчаться в православной церкви?
Светка присвистнула:
— Знаешь какой был скандал в благородном семействе!
Вовка искоса взглянул на Светку, а она пояснила, что меня же растила одна мама, потому что отец погиб, когда мне было пять лет, а отчим не в счет, потому что два года не считается, это любой дурак знает, так что я в восемнадцать лет крестилась в баптистской церкви: у протестантов ведь крестят с совершеннолетнего возраста, чтоб сознательно… — Светка убрала платок в сумку. — А я оказалась несознательной и, когда в девятнадцать выходила за Петрова, перекрестилась в православие, чтобы мы могли обвенчаться…
— А он что, шибко православный? — спросил Вовка.
— Да нет… — пожала плечами Светка. — Как большинство русских. Просто крестили в детстве…
— Так это была твоя идея? — уточнил Вовка.
— Венчаться?
Вовка кивнул.
— Ну да. Я хотела, чтобы муж и жена были венчаные, ребенок крещеный, все православные…
— Просто ты хотела, — перебил Вовка, — чтобы порядок был уже здесь, на земле, а не на небе, как обещала нам сегодняшняя матушка, — и усмехнулся. — А то Петрова — и вдруг баптистка.
— Может, и так, — тряхнула головой Светка. — Только из этого ничего не вышло, потому что хотя мы с матерью потом и помирились, но ходили в разные церкви…
Вовка хмыкнул.
— Ну не перекрещиваться же мне было в третий раз, — возмутилась Светка и, отвернувшись к окну, добавила: — Но свою фамилию я вернула и больше ее не меняла, хотя, как ты, наверное, знаешь, была замужем еще два раза…
— Странно, что у тебя только один ребенок! — заметил Вовка.
— Всех детей не родишь! — сказала Светка, глядя в окно, и съехидничала, что зато у тебя трое.
— Я противник абортов, — поморщился Вовка. — Как ни крути, а это убийство…
— Убийство! — процедила Светка. — Ты прям как наш батюшка — он каждую проповедь кончает словами, что женщинам просто не хватает воображения понять, что оплодотворенная клетка и живой ребенок — это одно и то же.
— А ты считаешь, не одно?
Светка развернулась.
— Помнится, в школе ты любил Достоевского?
Вовка кивнул:
— Было дело.
— Сочинение писал «Мой любимый герой». Наша Клава тогда возмущалась, почему Раскольников, а не Павка Корчагин или на худой конец Базаров.
Вовка улыбнулся.
— Ну а коль скоро с воображением у тебя все в порядке, представь, — продолжала Светка, — что после убийства старухи-процентщицы в квартиру — неожиданно для Раскольникова — возвращается не беременная, как на это намекает Достоевский, Лизавета, а Лизавета с ребенком. Лет пяти. Который все понимает и может опознать тебя на следствии…
— Ну? — напрягся Вовка.
— …и твой Раскольников — в целях самосохранения — грохает топором и его. Светка сузила глаза. — Повторяю, не оплодотворенную клетку внутри Лизаветы, а живого ребенка. — Она выдержала паузу. — Простил бы ты ему убитого ребенка?
Вовка вытащил из бардачка пачку сигарет.
— Я думала, ты не куришь… — подняла брови Светка.
— Не курю… — закурил Вовка и, приоткрыв окно, выпустил дым. — А говорила, не любишь детей.
— Мало ли что я говорю! — дернула плечами Светка. — Я, может, думаю, что аборт — это еще хуже, чем убийство, — это само-убийство.
Несколько минут ехали молча.
— А чего дядька-то твой утопился?
— Дай сигаретку, — попросила Светка, — мои кончились.
— Много куришь, — заметил Вовка, протягивая пачку.
— Я еще и пью, — усмехнулась Светка. — Так что, ей-богу, зря ты тогда Пашке Безукладникову морду набил… А дядя… — Светка вытащила сигарету, — был директором института геологии в Чернигове. Они с отцом так и договорились: один газ ищет, а другой строит для него газопроводы, чтобы мы с тобой, — Светка закурила, — жили при коммунизме…
— Так он из-за коммунизма утопился? — не понял Вовка.
— Его уволили, — Светка затянулась. — Когда Украина стала самостийной и на все руководящие должности поставили хохлов.
— Погоди… — наморщил лоб Вовка, — а он разве был не Кочмарчик?
— В том-то и дело. Ему, когда выдавали паспорт, вместо «Кочмарчик» написали «Кочмаров», а он смолчал, думаю даже обрадовался, — Светка поджала губы. — Тогда все хотели быть русскими, — она стряхнула пепел. — А теперь доказывай, что ты не москаль…
— Так он утопился, потому что его уволили? — допытывался Вовка.
Светка выбросила окурок в окно.
— Почему утопилась Катерина? — и сама себе ответила: — Не потому, что Борис уехал, а потому, что все остальные остались. — Она помолчала. — Вот и дядя Борис: не потому, что коммунизм не построили, а потому, что смысла не стало… — и совсем тихо добавила: — Я иногда думаю: может, даже хорошо, что они не видят всей этой свистопляски вокруг газа.
— Между прочим, — сказал Вовка, — когда в школе мою хохляцкую фамилию Вовк переделали на русское имя Вовка, я тоже не протестовал, — и друг спросил: — Ты, кстати, не забыла, как меня зовут на самом деле?
Светка улыбнулась.
— Я ведь все-таки литератор, Роман…
Возле указателя «Клушино» они свернули на асфальтовую дорогу.
— Ого! — удивилась Светка. — Раньше одни колдобины были.
— То ли еще будет, — свистнул Вовка.
И действительно — за поворотом показался коттеджный поселок.
Светка вжалась в сиденье, а Вовка усмехнулся:
— Вот тебе и глухомань!
Они подъехали к кладбищу.
— А ты был прав, — кивнула Светка на небольшое дощатое сооружение, возле которого стояли плиты и лежали венки, — хотя и переоценил масштабы…
Вовка закрыл машину, и они вошли в дверь, на которой было написано: «Прием заказов».
На железной кровати у стенки храпел мужик.
— Небось здешний начальник, — поморщился Вовка. — Пойдем на территорию.
Они долго пробирались рядами тесно стоящих оград, тыкаясь то в одну, то в другую, потому что Светка никак не могла вспомнить, где находится могила ее родителей.
Наконец она увидела четыре высокие рябины, росшие за оградой — по одной возле каждой из ее сторон — и образовавшие над могилой что-то вроде шатра.
— Какие стали! — остановилась Светка. — А были совсем прутики…
Они вошли в ограду. Могила заросла высокой — по пояс — травой. Светка достала из сумки тряпку и бутылку с водой и протерла фотографии: одну керамическую, а вторую — выбитую прямо на плите, а потом, изредка вытирая глаза тыльной стороной ладони, стала полоть траву.
А Вовка, выйдя из ограды, крикнул:
— Есть кто живой?
Слева что-то зашуршало и появился мужик с лопатой.
— Здорово, командир! — кивнул Вовка.
— Командир — там, — мужик мотнул головой в сторону дощатого домика, — но если что по делу — ну там оградку покрасить или сорняки протравить — это ко мне. — И представился: — Дядя Саша.
— Дядя Саша, — как всегда без предисловий сказала, подходя, Светка, — а можно установить новую плиту?
Дядя Саша оперся на лопату.
— Чего ж нет? — он подошел к ограде, откуда только что вышла Светка. — А чем вам старая не нравится? Работа, по всему видать, советская…
— …значит, отличная? — перебила Светка. — Знаем, проходили. Но меня не устраивает… как бы вам получше объяснить… стиль.
Дядя Саша сощурился, разглядывая плиту.
— А чего тут объяснять? Стиль — великая вещь… — Он перевел глаза на Светку и подмигнул. — Белка-то вам будет — как насчет свистка? В смысле: не хотите ли эпитафию?
— Эпитафию? — переспросила Светка.
— Ну да, — оживился дядя Саша. — Вот, к примеру: «Покойся, милый прах, до радостного утра».
— Карамзин, — автоматически сказала Светка и покачала головой.
— Согласен, — кивнул дядя Саша, — сам не люблю сентиментализм.
Светка с Вовкой переглянулись.
— А такую, — на лице дяди Саши изобразилась грусть, — «Вы, березки, не шумите, милых сердцу не будите».
Светка сморщила лоб:
— Это где-то у Бунина… В «Деревне», кажется, — и в упор посмотрела на дядю Сашу, — только там «мово Ваню». Точно: «мово Ваню не будите».
Дядя Саша крякнул:
— Я вижу, мы коллеги…
— Ну… — улыбнулась Светка, — я-то простая учительница, а вот он, — Светка толкнула локтем Вовку, — редактор журнала.
— Толстого? — почему-то заволновался дядя Саша.
— Глянцевого, — поправил Вовка.
— Это совсем другое дело! — обрадовался дядя Саша. — А то редакторов этих толстых журналов я терпеть ненавижу!
— Чего так? — усмехнулся Вовка.
— Да один мне тетрадку стихов — здоровую такую, за 48 копеек — всю исчеркал…
— Так вы поэт? — улыбнулась Светка.
— Типа того, — скромно ответил дядя Саша. — Я ж не только переделываю — у меня и свое есть.
— Например? — заинтересовался Вовка.
Дядя Саша прокашлялся:
— «Есть и дети, и жена, а любила мать одна». Или «Доченька, пройдут года, а ты все будешь молода».
Дядя Саша покосился на внимательно слушавших Светку с Вовкой и продолжал: «Распроклятая Чечня всё отняла у меня». А вот из нового: «Слишком этот свет жесток, отдыхай на том, браток».
Дядя Саша остановился.
— Ну как?
— А вы не хотите книжку издать? — то ли шутя, то ли серьезно спросил Вовка. — Есть же книжка «Тосты»…
— Оно мне надо! — презрительно сплюнул дядя Саша и, обведя рукой кладбище, изрек: — Вырубленное топором не зачеркнешь пером.
Светка от удивления широко раскрыла глаза.
— Так это всё… вы написали?
— Почти, — ответил дядя Саша и объяснил, что, во-первых, как вы успели заметить, здесь есть и классика, а во-вторых, не все же хотят эпитафии…
— Насчет эпитафии мы подумаем, — пообещала Светка, — а вот остальное… — и она выложила дяде Саше свои проблемы.
— Как говорил герой Шукшина, эх вы, интеллигенция! — дядя Саша воткнул лопату в землю и сел на скамейку у столика возле ограды. — Садитесь, — пригласил он и Светку с Вовкой, — в ногах правды нет.
Вовка и Светка сели.
— Тут надо аллегорически, — дядя Саша сделал замысловатый жест рукой.
— То есть? — уставилась на него Светка.
— С подтекстом, — дядя Саша похлопал себя по карманам и вытащил блокнот.
— Это, надо думать, ваши родители? — посмотрел он на Светку.
Светка кивнула.
— Правильно я понял вашу идею: вы хотите, чтобы они, любившие друг друга, всегда были вместе и причем не где попало, а в Царствии Небесном?
Светка опять кивнула:
— Именно!
— Тогда так… — дядя Саша открыл блокнот, вытащил из-за уха карандаш и, на минуту задумавшись (при этом губы его шевелились), написал на чистой странице:
Саша + Маша = любовьСветка посмотрела на надпись и ошарашенно пролепетала:
— А разве… так можно?
— А почему нет? Кто платит, тот и заказывает текст, — рассудительно ответил дядя Саша.
— А где… крест? В смысле Царствие Небесное? — робко спросила Светка.
— А это что? — дядя Саша ткнул пальцем в знак «+».
— Ну, ты, блин, даешь! — не выдержал Вовка.
— Только вот насчет «платит»… — дядя Саша почесал за ухом. — У нас тариф 100 рублей знак. А у вас текст уж больно короткий… — Он многозначительно посмотрел на Вовку. — Невыгодно.
— Обижаешь, — развел руками Вовка, — мы ж все-таки филологи: понимаем, что подтекст дорогого стоит.
Дядя Саша захлопнул блокнот.
— Тогда лады!
Они с Вовкой ударили по рукам, а Светка вытащила из сумки фляжку и набор из трех крошечных стопок.
— За успех нашего безнадежного дела?
— Я за рулем, — виновато ответил Вовка.
— А я на работе, — вздохнул дядя Саша.
— Вот так и спиваются русские женщины, — Светка кивнула на фляжку, — между прочим, «Наполеон», — она открутила пробку. — Дети подарили. На День учителя.
— Хорошая у вас работа, — сглотнул дядя Саша. — Благородная…
Светка наполнила свою стопку.
— А!.. Где наша не пропадала, — резанул рукой воздух дядя Саша. — По пятьдесят капель — и в бега.
— То-то, — усмехнулась Светка и наполнила вторую стопку.
— Ну если по пятьдесят капель… — промямлил Вовка.
Светка наполнила третью.
Дядя Саша встал:
— Ну, как говорится, Царствие Небесное!..
Выпили.
— Хороший коньяк, — отметил дядя Саша, садясь. — А еще ругают современную молодежь…
А Вовка, кивнув на коттеджный поселок, спросил:
— Наезжают?
— Не сыпьте соль на рану, — дядя Саша повертел в руках стопку. — Клушинские говорят, что скоро нас вообще с землей сровняют, потому-де, что кладбище недействующее… — и рукой со стопкой он показал на край кладбища, где — через овраг — начинались коттеджи. — Место кончилось…
— Конец света… — выдохнула Светка и, ни к кому не обращаясь, сказала: — А разве может быть… «недействующее кладбище»?
Наступила тишина, только слышно было, как в коттеджном поселке работает экскаватор.
— Если может быть город на костях, — нарушил молчание Вовка, — то почему бы не быть поселку?
А дядя Саша бросился успокаивать Светку, что даже если могилы закатают, наш скорбный труд не пропадет, потому что тогда… — дядя Саша вскочил, — я поставлю надгробные плиты впритык, как книги на полке… — глаза его заблестели. — Ведь в конце концов, есть только текст между прошлым и будущим…
— По-моему, это тост, — заметила Светка и налила по второй.
— Саш-ка! — раздалось со стороны дощатого сооружения.
— Труба зовет! — дядя Саша вскочил, быстро опрокинул стопку и кашлянул, что хорошо бы авансик…
И Светка стала лихорадочно рыться в сумке, но Вовка вынул из кармана стодолларовую бумажку и протянул дядя Саше. И тот замялся, что зачем аж долларами-то, но Вовка возразил, что твоему тезке вообще платили золотом за строку.
И дядя Саша положил бумажку в карман и гордо зашагал к выходу.
Светка встряхнула фляжку.
— На посошок?
Вовка кивнул и, взяв наполненную стопку, сказал, что а ведь ты так и не знаешь, за что меня тогда в комитет комсомола вызывали…
И Светка опустила стопку и подняла на Вовку глаза.
Вовка спросил:
— Помнишь, мы писали сочинение «Мой любимый школьный предмет»? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — А на следующий день Клава, которая к тому же была школьным парторгом, взяла мою тетрадь и повела меня в кабинет химии, к нашей классной, и сказала, что вы только послушайте, что ваш ученик написал вместо сочинения… — и сам себя перебил: — Как в том анекдоте: «Правда ли, что можно предохраняться чаем? — Правда. — А до или после? — Вместо».
— Извини, — запротестовала Светка и по инерции подняла стопку, — но когда твои родители уехали в командировку, это просто чудо, что я не залетела…
А Вовка, как будто не слыша, продолжал:
— …и прочитала вслух:
В целой нашей школе, в целом комсомоле лучше нет предмета, чем Кочмарчик Света, —а Пашка Безукладников, который, оказывается, был в лаборантской, настучал на меня в комитет комсомола. Так что не зря я ему морду набил… — Вовка чокнулся со Светкой и выпил. — Хоть и не за это.
Бахчисарайский фонтан
1
— О! — удивленно вскрикнула Нина Ильинична, открыв дверь в коридор, куда выходили двери четырех квартир — ее и трех соседских, — и увидев появившийся здесь книжный шкаф.
Она подошла поближе: Пушкин, Лермонтов, Гоголь…
— Погибла Россия! — вздохнула Нина Ильинична, учительница литературы на пенсии, и добавила: — Шкафик мой родной…
Хотя, разумеется, это был вовсе не ее шкаф, а, как она догадалась, Наташи и Влада, ее молодых соседей из квартиры напротив, о которых она знала, что Влад — президент, а Наташа — домохозяйка.
Нина Ильинична позвонила в дверь напротив.
Открыла Наташа.
— Здравствуйте, — сказала Нина Ильинична, с вымученной улыбкой. — Что ж это вы книги… выставили?
И Наташа резко ответила, что на их месте будет камин, а что?
— А как же Свят? — напомнила Нина Ильинична.
(Свят был шестилетний сын Наташи и Влада).
— У него есть интернет, — отрезала Наташа и, кивнув на шкаф, спросила: — А вам что, мешает?
— Мешает… — с горечью начала было Нина Ильинична, но Наташа перебила, что, во-первых, его через пару дней вынесут на помойку, а во-вторых, еще неизвестно, кто здесь кому мешает, — и захлопнула дверь.
И Нина Ильинична побрела за хлебом, а когда вернулась, в коридоре стояло уже два книжных шкафа: второй возле двери квартиры, которую снимала женщина без имени.
Нина Ильинична подошла к шкафу: Тургенев, Гончаров, Некрасов…
Она позвонила.
— Шо случилось? — спросила открывшая дверь женщина.
Нина Ильинична кивнула на шкаф:
— А зачем вы книжки выбросили?
И женщина уперла руки в боки, что богатеям, значит, можно все, а нам, бедным людям, ничего?..
— А хозяйка разрешила? — перебила Нина Ильинична.
— Хозяйка сказала, что лично ей они не нужны, — ответила женщина и усмехнулась, что если России не нужны ее писатели, то нам и подавно.
— Кому это «нам»? — уточнила Нина Ильинична.
— Украине, — ответила женщина и добавила: — Потому что товар ставить некуда.
— Бедная Украина… — прошептала Нина Ильинична и медленно пошла в свою квартиру.
Она два дня не выходила из дома, а когда на третий вышла в коридор, то увидела третий книжный шкаф.
Нина Ильинична даже не подошла посмотреть, что в нем.
Но дверь возле шкафа открылась, и на пороге появилась хозяйка квартиры Таня, которая когда-то училась в классе Нины Ильиничны.
— И ты, Танюша… — выдохнула Нина Ильинична. — Такая хорошая была девочка…
Но Таня опустила глаза, что не такая уж и хорошая, потому что после одиннадцатого класса я сделала аборт, и меня это все время мучило, и я решила, что добьюсь высокого материального положения и возьму и детдома мальчика.
— А нельзя его просто… родить? — спросила Нина Ильинична.
И Таня, помотав головой, сказала, что это было бы слишком просто, ну… как если бы Татьяна вышла замуж не за генерала, а за Онегина.
И Нина Ильинична согласилась, что у тебя по литературе всегда пятерки были.
А Таня продолжала, что и вот я наконец получила хорошую работу, правда, не настолько, чтобы купить новую квартиру, но во всяком случае я уже подала заявление в детдом и теперь собираю документы.
И Нина Ильинична пожала плечами, что, наверное, все это хорошо, но…
А Таня перебила, что вы же сами говорили, что гармония, — она кивнула на шкаф с книгами, — не стоит слезинки ребенка… А я туда кроватку поставлю.
И Нина Ильинична ничего не ответила и пошаркала к выходу.
А Таня прислонилась головой к шкафу и заплакала.
2
А Нина Ильинична спустилась во двор и прошла к соседнему дому, в первом этаже которого был мебельный магазин.
Из магазина двое грузчиков, пожилой и молодой, выносили диван. А когда они погрузили его на машину, Нина Ильинична подошла к пожилому и спросила:
— Не поможете мне перенести три шкафчика из общего коридора в квартиру? — и быстро добавила: — Тут недалеко.
Грузчик сплюнул.
— Сколько?
— Как скажете… — обрадовалась Нина Ильинична.
Грузчик посмотрел на своего молодого напарника: «Сходим что ли?» — и тот зевнул, что лишних денег не бывает.
Но когда, зайдя в коридор, Нина Ильинична кивнула на шкафы, грузчики, не сговариваясь, присвистнули.
— И куда столько писали! — ужаснулся молодой, а пожилой буркнул, что книги — это ж хуже кирпичей…
И Нина Ильинична засуетилась, что вы не волнуйтесь, я сейчас всё освобожу. И грузчики сели на вынесенные Ниной Ильиничной стулья и закурили, а она начала вытаскивать книги, а чтобы грузчики не скучали, стала читать «Евгения Онегина».
А когда грузчики, внеся пустые шкафы и получив деньги, шли обратно в магазин, молодой усмехнулся, что во бабка дает и интересно, чем там у них кончилось, и пожилой закурил и ответил, что Татьяна вышла замуж за другого.
3
Нина Ильинична перетирала книги, раскрывая и перечитывая любимые места, потом ставила на полки и так увлеклась, что вздрогнула, когда в дверь позвонили.
— Кто там?
— Свои, — ответили из-за двери.
Нина Ильинична открыла: на пороге стояли Наташа и Влад.
«За книгами!» — мелькнуло у Нины Ильиничны, но Влад кашлянул и изрек:
— Расширяемся мы…
— В каком смысле? — не поняла Нина Ильинична.
— В прямом: скупаем все квартиры на нашей лестничной площадке и делаем из нее одну.
Нина Ильинична растерялась.
— А как же мы?
— Очень просто, — встряла Наташа. — Хохлушка не в счет, Татьяне мы покупаем квартиру в Бутово… — Наташа выдержала паузу. — Остаетесь вы…
Нина Ильинична глубоко вздохнула:
— А меня вы тоже приговорили… к Бутово?
— Вас — к Митино, — уточнила Наташа и пожала плечами. — Там, между прочим, тоже люди живут…
— Да, конечно… — встрепенулась Нина Ильинична и, помолчав, спросила: — А если я не захочу переезжать… в Митино?
Влад посмотрел на жену.
— А почему? — слащаво спросила Наташа.
— Это трудно объяснить… — замялась Нина Ильинична.
— А вы попробуйте, — настаивала Наташа.
— Ну… я привыкла к березе со скворечником за моим окном… — начала Нина Ильинична.
— К скворечнику она привыкла! — хохотнула Наташа.
А Влад возмутился:
— Вы что, нас за дураков держите?
И Нина Ильинична затрясла головой, что и не думала, просто она планировала дожить остаток дней в доме, с которым у нее так много связано…
— Придется изменить планы, — оборвала Наташа.
Влад кивнул.
— А если… я не дам своего согласия на переезд? — тихо спросила Нина Ильинична.
— Мы вас зарэжэм, — заржал Влад. — Шутка. — И серьезно добавил, что тогда в вашей квартире может произойти, например, взрыв бытового газа…
— Или пожар, — подсказала Наташа и успокоила, что вас в это время скорее всего не будет дома, но вот… — она огляделась по сторонам, — книги…
— Я согласна, — быстро сказала Нина Ильинична.
— Вот и чудненько! — потер руки Влад. — А в качестве бонуса мы вам поможем перевезти все ваши книжки.
— И скворечник, — усмехнулась Наташа.
— А березу? — сурово спросила Нина Ильинична.
Наташа и Влад переглянулись.
4
Нина Ильинична поставила на стол чашки и вазочку с вареньем, и тут в дверь позвонили.
— Это ты, Танюша? — спросила Нина Ильинична, подходя к двери.
— Я, — ответили из-за двери.
И Нина Ильинична открыла и обняла свою бывшую ученицу.
А Таня протянула Нине Ильиничне торт и, снимая пальто, спросила:
— Ну как вы тут?
Нина Ильинична обвела рукой стеллажи с книгами.
— Представь себе, все поместилось… — она улыбнулась. — А ведь я была уверена, что ко мне больше не влезет ни одна книжка. Я так и говорила друзьям: «Кто ко мне с книгой придет, тот от книги умрет».
— И поэтому взяли еще три шкафа? — усмехнулась Таня.
— А что мне оставалось делать?
— Действительно… — Таня огляделась по сторонам. — Но ведь эта квартира, кажется, больше?
— На три шкафа, — засмеялась Нина Ильинична.
— Бог не фраер, — заметила Таня.
Они прошли на кухню, и Нина Ильинична заварила чай.
— А как твои дела?
Таня махнула рукой.
— Да все как-то не везет: то слишком взрослый ребенок поступит, то брат с сестрой, то девочка…
— А почему бы тебе не взять девочку? — поинтересовалась Нина Ильинична.
Таня поставила на стол чашку.
— Так у меня же «мальчики кровавые в глазах»… Сами учили…
— В каком смысле? — не поняла Нина Ильинична.
— В таком, что врач сказал, что это был мальчик.
Таня вытащила из сумочки сигарету.
— Можно?
Нина Ильинична кивнула и, помешивая ложечкой чай, заметила, что никогда не настаивала на таком прочтении и что литература…
— Кстати! — Таня энергично стряхнула пепел в блюдце. — Представляете: схватилась, а в доме ни одной детской книжки: все выперла, освобождая место для кроватки.
— Это очень по-русски, — усмехнулась Нина Ильинична и добавила, что искупая свой грех, не выплесни вместе с водой ребенка.
Таня погасила окурок.
— Так дадите?
— Книжки-то? О чем разговор, — Нина Ильинична встала. — Я их для того тогда и брала…
И она направились в комнату, но тут зазвонил телефон.
Нина Ильинична взяла трубку.
— Алло!
Она долго слушала, а потом вставила, что Таня сейчас как раз у меня и я обязательно передам.
— Кто-нибудь из наших? — спросила Таня, имея в виду своих одноклассников.
Но Нина Ильинична положила трубку и сказала, что это Наташа и они с Владом приглашают нас на новоселье.
5
А когда Нина Ильинична и Таня вошли в огромную квартиру Влада и Наташи, то увидели хохлушку.
Бывшие соседки обнялись, и Влад начал экскурсию по квартире.
— Это камин, это гардеробная, это зимний сад… — он подошел к закрытой двери и торжественно произнес:
— А это…
Все столпились у закрытой двери, и у Нины Ильиничны заколотилось сердце: раньше здесь была ее квартира.
Влад широким жестом распахнул дверь.
— Фонтан, — выдавила хохлушка.
— Бахчисарайский, — усмехнулась Таня.
А у Нины Ильиничны непроизвольно хлынули слезы: здесь играл ее ребенок, сюда приходили ее ученики, здесь стоял стол с телом ее мужа…
А Наташа, не замечая реакции, кивнула Владу — он подкрутил какой-то кран, и фонтан ударил до самого потолка, потолок при этом выгнулся, свет погас, вспыхнуло множество разноцветных лампочек, заиграла музыка.
— У нас такой у Кыеви… — вздохнула хохлушка. — Я раз дитэй туда возыла из нашей Макеевки… — по ее щекам медленно потекли слезы. — А теперь они одни, то есть с отцом… алкоголиком… — И она быстро посмотрела на Нину Ильиничну и, как бы оправдываясь, объяснила, что не всегда же он был таким, а как шахту закрыли и в НАТО поступать надумали… — Она вытерла слезы. — Вот я и рванула в Москву на заработки…
И Нина Ильинична понимающе кивнула, мол, взрослые вечно заварят кашу, а детям есть нечего, и машинально спросила:
— А сколько их у вас?
— Двое, — залилась слезами хохлушка. — Девочка и… девочка.
И Нина Ильинична выразительно посмотрела на Таню и заметила, что литературу нельзя понимать буквально.
И Таня дрогнувшим голосом предложила хохлушке: «А привозите их ко мне, у меня как раз кровать свободная…»
И хохлушка всплеснула руками, что я даже не знаю, как вас зовут…
А Нина Ильинична подсказала, что ее зовут Татьяна, и три женщины — все в слезах — бросились обнимать друг друга.
— Не понял, — пробурчал Влад. — Был один фонтан, а стало четыре.
А Наташа надула губы:
— Вам что, не нравится?
И Нина Ильинична, взяв себя в руки, ответила, что просто:
Дыханье роз, фонтанов шум Влекли к невольному забвению, Невольно предавался ум Неизъяснимому волненью…— Спишите слова, — расчувствовавшись, попросил Влад.
И тут в комнату на велосипеде въехал Свят.
И Нина Ильинична сказала, что зачем же, я лучше книжку подарю и, обратившись к Святу, спросила:
— Ты читать умеешь?
И Свят кивнул и порулил дальше на своем велосипеде.
Музей Грина
— Ма-ма мыла… — пыхтел над книжкой белобрысый малыш, и, посмотрев на него и на склонившуюся над ним мать, Ася подумала, что как будто вчера точно так же на пляже учила читать Сережу, а ведь это было в прошлом веке. И не в Коктебеле, а в Феодосии.
— А почему преступников всегда тянет на место преступления? — спросил лежавший рядом Сережа.
И Ася вздрогнула и кивнула на его книгу:
— Что читаешь?
Сережа показал обложку.
— А не поздно? — усмехнулась Ася.
— Лучше поздно, чем никогда, — Сережа закрыл книжку. — В школе влом было… — Он помолчал. — Ты не ответила.
— Не знаю… — пожала плечами Ася.
— А еще писатель! — процедил Сережа.
— …наверное, потому, — сказала Ася, — что они испытали там чувство, больше нигде не испытанное, — и продекламировала:
…всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья.— Ты написала? — повернулся Сережа.
Ася вздохнула.
— Тогда Пушкин, — поправился Сережа.
— А между прочим, — как бы сама с собой продолжала Ася, — человека тянет не только на место преступления, но и туда, где он был… смертельно счастлив…
— Этот как? — Сережа перевернулся на живот.
Ася посмотрела на маячивший на горизонте парусник:
— Счастье ведь тоже «гибелью грозит». Не обязательно тем, кто счастлив. А самому себе. Грозит своим исчезновением. — Ася оглядела сына. — Но, как говорится в той рекламе, это тебе еще рано.
— В самый раз, — парировал Сережа.
А Ася сощурилась и вдруг предложила:
— Поехали в Феодосию?
— Сейчас? — не понял Сережа и напомнил: — Нам последние сутки остались.
— Вот на последние и поехали. Там галерея Айвазовского, музей Грина… — Ася запнулась.
— Я в твоем Грине раз пять был, — хмуро заметил Сережа, — с бабушкой…
— Очень может быть, — кивнула Ася.
Помолчали.
— А где мы там будем ночевать? — поинтересовался Сережа.
— В одном месте, — ответила Ася и, подумав, добавила: — Или в другом.
— Как хочешь, — пожал плечами Сережа.
…Машина остановилась у музея Грина.
— Я посижу в кафе, а ты сходишь по одному адресу? — спросила Ася сына, вытаскивавшего из багажника чемодан.
— Далеко? — проворчал Сережа.
— Рядом.
Ася расплатилась с шофером и, глянув на стену музея, стилизованную под корабль, где то и дело пристраивался кто-нибудь из отдыхающих, заметила:
— И не надоест им фотографироваться…
Ася и Сережа сели за столик.
— Однажды, тебе тогда лет пять было, — Ася закурила, — мы приехали в Никитский ботанический сад, и я вдруг обнаружила, что забыла фотоаппарат. Я, конечно, разревелась: я же была такая ответственная мама, каждый твой шаг запечатлевала, а тут — ботанический сад! Ну, реву я, значит, — Ася стряхнула пепел, — а ты вдруг говоришь: «Не плачь, мама, мы унесем его в своем сердце…»
— Так и сказал? — рассмеялся Сережа.
Ася кивнула.
— И у меня с тех пор как отрубило: никогда не беру с собой фотоаппарат.
— Уносишь всё в своем сердце? — подначил Сережа.
— Типа того… Кстати, — Ася кивнула на улицу, расположенную по соседству с музеем Грина, — двадцать лет назад на этой улице…
— Ты была смертельно счастлива? — перебил Сережа.
Ася опустил глаза.
— И когда ты сегодня спросил про Раскольникова, меня почему-то так туда потянуло…
Подошел официант, и Ася заказала кофе и колу.
— А ведь мы еще раз приезжали в Феодосию, когда тебе было семь. Одиннадцать лет назад, — Ася погасила окурок. — Втроем. И я, конечно, туда не зашла.
— А почему мы не можем пойти туда вдвоем? — спросил Сережа.
— Помнишь, — Ася повертела пепельницу. — Да нет, ты, конечно, не помнишь, в «Станционном смотрителе» есть такое место, когда рассказчик приезжает в дом Самсона Вырина в третий раз. Он волнуется, воспоминая Дуню, представляет, какая она сейчас. А на его стук дверь открывает толстая баба, которая говорит, что здесь живет пивовар, а я жена Пивоварова… — Ася опять закурила.
— Так ты боишься…
— Конечно! — перебила Ася. — Если здесь сейчас другая страна, то, может, и улица называется по-другому, и живут там другие, и… — Ася посмотрела на Сережу вдруг засиявшими глазами. — Там рос такой чудный абрикос…
— А кто там должен жить? — перебил Сережа.
— Двадцать лет назад жила молодая пара — я даже имена запомнила — Коля и Ира. Сейчас им за сорок. Как мне.
Ася в упор посмотрела на сына.
— Пойдешь?
Подошел официант с кофе и колой.
— И что я им — или кому там — скажу? — Сережа налил себе колы. — Нельзя ли снять комнату на ночь?
Ася хотела что-то предложить, но Сережа продолжал:
— Никогда не забуду, как, когда у тебя был грипп, ты послала меня в аптеку за таблетками, а тетка в окошке спрашивает: «Ваша девушка не беременна?»
— И что ты ответил? — улыбнулась Ася.
— Что не знаю, — огрызнулся Сережа.
— Правильно, — кивнула Ася. — Разве можно знать что-нибудь о женщине.
— Короче, — Сережа встал. — Что мне там сказать?
— Скажи… — начала Ася, вертя чашку, но Сережа уже спустился по лестнице и направился к той самой улице.
— Господи, как же она называется? — Ася сжала голову руками.
— Вам чем-нибудь помочь? — подскочил официант.
— Да… Молодой человек, как называется эта улица? — Ася кивнула на удаляющегося Сережу.
Официант прищурился.
— Революционная.
— Точно, — прошептала Ася, а вслух сказала: — А ее что — не переименовали?
— А зачем? — удивился официант.
— Действительно, — согласилась Ася.
А официант добавил, что, наоборот, там еще недавно храм восстановили…
И Ася подумала, что это вполне по-русски, хоть здесь сейчас и Украина.
* * *
…На беленых домах были крупно выведены номера.
«Двадцать четыре», — прочел Сережа, подошел к калитке и позвонил. Никто не вышел. Он позвонил еще раз.
— Да иду, иду… — услышал он, и калитку открыли. Сережа увидел толстую женщину и подумал, что мать была права.
— Вам кого? — спросила женщина.
Из дома к калитке направлялся мужчина.
И Сережа в свою очередь спросил, что вы случайно не Коля с Ирой.
И мужчина с женщиной переглянулись, что вы от кого и комнату мы не сдаем.
И Сережа быстро, словно боясь, что калитку сейчас закроют, пролепетал, что его мать, поэтесса, снимала у них комнату двадцать лет назад…
И Ира, что-то прикинув, посмотрела на Колю, что это, наверное, те двое, он еще роман писал, и перевела глаза на Сережу:
— Так это были ваши родители?
И Сережа покраснел, что мать так хотела увидеть это место и мы только на сутки…
И Ира повернулась к мужу и сказала, что дети все равно у твоей матери, а мы можем переночевать у моей, раз для людей это такая память…
И Коля довольно засмеялся, что вот какой у нас дом, а Ира вставила: «А где же родители?»
И Сережа потупился, что отец с нами не смог, работа, а мать, она же поэт… и Ира прочла:
Здесь во дворе пасутся козы и нет житья от этих коз. Читатель ждет уж рифмы «роза», а будет рифма…— Абрикос? — подсказал Сережа.
— Токсикоз, — засмеялась Ира и добавила, что я тогда этот стишок в альбом записала, мы ведь тоже с Колей были молодоженами.
— А абрикос? — спросил Сережа. И Коля, прокашлявшись, объяснил, что дети растут, он кивнул на Иру, вот четвертого ожидаем, да и отдыхающим нужны комнаты, а он рос за домом у самого фундамента и вообще… И Сережа беспомощно посмотрел на Иру, а та затараторила, что он только спать по ночам мешал и вечно под ногами каша была — не успевали собирать, а у соседей этих абрикосов, она махнула рукой на дом через дорогу, чуть не задаром дают…
И Сережа хмуро спросил:
— Так мы придем?
И Коля с Ирой согласно закивали, а Сережа запинаясь добавил, что только вы ей не говорите…
— Про что? — не понял Коля.
— Про абрикос…
И Коля заверил, что мы хоть и не поэты, а тоже понимаем, и Сережа кивнул, что вот и договорились, и вышел за калитку.
* * *
— Ну что? — сминая окурок в пепельнице, спросила Ася.
— Всё на месте, — Сережа плюхнулся на стул и налил себе колы. — Да, — вспомнил он, — Дуня твоя беременная…
— Вот видишь! — улыбнулась Ася и добавила: — Надо же! Ведь она моя ровесница…
Сережа пристально посмотрел на мать.
— Ты была там… не с отцом?
— Это тебе Коля с Ирой сказали? — вспыхнула Ася.
— Они уверены, что вы были молодоженами.
Ася посмотрела в глаза сыну.
— Надеюсь, ты их не переубеждал?
Сережа пожал плечами.
— Зачем? — и, отпив колы, спросил: — И почему же вы не поженились, если были так «смертельно счастливы»?
— А он ушел, — просто ответила Ася.
— Почему? — снова спросил Сережа.
— Ты будешь смеяться…
Сережа серьезно посмотрел на мать.
— Он сказал, что если останется со мной, то не станет великим писателем. — Ася пощелкала зажигалкой. — Что о нем так и будут говорить: муж Аси Маренцовой…
Сережа хмыкнул.
— Как в твоей книжке, — продолжала Ася, — убил не потому, что ненавидел. И не потому, что хотел ограбить. А потому что идея… — Ася закурила. — Так и тут. Ушел не потому, что разлюбил. Или полюбил другую. А потому что идея.
— А великим писателем-то он стал? — спросил Сережа.
— А Раскольников стал Наполеоном? — выпустила дым Ася.
— Я еще не дочитал, — буркнул Сережа и вдруг спросил: — А что такое токсикоз?
Ася закашлялась.
— Заболевание, связанное с беременностью.
Сережа выдержал паузу.
— Они думают, что ты была беременна мной.
Ася налила себе колы и залпом выпила:
— Понимаешь, сын…
— Нет, — перебил Сережа.
Ася снова закурила.
— У меня был выкидыш. После того, как он ушел. Но это осенью. А тогда, летом, было смертельное счастье. И токсикоз… — Ася оживилась. — Кстати, как там абрикос?
— А почему ты спросила? — насторожился Сережа.
— Да просто в рифму, — засмеялась Ася. — Знаешь, они все время падали на крышу. — Она откинулась на стуле. — Нет, не все время, а то и дело. — Ася посмотрела сквозь сына. — Я вообще уверена, что это самое эротическое стихотворение в русской поэзии…
— Какое? — не понял Сережа.
— «Мело весь месяц в феврале, и то и дело свеча горела на столе, свеча горела…» Понимаешь, свеча не может гореть «то и дело». — Ася помолчала. — Это ничего, что я говорю тебе такие вещи?
— А кому тебе еще говорить? — заметил Сережа. — Дочери у тебя нет…
— Вот именно… — кивнула Ася.
— Да… — Сережа исподлобья взглянул на мать. — Я хотел спросить.
— Что еще? — с отчаянием спросила Ася.
— Ты с отцом счастлива?
— Счастлива, — подумав, ответила Ася.
— Но это не «смертельное счастье»? — уточнил Сережа.
— А разве в этом есть что-то обидное? — спросила в ответ Ася.
Сережа встал.
— Пошли, что ли, а то нас ждут…
* * *
— Балерина! — всплеснула руками Ира, как Тарас Бульба своего сына, поворачивая Асю.
И Коля поддакнул, что, действительно, почти не изменилась, и давайте к столу.
За столом он взял пластиковую бутылку и со словами: «Домашнее» налил Асе, себе и, повернувшись к Сереже, делано строго заметил, что хоть тебе только двадцать…
И Сережа покраснел, а Ася пробормотала, что он вообще ничего, кроме пепси, не пьет… И Коля сказал, что это вредно, и налил Сереже и Ире сок.
А потом поднял свой стакан:
— За жизнь!
— Которая практически прошла, — улыбнулась Ася.
А Коля возразил, что если и да, то ведь не зря, вот ваш сын говорит, что вы известный поэт…
— В далеком имени Россия? — усмехнулась Ася.
— Да уж! — с надрывом подхватил Коля. — А ведь когда вы приезжали в прошлый раз, мы тоже были Россией…
— Это было в прошлом веке, — заметила Ася.
Коля тряхнул головой.
— Ну а мы, хоть и не поэты, а рук… — он усмехнулся, — тоже не опускаем, — Коля кивнул на Ирин живот. — Четвертого вот заделали — и наконец-то пацан. Я так и решил, — угрюмо продолжал он, — будем рожать до упора, пока не родится сын…
— А Ира была согласна? — осведомилась Ася.
Ира опустила глаза, а Ася поинтересовалась:
— Что так?
И Коля объяснил, что домов я построил — не сосчитать, я же строитель. Он сделал глоток.
— А сын все не получался, — Коля выпил до дна. — Но теперь и этот пункт выполнен. — И закончил: — А дерево я срубил.
— Какое дерево? — не поняла Ася.
— А то, — Коля махнул в сторону окна, — которое нужно посадить.
— Не поняла, — поставила стакан Ася.
— Мы ведь тоже в школе учили, — с ожесточением сказал Коля, — «Вся Россия — наш сад»… А теперь эта Россия — отрезанный ломоть… — он налил себе стакан и махом выпил. — Знаете, какая у нас учительница была, мы и пьесу ставили…
— Вы случайно не Лопахина играли? — сузив глаза, спросила Ася.
— Не-е… — протянул Коля. — Звук лопнувшей струны… А она потом замуж вышла.
— Кто? — не поняла Ася.
— Татьяна Андреевна, учительница, — пояснил Коля, — за Иркиного классного руководителя, Александра Сергеевича. — Он посмотрел на Асю. — Мы же с Иркой в параллельных классах учились. — Коля снова налил и выпил. — Ирка в него влюблена была.
И Ира вспыхнул, а Ася, чтобы перевести разговор на другую тему, спросила:
— А сына как назовете?
И Ира, не поднимая глаз, ответила:
— Александром, — и быстро добавила: — В честь Македонского.
А Коля съязвил, что а я думал, в честь Пушкина.
И Ира умоляюще посмотрела на Асю, и Ася повернулась к Коле:
— И что это было за дерево?
Сережа быстро посмотрел на Иру, и та наступила мужу на ногу.
Коля хмуро глянул на жену, но потом рассмеялся, что… дуб.
— «У Лукоморья дуб зеленый», — вздохнула Ася. — Жалко… — и перебила саму себя, что я вот вырастила сына, написала несколько книг, а дерево тоже не посадила.
— Почему? — тихо спросила Ира.
Ася засмеялась:
— Не поверите, за всю мою жизнь у меня не было ни одного метра собственной земли, так что просто было негде…
— Вот видите! — обрадовался Коля.
А Ася вдруг спросила:
— Как там ваш абрикос?
И Ира, быстро взглянув на мужа, проворчала, что что ему сделается…
И Ася вздохнула и, улыбнувшись, подняла стакан:
— За наше дерево!
И они с Колей выпили, а Ира засобиралась, что нам пора, а вы тут располагайтесь — и подмигнула Сереже, что это ведь и твой дом, хоть здесь сейчас и не Россия.
А Коля предложил, что не выпить ли нам за воссоединение Украины с Россией.
А Ася заметила, что, конечно, можно, хотя это, наверное (она посмотрела на Серёжу), их дело, а может быть (она кивнула на Ирин живот), даже их…
И все выпили. А когда хозяева ушли, Сережа сказал, что смешной этот Коля, а Ася заметила, что не такой уж он и смешной.
Ася обвела глазами кухню и сказала: «Как здесь все переменилось…» Она встала и прошлась по дому.
«Из одной комнаты сделали две… — донесся ее голос, — прорубили лестницу на второй этаж…»
Она вернулась к сыну.
— Наверное, не осталось ни одного гвоздя, который помнил бы… — она осеклась, но потом добавила, — нас, — и, закурив, подытожила: — Зря я это затеяла.
— А разве ты не унесла тот дом в своем сердце? — иронично спросил Сережа.
Ася посмотрела на сына.
— Тогда я еще не умела: этому ведь научил меня ты.
Она вышла на крыльцо и закурила.
— Разве что звук…
— Звук? — переспросил Сережа.
— Ну да, — оглянулась Ася. — Звук то и дело падающих на крышу абрикосов. — Она улыбнулась. — Я как-то зашла у нас в Москве на рынок, а там азербайджанец продает абрикосы. Я подошла и вижу ценник: «Эприкоз. 100 руб.»
— И ты купила? — спросил Сережа.
Ася покачала головой.
— Это был совсем другой звук…
Рядом открылась дверь, из нее вышли парень и девушка. Не обращая внимания на Асю и Сережу, они закрыли свою дверь и пошли через двор к калитке.
— Колин дом вырос вширь и вверх, — усмехнулась Ася и, помолчав, добавила, что у Коли тоже идея: если нет России, то не нужно и дерева…
А Сережа ответил:
— Это учительница виновата, что он до сих пор любит Чехова.
— А Ира Пушкина, — заметила Ася.
— Какого Пушкина? — переспросил Сережа.
— Александра Сергеевича… — ответила Ася и потушила окурок. — Пойду проведаю свой абрикос.
Но Сережа перегородил ей дорогу:
— Такая темень!
Ася порывисто обняла сына.
— Правильно! А то вдруг я… ничего не увижу…
— Конечно, — обрадовался Сережа. — Сама же говорила, что у тебя куриная слепота.
Они вошли в дом.
Сережа включил свой ноутбук и стал смотреть боевик, а Ася устроилась в кресле с хозяйской книгой, но не читала, а просто держала ее на коленях.
Сережа увлекся фильмом, а когда через какое-то время повернулся к матери, то увидел, что она спит. Он на цыпочках подошел к кровати, стянул плед и, взяв книгу из рук матери, укрыл ее. Сережа посмотрел на обложку — «А. Грин», положил книгу на журнальный столик и вернулся к компьютеру.
Он досмотрел фильм и стал играть, так что, когда услышал стук над головой, не сразу обратил на него внимание. Но по крыше стучало все громче и, как сказала бы мать, подумал Сережа, то и дело. Он резко вскочил и подбежал к окну: на улице стояла черная южная ночь. Сережа открыл дверь и вышел на крыльцо.
Что-то падало на крышу, а потом скатывалось на асфальт двора. Сережа, пригнувшись, сошел с крыльца и почувствовал, как забарабанило по спине. Он протянул руку, и на нее упало несколько крупных, с орех, градин.
Сережа усмехнулся и вошел в дом.
Он был удивлен, что град не разбудил мать, потому что спала она очень чутко, но Ася продолжала спокойно спать в кресле.
Экран монитора светился, и Сереже было хорошо видно ее лицо: она улыбалась во сне. Сережа постоял, глядя на мать и не узнавая ее. Потом сел за компьютер, но играть не мог, а все слушал, как стучал по крыше град. Сережа задремал, а когда проснулся, было тихо, а за окном светало. Он вскочил, засунул руки в карманы джинсов и, вытащив смятые купюры, пересчитал. Потом выбежал за дверь, пересек двор и вышел за калитку…
* * *
…Ася проснулась от счастья.
Она огляделась по сторонам, узнавая и не узнавая комнату. Увидела спящего, «как молодой лев», сына, сдернула плед и подошла к окну: дорожка от крыльца до калитки было усыпана абрикосами.
С колотящимся в горле сердцем Ася выбежала на крыльцо, споткнувшись о стоявшие там пустые ведра, и подняла с дорожки несколько абрикосов.
Осторожно, словно боясь разбить, прижимая абрикосы к груди, Ася вернулась в комнату. Ей так хотелось поделиться своим счастьем с сыном, но он спал, «как только в раннем детстве спят».
Она решила положить абрикосы на тумбочку у его кровати и увидела записку.
Ася привыкла, что сын, ложась спать, пишет себе записки вроде «Взять к.п.с.» (впоследствии выяснялось, что это конспекты по семиотике), «Взять с.» (сумку), «Взять д.» (деньги). Однажды она увидела записку «Взять ВСЁ!» — и долго смеялась. И сейчас она поднесла записку к глазам и, щурясь, прочитала: «Вернуть в.».
«Господи, опять какие-то глупости, — улыбнулась она. — Какой же он еще маленький…»
И, положив на записку абрикосы, снова вышла на крыльцо, где стояли пустые ведра, прислонилась спиной к двери и так и стояла, улыбаясь и глядя широко открытыми глазами на усыпавшие дорожку абрикосы: светло-желтые с алыми бочками, мелкие, те самые…
Вечная молодость
— А ты представь, что даешь мне интервью! — Лена включила диктофон и откашлялась. — Человек — это как бы машина, выполняющая приказы своего генома. Но эти приказы не всегда разумны. К примеру… — Лена выразительно посмотрела на Степана, — запрограммированный процесс старения и смерти, который еще древнеримский врач Гален назвал апоптозом. А в 2002 году биологи… — Лена заглянула в блокнот, — Хорвиц, Салстон и Бреннер получили Нобелевскую премию за то, что доказали: апоптоз — это действительно генетическая программа…
— Ну и что? — пожал плечами Степан.
— А то, — убежденно ответила Лена, — что если смерть и предшествующая ей старость программа, то ее можно если не отменить, то по крайней мере сломать!..
— Зачем? — поднял на нее глаза Степан.
— Как ты не понимаешь! — воскликнула Лена. — Ведь тогда человек сможет жить до двухсот лет!
— А ты хотела бы жить до двухсот лет? — усмехнулся Степан.
— Но это же не просто долголетие, — горячо возразила Лена. — Это молодость!
— Ну да, ну да! — пробормотал Степан. — Это носится в воздухе… — Он встал с кресла и пошел к окну. — Недавно смотрел по телевизору передачу, так ее участники с пеной у рта доказывали, что отцами нужно становиться в пятьдесят… — Степан сощурился, словно во что-то всматриваясь. — А исходя из твоей теории — в сто пятьдесят!
— И что в этом плохого? — пожала плечами Лена.
— Помнишь такого философа Федорова? — спросил Степан, не оглядываясь.
— Как же! — процедила Лена. — Воскреситель!
— Так вот, — продолжал Степан, — Федоров верил, что человек когда-нибудь достигнет практического бессмертия.
— Вот видишь! — перебила Лена.
— Но для чего! — повернулся Степан. — Федоров предполагал, что поколение бессмертных осознает себя «детьми» и из чувства сыновней благодарности воскресит всех, кто был до него, то есть «отцов».
— Не вижу связи, — сморщила лоб Лена.
— Разумеется! — Степан зашагал по комнате. — Ведь по твоей теории человечество превратится в молодящихся стариков, которые не захотят воскрешать «отцов», — они сами будут «отцами»!
— По-твоему, быть отцом — преступление? — поджала губы Лена.
— Будьте как дети! — напомнил Степан. — И потом… — он остановился возле Лены. — Представляю, какими высокомерными будут эти твои «отцы»: Пушкин будет для них просто ребенком… — Степан снова подошел к окну. — Я уж не говорю про Лермонтова…
* * *
— А зачем тебе это? — спросил Андрей, закуривая.
— Мне заказали статью, — Лена застегнула джинсы.
— По-моему, — Андрей выпустил дым, — это чистой воды абсурд. — И добавил: — Точнее, грязной.
— Ты о чем? — повернулась к нему Лена.
— О Мексиканском заливе…
— Дался тебе этот залив! — натянула водолазку Лена.
— Девочка, — Андрей стряхнул пепел, — я знаю, что говорю… — Он сделал паузу. — Это начало конца: абсурдно в конце света хотеть долголетия.
— А молодости? — вспыхнула Лена.
— Тем более, — Андрей затянулся. — Молодость — это дети…
— Степан говорит, что нужно быть как дети, — заметила Лена.
— Вообще-то это говорил Христос, — снова стряхнул пепел Андрей.
— Степан считает, что он прав, — уточнила Лена.
Андрей усмехнулся:
— Мне нравится твой муж…
Лена подошла к окну. Андрей потушил окурок и стал одеваться.
— Я приеду за тобой в августе.
— В августе? — переспросила Лена.
Андрей посмотрел на нее в упор.
— Твой сын закончил школу в прошлом году. Твои ученики заканчивают ее через месяц. В сентябре тебе не нужно будет идти в школу… — Андрей оделся и подошел к ней. — А к тому времени я отремонтирую своего «Буцефала».
— Ты хочешь приехать на «Буцефале»? — тихо спросила Лена.
Андрей кивнул.
— Зачем? — выдохнула Лена.
Андрей обнял ее за плечи:
— Представь: ты, я, вода и небо…
— В алмазах! — не удержалась Лена и добавила: — Да ты романтик!
— Я геолог, — возразил Андрей, — а яхты — это, если угодно, хобби, хоть я и не люблю это слово, потому что корабль…
— Кстати, — перебила Лена, — женщинам на корабль нельзя.
— А Елена Прекрасная? — рассмеялся Андрей.
— Это плохо кончилось, — напомнила Лена.
— В конце света это не принципиально, — Андрей повернул ее к себе.
— И… что мы там будет делать? — осторожно спросила Лена.
— Мы? — Андрей посмотрел в темноту за окном. — Будем гибнуть откровенно…
— Почему геологи так любят стихи? — вырвалось у Лены.
— Красиво… — пожал плечами Андрей и, помолчав, добавил: — А у тебя было много знакомых геологов?
— Я вот о чем думаю, — как бы не слыша, сказала Лена. — Елена провела в Трое десять лет… — Лена сделала паузу. — Неужели она осталась такой же красивой?
— Во-первых, она была не красивой, а прекрасной, — заметил Андрей.
— А во-вторых? — быстро спросила Лена.
Андрей усмехнулся:
— Ты все еще думаешь, что красота — это молодость?
Лена посмотрела на часы.
— Кстати о молодости. Меня ждет ученица.
* * *
Лена вышла из лифта: на лестничной площадке курила Даша.
— Давно ждешь? — спросила Лена, доставая ключи.
— Да нет… — Даша потушила сигарету.
— Проходи! — Лена добавила: — Кофе будешь?
— Что?.. — спросила Даша.
— Ты чего такая? — Лена взяла турку.
— Какая? — подняла глаза Даша.
— Тормозная… — засмеялась Лена и открыла буфет.
— У меня задержка… — вдруг тихо сказала Даша.
— Какая задержка? — резко повернулась Лена. — То есть… я хотела спросить: сколько дней?
— Десять… — тупо ответила Даша.
Лена подошла к столу и опустилась на табуретку.
— Ты маме сказала?
— Я что — похожа на сумасшедшую? — огрызнулась Даша. Лена встала.
— Дай сигарету!
— Я не знала, что вы курите, — Даша вынула из сумки синий Dunhill.
— Я тоже не все о тебе знала… — Лена подошла к балконной двери, приоткрыла ее и закурила. — Мы с тобой собирались сегодня сделать тест по «Мастеру и Маргарите», так?
— Вроде да… — кивнула Даша.
— Так вот, — Лена закашлялась и потушила сигарету. — Вместо этого ты сейчас пойдешь в аптеку и купишь тест на беременность.
Даша закурила.
— У тебя деньги есть? — спросила Лена.
— Много? — в свою очередь спросила Даша.
Лена наморщила лоб.
— Рублей сто. Или двести. Точно не помню…
— Тогда есть, — Даша встала.
— Тогда иди, — сказала Лена.
Даша продолжала стоять.
— Хочешь анекдот? — Лена подошла к плите и стала варить кофе. — Лет десять назад дала я своей ученице книжку одного современного поэта. — Лена помешала в турке. — А на следующий день вызывает меня директор и грозным голосом спрашивает: «Чем вы руководствовались, давая ученице одиннадцатого класса эту книжку?» — и показывает на томик стихов. — «А в чем дело?» — не поняла я. — «А вы знаете, что там есть слово „сперма“?» — Лена выключила газ.
— Смешно, — хмуро сказала Даша.
— А мне тогда пришлось уволиться, — возразила Лена.
— Так вас ученица заложила? — спросила Даша.
— Никогда не знаешь, кто из твоих учеников Иуда… — пожала плечами Лена.
— А помните, — оживилась Даша, — когда я писала реферат «Круг чтения юного Пушкина», вы мне дали Баркова, а когда проходили Достоевского — Ницше… — И она процитировала: — «Любите еще только страну ваших детей…»
— И вот что из этого вышло, — усмехнулась Лена.
— Нам не дано предугадать, — кинула Даша и добавила: — А где у вас аптека?
* * *
— А почему такой грохот? — закричала Лена в телефонную трубку. — Ты что, в метро? Андрей, ты меня слышишь? У меня беда… — Лена прошлась по комнате. — Дашка беременна… Ну я тебе рассказывала: моя ученица, я ее еще на филфак готовлю… — Лена перевела дыхание. — Да вопрос не в том, кто виноват, а в том, что делать… — опять закричала она и вдруг почувствовала чей-то взгляд.
Лена оглянулась: в дверях стоял Максим.
* * *
— А что говорят ее родители? — спросил Андрей.
— Родители… — Лена отпила глоток вина. — Понимаешь, это новая порода родителей. Им под сорок, и они не так давно родили второго ребенка, — Лена отпила еще, — и почувствовали себя молодыми.
— По-моему, это вытекает из твоей идеи продления жизни, — Андрей закурил. — Разве не так?
— Да, — Лена хрустнула пальцами, — но они посылают ее на аборт. — Она подняла глаза на Андрея. — Как говорит Степан, они хотят быть не дедами, а отцами.
— А что еще говорит Степан? — сощурился Андрей.
— Я знаешь о чем подумала… — продолжала Лена. — Если человек будет жить до двухсот лет, он будет страшным эгоистом, ведь он будет чувствовать себя сверхчеловеком…
— Для того чтобы чувствовать себя сверхчеловеком, — заметил Андрей, — не обязательно жить до двухсот лет.
Лена пристально посмотрела на него.
— Собеседниками богов, как известно, становятся те, — пояснил Андрей, — что посетили этот мир в его минуты роковые.
— Все? — с интересом спросила Лена.
— Нет, — твердо ответил Андрей. — Только те, кто отдает себе в этом отчет.
— Ты, например? — в упор спросила Лена.
— Например, я, — кивнул Андрей.
— Так ты поэтому послал меня на аборт? — выпалила Лена.
— У Земли нет будущего, — Андрей потушил окурок и тут же закурил снова. — Мы последнее поколение….
— И поэтому для нас не существует понятия греха? — быстро спросила Лена.
— Видишь ли, — Андрей затянулся, — либо считать грехом всё: что ты изменяешь мужу, что я развелся с женой, что ты сделала аборт. Либо не считать грехом ничего, — Андрей сплюнул. — Я предпочитаю последнее.
— Значит, я не сверхчеловек, — заключила Лена.
Андрей вопросительно посмотрел на нее.
— Потому что когда я сказала Дашкиным родителям, как вы можете посылать девочку на аборт, они ответили: «Не согрешишь — не покаешься», а ведь и я так живу… — Лена перевела дыхание.
— Как? — не понял Андрей.
— Грешу и каюсь, — выдавила Лена.
— Но ты хочешь грешить и каяться до двухсот лет, — уточнил Андрей. — Разве это не сверхчеловеческое?
— Я хочу не долголетия, — возразила Лена, — а молодости.
— Не вижу разницы, — сказал Андрей.
— А я вижу, — Лена потянулась к его сигаретам. — Это не сверхчеловеческое, а женское. Слишком женское… — и добавила: — Я не вижу, что делать с Дашей…
— Хочешь, я на ней женюсь, — засмеялся Андрей. — Она, кстати, красивая?
— А говорил, что красота — это не молодость, — поддела Лена.
— Я пошутил.
— Тогда или теперь? — усмехнулась Лена. — Не помню, говорила я тебе или нет: в нее влюблен мой Максим.
— Он ведь у тебя, кажется, музыкант? — почему-то спросил Андрей.
— Музыкант… — вздохнула Лена.
* * *
— И что ты решила? — Лена налила Даше кофе.
— Я выхожу замуж, — Даша вынула сигарету.
— Наверное, это правильно, — Лена придвинула ей сахар. — Все-таки аборт — грех.
— Я не потому, — Даша закурила.
— А почему? — удивилась Лена.
Даша не ответила.
— Ты его любишь? — спросила Лена.
Даша выпустила дым.
— Я люблю вас…
— И поэтому выходишь замуж? — усмехнулась Лена.
— В общем, да, — Даша пристально посмотрела на Лену.
— Звучит абсурдно, — заметила Лена.
— Не так абсурдно, как кажется, — Даша отпила кофе. — Потому что ведь вы говорили, что все равно мы «увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную»…
— В этом смысле! — Лена взяла Дашкину пачку сигарет. — Можно? — и, закурив, заметила, что все так и есть, хоть это говорила и не я…
* * *
— Мам! — Максим приоткрыл дверь.
— Заходи, — ответила Лена, не отводя глаз от монитора. — Что-нибудь случилось?
— В общем, да, — Максим сел в кресло.
— Тебя выгоняют из института? — по-прежнему глядя на экран, спросила Лена.
Максим усмехнулся.
— Денег нужно? — опять спросила Лена.
Максим не ответил.
— А что тогда? — Лена мельком взглянула на сына.
— Я женюсь… — четко выговорил Максим.
Лена на секунду замерла, а потом всем корпусом повернулась к сыну.
— На ком?
— На Дашке…
У Лены потемнело в глазах.
— Так это… — выдавила она, плохо соображая и закончила: — Это почему?
— Ее родители сказали: «Или выходи замуж, или делай аборт…»
— Вот и пусть делает! — закричала Лена.
— Нет, — твердо возразил Максим, — потому что…
— Это грех? — перебила Лена. — Так не твой!
— Не потому, — мотнул головой Максим, — а потому что тогда она за меня не выйдет…
— И прекрасно! — опять крикнула Лена.
Максим промолчал.
— А как же твоя музыка? — не унималась Лена.
— А разве не ты говорила, что «и любовь — мелодия»?
— Не я! — Лена резко встала.
— А кто? — нахмурился Максим.
— Пушкин! — Лена прошлась по комнате.
— Это все равно, — спокойно сказал Максим.
Лена остановилась напротив сына.
— Но она тебя не любит! — и, как бы желая сделать ему еще больнее, добавила: — Точнее, любит, но не тебя.
— А кого? — хмуро спросил Максим.
Лена сглотнула.
— Это неважно!
— Вот именно! — Максим встал и направился к двери.
— Но она ведь даже не красивая! — в отчаянии крикнула Лена.
Максим остановился.
— А что по-твоему красота? Девяносто-шестьдесят-девяносто? — и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.
* * *
— Почему «ужасно»? — спросил Степан.
— Потому! — огрызнулась Лена.
— Это не ответ, — спокойно сказал Степан.
— Понимаешь, — Лена хрустнула пальцами, — она живет не ближним, а «дальними морями» и «небом в алмазах»…
— А разве не ты научила ее любить дальнее? — сощурился Степан.
— Не я! — закричала Лена.
— А кто — Пушкин? — подначил Степан.
— Не знаю! — опять закричала Лена. — Я как раз считаю, что любить нужно ближнего!
— Да ну? — делано удивился Степан. — Это почему?
— Потому что он мой сын! — отрезала Лена.
— А-а… — усмехнулся Степан. — Но он-то ее любит.
— А она любит меня! — в отчаянии крикнула Лена.
— Это неважно… — Степан взял сигарету.
— То есть как это «неважно»? — застыла Лена. — А что важно?
— Что? — Степан помял сигарету в пальцах. — Что он любит ее, она тебя, ты… — Степан сломал сигарету, — своего любовника.
Лена вздрогнула и выпалила:
— А он — тебя!
— Вот видишь, — не моргнув глазом продолжал Степан. — А я — тебя… — И добавил: — Как в той песне:
Еще была солистка Леночка, Она была влюблена в ударника, Ударнику нравилась Оля, А Оле снился соло-гитарист И иногда учитель пения…* * *
Лена прошла по трапу и ступила на палубу.
— Вот уж не думала, что ты действительно приплывешь на корабле…
— Почему? — пожал плечами Андрей. — Это не трудней, чем приехать на автомобиле: нужно только взять разрешение Мосводоканала… — и добавил: — А может, и проще: пробок нет.
Лена прошлась по палубе.
— А здесь есть кухня?
Андрей кивнул.
— А душ?
Андрей снова кивнул.
— Покажешь? — повернулась к нему Лена.
— Лучше я покажу тебе кровать, — обнял ее Андрей и вдруг спросил: — А где твои вещи?
— Понимаешь… — подняла на него глаза Лена, — в сентябре у Максима с Дашкой свадьба…
Андрей закурил.
— А в октябре, — продолжала Лена, — у нас со Степаном. — Фарфоровая.
— Ты хочешь сказать, — Андрей затянулся и выпустил дым, — что ты другому отдана, хоть ты ему и неверна?
— Хорошо, что ты любишь стихи… — Лена опустила глаза и добавила: — А в ноябре вторая четверть: я взяла новых детей.
Андрей стряхнул пепел.
— А в декабре у Дашки роды… — не поднимая глаз, сказала Лена.
— Старая песня, — усмехнулся Андрей и продекламировал:
Учитель пения имел роман с географичкой, Он даже хотел развестись, но что-то его держало, Возможно, трое детей, а может, директор школы, Ведь тот любил учителя пения…Андрей сделал несколько затяжек и закончил:
Вот такая вот музыка, Такая, блин, вечная молодость…— Степан говорит, что это про нас, — тихо сказала Лена.
— Твой муж, как всегда, прав… — Андрей бросил окурок за борт.
— И ты прав… — еще тише сказал Лена.
— Да ну? — хохотнул Андрей.
— Красота — это действительно не молодость… — задумчиво проговорила Лена. — Я ведь отказалась писать ту статью.
— Какую статью? — не понял Андрей.
— Ну… про отмену старости…
— А-а… — вспомнил Андрей и усмехнулся: — Почему? Ты, помнится, так горела этой идеей.
— Потому что молодость — это не долголетие, — твердо сказала Лена.
— А что?
— Не знаю… — посмотрела куда-то сквозь Андрея Лена. — Может быть, музыка…
Золотая рыбка
— Юля, нам нужно поговорить, — сказал Игорь, входя в комнату.
Юля подняла глаза от книги.
— Так говорила Ахматова…
Игорь вопросительно посмотрел на жену, и Юля сделала надменное лицо и произнесла:
— Николай, нам нужно поговорить…
— И о чем они говорили? — усмехнулся Игорь.
— Точно не знаю, — пожала плечами Юля. — Но это кончилось разводом.
— Кстати, — Игорь отвернулся к окну: — Я полюбил другую.
— Что? — переспросила Юля и, как будто для того чтобы лучше расслышать, приподнялась в кресле, отчего ее книга упала на пол.
— Я полюбил другую женщину, — четко выговаривая слова, повторил Игорь.
Юля опустилась в кресло.
— Наша институтская преподавательница любила повторять: «Главное — это тщательно артикулировать фонемы и моделировать просодемы».
Игорь резко повернулся.
— Это все, что ты можешь сказать?
— Она молодая? — спросила Юля.
Игорь не ответил.
— Она артистка? — догадалась Юля. — Это когда ты был на гастролях в Одессе?
Игорь посмотрел на жену в упор.
— Это Шура.
— Какая Шура? — не поняла Юля.
— Шура, — повторил Игорь. — Наша домработница.
— Домработница? — задохнулась Юля и пробормотала: — И… давно это у вас?
— С двадцать седьмого марта, — все так же четко ответил Игорь.
Юля закрыла лицо руками.
— Полгода! В нашем доме!
— Успокойся! — перебил ее Игорь. — Она живет в моей квартире.
— Как это? — опешила Юля. — Ты же ее сдаешь?
— Сдавал… — уточнил Игорь.
Юля перевела дыхание.
— А почему она до сих пор не уволилась?
— Она сказала, что уволится, когда я сделаю ей официальное предложение.
— Ты сделал? — облизнув пересохшие губы, спросила Юля.
— Вчера… — глухо ответил Игорь.
— Какой ужас! — прошептала Юля и после паузы добавила: — Теперь придется искать новую домработницу!
— Я вижу, тебе смешно? — поджал губы Игорь.
Юля не ответила.
— Смешно, что я хочу жениться на домработнице? — закричал Игорь. — А как же твоя хваленая русская литература с ее любовью к «маленькому человеку»?
— Литература? — переспросила Юля и процитировала: — «Расцеловавшись, хозяйка и домработница расстались».
— Что это? — сморщил лоб Игорь.
— «Мастер и Маргарита».
Юля помолчала.
— Я ответила?
— Ты не ответила, дашь ли мне развод!
— Легко… — пожала плечами Юля.
— Разумеется! — скривил губы Игорь и бросил: — Ведь ты сама теперь няня!
И он быстро пошел к двери, но на пороге остановился.
— Ты даже не спросишь, что было 27 марта!
— А что было 27 марта? — машинально повторила Юля.
Но Игорь не ответил и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.
* * *
— Двойной эспрессо, — заказала Юля.
— А мне чай и миндальное печенье, — кивнула Женя официанту и, обращаясь к Юле, спросила: — А она откуда?
Юля закурила.
— Из Таджикистана… Таких в Москве тысячи…
— Молодая? — снова спросила Женя.
— На два года моложе меня, — выпустила дым Юля.
— Красивая? — продолжала допытываться Женя.
— На два килограмма худее меня, — стряхнула пепел Юля.
— Что такое два килограмма! — возмутилась Женя и вдруг спросила: — А кто она по профессии? Может, замаскировавшаяся артистка? Или хотя бы учительница?
— Не думаю, — Юля погасила сигарету. — Когда она протирает книги, то ставит их не только вверх ногами, но и тома не по порядку, так что Денис как-то пошутил, что она не умеет не только читать, но и считать… Впрочем, — Юля снова закурила. — Недавно она попросила у меня «Мастера и Маргариту»…
— Мои ученики читают «Мастера и Маргариту» в шестом классе! — фыркнула Женя.
— Не рано? — подняла брови Юля.
— Чем раньше, тем лучше, — жестко ответила Женя. — «Мастер и Маргарита» это не просто книжка, это пароль и отзыв… — Женя потянулась к Юлиной пачке сигарет. — Как и русская литература это не просто школьный предмет, — Женя закурила, — а, прости за пафос, наша последняя скрепа. — И добавила: — А, возвращаясь к нашим баранам, это приворот!
— Как это? — не поняла Юля.
— Очень просто! — воодушевилась Женя. — Ты полистай нынешние газеты: они же просто кишат объявлениями типа: «Приворожу мужа». — Женя отпила глоток. — А если можно приворожить своего, почему нельзя чужого?
— Наверное, можно, — неуверенно сказала Юля.
— Надо пойди к бабке! — заявила Женя.
— К бабке? — поморщилась Юля.
— Хорошо, не к бабке, — тряхнула головой Женя. — А в храм. И поставить за нее свечку!
Юля усмехнулась:
— Она же мусульманка!
— Ах, да! — с досадой сказала Женя и, подумав, предложила: — А если посоветоваться с батюшкой? На исповеди?
— А ведь у меня с Борисом, — вдруг сказала Юля, — тогда началось потому, что у Игоря был роман с артисткой, из МХАТа…
— Так ведь с артисткой! — всплеснула руками Женя.
— И крестьянки любить умеют, — напомнила Юля.
Женя откинулась на стенку диванчика.
— Я только до сих пор не понимаю, зачем ты тогда все рассказала Игорю: хотела отомстить?
— Будешь смеяться, — устало ответила Юля. — Хотела покаяться…
— Каяться надо перед специалистами, — возразила Женя. — Как написал один мой ученик: «Напрасно Катерина покаялась перед людьми, неспособными ее понять».
— Каяться перед священником легко, — заметила Юля.
— Правду говорить легко и приятно, — согласилась Женя.
— Не в этом смысле, — ответила Юля и объяснила: — Я пишу свои грехи на листке: чтобы ничего не забыть… — она сощурилась. — Так вот, пишу я, например, «прелюбодеяние», а священник, ничего не спрашивая, накрывает меня епитрахилью — и всё. — Юля вытащила сигарету. — Или в другой раз. Пишу: «Воровство» — он опять, ничего не спрашивая, накрывает. Я тогда и говорю: «А вам не важно, что я украла?» — Он говорит: «И что?» — Я объясняю, что работаю в школе, — Юля закурила, — я тогда еще работала в школе, — и покупаю себе проездной билет для школьников, а ведь это воровство: недоплачивая за проезд, я обкрадываю государство.
— Наше государство не грех и обокрасть! — перебила Женя и добавила: — И что сказал батюшка?
Юля усмехнулась:
— Вы же с этим школьным билетом ездите к школьникам…
— А что — логично! — рассмеялась Женя.
— …И потом, — продолжала Юля, — когда я стою в очереди на исповедь — а ведь причащаются строго натощак — я думаю только о том, как выйду из храма и в ближайшем кафе выпью чашку эспрессо, так что если бы мне сказали…
— Свету ли провалиться, или мне кофе не пить? — быстро подсказала Женя.
— Хуже… — глухо ответила Юля. — Тому свету…
— Значит, Достоевский был прав… — заметила Женя.
А Юля, глядя сквозь нее, продолжала:
— …И когда я ее выпиваю, я испытываю такое блаженство внутри себя…
— Странно, — перебила Женя. — Я всегда думала, что прав или Достоевский, или Толстой. — Она сделала паузу. — А ведь может быть, что правы, как говорят дети, «обое»… — И добавила, что непонятно тогда, почему от церкви отлучили одного Толстого.
А Юля вдруг сказала:
— Уйти бы от всех!
А Женя заметила, что не женское это дело — уходить…
— Дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто! В корыте много ль корысти? —читала Юля.
— А что такое «корыто»? — перебила трехлетняя Люба.
— А что такое «корысти»? — спросила шестилетняя Надя.
И только Юля собралась ответить, как в комнату вошла Лариса.
— Читайте! Читайте! — замахала она руками и стала рыться в шкафу.
Но Юля отложила книгу и, сказав девочкам: «Нарисуйте пока золотую рыбку», — подошла к Ларисе.
— Можно вас на минутку?
Лариса оглянулась.
— Да, конечно…
Они вышли в гостиную.
— Что-нибудь случилось? — Лариса села в кресло.
— Нельзя ли мне сегодня уйти на час пораньше? — попросила Юля.
Лариса задумалась:
— То есть в четыре?
Юля кивнула.
— Это не совсем удобно, — продолжала Лариса. — Я сейчас уезжаю, а гувернантка с Верой придет только в пять…
Юля вздохнула.
— Что-нибудь серьезное? — спросила Лариса. — К врачу?
Юля покачала головой.
— В загс…
Лариса удивленно подняла брови.
— Мы разводимся… — дрогнувшим голосом сказала Юля.
— Вот оно что! — Лариса встала. — Хотите коньяку?
— Хочу! — неожиданно для себя ответила Юля.
— Садитесь! — Лариса указала на кресло. — Я сейчас… — и вышла из комнаты.
Через несколько минут она вернулась, неся две рюмки и бутылку.
Лариса разлила коньяк.
— А почему?
— Он полюбил другую…
— А-а… Знаем, плавали… — Лариса опрокинула рюмку. — Мой ушел к своей аспирантке. — Лариса наполнила рюмку. — И на суд не явился, а прислал ее в качестве своего представителя. — Лариса опять выпила. — Как вам такой расклад? Я с тремя детьми, и она — на восьмом месяце беременности… Картина маслом, — засмеялась Лариса.
«Богатые тоже плачут», — подумала Юля.
— Да вы пейте! — напомнила Лариса и спросила: — А вы ее знаете?
— Да, — Юля выпила, — она моя домработница.
Лариса поперхнулась и поставила рюмку.
— У вас есть домработница?
— Все смешалось в доме Облонских! — пожала плечами Юля.
А появившаяся в дверях Люба сказала, что нарисовала золотую рыбку.
* * *
Юля и Игорь встретились у входа в загс.
— Я покурю? — спросила Юля.
Игорь кивнул и щелкнул зажигалкой.
— Ты как?
— Ничего… — Юля затянулась.
— Нашла новую домработницу?
Юля покачала головой.
— Что так? — поинтересовался Игорь.
— Я вдруг подумала, что это абсурд… — стряхнула пепел Юля.
— Что я ушел к домработнице? — напрягся Игорь.
— Что у няни есть домработница, — усмехнулась Юля.
— А по-моему, абсурд то, что ты пошла в няни, — возразил Игорь.
Юля промолчала.
— Да! — как будто вспомнил Игорь. — У меня для тебя еще одна новость…
Юля бросила сигарету и посмотрела на Игоря.
— Шура просит прописать ее в моей квартире.
— Ого! — усмехнулась Юля.
— У нее двое детей, — заметил Игорь.
— У тебя тоже, — напомнила Юля. — Впрочем, делай что хочешь… — и добавила: — Но кажется, Женька права…
— Какая Женька? — нахмурился Игорь.
— Пошли! — ответила Юля и потянула на себя дверь загса.
Юля перевела глаза с Ксении на Дениса:
— Я позвала вас, чтобы сообщить… — Юля махнула рукой и взяла сигарету.
Денис дал ей прикурить.
— Ваш отец полюбил другую женщину.
В комнате повисла тишина.
— Молодую? — быстро спросила Ксения.
— Шуру… — еле слышно ответила Юля.
— Какую Шуру? — не поняла Ксения.
— Шаурму? — догадался Денис и громко расхохотался.
— Ты… это серьезно? — Ксения повернулась к матери.
— Судя по тому, что он собирается прописать ее в своей квартире… — Юля судорожно затянулась.
— И ты ему позволила? — вспыхнула Ксения.
— Что? — выпустила дым Юля.
— Спутаться с какой-то гастарбайтершей, уйти из семьи, прописать ее в своей квартире… — закричала Ксения.
— Разве это можно запретить? — подняла глаза на дочь Юля.
— Размазня! — кинула Ксения.
— А говорила, что не любишь Чехова… — заметила Юля.
— Тварь! — процедил Денис.
Юля вздрогнула.
— Вот они твои бедные люди, маленькие человеки, твари дрожащие! — выпалил Денис.
— То-то меня за твое сочинение вызывали в школу… — напомнила Юля.
— Вызывали! — кивнул Денис. — А я все равно остался при своем мнении!
— А по-моему, — встряла Ксения, — люди делятся только на москвичей и всех остальных.
Юля улыбнулась:
— И, разумеется, «на всех московских есть особый отпечаток»?
— Представь себе! — горячо сказала Ксения. — Фамусов вообще не такой дурак, как пыталась доказать нам наша Маша…
— Я никогда не считала Фамусова дураком, — пожала плечами Юля.
— Так то — ты, — резко сказала Ксения, — ты же не настоящий учитель: ты косила под учителя, как теперь косишь под няню… А между прочим, — как с горки неслась Ксения, — если бы провинциал Молчалин не связался с домработницей…
— Горничной, — поправила Юля.
— …с этой бедной Лизой, — неслась Ксения, — а трахнул Софью, то получил бы всё. А Чацкий, — Ксения перевела дыхание, — лох, неудачник: коренной москвич, а всё потерял.
— Молчалин тоже всё потерял, — возразила Юля. — Так в чем разница?
— Разница в том, — бросила Ксения, — что москвич, вопреки мнению Булгакова, теряя всё, кричит не «Квартиру мне! Квартиру!» — а «Карету мне! Карету!..»
Юля усмехнулась и, повернувшись к сыну, спросила:
— А по-твоему, люди таки делятся на маленьких и великих?
— По-моему, — в упор глядя на мать, сказал Денис, — люди делятся на действительно маленьких, как, например, Шура, и тех кто под маленьких косит…
— Как, например, я? — сузила глаза Юля.
— Как, например, ты, — бросил Денис и, помолчав, добавил: — Вот объясни, зачем ты, известный поэт, сначала пошла работать учительницей, а потом вообще няней… Что ты хочешь этим доказать?
Юля встала и прошлась по комнате.
— Просто мне вдруг показалось, что мои стихи никому не нужны… — Она закурила. — И я решила, что чем писать свои, лучше учить чужим — и пошла в школу. А тут нагрянул ЕГЭ и ничьи стихи стали не нужны… — Юля выпустила дым. — А в качестве няни я по крайней мере читаю детям Пушкина… — и добавила, что, может быть, в том, чтобы быть Ариной Родионовной — в наши дни — больше смысла, чем в том, чтобы быть поэтом.
— Брось ты! — резко сказал Денис. — Ведь внутри ты по-прежнему считаешь себя поэтом!
И Юля вдруг расплакалась и побежала к двери, а Денис крикнул вслед, что это просто гордыня, а Ксения всхлипнула: «Бедная мама!»
И Денис внимательно посмотрел на сестру и хлопнул себя по лбу, что я только сейчас понял, что «бедные», по Достоевскому, это не те, у кого нет денег, а «несчастные»!
— И что? — не поняла Ксения.
— А то, — Денис прошелся по комнате, — что, значит, люди вообще никак не делятся.
* * *
Игорь позвонил в дверь. Открыла Шура.
— Всё в порядке, — хмуро сказал Игорь, проходя в комнату.
Шура промолчала.
— Мы подали заявление, — продолжал Игорь, не глядя на нее. — Через месяц развод.
А потом мы с тобой распишемся и…
Шура рассмеялась.
— Ты чего? — посмотрел на нее Игорь.
— Эх, вы! — Шура уперла руки в боки. — Москвичи!
— Да что с тобой! — прикрикнул Игорь.
— Неужели ты думаешь, — Шура в упор посмотрела на Игоря, — я не понимаю, что ты сошелся со мной только из ревности, когда в марте снова появился этот ее… Борис!
Игорь поднял на Шуру глаза.
— Домработницы знают про своих хозяев гораздо больше, чем те думают, — пояснила Шура.
— «Мастер и Маргарита»? — усмехнулся Игорь.
Шура кивнула.
— И неужели ты думаешь, что я бы вас развела, вышла за тебя замуж, прописалась в твоей квартире…
— Но зачем тогда ты всего этого требовала? — закричал Игорь.
— А я ставила эксперимент, — усмехнулась Шура. — Хотела посмотреть, насколько больно ты захочешь ей сделать. — Шура сделала паузу: — То есть насколько сильно ты ее любишь!
— Посмотрела? — задыхаясь, спросил Игорь.
— Посмотрела… — спокойно ответила Шура.
— Ну и как?
— Сильно, — так же спокойно ответила Шура.
Игорь прошелся по комнате.
— А она любит его!
Шура покачала головой.
— Да откуда тебе знать! — закричал Игорь.
А Шура подошла к столу, выдвинула ящик, вытащила листок бумаги и прочитала:
Я думала, что я люблю другого, что он мой свет в окошке и судьба, что он и плоть, и кровь моя, и слово… А оказалось я люблю тебя. Я не была из правильных и строгих: мол, Бог простит, и это ничего… Я думала, что я любила многих, а я тебя любила одного.Шура отложила листок:
— Тетрадь была открыта, и я списала…
— А почему ты думаешь, что это… мне? — тихо спросил Игорь.
— Там в верхнем углу стояла буква «И».
— И… всё? — уточнил Игорь.
— И точка, — ответила Шура.
Игорь опустился на диван и обхватил голову руками. Потом посмотрел на Шуру.
— И что теперь?
Шура пожала плечами.
— Моя Зарина замуж выходит. За директора «Икеи», где она рекламки раздавала, — Шура усмехнулась. — Он и Мохаммата обещался пристроить…
— Прямо как в сказке, — тряхнул головой Игорь. — А ты?
— А я возвращаюсь домой, — Шура помолчала. — У матери рак…
* * *
Игорь еще издали увидел Юлю с тремя детьми. Они сидели на скамейке, и Юля держала на коленях книжку. Игорь подошел поближе и прислонился к дереву.
Ничего не сказала рыбка, —читала Юля, —
Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море…Она подняла глаза от книги и увидела Игоря.
— Знакомьтесь, девочки, это… Игорь, — и, обращаясь к Игорю добавила: — А это Вера, Надя и Люба.
— Три девицы под окном… — пошутил Игорь.
А Юля спросила:
— Ты, наверное, пришел попросить, чтобы я пошла к Шуре в домработницы?
А Надя вдруг брякнула:
— И была б у нее на посылках…
А трехлетняя Люба слезла со скамейки, и подойдя к Юле, спросила:
— А рыбка вернется?
Юля покачала головой, и Люба заплакала.
А Вера возмутилась, что в сказке все должно кончаться хорошо…
А Игорь взял на руки Любу и сказал, что это просто добрым молодцам урок, а на самом деле все будет хорошо.
И все три девочки вопросительно посмотрели на Юлю, и она пожала плечами, что Игорю виднее, потому что он артист и в прошлом году записал эту сказку на радио, а значит, точно знает, как она кончается!
Примечания
1
Подводная лодка, затонувшая 12 августа 2000 г.
(обратно)





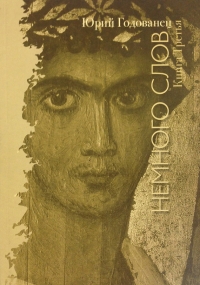
Комментарии к книге «Мама мыла раму», Инна Александровна Кабыш
Всего 0 комментариев