Перец Маркиш Стихи Перевод с еврейского
В июле 1934 года, в перерыве одного из заседаний съезда советских писателей, спускаясь в нижнее фойе, я заметил в центре небольшой группы писателей оживленно разговаривающего товарища. Он сразу заинтересовал меня.
В группе, видимо, шел острый и увлеченный спор. Говорящий в чем-то горячо убеждал собеседников, подкрепляя слова жестами. Несмотря на энергичность жестикуляции, она была мягкой и пластичной. Руки оратора двигались с ритмичной плавностью, как руки восточной танцовщицы.
Он показался мне очень молодым, почти юношей. Был строен, хорошо сложен. Красивая, в черных завитках волос голова была вскинута вверх, и в глубоких глазах горел такой романтический огонек, что я, не колеблясь, заключил, что незнакомец должен быть поэтом. Когда я проходил мимо группы вплотную, он повернулся ко мне боком. Тонкие и правильные черты его вызвали в памяти что-то очень знакомое, не однажды виденное. Сразу я не мог уяснить себе, на кого же он так похож, но, когда я прошел мимо него вторично, сходство стало бесспорным и явным.
Ну, конечно! Этот профиль я неоднократно видел в изданиях сочинений Байрона.
Только черты Байрона крупнее, тяжелей, мужественнее, а в лице незнакомца выражение энергии и порывистости характера сочеталось с задумчивой мягкостью, почти женственностью.
В те годы я жил в Ленинграде. В Москве бывал редко, наездами и большинство московских писателей знал по именам, не встречаясь с ними вплотную. И на съезде многих увидел впервые.
Поэтому я спросил у подошедшего В. И. Лебедева-Кумача:
— Василий Иванович, кто этот юноша?
— Ну, юноша он весьма относительный, — засмеялся Кумач, — почти в наших летах. Зато поэт безусловный и настоящий… Это Перец Маркиш!
* * *
Впоследствии я не раз встречал Маркиша в разной обстановке. И в дни мира, и в тяжкой страде войны. С годами он утратил молодую легкость и окрыленность, которые привлекли меня при первой встрече, но вдохновенный блеск его глаз, его романтическая одержимость не исчезли. Горячим, пламенным, вдохновенным он оставался до конца.
Маркиш родился в 1895 году на Волыни. В патриархальной еврейской семье, предки которой, по семейным преданиям, эмигрировали в давние времена из Испании на восток, спасаясь от инквизиции. Возможно, что экзотическое испанское имя Перец, редкое в семьях евреев, живших в России, было данью семейным воспоминаниям и традициям.
Семья крепко держалась традиций. Как только сын подрос, родители отдали его в синагогальный хор. Может быть, им казалось, что у ребенка выдающаяся кантилена и со временем он станет знаменитым кантором. Маркиш добросовестно и прилежно пел в хоре, но голосом не блистал. В конце концов он, вероятно, допелся бы до звания регента, но жизнь опрокинула планы и расчеты семьи.
Тысяча девятьсот пятнадцатый год. В разгаре первая мировая война. Для кровавой мясорубки в огромных количествах требовалось человеческое мясо. И достигший призывного возраста синагогальный певчий Перец Маркиш получает повестку о явке в управление одесского воинского начальника. Оттуда он попадает в запасный пехотный полк.
Вместо торжественных хоралов ему приходится петь: «Соловей, соловей, пташечка», — без конца шагать и бегать по захламленному полковому плацу с тяжелой винтовкой, ложиться в грязь, щелкать курком, втыкать штык в распотрошенное соломенное чучело и снова вышагивать и бегать до изнеможения. А вечером махарочнодегтярный угар казармы, матерщина унтеров и каменный сон до утренней побудки.
Одна за другой уходят на фронт маршевые роты, и с одной из них едет в промозглой теплушке рядовой российской императорской армии Перец Маркиш. Он попадает на огневую линию в период начинающегося развала: армия переживает позор страшного галицийского бегства с винтовками без снарядов и патронов. В залитых грязью окопах безысходные грустные разговоры об измене и предательстве министров и генералов. Такие же, как и Маркиш, горемыки, одетые в заскорузлые, пропотелые шинели, с отчаянием говорят об оставленных семьях, о голоде, о горькой беде.
Сын угнетенного и преследуемого царизмом народа, Маркиш на фронте воочию убеждается, что несладка в царской России жизнь простого человека любой национальности. В задушевных беседах с однополчанами зарождается верная солдатская дружба и начинает формироваться революционное сознание Маркиша. Мысли кипят и впервые начинают складываться в ритмические строки стихов. Рождается поэт.
В одном из боев немецкая пуля выводит Маркиша из строя.
Госпитальная тишина помогает бесконечным думам. Все больше и больше тянет к стихам. В этих еще робких строчках пылает негодование против догнивающего социального уклада, вспыхивает надежда на лучшее будущее.
Из тихого госпитального уюта жизнь бросает Маркиша прямо в грозу и бурю начавшейся революции. Величественная красота ее событий захватывает молодого поэта. Упоенный стремительным ходом революции, потрясенный, он горячо откликается на проходящее перед его глазами, стремится рассказать обо всем, ничего не упустить. Вихри гражданской войны несут его по вздыбленной земле, раздираемой противоречиями. Рождение нового мира, осуществление лучших заветных чаяний трудового люда в ленинских декретах, с одной стороны, и звериная тупая ярость уходящего прошлого, с другой. Равенство и братство всех народов и чудовищные еврейские погромы на Украине, организуемые кулацкими ордами «батьки» Петлюры.
Трудно разобраться в этом бешеном круговороте, но нужно отозваться на все. И Маркиш пишет. Пишет взволнованно, торопясь закрепить в стихах калейдоскоп впечатлений, не дающих ему покоя.
* * *
В еврейскую литературу твердым и властным шагом входит новое имя. Входит как звезда первой величины.
Еврейская литература и до революции насчитывала в своих рядах крупных и интересных писателей и поэтов. Проза Шолом-Аша и Шолом-Алейхема, стихи Бялика и других литераторов выходили за ограниченные пределы национальной литературы, вливались в фонд мировой культуры. Но еврейская проза была в значительной степени перегружена натурализмом и бытовизмом, а поэзия в основном была философски мечтательной, оторванной от живой жизни. С приходом Маркиша в нее влилась животворная струя активного жизнеощущения, романтический пафос утверждения ее новых, справедливых социальных законов. Пассивная, страдальческая созерцательность классиков еврейской поэзии сменилась в стихах Маркиша боевой целеустремленностью, стремлением к вторжению в жизнь для коренной перестройки ее. Оставаясь глубоко национальным поэтом, Маркиш решительно отверг традиции скорби и уныния, «плача на реках Вавилонских», столь характерные для дореволюционной еврейской поэзии. Он ворвался в тихое царство грустных философских реминисценций, как живой язык пламени. Он ощущал себя сыном своего народа и в то же время сыном всего человечества, которому сияющий маяк Октября осветил путь в будущее.
Об этом он ясно и гордо сказал уже в одном из первых своих стихотворений 1917 года.
Я сам — земля! И пашня — сам! И сам — налившийся на пашне колос… …………… Я с корнем вырвал все, что сгнило на корню, И все, что вырвал, сам похороню. Поднявшийся из тьмы заклятых мраком лет, Я сам их окропил Благим предвестьем дня, И вот уже светает вкруг меня, В ночи затерян след… Я пашня! Я земля! Я колос наливной! И скорби не довлеть вовеки надо мной! (Перевод Л. Руст)Это были еще общие декларативные заявления поэта, но они уже достаточно точны. Он навсегда отрекался от скорби, пассивности, уныния.
В первые годы своей поэтической работы Маркиш отдал дань увлечению пролеткультовской «вселенскостью», громозвучными лозунговыми тирадами, которые заглушали своим барабанным треском и высокопарной риторикой живое и конкретное. Но постепенно, шаг за шагом, Маркиш освобождался от модного пролеткультовского фанфарного пустозвучия. Стихи его обрастали живой плотью, становились все глубже и содержательнее, все теснее сливались с окружающей поэта действительностью.
От «вселенских» стихов Маркиш приходит к простой и ясной поэзии реального, окружающего его мира людей и вещей будничных и обыкновенных, конкретно ощущаемых, работающих на жизнь.
Об этом плодотворном переломе в поэтическом хозяйстве Маркиша убедительно свидетельствуют такие «невозможные» для Маркиша первоначального периода стихи, как «Старая рейсовая машина», «Девушка с косами», «Прогулка», «Роса», «Забота» (перевод этого стихотворения на русский язык великолепно сделан Ахматовой), «У реки» и много других.
Все сильнее и проникновеннее входит в поэзию Маркиша элемент задумчивой и в то же время жизнерадостной лирики, пронизанной светом трепетного ощущения окружающего мира со всеми его простыми и милыми красотами, заключенными в цветущей ветке дерева, в прозрачном зеленом шуме морской волны, в бронзовом блеске девичьих кос, в тепле человеческой руки.
Креп, вырастал, отливался в четкие формы большой и чистый поэтический дар Маркиша.
В 1940 году Маркиш создает одну из своих наиболее значительных поэтических работ, своеобразную, с ярким индивидуальным почерком поэму «Танцовщица из гетто». Глубокий трагизм сплавляется в этой поэме с пленительной лиричностью чувства. В лице танцовщицы перед читателем предстает история страданий и мук еврейского народа, раздавленного и взведенного на эшафот немецким фашизмом. Но сквозь тяжесть этих мук, сквозь кровь и смерть виден свет нового мира, советской родины, где ждет свобода и избавление. Оптимистичен и радостен конец поэмы:
Спокойно море и прозрачны дни. Блуждает белый парус на просторе. — Не ты ли это? На берег взгляни И поверни сюда — спокойно море. Надует парус ветер озорной И, расставаясь, скажет: До свиданья! Пусти здесь корни. Расцветай весной! Забудь свое изгнанье и скитанье! Здесь человеку предана земля, Здесь всех целит голубизна сквозная, Здесь дружбу предлагают тополя, Здесь каждая песчинка — мать родная! (Перевод А. Кленова)В грозу Великой Отечественной войны Маркиш вступил вполне зрелым, законченным художником слова.
Горячий патриот советской родины, человек пламенного и неукротимого политического темперамента, он не мог оставаться в мирной обстановке далекого тыла, отсиживаться в тишине эвакуации. И мы увидели его на флоте в звании бригадного комиссара. Началась жаркая пора борьбы с врагом оружием поэтического слова. Маркиш поднял, как знамя, призыв Маяковского:
Я б хотел, чтоб к штыку приравняли перо…И стихи Маркиша, написанные в период войны, били по врагу и славили героизм, самоотверженность и беспредельную преданность родине советских бойцов, воспитанных партией Ленина, сражавшихся до конца не только за честь, свободу и независимость родной земли, но за освобождение всего человечества от средневекового варварства «белокурых бестий», от коричневой чумы гитлеровского национал-социализма.
Не все стихи этого периода находятся на равно высоком уровне. В боевой обстановке, в связи с мгновенно возникающими заданиями, поэту приходилось часто писать где-нибудь на краешке стола, в горячке редакционной работы, наспех. Но и в этих условиях Маркиш создавал такие незабываемые по силе и выразительности вещи, как «Баллада о пленных матросах», «Доброй недели, мать», «Баллада о пяти» и ряд других стихотворений, в которых отлилась вся ненависть поэта к захватчикам и беззаветная любовь к родине.
Но полностью все впечатления, вынесенные из военной страды, Перец Маркиш вложил в наиболее крупную свою не только по размеру, но, главным образом, по значительности мыслей, по широкому охвату событий во всей их грандиозности и значению для мировой истории поэму «Война». Это была новая творческая победа поэта. В ней Маркиш встал во весь рост как поэт-трибун, как страстный обвинитель фашизма, как верный и преданный боец советской отчизны. Богатство и сложность чувств, и мыслей делают «Войну» выдающимся произведением не только еврейской, но и всей советской поэзии.
«Война» была последней крупной работой поэта. Но в нем кипели новые замыслы, он горел поэтическим огнем, он мечтал о новых произведениях еще более вдохновенных и значительных.
Маркиш в своей поэтической деятельности твердо усвоил и всей своей жизнью подтверждал положение, что «талант — это труд».
Он был неутомимым тружеником. Работоспособность его изумляла. Поэт по призванию, он не замыкался в рамки одной поэзии. Его увлекали и проза, и драматургия, и публицистика, и критика.
В его творческом наследстве огромное количество статей, очерков, набросков, два романа, несколько пьес, очень своеобразных по композиции и ярких по творческому почерку.
Поэт, открывший новые горизонты еврейской поэзии, поднявший ее на новые вершины, еврей по крови и духу, он в то же время был глубоко интернациональным художником, и творчество его близко читателям других народов. Всю свою жизнь он, как лермонтовский Мцыри: «…знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Страстно ненавидя унижение человеческой личности, он яростно и страстно сражался против звериного мира темных сил реакции, наиболее гнусным выражением которых был для него фашизм. Он разоблачал и клеймил его преступления и в цикле стихов о борьбе народа Испании против поддерживаемой силами немецкого и итальянского фашизма кровавой авантюры генерала Франко, и в проникновенных, овеянных сердечной теплотой и силой любви строфах «Танцовщицы из гетто», и в военных балладах, и, наконец, в подводящей итоги его революционного мировоззрения «Войне».
* * *
Маркиш был в расцвете своего мощного таланта. Но жизнь его оборвалась на подъеме. Он погиб в 1952 году.
Истинная поэзия бессмертна. Стихи Маркиша прочтутся поколениями читателей, в душе которых они найдут отзвук, как находили его у друзей и современников.
Борис ЛавреневСтатья печатается с небольшими сокращениями по изданию: Перец Маркиш, Избранное, «Советский писатель», М. 1957.
Стихи
Пороги (1917–1919)
«По телу голому земли…» Пер. Д. Маркиш
По телу голому земли Иду, босой. Светло и сыро… Эй! Эхо прыгает вдали, Обратно брошенное миром. Разбей свой быт, разрушь свой дом, Порог истертый развали, И, не спросись куда, пойдем По телу голому земли! По шерсти трав, примяв поля, Исхлопотав свой путь, как милость… Я у тебя один, земля, А мир — отец мой и кормилец. В тебя зерном я упаду, Травинкой снова прорасту… Эй, люди, слышите? За мной — По влажной наготе земной.1917
«Я сам — земля!..» Пер. Л. Руст
Я сам — земля! И пашня — сам! И сам — налившийся на пашне колос… Нет, то не высь грозою раскололась, То сам я тучею прошел по небесам И ливнем на себя низвергся сам! Я с корнем вырвал все, что сгнило на корню, И все, что вырвал, сам похороню. Поднявшийся из тьмы заклятых мраком лет, Я сам их окропил Благим предвестьем дня, И вот уже светает вкруг меня, в ночи затерян след… Я пашня. Я земля. Я колос наливной… И скорби не довлеть вовеки надо мной.1917
«Я только стебелек…» Пер. Л. Руст
Я только стебелек, затерянный в полях, Побег, что утренним дыханием колеблем… Земля! Мне на тебе довольно быть и стеблем, Колеблемым под сенью голубой, Чтоб мог величьем я помериться с тобой! Я только ветерок, мгновенный, быстротечный, Повеявший на травы с высоты… Но быть и ветерком довольно мне, о вечность, Чтоб бесконечным быть, как бесконечна ты! Пока сама земля с теплом не разлучится И солнце от нее не отвратит свой лик, Мне крохотной твоей довольно быть частицей, И я уже, как ты, вселенная, велик!1917
«На заре я был разбужен…» Пер. С. Левман
На заре я был разбужен Звонкой песней петушиной. Росной россыпью жемчужин, Свежестью рассветных глаз. Словно каплю дождевую, Ночь меня здесь обронила, Окунулся в темноту я — И заря меня нашла. В ликованье побежали Мне навстречу все дороги, Понеслись безбрежных далей Солнечные янтари. И упал я, утомленный, Словно капля дождевая, И проспал, прильнув влюбленно К сердцу алому зари. И склоняюсь я, счастливый, К солнцу, травам и дорогам, Глаз один закрыт лениво, Широко открыт другой. Распростерся я дремотно На горячем солнцепеке, И гляжу я беззаботно Вдаль и ввысь перед собой. И вселенная, быть может, Позаботится о юном, Что лежит на жестком ложе, С вольным ветром говоря. В добрый час, предвестник алый Благодатного рассвета! Ночь меня здесь потеряла, И нашла меня заря!1917
«Я — человек!..» Пер. Д. Маркиш
Я — человек! Я — смысл миров, Я — сущность вечности самой. Из камня, из земли, Из дней и из ночей я сотворен, Лицо я обращаю к небесам: Весь мир — я сам!.. Из далей голубых я сотворен, Из ткани бытия, Из всех времен. Я сам — во времени, И время — это я!..1917
«Приходит час ночной ко мне…» Пер. А. Ахматова
Приходит час ночной ко мне, Всех тише и грустней, Побыть со мной наедине… Вот окна все синей, синей, Уходят стены. Вкруг — меня Один простор ночной. И обувь сбрасываю я, Чтоб шаг не слышать свой. Я на глаза свои кладу Вечерний синий свет И все шепчу в ночном чаду: — Тоска, меня здесь нет!.. И в угол прячусь я пустой, И руки прячу я, От скуки медленно за мной Ползет тоска моя. И пальцами она слегка Моих коснулась скул, И вот уж призрак твой, тоска, К моей груди прильнул. Чтобы мою отведать кровь. Она колдует вновь и вновь. Но прижимаю к косяку Незримый силуэт И все шепчу, кляня тоску: — Тоска, меня здесь нет!1917
«Ты никогда еще так не была свежа…» Пер. А. Ахматова
Ты никогда еще так не была свежа, Как ранней осенью, почти совсем зеленой. Вот ветер за тобой погнался, весь дрожа, И поцелуй сорвал, роняя листья клена. Ты пахнешь камышом, продрогшим на ветру, И спелым яблоком — осенней негой сада! Я сбитый ветром лист взволнованно беру И целовать тебя хочу, моя услада. Брожу растерянно и что-то бормочу. Какая в этих днях неслыханная сила! Мне ветер сердце дал и взял мое. Хочу, Чтоб ты мне сердце подарила.1917
«На песчаных белых высях…» Пер. Л. Руст
На песчаных белых высях Для тебя письмо я высек. Разгадать посланье то Не сумеет здесь никто. Вникнуть в смысл того письма Можешь только ты сама. Так не медли же, иди, Могут смыть его дожди… Если минут встречи сроки, Ветер выветрит те строки. Встречи ждать со мной должна ты, Ждать должна ты в час заката, От зари до темноты… Я знаю сам — кто ты… И таишься где, родная, Милая, — того не знаю… Кем ни быть тебе и где бы Ни была, — с земли и с неба, Из любой, в подлунном мире, Выси, дали, глуби, шири Приходи и молви слово… Для тебя письмо готово, Что на горных белых высях Для неведомой я высек.1917
«Ты влюблен в меня, ветер дорог…» Пер. С. Левман
Ты влюблен в меня, ветер дорог, Ты за мной простираешься следом, Ты целуешь следы моих ног — И усталости груз мне неведом. Ты влюблен в меня, ветер полей, Ты мои оплетаешь колени. На скрещенье далеких путей Ты меня поджидаешь в томленье. И куда б ни простерлась рука, И куда б я ни шел на рассвете, Ты приносишься издалека, Ты навстречу кидаешься, ветер!1917
Восточный орнамент (Фрагменты) Пер. С. Надинский
По неведомым просторам И дорогам, по которым Стонет ветер, мы вдвоем В ночь безлунную бредем. О верблюд печальный мой, Тосковать я буду скоро: Ты один пойдешь домой И не будешь мне слугой!.. Не видна во мгле тропа, И, едва вздымая ноги, Ты ступаешь невпопад По неведомой дороге. Ни воды, ни хлеба тут. Верный, славный мой верблюд, Долго ль мне еще идти? Завораживает нас Песнь твоих копыт в пути. Нас чарует каждый шаг — Этих горных кряжей зной И заснеженный овраг, Что открылся предо мной… Схороню я горе там, С ним навек останусь сам… Мой верблюд, еще немного Будем вместе мы в дороге, Рядом я пойду с тобой, Не тревожа твой покой, А назад уйдешь один — Я тебе не господин.*
Полюблю я ветер смелый, Обручусь я с вьюгой белой. Жгут ее уста, горя… Кружится снежинок стая, С ней и я кружусь, летая, Как листок календаря, Уношусь в седую вечность. И зову: — Ко мне навстречу! — И слились мы, И расстались… ………… От пьянящих жарких губ Я лечу снежинкой талой С тихой песней к тростнику, Задремавшему в снегу. Сколько нам пути осталось? Полюблю я ветер смелый, Обручусь я с вьюгой белой. Жгут ее уста, горя…*
Все, что видишь, сын песков, Я отдать тебе готов, — Я отдам тебе любое. Принимай, мой друг верблюд! Скоро мы простимся тут И расстанемся с тобою… О мой преданный верблюд, Пусть благословляют нас Эти дали и дороги! Гаснет день, еще немного, И пробьет последний час… Видишь — лес и, словно нити, Родники сверкают в нем?.. — Вы, свидетели былого, Дали белые, скажите, Кто здесь спит? Кто погребен? ……… Здесь, в заснеженной пустыне, Мертвый лес недвижно стынет И стоят, как изваянья, Горы в белом одеянье… О мой друг, верблюд печальный, Нам дано в дороге дальней Лишь взглянуть На этот снег, Посмотреть на эти дали — Мы еще их не видали — И расстаться здесь навек.*
О верблюд мой, с горных круч Здесь сползает, пенясь, ключ, И серебряные струи Песней ласковой чаруют, Как отшельника в пустыне. Ты привык к пескам и зною. Хочешь влаги — Вот росою Освежись, Хочешь солнце — только взглядом Высоту окинь — не падай! Скоро в путь пойдешь один… Все печальней, все напевней Здесь родник Одно и тоже Говорит уже столетья… — Ты о чем, источник древний, Говоришь, чего желаешь? ……… Лишь одно хочу, прохожий, — Течь всегда, не замерзая…•
О верблюд, твое молчанье Мне мучительно и страшно… На тебя смотрю, рыдая Пред разлукой. Ты свободен, Так в неведомые страны Уходи теперь. Да будет У тебя одно желанье — Вечно плыть, не уставая. Здесь в высотах, на просторе Схороню я скорбь н горе И навек останусь сам… Полюблю я ветер смелый, Обручусь я с вьюгой белой. Жгут ее уста, горя… Мой верблюд, увы, как страшно Перед тяжкою утратой Мне с тобой вести беседы!.. Но за ночь скитаний наших Что мне дать тебе в награду? О верблюд мой, в час разлуки Жадно тянутся к пустыне Окровавленные руки. Скорбно я спущусь в долины, Ты, уже свободный ныне, Поднимайся на вершины… По просторам — вширь и вдаль — Мой верблюд, ступай один — Больше ты мне не слуга, Я тебе не господин!1918
«Река в огне…» Пер. Д. Маркиш
Река в огне, и в золоте камыш. Камыш все тише шепчет, глуше… И ветрен вечер, и тягуча тишь, И падают с деревьев груши. Кипит кулеш у тихого костра, Столпились лодки у осины, И плещет рыба, и река пестра, И спят амбары, рты разинув. Лежат крестьяне на снопах ржаных — На мягкой полевой постели. Домой ползут возы. Увязнув в них, На небо грабли загляделись.1919
«К колючим головам остриженных полей…» Пер. Д. Маркиш
К колючим головам остриженных полей Припали головы стреноженных коней. И пастухи кричат печально и протяжно Через леса и ширь лугов зелено-влажных. Речушку ветерок линует день и ночь: Вот стер, вот начертил, метнулся снова прочь. На камень бросился, сидящий, словно жаба, — На нем вчера белье с утра стирала баба. Тот камень белый весь, с намыленной спиной. А вдалеке весло все борется с волной…1919
Сирень Пер. Д. Маркиш
— Продай мне, девушка, сирень упругую!.. — День занимается в венке из трав. Навстречу ветру я, на пристань струганую, По трапу зыбкому сбежал стремглав. Земля росистая, селенье сонное… Найдется ль веточка и для меня? О берег плещется вода зеленая, Вода зеленая в свеченье дня. Ты голуба, сирень, и нежно-палева. Вот ветерок тебя к земле пригнул, И приласкал тебя, и тонким пальчиком Пахучий ворот твой он расстегнул. — Продай мне, милая, продай мне, девушка! Вон пароход, гляди, дымит трубой. Ну, хочешь, влезу я за ней на дерево? Я помогу тебе… Сирень… С тобой… Сорви ту веточку лукаво-нежную, Что на меня глядит, стройна, пряма… Так утро пахнет ли, сирень ли свежая, Иль небо чистое, иль… ты сама? Нет, не туда глядишь! Я вижу синие, Искристо-синие твои глаза. Я испугал тебя? Тогда прости меня! Мне одному теперь идти нельзя. Здесь воздух утренний — бальзам сиреневый. Вон в челноке плывет по речке день… На серебро скорей цветы обменивай, Давай мне, девушка, твою сирень. Вот в третий раз свистит труба высокая, Рождая гам кругом и суету… Бегу по берегу через осоку я, — Сирени веточку держу во рту.1919
Вставай, заря! Пер. Л. Руст
На низком встал пороге я И вскинул парус свой… Прощайте, дни убогие, И здравствуй, мир живой! Нас всюду встретят гавани, Есть всюду глубь и высь… Лети ж, кораблик, в плаванье, С причала оторвись! Ты, домик-сиротиночка, Затекший плачем весь, Я был тобой лишь вымечтан, Я вовсе не жил здесь! Вставай, заря, меня вести, Всех жаждущих пои! Нас ждут в высокой зависти Ровесники мои… На низком встал пороге я И вскинул парус свой… Прощайте, дни убогие, И здравствуй, мир живой!1919
Стертые циферблаты (1920–1929)
«Радио — в мир, радиовесть!..» Пер. Д. Маркиш
Радио — в мир, радиовесть! Московской Царь-пушки радиорев!.. От порога к порогу, из веси в весь, От моря к морю. Над морем крови, без звона бронзы, — Камнем из кратера — громом грозным — Алая телеграмма, своды рушь! Лети, радиорык! Сверкайте, десять заповедей душ! На небо — алого шелка заплаты, И провода — рвать, И залепить бумагой циферблаты! От моря к морю, От порога к порогу, из веси в весь, — Московской Царь-пушки радиорев: Радио — в мир, радиовесть.Варшава, 1922
На постоялом дворе Пер. Р. Сеф
За субботним столом, словно царь, восседает хозяин, И двенадцать сынов, как двенадцать библейских колен. — Я, как раб ханаанский, пахал и снимал урожаи, Как еврей и отец, делал все, что нам бог повелел. Вот такой, какой есть, все на свете я делать умею: И доить, и ковать, и уладить базарный скандал. Я трудился и ездил; я видел, поверьте еврею, И Париж и Нью-Йорк, и в Одессе я тоже бывал. В хрен макает он белую халу, сопит и чихает, И, размазавши слезы, которых не может унять, Говорит: «Хрен в субботу — ведь это же радость какая, Все равно что — страничку Талмуда прочесть и понять. А мои сыновья? Я всегда их воспитывал честно, И прошу я вас, пан, объясните, пожалуйста, мне: Я приучен к любому труду, так найдется ли место Для такого, как я, в вашей новой, Советской стране?»Варшава, 1923
«Дом богоматери…» Пер. П. Антокольский
Дом богоматери, какой ты грусти полон? О чем колокола мечтают, замолчав? Химерам скрюченным, двуполым и бесполым, Какие оргии мерещатся в ночах? Звучит под сводами шаг импотента янки. Он в роговых очках. Он страстный антиквар. Он думает о том, не взять ли в содержанки Твою историю. Он оценил товар. Он так почтителен к твоим великолепьям, К разлету этих дуг и ромбам симметрий. Он смотрит, как болван, на известковый пепел, Листает Библию и час, и два, и три. Не сбросить ли химер с твоих рогатых вышек? Вниз туча извести и щебня полетит. Десяток этажей надстроить, чтобы вышел Бетонный небоскреб, его отель «Сплендид». Над мертвым кораблем стервятником бы взвиться: Гей, Квазимодо, бей в колокола скорей! Химерам хочется забредить в огневице Голгофами горбов и зельями кудрей. Ты ведь влюблен, звонарь, и благороден. Качни-ка бронзовые языки! С тобою говорят сто мертвых родин, Тысячелетия моей тоски. Во рту дремучий гул жаргонов, Наследие невозвратимых рас, И пыль, и жажда дальних перегонов, Проделанных в последний раз…Париж, 1923
Благослови меня Пер. Р. Сеф
Благослови на бездорожья, На солнечное бытие и на страданья, Неясен полдень мой, и все же Как четок мир и как светлы желанья. Запели волны, штормом налетели, Эх, стать бы мне таким, как песня, Моим желаньям тесно в теле, Как в побережьях океану тесно. А волны все проходят мимо, Секунды вслед летят неумолимо, И ничего еще не сделал я. Огромен мир. На новые рожденья, На бездорожья и на восхожденья Благослови, о полдень бытия.Париж, 1923
Могила неизвестного солдата Пер. П. Антокольский
Ты крепко спишь солдат. И ромб огней танцует; Проигран в грохоте военных лотерей, Ты спишь на площади. И кажется, к лицу ей Венки, и черный креп, и свечи матерей. Ты крепко спишь, никто, обрубок бранной славы, Спишь, безыменный труп с полей Шарлеруа, И снится площадям: безрукий и безглавый, Ты вылезешь на свет, чтобы сказать: «Пора!» Судьба запряжена в неведомые бури, Несутся города за нею в дождь и мрак, Исполосованы ее бичом, в сумбуре Соборов и витрин, асфальтов и клоак. Встань, безыменный! В путь! Мильоны безработных Колоннами прошли и сдвоили ряды, Команда — по гробам! В карьер! И вскачь! И вот в них Труба врезается, как дикий вой нужды. Пусть башни выбегут с пожарами во ртах. С гербами городов на рухнувших оплечьях. Гни их, огонь, качай, — и, пепел обрыдав, Взвиваясь лентами, развалины калечь их! То «Марсельеза»! Встань! В пустоты костных впадин, В истлевшие глаза, чтобы не мог ты спать, Весь разноцветный мир, тревожен и наряден, Заплещется опять, заплещется опять. Ты крепко спишь, солдат, обрубок бранной славы, Спишь безыменный труп с полей Шарлеруа. И снится площадям: безрукий и безглавый, Ты вылезешь на свет, чтобы сказать: «Пора!»Париж, 1924
Лондон Пер. А. Големба
Как перья филина — туманов пелена. Голодная толпа притихла, не горланит. Над Темзой трезвенной с рассвета до темна Свершает омовение парламент. Полк инвалидов. Вопль предсмертной наготы. Протезы и кресты. Увечные в коляске. Им хочется взорвать надменные мосты, Мосты, провисшие, как ордена Подвязки. Асфальтовая мгла под вольтовой дугой, И женских прелестей товар недорогой. Карминные уста. Белила и румяна. Ты, Лондон, поднял их, как свой имперский флаг, Ты дал им, изо всех земных и прочих благ, Хлеб слова божьего и воду океана.Лондон, 1924
Рим Пер. Д. Бродский
С кем фехтуют рапиры твоих серебристых фонтанов, И чего домогается мертвая слава твоя? О, веков перегар! Тошнотворные дымы струя, Купола литургии тускнеют и меркнут, увянув… Не видать голубей на суровых твоих базиликах, В колокольни вселились ушастые нетопыри… Рим, еще ты горишь! То не солнце ль ущербной зари Истлевает, скудея, как память столетий великих? Тщетно день зажигает тиары соборов святых, Вечер тушит их пламя… И тени в худых балахонах На безрадостный звон ковыляют с кладбищ отдаленных. О, надгробье торжественное из лучей золотых! Купола, колокольни во власти ветров исступленных… С кем же, с кем же фехтуют рапиры фонтанов твоих?Рим, 1924
Москва Пер. Э. Багрицкий и В. Левик
Вот я — песчинка средь пустых песков. Вот я — кремень среди камней пустыни. Я должен быть таким — И я таков. Возьми, мой век, Восторг мой детский ныне, Я повзрослел. Я к зрелости готов. Твоих законов мудрых Не страшусь: Пасть за тебя? В передней роте буду! Сломить строптивых? Сам переломлюсь… Не первым, так последним — Я смирюсь, Но только бы С тобою быть повсюду! Всегда с тобою и всегда вперед! Не с теми, Что отстали и забыты! Мою мятежность Время пусть ведет Над безднами И ввысь через граниты. Чтоб утвердить ее и закалить В огне, в ветрах, Чтобы ножом убойным Ее земле в нагую грудь всадить, Чтоб дрогнул мир В своем движенье стройном. Чтоб для меня Разверзлась глубина И мне раскрылись Всех начал начала. Внимайте все! Мятежность мне дана, Но Время непокорную взнуздало. И в сердцевине мрака, В тяжкой мгле Гудящей ночи, В завываньях влаги Ныряют купола, Как с кораблей Закинутые в темноту морей, О помощи взывающие фляги. Чтобы потом в морях, через века, Поймав, их распечатала рука. Чтоб чей-то глаз На рукописи старой Прочел слова, Что океан глотал: «„Октябрь“… „Аврора“… Выстрелы… Пожары… Народ настиг… Обвал… Обвал… Обвал… Рабы… Приказываем… …Не желаем… …Мы… Палачи… Владыки… Короли… Безвестных стран… Распаханной земли… Мы тонем… Погибаем… Погибаем…» Несутся купола в просторах тьмы, Как вплавь пустившиеся корчмы, Где в комнатах, табачных и туманных, Огромные бородачи в кафтанах Бубнят слюняво, Сдвинув к заду зад: «Эх ты, сад, Зеленый сад…» И у стены, ослепший от испуга, Где сумасбродят черные кусты, Мяучат прокаженные коты, Луною мусорною облиты, Скользящие, как вереницы пугал… И все-таки Москва — Она жива! Она лежит, вознесшись над веками, Дорогами Вцепившись в шар земной Горячими, вопящими руками. Она лежит В лучах планет, Под строгим взглядом звезд, И ночь светлей В ее нетленном свете. И каждая пылинка и кирпич Стремятся к небу И в простор безгранный Восходят грозно, Как призывный клич, Как возглас рога В полночи туманной. И грани стен, как песенный порыв, Восходят вверх, и песен хор безгранный Восходит вверх, как омертвелый взрыв, Как возглас рога В полночи туманной. Тогда встают из-под трухи крестов Чубатый Разин, Черный Пугачев, Как фонари, Зажженные безумьем, Подняв в ладонях Головы свои Вниз, с места лобного, В чугунном шуме Цепей, В запекшихся кусках крови, По Красной площади Проходят молча Тяжелой поступью, С оглядкой волчьей, И в Мавзолей спускаются, И там, Надрывно двигаясь В кандальном гуле, Один у головы, Другой к ногам — Становятся в почетном карауле.1929
Корни (1929)
Мой дед Пер. В. Бугаевский
Полсотни долгих лет, хребтом сиявших радуг На Понники вел деда старый шлях. Скопить приданое для дочек — труд не сладок! Зятьев держи годами на хлебах. Копейка деду доставалась потом, Сквалыжничал он, каждый грош берег. И до утра кроил. Спал только час. Да что там! В путь снова, в марево зеленое дорог. Шагай пешком, бей ноги и коверкай… Мелькают гроздья бус на шеях у девчат, И встречный воз скрипит: «Еще далеко, Берко!» Относит ветер бороду назад. Зеленый луг, бугор зеленый, Зеленый вяз, зеленый мост, Зеленый, солнцем раскаленный Путь в город — десять с лишним верст. Зеленые кусты и травы, И только он один седой Средь этой зелени курчавой Спешит зеленою тропой. И кажется, что вместе с вязом И зелень нив, и зелень верб Кричат ему вдогонку разом: «Куда спешишь ты, Шимшон-Бер?» Вокруг раздолье молодое, Леса и пашни вдалеке, Лишь он, как дерево седое, Мой дед с работой в узелке. Для всех всегда у деда находилось Словцо привета. А подчас, Чтоб побыстрей тепло по жилам расходилось, И шкалик маленький имелся про запас. На фабрике весь день идет примерка, Но вот и вечер в нитях золотых. И версты пыльные глотает снова Берко, Зеленой далью запивает их. Полсотни лет, как шов портняжных строчек, Дед мерил этот шлях длиной своих шагов То за приданым для красавиц дочек, То за харчами для своих зятьков. Шагал он и никак не мог угомониться, Покуда жилистых не измочалил ног, И стал из ястребиных глаз сочиться Солоноватый, жгучий сок. Когда же наземь вывих застарелый Валил его среди дороги вмиг: «На фабрику торопишься? В чем дело? А ну-ка, что спешить, тут полежи, старик», Он не терял сознанья, Узелочка С работою из рук не выпускал, Но, опершись на локоть иль на кочку, Стонал от боли, вдаль смотрел и ждал. Ему бы хоть глоток воды в то время. Хоть прядь откинуть с потного виска… — Ой, чо-ло-ви-че, — потирал он темя, — Стой! Потяни за ногу старика. ………… А дома после вспоминал: «Ну что же, Вахлак какой-то, сельский почтальон, А стоит как-никак трех богачей дороже. Со мной и часу не возился он, Мне вправил ногу, И так прытко, Как будто бы в иглу вдел нитку». Мечтал мой дед: «Ну почему не стать бы Зятьям учеными, а сыну скрипачом?..» И пышные справлялись детям свадьбы, Со всей обрядностью, с отменным торжеством И трапезой для нищих… Дед мечтал о том, Чтоб множилось его потомство год от года, Чтоб за столом субботним каждый раз Все сыновья его и внуки, вся порода Сбиралась и с семьи он не сводил бы глаз, Чтоб все местечко уважало Берко И, если кто зайдет понюхать табачок, Он, сидя в креслах, обронить бы мог: — Где, внучек, костяная табакерка? В шкафу, быть может? Поищи, дружок! Любил он с подмастерьями своими Усесться за обеденным столом И водки, крякнув, выпить вместе с ними, Потом потолковать о том, о сем: О ремесле портняжном, О работе, О пятнице, клонящейся к концу, Как шили встарь тулуп иль шубу на еноте, Как он живет И как жилось отцу. — Да, нынче, что сказать, беда, а не работа. В ней вязнешь, как в смоле, не вытянешь никак. Ведь Ксилу только мух ловить охота — А петли обметать? Нет, тут он не мастак. Ел Ареле семь лет мой хлеб, А ныне он в ссылке. Царский хлеб теперь он будет есть. Где Лейбеню? Нет и его в помине. «Ямпонцев» бить ему досталась честь. А подмастерья все свихнулись, взбунтовались, Из полуштофа спирт глотать они вольны… Бог с ними… Натяну наперсток свой на палец, И если Лейба мой воротится с войны, И руки у него останутся, и в дело Он пустит вновь иглу, — Тогда мы заживем, Портняжничая с ним, как встарь… ………… Дед требовал всегда, чтоб бабка шинковала Капусту бочками, Чтоб гусь изжарен был… Но не легко рука упрямца выдавала Гроши, что он за труд недельный получил. Ворчал: — Весь божий мир подай, и то ей мало! — Аршином по столу стучал, Потом, взяв мел, Считал, подсчитывал, над цифрами корпел, Слюною все стирал и не любил, бывало, Чтоб под руку ему хоть кто-нибудь глядел. Но если рублики, накопленные потом, И вытащишь тайком — пусть он и вел им счет, — Все ж не заметит дед пропажи, не смекнет. Молился дома он обычно по субботам, Хоть в синагоге был ему большой почет. — Бить ноги и ходить еще туда… Чего там! Бог не подачки, а молитвы ждет. Когда ж и ноги в службе отказали И с кресел дед вставал уже едва, Синагогальный служка прибежал: — Вас звали, Реб Шимшон-Бер, прочесть священные слова. Ведь синагога наша недалече, Но я не потому зашел, а невзначай. А дед сидел босой пред домом на крылечке И ложечкой студил в стакане крепкий чай. Впихнул он в ноздри табака понюшку, Чихнул, сморкнулся, вытер нос платком. — Плевал я трижды, передай им, служка, Сперва на них, на их почет потом. Но вот листовки город всколыхнули. «Товарищи», «Борьба» — гремело все вокруг, И выплеснуло на просторы улиц Мастеровых, И, как цветами луг, Все ленточками красными пестрело И флагами… Дед из окна сперва, Потом с крыльца глядел И то и дело, Дивясь им, новые перебирал слова, Не понимая смысла их и силы И не решаясь повторять их вслух, Но, увидав — да что же это было? — Идущего в толпе, поющей песню, Ксила, Спросил: — Поет он или давит мух? — И, ястребиными сверкнув глазами, Сказал: — Вот эти? Грош им всем цена! — От гнева кровь бурлила в нем волнами, Но вскоре успокоилась она. Он, Ксила встретив, сам пошел к нему навстречу. — Ну, Ксильчик, времена! Ты в доме гость у нас. Забудем старое, ведь не об этом речи… — И, руку взяв его, почтительно потряс. И тут его лицо как будто стало строже. Да, времечко пришло… Так вот ты, Ксил, какой! А впрочем, если царь в калошу сел, Как может Об этаких делах судить простой портной? И он ушел в село, Чтоб на живую нитку Сметать там старость кое-как, И бремя лет, и капли пота, как пожитки, Унес мой дед с собою в скорбь и мрак. Ушел — он в понедельник, на заре. И до тех пор, пока звезда, мигая, Под вечер в пятницу не вспыхнула, Мой дед Сидел тихонечко у клуни на дворе, Тоскуя о стакане крепком чая, Тоскуя и не зная, Имеет право жить он или нет. «К чему, Зачем, Когда теперь хозяин Ксил И землю, словно пламень, охватил, И кувырком все полетело с маху?..» Он все село обшить и обметать успел И все ворчал: — Вот жизнь досталась мне в удел, Как на субботу драная рубаха! К благословенью свеч вернулся он домой. С ним было то, что взял он за работу, — Лукошко с яйцами, петух живой, За пазухою каравай ржаной, И на молитву встал старик — встречать субботу. И стал закройщик у стола, который Ждал каждый день его с рассвета до темна, Как ждет субботний кубок в эту пору Хоть капельки изюмного вина. А ночь сочилась, вязла, духотой томила. Молитву дед над хлебом произнес ржаным Так тихо, что и слов не слышно было, И стал покорно ждать, чтоб смерть пришла за ним. Явился ангел смерти к деду Шимшон- Беру, Принес откормленного петуха И узелок с работой. — Сшей, к примеру, Мне френч и брюки из шинели серой, Да побыстрей, Да так, чтоб не плоха Была работа. Чисто, без заплаток Сваргань все в аккурат, приду за ней чуть свет, А петуха бери себе в задаток… С испугом глянул побледневший дед На петуха, на парня. Корку хлеба Рукой дрожащей птице накрошил И прошептал: — Ой, серденько, не требуй! Как шить, когда мне божий свет не мил? А петуха мне твоего не надо. — Какой я «серденько» тебе, старик? Взгляни-ка на меня, — Я офицер казачий. — И стукнул по лицу, — Шутить я не привык! Потом фабричный фельдшер, кашляя натужно, Ощупал деда опытной рукой. — Что ж делать, Берко, Помирать-то нужно! — Что делать, нужно! — Дед ответил мой.1929
Спелые ночи (1929)
Спелые ночи (Фрагменты) Пер. А. Ахматова (4) и Д. Маркиш (2–3, 5-12)
2
Есть время такое, есть час такой — Я шорох могу уловить любой. Пришел ли кто иль крадется вдали, Но к каждому руки простерты мои. Пускаюсь, как зверь, напрягая слух: — Откуда здесь овцы, откуда пастух? Кто здесь, пастух, нарушил покой?.. Есть время такое, есть час такой. Все вижу я, вижу издалека: — Откуда ручей здесь, откуда река? Зверя сюда привела вода: — Ну, что ему делать? Пойти куда? Перед питьем, в прибрежных кустах Зверя сковал, исковеркал страх. Не хочешь ты, зверь, от реки уйти: Яма есть на твоем пути… Солнечный путь золотой на реке!.. Я восхожу, я ищу вдалеке. Я не покоя ищу, не питья. Ласкаю капкан, глажу сети я… Птицы летят в свои гнезда, в лес, И на реке — серебристый плеск. Солнечный диск над рекою одет — Золото с оловом на воде.3
За мною идет ветерок по пятам, Одежд твоих плеск никому не отдам! Тело взывает к земле и к воде: Кто плеск этот смел не услышать и где? Как влажен сегодня степной ковыль… Земля дорогая, любимая пыль! Скажи мне, ответь, горизонта нить: Как долго нам радость с тобою делить? В сумерках ветер сладок, как мед. Кому же сегодня до дум, до забот? Навстречу мне — синий закатный дым… — Как долго я буду таким молодым? Крылья ветрянок поют в вышине — Как ветер сегодня ласков ко мне… Жадные руки мои протяну. Закат опоясал, зажег вышину. Шелестом, плеском, дыханьем огня Пышет одежда простая твоя. Руки с моими руками сплети, Чтоб телу из тонких одежд не уйти! Иду я с охапкой ветров тугих. Судьбу свою вижу на чреслах твоих… Сок моей плоти, крепость костей, Где же скрещенье моих путей?..4
Две мертвые птицы на землю легли. Удар был удачен… Что лучше земли? Здесь, в солнечной этой блаженной стране, Упасть так упасть! Так мерещится мне. Две вольные птицы пустились в полет, Куда же им падать, куда их влечет? Лететь так лететь! Как слепителен свет! Широки просторы, и края им нет. Довольство и мир, довольство и мир, Земля зазывает нас будто на пир. Но воля и солнце безмерно влекут, Ведь там одиночества верный приют… Птиц этих на свете не жаль никому; Лишь мне захотелось уйти одному, Но я позабыл и зачем и куда. Иду, предо мною заката гряда. Лететь так лететь, а упасть так упасть. Я землю забыл и небесную власть. Вот солнце заходит, как пышный павлин. Где путь мой, где путь мой? Я в мире один. Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем! Упал так упал. Не жалей ни о чем. Лететь так лететь. Как слепителен свет! Широки просторы, и края им нет.5
В сиянии ночи бурлит моя кровь. Земля, обогрей меня! Высь, укрой! В сиянии ночи всхожу в тишине… Но кровь моей родины дышит во мне. В сиянии ночи, над шелестом трав, Лечу я, всю землю руками обняв. Дорога! Ты — песнь… Не расстаться с тобой… — Где здесь земля, где простор голубой? Вспыхнула ночь в оперенье златом… — Прильну к тебе грудью и жаждущим ртом! Тобой я зажжен на средине пути, — Роди меня! Снова потом поглоти! Горит моя плоть, и летуч я, как дым, Один я в дороге, совсем один… Светло от жары, брызжет светом она… Где же ты? Где твоих рук белизна? Тропа ли ночная, дневной ли путь… — Ты ли здесь? Может, другой кто-нибудь?.. — Ты — тайна жизни, само бытие. Весь хочу влиться я в тело твое. ……………7
— Возлюбленный! — тихо сказала она. — Прислушайся — темень тревогой полна. Сегодня никак не могла — отчего? — Я запах тела узнать твоего. Мне чудятся стоны, мне чудится вой! Мне душно, темно мне, как перед грозой. Ты слышишь — вдали, ты слышишь — в ночи… Я долго ждала… Почему? Не молчи! И ночь тишину за собою влечет. И боль изо рта ее тихо течет. — Опять этот вой… Расслышал ли ты? Как будто зверь воет: «Мяса! Еды!» Когда тигру мясо дадут — почему Он мясо целует, никнет к нему? В глазах его — радость, в глазах его — боль, Он тянется вширь, он тянется вдоль. И мяса не рвет сверкающий рот: Тигр слушает, смотрит, чего-то он ждет. Но темная тяжесть придавит потом Тяжелую голову с жаждущим ртом. И голод горяч, и глаза горячи… От воя вдали… От плача в ночи… Спросила она: — Не могу — отчего — Я запах тела узнать твоего?..8
Печально бело нынче ложе мое, Тоскующе-холодно стен забытье. Кто нынче спокойным остаться бы смог? Проснувшись, дрожит в эту ночь потолок. Все ли я сделал? Да или нет? Считаю я строй холостых моих лет. Я их, как рубашки, считаю опять, Которые надо заштопать отдать. Вот уже скоро… сейчас… — Обожди! Есть еще день, еще ночь впереди! Очаг не сужден мне ни мой и ни чей. О, спелость моих холостяцких ночей! Созревшие ночи и сочные дни… Как груши с деревьев свисают они. Кто радостно рвать их сегодня придет? Их соком, как хлебом, насытится тот. Ну, так придет? Сок бродит в ночах… Когда бы имел я дом и очаг! Не пять прошло и не десять лет, — А все очага у бездомного нет! Печально бело нынче ложе мое, Тоскующе-холодно стен забытье.9
Шагов твоих стежка ложится на снег. Бегу за тобой я — и легок мой бег. Просыпала вьюга миллион лепестков… Я слышу напев торопливых шагов. На стрелки ресниц снежинка легла — Как этот напев создать ты смогла? Долго не тает снежинка… И пусть! В напрасный я, верно, отправился путь. Шагов твоих стежка ложится на снег. Настигну тебя? Догоню или нет? Тебя догоню я. Настигну… Скажи, Зачем поколенье мое так спешит? Торопится век мой в боях и в пути, Не смеет дыханья он перевести. С рожденья взяв небывалый разбег, Не знает покоя стремительный век… Не тают снежинки, белей лепестков… Влечет меня песнь торопливых шагов. В бою никаком, ни в какой из стран, Ты не касалась бинтом моих ран. Ушли, отгремели эти бои… Но так же певучи колени твои… Шагов твоих стежка ложится на снег. Бегу за тобой я — и легок мой бег.10
Я сердце свое наколол на крючок. О, спелых ночей моих приторный сок! Чтоб птицы смелей прилетали в наш сад, Я зерен тугих им насыпать был рад. Клюйте же, птицы, из чашки простой! На пользу послужит вам хлеб золотой. Чтоб птичьи птенцы набирается сил, Я в блюдце росы серебристой налил. Чтоб ты не исчезла в пучине дорог, Я сердце тебе выношу на порог. К порогу приблизишься ты моему. Молча… Но я ведь и так все пойму! Неси свое сердце за мной по пятам! И я понесу… Никому не отдам… Пойду за тобой и найду твой дом: — Вот оно, сердце! Что делать потом? Олень где-то чащу во мгле пересек, Радость дорог на рогах он несет, Радость дорог на ветвистых рогах, И вечера привкус на мягких губах. Деревья, земля… Милый мир голубой!.. Вечер… И я возвращаюсь домой.11
Будит она меня вдруг: — Оглянись! Путь твой так долог был. Слышишь? Проснись! Руками угасшими я отвечал: Я видел и счастье, и гнев, и печаль… — Ну, оглянись же! — Велит мне она, — Что значат на лбу у тебя письмена? Я отвечаю ей из пустоты: — Тебе показалось. Ошиблась ты. Тихо и душно. И на весы Ночи прошедшей ложатся часы. Снова будит: — Проснись, живей! Иней лежит на твоей голове. Сонно я ей бормочу в ответ: — Это не иней, а жизни след. — Дай твою руку, — шепчет, — ну, дай! Чего-то боишься ты… Смерти, да? Я говорю, покачав головой: — Не знаю чего, сам не знаю чего. Свалены годы и ночи в углу, Как рваное, в дырах, белье на полу… День на дворе. И солнце и свет. А мой день ушел. Моего дня нет! Нет дня моего. Нет! Не найти! Но мне ведь идти по другому пути…12
Вишни она принесла на заре. Молча. Без слов… Пустота на дворе. Вишни. К постели. Не раздави! Кровавое ложе, ложе в крови! Где эта ветвь родилась, где росла? Босая и тихая их принесла. По две и по три. И рядом листки. Вишни — как розовые соски. Провод и крыша в открытом окне. Песня грачей прилетает ко мне. Вишен горящих не раздави! — Кровавое ложе, ложе в крови! Грачи улетают в зеленый рассвет. — Где мы теперь? — Но ответа нет. День начинается. Птицы в полет! Песня вернется, песня придет! Синий свет ночи зачах, зачах! Горят, расцветают вишни в лучах. По две и — по три. И рядом — листок. День у твоих опускается ног! Где же ты? Где? Отвечай, не таи! Еще мне любимей руки твои!.. Вишни она принесла на заре. Молча. Без слов. Пустота на дворе…1929–1930
Мое поколение (1930–1937)
«От старых пастухов, бросавших города…» Пер. Б. Колычев и С. Левман
От старых пастухов, бросавших города, Вдыхавших средь пещер пергаментную плесень, Я унаследовал большой и сладкий дар — Великолепное вооруженье песен! И — знак, преемственности — древний алфавит О грандиознейший точильный камень века Я должен наточить, — пусть голос мой звучит Величественной правдой человека. Упорный труд и подвиг вдохновенный Мыслителей, поэтов и борцов Достались правнуку, как грамота веков — В мечте о справедливости священной. Иди вперед, мой век, во весь огромный рост! Греми, гроза, в которой гнев и радость! Весь мир изрезан поездами звезд, Высокими шлагбаумами радуг. Раскрыты пред тобой сверкающие шири, Твой путь в пыланье молний голубых, — И радостно в тебе клокочет сердце мира, И совесть века — в подвигах твоих. Я жажду истины в скитаниях сберег — Бессмертное сокровище народов, И путь ее — на запад и восток В огне освободительных походов!1932
Воплощение Пер. Л. Руст
И камню, может статься, не легко, Когда его резец жестокий режет… Быть может, отзвуком на стон его, на скрежет, На срезах изрубцованных его Исторгнется из тьмы и выявится в свете Слепая клинопись тысячелетий… Быть может, болью скрытою своей Исходит дерево, когда, влекомы к сини, Под натиском весны бушуют в древесине И раздирают ствол зародыши ветвей. Но только нам, владыкам из владык, Наследникам времен и поколений, Дано постичь материи язык И мудрые законы воплощений. Быть может, плачет глина в тишине, Пока ваятель бьется над замесом И плоть аморфную то сплющивает прессом, То на медлительном калит огне… Но только нам, единственным из всех, Питомцам бурь и песнопевцам штормов, Дано осмыслить боль, и сдвиги ветхих вех, И выплеск вещества сквозь косный панцирь формы. Не мерим чисел мы и времени не числим, Как счета им стрела в полете не ведет. Как ей на тетиву закрыт обратный лет, Так нам возврат к исходным дням немыслим. Уж даль распахнута. И, ею окрылясь, Нам стелют вихри путь по судьбам, по годинам… Мы смотрим в прошлое лишь в помысле едином: Не для того, чтоб с ним свою упрочить связь, А чтоб в грядущее стремительней войти нам. Да, может быть, и камень терпит боль, Когда его резец жестокий режет… И только нам доверено судьбой, И только мы единственные в силе На стыке тьмы и светоносных зорь Прославить и осмыслить скорбь И в воплях, в скрежете, в стенаньях укоризны Расслышать первый вскрик рождающейся жизни.1932
Красная Армия Пер. Л. Руст
1
Священная клятва проста и строга: «Где б враг ни таился, разведай врага! Разведай, почуй, уничтожь, размети, Из нор его выбей, срази на пути!» И старцы и дети бросали дома, Был зной нипочем, не помеха — зима, Был ветер им братом в суровые дни, Не хлебом, а гневом питались они. К земле приникала несжатая рожь, Сердца говорили: «Врага уничтожь!» И ринулись все на врага, как один, От Черного моря до северных льдин. Ленты да пули, на пулях — литье: «Ройте могилу себе, воронье!» Преданьем овеян и кровью скреплен, Пылает твой подвиг в анналах времен. Потомкам слагает сказитель народ Былины про твой легендарный поход.2
От солнца до солнца с винтовкой в руках Красноармейцы стоят на постах. Взоры буравят студеную тьму, Боец насторожен, и мнится ему Отзвуком гулким промчавшихся дней Топот буденновских жарких коней. Песня, и топот, и посвист, и звон — Молниеносный летит эскадрон. Головы в тучах, и знамя горит Ярче степной кумачовой зари. В солнечном радостном шуме лесном Дали кричат бойцам о былом. Горы гремят, высоки и крепки: Красные по полю мчатся полки.3
Играют на солнце, сверкают штыки, Движутся по полю наши полки. Сразиться, схватиться вплотную с врагом. Дали огнем полыхают кругом. Пылают от скорби и гнева сердца — Огня горячей, тяжелее свинца. Наказ и команда: «Смотри, карауль!» Песня сливается с посвистом пуль. Лихие матросы летят впереди, С такими хоть в самые жерла иди. Присяга ветров и винтовок — одна: «Ты будешь свободной, родная страна!»4
Несется Чапаев, как вихрь, на коне, Глаза на при деле, рука на ремне. И снова разбужены скоком лихим, Леса и просторы несутся за ним. Летят на врага под обстрел, под огонь. Такому ли вражьих бояться погонь? Он оторопь сеет во вражьих рядах, Столбами дорожный взвивается прах. Он в полночь глухую и в светлый рассвет С бойцом пограничным ложится в секрет. Ни шашка, взвиваясь, ни пуля, звеня, Не сбросили всадника в битве с коня. И всюду, где должно разить и стеречь, Он перед бойцами, как знамя, как меч.5
Священная клятва проста и строга: «Где б враг ни таился, разведай врага! Разведай, почуй, уничтожь, размети, Из гнезд его выбей, срази на пути!» И горе тому, кто дерзнул посягнуть На родину славы, на нашу страну. И то, как мы родину любим свою, Любые враги распознают в бою.1932
«Вернулся я к тебе из дальней стороны…» Пер. А. Ревич
Вернулся я к тебе из дальней стороны, Нарушил я обет и память предков предал. Здесь, на твоей земле, разорены Могилы древние, кладбище наших дедов[1]. Лежат останки их среди могил бойцов, Здесь пронеслись бои, столетний плен развеяв, А мне не воскресить забытый прах отцов — Гонимых из страны в страну евреев. Они покорно шли, как гурт овец в загон, Шли, страхом скованы, кляня свое бессилье, Под лязг и звон секир, под колокольный звон Шли в тюрьмы Кордовы и на костры Севильи. Над головой твоей опять занесены Орудья палачей — куда страшней секиры. Пришел я из Москвы, из дальней стороны, Пришел как брат, не как изгнанник сирый. Я вновь свою судьбу теперь связал с тобой, Когда ты стонешь, кровью истекая. Несу тебе любовь и опыт боевой Из вольного, прославленного края. Проснулась ты в годину мук и бед, Чтоб вольность отстоять в горниле испытаний Да сменит звон меча бряцанье кастаньет, И яркой молнией разящий меч твой станет! Европа вся в дыму, огнем озарена, Вся кровью залита, а над тобою ныне Уже занесены, несчастная страна, Крест Гитлера, секира Муссолини. Они разносят по земле чуму, Хотят, чтоб землю трупы заражали, Летят, как злые демоны, в дыму Над пеплом городов, над грудами развалин. Они несут предательство и страх, Бесправье и разбой, расстрелы, бомбы, пламя, Они живое все сжигают на кострах, И путь их вымощен повсюду черепами. Но мужество твое, оно всегда с тобой, С тобою вера твердая в победу. В Мадриде каждый камень рвется в бой, Готовы к бою хижины Толедо. Путь боем озарен, и чувствуют сердца: Звучит разрывов гром, звучит атаки топот, Как эхо выстрелов у Зимнего дворца, Как громовой повтор атак у Перекопа. Твой путь, твоя судьба, как горы, высоки, От поступи твоей вскипают волны моря. И дети в бой идут, и старики, Чтоб отстоять твои поля и взгорья. Светла твоя душа, и помыслы чисты, И звонко бьется сердце молодое. Не хочешь быть женою труса ты, Ты знаешь: лучше стать вдовой героя! Не плачет о погибшем друге друг, Сын об отце убитом, брат о брате, — Берут оружье из холодных рук, А губы шепчут клятву о расплате. Повсюду, как гурты растерзанных овец, Деревни мертвые лежат в крови и гари, Любой булыжник рвется, как боец, По вражеской броне, по свастике ударить. За всех детей, погубленных врагом, За брызги крови на листве и травах Пусть грянет, как обвал, обрушится, как гром, Народный правый суд и гнев народа правый! Здесь прошлое мое — среди могил бойцов, Здесь пронеслись бои, столетний сон развеяв, И мне не воскресить забытый прах отцов — Гонимых из страны в страну евреев. Тех, что покорно шли, как гурт овец, в загон, Шли, страхом скованы, кляня свое бессилье, Под лязг и звон секир, под колокольный звон Шли в тюрьмы Кордовы и на костры Севильи. Я вновь свою судьбу теперь связал с тобой, Когда ты стонешь, кровью истекая. Несу тебе любовь и опыт боевой Из вольного, прославленного края. Как на вершинах пиренейских снег, Сынов и дочерей твоих не меркнет слава. Верней оружья не было и нет, Чем твердость, мужество, чем гнев народа правый!1936
Ленин Пер. С. Надинский
Придет одно и сменится другим, Уходят поколения навеки, Но никогда народ не разлучался с ним, Как с морем никогда не расставались реки. То слово, что, взлетев с броневика, Над миром, как набат, когда-то прозвучало, Еще живет в сердцах и будет жить века — Одержанных побед великое начало. На строгий монумент, чей сумрачный гранит Хранит его черты, порывистость движений, Народ воспрянувший не с горестью глядит, А с гордостью — мы с ним в труде, в дыму сражений. Народ его мечты взрастил, как семена, И сердце уберег, его заветам внемля. Цветущая, как сад, раскинулась страна, Обильный урожай едва вмещают земли. Что времени незыблемый закон? Пускай в природе неизбежно тленье, Но смерть побеждена, и вечно будет он Великим светочем грядущих поколений. И, полон новых сил и к подвигам готов, Идет народ-творец заре навстречу, Поднявши голову до самых облаков И, полон новых сил и к подвигам готов, Во всем, что ныне мы без устали творим, Сверкает мысль его, великая, простая, И кажется — он здесь, он жив и вместе с ним Любимая страна живет и расцветает. Ту клятву родине, которую сыны Народа дали в дни кончины и печали, Они исполнили, ей до сих пор верны. В боях закалены, они обет сдержали. Его простертая в грядущее рука Сулит свободу, мир, зовет к счастливой доле Народы всей земли, которые пока Томятся, как рабы, под гнетом и в неволе. Народом вскормленный, познал он до конца Его стремления, и радости, и горе. Со всех сторон к нему стекаются сердца — Так воды вешних рек, бурля, несутся в море. На строгий монумент, чей сумрачный гранит Хранит его черты, порывистость движений, Народ воспрянувший не с горестью глядит, А с — гордостью — мы с ним в труде, в дыму сражений.1937
Танцовщица из гетто (1940)
Танцовщица из гетто Стансы (Фрагменты) Пер. А. Кленов
1
Стремительно блистанье легких ног — Моя любовь танцует перед вами: Встречается с клинком стальной клинок И объясняются, сверкая лезвиями. Бушуют складки платья и фаты, Подобно говорливому прибою. И буйный ветер, разбросав цветы, Зовет тебя и тянет за собою. И вот — гора и бездна… Снег какой! И на скале отвесной — поединок… Не упади! Молю тебя тоской Изгнанья, слез, скитальческих тропинок… От плеч струится серебристый ток, Но что-то недосказано ногами… Встречается с клинком стальной клинок И объясняются, сверкая лезвиями.2
Куда тебя зовет, куда ведет Холодный ветер и ночное горе? Метель метет, в полях метель метет. Калитки и ворота на запоре. Ненастной ночью, дымной и седой, Слепому року ты себя вручила, И он не разлучается с тобой, И требует, чтоб ты его любила, Чтоб ты ему плясала на заре И забывала нищету и голод… Кому не сводит ноги на костре? Кому не сводит ноги лютый холод? Сама земля пылает, как костер, А небо дышит стужей ледяною… И ты танцуешь… И висит топор Над запрокинутою головою.3
Твой грозный рок отныне всем родня И всем чужой… Не жалуйся. Ни слова! Танцуй ему, запястьями звеня; Веди его, как поводырь слепого. Он вездесущий — он на всей земле; Не отставай — ему дала ты клятву. Он меч волочит в непроглядной мгле И отовсюду собирает жатву. В любой стране его узнает ночь: Оброк с живых и мертвых собирая, Он всех готов приветить, всем помочь: «Покойтесь в бозе — вот земля сырая!» Испей же яд его, как пьют вино; Танцуй ему в харчевнях и в острогах… И не стыдись — веди его… Темно И пусто на заплеванных дорогах.4
Сравню я разве океан с рекой? И разве буре гавани по нраву? Из сердца шумно вырвался покой И улетел, как золотая пава. Мне следовало паву привязать, Как старую козу, к ветле веревкой… Коза ушла… И горевала мать… И дом ушел, с чуланом и с кладовкой… Была коза… Безрогая коза… Ей миндаля хотелось и изюма… Ушла коза за долы, за леса, Подальше от людской беды и шума… Осталась сказка — больше ничего! А детства нет… В моих скитаньях долгих Ищу его, и нахожу его, И вновь теряю на ночных проселках.5
Сказанье о козе, что вдруг ушла, И о ветле, из коей вяжут метлы… А впрочем, где коза и где ветла? На пустырях не зеленеют ветлы. Сказанье о несаженой ветле, Но выметнувшей вверх в цвету и в силе; Ее всегда срубали на земле, Срубали много раз и не срубили. Сказанье о железном топоре, Что занесен над гордой головою… Вот — хлеб и кров! Не стой же во дворе, Войди, моя любовь, в мой дом со мною. Сказание о четырех углах, Которые под палкой не покину: Я сам стоял с отвесом на лесах И светом звезд поил сырую глину!6
Был свет уже погашен. В темноте Светились только белые колени. Ты появилась в призрачной фате, И боль твоя рванулась на ступени. И я подумал: «Так, во мгле, в горах, Кочует неприкаянная птица…» Тебя шаги пугают?.. Это — страх. Он заставляет сердце громче биться… В начале ночи отворилась дверь, Гляжу — покой с котомкой у порога. — Прощай! — сказал. — Один живи теперь. Я ухожу. Меня зовет дорога. И я спросил, как будто сам не знал: — Что у тебя в котомке, за спиною? — Не глядя на меня, покой сказал: — Я сердце уношу твое с собою…………………………
20
Рассказывай, любовь моя, пляши! Перед тобою сонные громады, Вода и камни — больше ни души, Ни братьев, ни сестер — совсем одна ты. Скитаются — ни кликнуть, ни позвать! Кочует в море утлая лодчонка. Ребенок потерял отца и мать, Мать не найдет убитого ребёнка. За солнечные гимны — жгли уста; За взгляд на звезды — очи выжигали. Далекая холодная звезда Не слышит нашей боли и печали. И горы спят, но ты их сна лиши, Пускай их потрясут твои утраты! Рассказывай, любовь моя, пляши. Ни братьев, ни сестер — совсем одна ты.21
Все раздари — нам незачем копить. Исхода нет — отдайся им на милость. За дерзость быть свободной и любить Ты до конца еще не расплатилась. Привыкла с малых лет недоедать. Долги росли, и множились заботы. А ты хотела думать, и мечтать, И быть свободной, — так плати по счету! Разграблено и золото и медь; За колыбелью — братская могила. И ты должна сгореть, должна истлеть За то, что ты людей и мир любила. Сумей же стыд от тела отделить И тело от костей — судьба свершилась! За дерзость быть свободной и любить Ты до конца еще не расплатилась!22
Когда-то здесь под грозный гул стихий Над замершей толпой пророкотало Торжественное слово: «Не убий!» Теперь убийство заповедью стало. Но не смолкает правды гневный гром, И мысль не уступает тьме и страху. Погиб не тот, кто пал под топором, А тот, кто опустил топор на плаху! Да будет всем известно наперед, Что тьме и страху мысль не уступает. Герой не тот, кто кандалы кует, А тот, кто кандалы свои ломает! Танцуй же у подножья грозных гор, — Еще заря от дыма не ослепла. Сгорит не тот, кто всходит на костер, А тот, кто умножает груды пепла!23
Идет, идет с секирой истукан. Он свастику и ночь несет народам. Он тащит мертвеца. Он смел и пьян. Он штурмовик. Он из-за Рейна родом. Он миллионам, множа плач и стон, На спинах выжег желтые заплаты[2]. Он растоптал и право и закон. Он сеет смерть бесплатно и за плату. Лоснятся губы. Пахнет кровью рот. Но, людоед взывает нагло к богу. Еда ему, видать, невпроворот. Он в страхе. Он почувствовал тревогу. Заплата стала горла поперек. Мычит. Хрипит. Промыть бы горло водкой. Пожалуй, стоит дать ему глоток, Чтоб вырвало заплату вместе с глоткой!24
Станцуй ему, бездомная, в горах, — Он проклят до десятого колена. Нет больше толку в буквах и в словах, — Их смоет крови розовая пена. Заря проснулась в гневе и в огне; Вершины расстаются с облаками… Мы благодарность на его спине Напишем беспощадными штыками. Гора камнями вызвалась помочь. Разверзлось море. Поднялись дубравы. Могилы, будоража злую ночь, Кричат от Роттердама до Варшавы. Ни летопись и ни рассказ живой Не воссоздаст их муки и тревоги. Об этом в вихре пляски огневой Кричат твои скитальческие ноги!25
Выстукивай свой звонкий мадригал, Греми, моя подруга, каблуками. Палач твой пол-Европы заплевал Отравленными желтыми плевками. Танцуй, благодари его, не стой! Он беден — ты всегда слыла богатой И заплатила ранней сединой За то, что ты отмечена заплатой. Но что еще он требует с тебя? Хлеб из котомки? Ладно, кинь котомку! Сожрал и лег, зевая и сопя, И пояс распускает, как постромку. В расчете мы. Auf Wiedersehen! Пока! Заткнули глотку, словно горло жбану. Но шарит, шарит жадная рука… Так что же снова нужно истукану?26
Мужайся! Да не будет тяжело Тебе твое клеймо, твоя заплата. Иди спокойно, как праматерь шла Оттуда, где любовь была распята. Тебя узнают ветлы у дорог, Тебе напомнит торная дорога Борцов, что шли на запад и восток, Не ожидая милости от бога. Безжалостен палач — на старый счет Ссылается с ужимкой обезьяньей. Он требует расплаты за почет, За желтую заплату, за вниманье. Он никогда не сеял и не жал, Он только брал чужое без возврата… Шагай же, как прапрадед твой шагал Оттуда, где любовь была распята.27
Вспорхнет ли, затрепещет ли твой бант? Так много горя, что куда уж больше! Вот Брест-Литовск, как древний фолиант, Раскрылся перед беженцами Польши. Идут пешком. Детишки — на руках. Бородки — кверху. И маршрут — по звездам. Изгнание — узлом на поясах. Пергаментные лбы — в крутых бороздах. У гаснущих огарков — рты согреть. Уселись, словно в трауре, на камень. И некому бездомных пожалеть. И звезды, как мечи, за облаками. Над старым Бугом вьюга дует в рог, И снег слепит глаза, сырой и липкий… На семисвечники разбитых синагог Они тоску развесили, как скрипки.28
В который раз ведет тебя нужда К чужим домам?.. Чужие крохи черствы… Я не спрошу: «Откуда и куда?» Вот хлеб и кров. Забудь нужду и версты. С тобой танцует вековая жуть, Боль вековая над тобой нависла… Вперед, беда! Еще не кончен путь. Струись, исполосованная Висла! Ступни босые резал Иордан, На Рейне измывались над тобою, И все-таки светили сквозь туман Рубины звезд над русскою рекою. Пусть дом мой будет для тебя гнездом На дереве зеленом — это древо Еще не подрубили топором… Пляши, моя любовь и королева!29
Я соберу посев твоих шагов На всех дорогах долгого изгнанья: За двадцать пять скитальческих веков Мой тайный клад, мой дар и достоянье. Я на спину взвалил снопы. Я — рад! И весело иду на голос трубный Туда, где бубны жалобно бубнят, Где бьют в набат загубленные бубны! Залягу под ракитовым кустом, Упьюсь твоей любовью и слезами. Я птичьим песням научусь потом, Я убаюкаю тебя стихами. Они да ты — мой трудный дар, мой клад! Они, да ты, да голос ветра зыбкий В краю, где дроги жалобно скрипят, Где чьи-то зыбки плачут, будто скрипки.30
Без крова, без дороги, без жилья, Без языка, опоры, утешенья Идешь, тоску свою не утоля, И под ноги кидаются каменья. Пожар твоих волос — горят леса! — Ложится жарким пламенем на плечи. Бывало, мать, прикрыв рукой глаза, Таким огнем благословляла свечи. Оплачь, сестра, свой пламенный костер, Оплачь свою последнюю разлуку. Станцуй вершинам вековой позор, Станцуй долинам вековую муку! Над головой твоей топор и крест. Леса молчат. И замер птичий гомон. Меч занесен — враги стоят окрест. Меч занесен, но скоро будет сломан!31
Не хватит сердца одного, мой друг, Чтоб выплакать в стихах твои печали. Я слышал, как стонал и плакал Буг, Когда тебя насильники пытали. «Веселую!» — приказывал палач Ночному ветру… И, терзались ноги, И под бичами вьюги мчалось вскачь Безумье белых хлопьев и тревоги… Усталый поезд покидал перрон С заплаканными мертвыми глазами. А злая ночь за вами шла вдогон, Пугая волчьим воем и лесами. Как возместить тебе, моя краса, Любовью и стихами муки жажды? Врагов накроют пеплом небеса, Запляшет танец смерти дом их каждый!32
Пора! Свои скитанья усыпи, Пусть спят спокойно возле ветел голых. Ты раздала все в поле и в степи, Все раздарила в городах и в селах. Простись с бедой и не печалься впредь! И не стыдись босых ступней, подруга! Теперь и листьям стыдно зеленеть, И белизны своей стыдится вьюга. Я слышу легкий шаг твой — ты идешь, Моя любовь, мой друг, моя невеста. Ты хочешь ветер взять с собой? Ну что ж, Просторно в сердце — в сердце хватит места, Но будь тверда к скитаниям своим, — Они ревут, как кинутые дети… Не слушай их… Ты не вернешься к ним! Рассвет… Прощаться легче на рассвете.33
Кого еще ты хочешь взять с собой? Еще что принести ко мне желала б? Возьми с собой прибрежье и прибой… Я жду тебя… Душа болит от жалоб! Уснула моря голубая гладь, Мигающие звезды отражая, И ветру удалось туман убрать, Чтоб я тебя увидел, дорогая. Я слышу рокот мерный и густой. Я сплю, но разбудить меня не трудно. Волна зовет меня на мол пустой: «Вставай скорей. Проходит мимо судно!» Бегу. Не поспевает тень за мной. Открытый мол недалеко от дома. Но судно проплывает стороной, Касаясь парусами окоема.34
Прошло и скрылось судно. Тишина. Я так спешил и опоздал, конечно. Негромко с галькой говорит волна, И слушать их могу я бесконечно. Быть может, там, где звездный полукруг, Ты бросишь якорь — море там глубоко. Пора! Нам надо встретиться, мой друг, Мне трудно без тебя и одиноко. Чутье такое есть у легких птиц: Летят друг к другу над водой и в поле, Не знают и не ведают границ И, вольные, встречаются на воле. Но, думается, и они грустят, Когда в лесу берется за работу Веснушчатый и рыжий листопад, Когда они готовятся к отлету.35
Погашен свет. За окнами гроза. И в темноте твои белеют руки. Я целомудренно закрыл глаза. Я не желаю этой сладкой муки. Мне кажется — я на гору иду, Глаза закрыты, но светло на диво. Я взял с тобой такую высоту, Что никогда не убоюсь обрыва. Напоминает мне мой каждый шаг, Что мы навеки отданы друг другу. Пусть между нами горы, море, мрак, — Тропа, как, друг, мне протянула руку. Не оступлюсь. Не ринусь с высоты. Напрасно бездна мне готовит место… Скажи мне, перед кем сегодня ты Танцуешь, ненаглядная невеста? ……………37
Мне утешенья больше не нужны! Ты платье подвенечное надела И спрятала, как острый меч в ножны, В атлас шуршащий трепетное тело. Сегодня удивится сам Казбек И не поймет за много лет впервые, Кружит ли у его подножья снег, Цветы ли опадают полевые? А ты на гору даже не глядишь, Исчерпанная мукой и любовью, И новый мир, в котором ты не спишь, Дары тебе приносит к изголовью. И я не сплю на берегу морском. Я камешками развлекаю горе, И жду письма, и прочитаю в нем: «Прости, я занята…» Уснуло море.38
Ты — золотая пава. Грусть и тень Отныне задевать тебя не вправе. Шафраном пахнет добрый летний день, Заря зашла в волос твоих оправе. Я к заговорам древним прибегу; В силок, как птице, положу приманку; Настигну на лету и на бегу, Но от скитаний отучу беглянку. Не клетку смастерю, как повелось, — Совью гнездо из звуков, зацелую. В густой червонный лес твоих волос Я сам попал, как в клетку золотую. Защебетали на ветвях птенцы. Заря взошла и подожгла дубраву. Я жду. Летите птицы, как гонцы, И приведите золотую паву.39
Спокойно море, и прозрачны дни. Блуждает белый парус на просторе. Не ты ли это? На берег взгляни И поверни сюда — спокойно море. Оставит парус ветер озорной И, расставаясь, скажет: «До свиданья! Пусти здесь корни. Расцветай весной. Забудь свое изгнанье и скитанье! Здесь человеку предана земля, Здесь всех целит голубизна сквозная, Здесь дружбу предлагают тополя, Здесь каждая песчинка — мать родная». Ночное море отдает вином. Я предаюсь моим мечтам и думам… Нас ждет здесь, друг мой, детство с миндалем И с самым сладким на земле изюмом…1940
За народ и Родину (1941–1945)
Клятва на могиле замученного красноармейца Пер. Л. Руст
Ты боль свою, как славу, гордо нес, Как саблю, выхваченную из ножен. Слезами сон твой мы не потревожим, Мы честью поклялись красноармейских звезд У праха твоего, — где б ни лежал твой прах, Каким песком его б ни заносило время, Мы будем мстить, сжимая меч в руках, Пока твоих убийц не уничтожим племя. Покрылась пеплом скорбная земля, Покрылись дали траурною сеткой. Ты шел на смерть — была тверда нога твоя, На муки шел ты, как идут в разведку. Ты был от мук своих отчизной отделен, С отчизною в груди ты миг последний прожил, Пред сворой палачей стоял ты обнажен, С презрением глядел на мерзостные рожи. Привязан к дереву, как Прометей к скале, Стоял ты, взорами грядущее читая, Но не орел клевал тебя в полночной мгле, А черных воронов тебя когтила стая. Ты на костер взошел, последний сделав шаг. Пред пыткою такой померкнут пытки ада, Но голос родины звенел в твоих ушах, Нет, ты не зарыдал и не молил пощады. Рыдали за тебя и ветер и леса, Текли, как воины, отряды рек ревучих, Из недр высоких гор гудели голоса, И солнце спряталось в густых, ненастных тучах. Сквозь ветви, пробиваясь, звуки шли, И песнь лилась, как буря, нарастая. Смятенная земля скорбела. А вдали Простерла руки мать седая, С тобой страдания предсмертные деля, На подвиг младшего благословляла сына: — Сияньем солнечным клянется вся земля, Клянется родина, могуча и едина. Клянется битвою последнею своей Боец, принявший смерть с презреньем небывалым, Что будет мрак твоих проколотых очей Могильной пропастью фашистским каннибалам!.. Где камни на земле, чтобы сохранять твой прах? Где приняла тебя земля отверстым лоном? Потомки пронесут тебя в своих сердцах, Они тебя найдут, они придут с поклоном. Свободные пройдут свободною землей. Они тебя найдут, ты можешь быть спокоен. Они придут к тебе сквозь холод, ветер, зной, Замученный врагом, бессмертный воин! Мы нашу боль должны достойно перенесть, Но сталью мы сверкнем, мы пламенем взметнемся! Великой будет месть и грозной будет месть, Красноармеец! Мы не плачем, мы клянемся!1941
Мать-столица Пер. Р. Моран
Пусть заметет нам снег дорогу вспять! Пусть звезды под нога камнями ночь подложит! Не отсылай меня, столица-мать, Я пригожусь тебе еще, быть может. Лишь ты одна теперь владеешь мной, В годину бед, когда пираты рядом. Твои огни потушены войной, — Так яблоки гроза сбивает градом. Что делать с сердцем, если бороздят Стервятники твой небосвод высокий Горит в груди раздавленный гранат, И в яд я превращу его живые соки. Я камни отточу твои, дабы им стать Оружием, что мощь твою умножит. Не отсылай меня, столица-мать, Я пригожусь тебе еще, быть может.1941
Нетерпение Пер. Р. Моран
Подобно капелькам, что ветер сдул с ветвей, К вагону брызнули с нагой ветлы пичуги. С вокзала хмурого, из Пензы, все ясней Уже видать тебя, Москва, сквозь дымку вьюги. Шум площадей твоих уже коснулся нас, И хлеба твоего отсюда запах слышен. На улицах твоих гремит: «В Последний час», И люди головы приподнимают выше! И телеграфные столбы всю ночь, весь день Колдуют, душу жгут одним предназначеньем: — К тебе! — сквозь ропот рощ и дрему деревень По снежным, до небес поднявшимся ступеням. Мы к ночи думаем уже в Рязани быть, От позывных твоих проснуться в час рассветный… Уже невмоготу мне песий впрок копить, Нет сил тебя так жаждать безответно!1942
Во сне я видел мать Пер. А. Ревич
Светает за окном… Доехать бы скорее! Мне слышен стук колес… Уже не задремать. Во сне я видел мать, и на душе светлее, Мне так легко всегда, когда приснится мать. Шлагбаум за окном. А строй гусей гогочет, Нетерпеливо ждет, пока пройдет состав. Бежит локомотив и тянет дыма клочья, Дремоту гонит прочь, протяжно засвистав. О, сколько сотен верст в дороге я измерил, О, сколько долгих дней она меня трясла! Приснилась мне Москва. Входила мама в двери, Горячие коржи в переднике несла… Ни слова не сказав, в глаза взглянула прямо, — Должно быть, поняла: совсем другим я стал… И оборвался сон… Ответь мне: где ты, мама? Все тише стук колес. В окне плывет вокзал.1942
Доброй недели, мать! Пер. В. Потапова
1
Кричали они: — От костра зажжешь ты субботний светильник! — Чего же еще ожидать от лютых своих палачей? Неужто ей станет желать «счастливой субботы» насильник? Потупившись, женщина шла и не подымала очей. Суббота, как тень, в городок задворками кралась уныло. Веселая россыпь огней её не встречала теперь. Но женщина свечи зажгла и веки руками прикрыла. И в это мгновенье враги прикладами вышибли дверь. Глазами закрытыми путь она увидала свой тяжкий Бесстрастные дула врагов угрюмо глядели сквозь мглу. И красноармейской звездой с отцовской забытой фуражки. Беспечно и звонко смеясь, ребенок играл на полу. К священному лону тогда фашисты дитя привязали. По улицам узким во тьме зловеще гремели шаги. По улицам этим ее когда-то к венцу провожали. — Моленье твое у костра свершится, — сказали враги.2
Ей руки потом развязать решили, смеясь, палачи: Как ветвь семисвечника пусть раскинется пламя упрямо. …Искала сожженная мать звезду в непроглядной ночи: Должно быть, пора прочитать молитву «Господь Авраама». Обуглились ноги ее и тлели в горячей золе. То было в дощатом хлеву… Светились глазницы пустые. И, как на пути в Вифлеем, сквозь стреху мерцало во мгле Зеленое пламя звезды, и ясли стояли простые. К себе прижимая дитя, казалось, от рук палача Пыталась его уберечь сожженная мать, и ребенок В негнущихся пальцах ее недвижно лежал у плеча И матери шею обвил ручонкой, как будто спросонок. Тугая захлопнулась дверь, и петли ее, заскрипев, Сказали сожженной: — Теперь ступай… Ты свободна отныне! — Из пепла она поднялась и взглядом окинула хлев. Лежала у ног ее тень, как брошенный посох в пустыне.3
За тысячи лет искупить ничем не дано ей страданья — Ни пламенем жгучим костра, ни горечью дыма над ним… Пускается пепел в свое вековое изгнанье. Он всеми ветрами влеком, он всеми ветрами гоним. Редеющим дымом дитя окутав, как ветхою шалью, Во тьме оставляя следы своих пламенеющих ног, Сожженная женщина шла в смятенье неведомой далью. Ребенка от плоти ее никто оторвать бы не смог. Грозой опрокинутый дуб темнел перед ней на дороге. Холодною сталью ножа река отливала, блестя. К кому постучаться, дрожа? Кого разбудить ей в тревоге? Пристанище где отыскать? Ей только укрыть бы дитя! Колени в суставах согнув, сожженная шла по тропинке. Полночное небо в тиши дремало, шумела река. И мать разбудила его… Нельзя ли в плетеной корзинке Оставить, как прежде, дитя меж зарослями тростника?4
Ни крова, ни гроба не дав, судьба ее дальше гнала. Бездомная женщина шла, вокруг озираясь пугливо. Кричали вдали петухи. Сгущалась и ширилась мгла. Шумливо толпясь у стола, тянули насильники пиво. Убийцы своим барышам в ночи подводили итог, Доход с городов и кладбищ подсчитывая чистоганом. Сожженная стала в дверях. Взглянули они на порог И глаз не смогли отвести, подобно немым истуканам. Мерещилось им наяву, что видит постыдный дележ Сожженная ночью в хлеву и ставшая пеплом и прахом. От взгляда бездонных глазниц бросало грабителей в дрожь. Во тьме пригибало к столу их головы хлещущим страхом. …А ветхие стены в хлеву давно от костра занялись. По-детски заплакал бычок, уткнувшийся в дымные ясли. И мать, обнимая дитя, глядела в холодную высь: Над сумраком вечных дорог звезда для нее не зажглась ли?5
Подобно обмоткам, за ней влачился пылающий след. Горящие ноги ее во тьме продолжали светиться. Здесь много разрушенных гнезд. Быть может, украдкой на свет Откуда-нибудь прилетит бездомная странница-птица? Ей дым ниспадал на лицо, совсем как субботняя шаль, Когда славословье она читала, склонясь над свечами. Быть может, из чащи лесной, покинув дремучую даль, Появится мститель святой в ушанке, с ружьем за плечами? Ей путь преграждал бурелом. Она продолжала шагать. Служила ей посохом тень. Вдали перепутья темнели. Быть может, во мраке ночном, увидя гонимую мать, Блеснет ей живая звезда в распахнутой ветром шинели? Бездомную мать и дитя во тьме окружив, как друзья, Приветливо скажут они: «Изгнанница, доброй недели!» …Сожженная женщина шла, и неба пылали края. Великое пламя росло, и жаркие искры летели.1942
Баллада о парикмахере Пер. А. Ревич
1
Его к сырому рву фашисты привели, Вручили бритву и точильный камень. Кружился мокрый снег, клубилась мгла вдали, И обреченных строй мелькал в сыром тумане. Как в бурю, зыбилась людских голов волна, Сюда вели толпу босых, простоволосых. Густая изморозь, совсем как седина, На этих девичьих, на этих черных косах. Как побороть слезу, сдержать невольный плач? Вот люди. Сквозь туман за ними бруствер брезжит. Скорей бы умереть! Ведь ом же не палач! Нет, первому себе он горло перережет! Косынки на земле, под вражьим сапогом. Струятся по плечам распущенные пряди. Их вымыл талый снег. Что делать? Смерть кругом. Там впереди штыки, а ров глубокий сзади.2
Завесой черною весь горизонт покрыт, Как зеркало в дому, в котором умер кто-то. Взглянув на циферблат, убийца говорит, Точнее — каркает: «А ну-ка, за работу!» Как пена мыльная, на волосах снежок, А под ногами лед, — так будет падать лучше. Туманный полог дали заволок. Как шали рваные, ползут по небу тучи. «А ну-ка, брадобрей, правь лезвие скорей! Сейчас мы поглядим, как хорошо ты бреешь. Вон та — твоя жена? Ее ты первой брей! А остальных потом побрить успеешь». Веселый смех убийц. Хлыста короткий взмах. «Ведите первую!» — звучат слова приказа. У парикмахера темно в глазах, Не держат ноги, помутился разум.3
«Чтоб чище выбривать, пусть будет сталь острей! Позвольте лезвие мне наточить получше». «О, сталь немецкая остра! Не мешкай! Брей! За дело, Фигаро! Не то хлыстом получишь!» Дрожит от смеха горло палача, Откинув голову, фашист хохочет. Сверкнуло лезвие, «Ты первый! Получай!» — И офицер упал, зарезанный, как кочет. На дно сырое рва упал он раньше всех, Он корчился, хрипя, под глинистою кручей… Вода стекала в ров. Повсюду таял снег. Пробился первый луч сквозь темный полог тучи.1943
У дороги Пер. М. Тарловский
Истерзанный вокзал, как решето, дыряв. Купаются в пыли развалины поселка. Здесь, направление былое потеряв, Торчит забытая немецкая двуколка. Из глины высохшей не вырвать ей колес, — Обречена недвижности и тленью. Ее обнюхав, пробежавший пес Заигрывает с собственною тенью. Но, слыша издали грохочущий состав И жалостно дрожа от лязга поездного, Она, как две руки, оглобли вверх задрав, Дает понять, что в плен готова сдаться снова.1945
Сталинградская буря (Глава из поэмы «Война») Пер. А. Сендык
1
Вперед за шагом шаг, за милей миля, Сквозь катастрофы, пламя и снега Две армии советские спешили, Соединившись, в клещи взять врага. Донская степь и Сальские просторы Вулканами гремят, издалека Текут полки, как лава под напором, Как огненная бурная река. Близ Волги с лязгом челюсти сомкнулись. В мешке из пламенеющих штыков. Своею черной кровью захлебнулись Все двадцать две дивизии врагов. Лежат снега в цветенье красноватом, Победный вихрь у армии в ушах — Судом неотвратимым и расплатой В Берлине отдается каждый шаг.2
Гремит от гор до моря канонада, — За жизнь, за вдохновенье, да мечту, — И каждая пылинка Сталинграда Частицей бури рвется в высоту Сквозь девяносто дней, седых от дыма, Сквозь девяносто огненных ночей… У Волги чуда не было — незримо Примчалась буря с воинством смертей, Посеянная старшим поколеньем В грохочущий разрывами рассвет, Она пришла для нового сраженья… За двадцать пять советских славных лет Россия богатырская впитала В себя высокий дух большевика, Поправ невзгоды, гибель и усталость, Неся освобожденье на штыках.3
Могуча правда гордого народа, Которому оковы нипочем, Который факел вскинул к небосводу И ратным опоясался мечом. Народы-братья встали на сраженье, Они слились — надежен сплав, как сталь, Озарена сияньем вдохновенья Эпох грядущих солнечная даль. И все это бессонными ночами Рассчитано в Кремле до мелочей, — Чтоб стиснуть вражью голову клещами, Чтоб не было спасенья из клещей! И Волга перед жадными глазами, Как зеркало, легла, лелея месть, — Чтобы двойной добыча показалась, Чтоб пес фашизма обожрался здесь!4
Нелегок путь, но близок час веселья, Победы час — он яростен и прост, И армии, как паводок весенний, Стекались под шуршанье дальних звезд. Шли командиры, черные от дыма, Глаза усталые, обугленные рты… Садовский на пригорке снегом вымыл Лицо и руки — не было воды. Тревожный ветер торопил в дорогу, Считая преждевременный покой, — Вперед, вперед… Но было жаль немного Расстаться с Волгой — русскою рекой. Она текла не по равнине плоской, А по сердцам, и, верно, потому Была спокойна… Не слыхал Садовский, Когда Гурарий подошел к нему.5
Сомкнулись плотно глыбы льда рябые В отметинах ранений пулевых, Они стоят, они как часовые — И лишь весенний ветер сменит их. А Волга задремала, так и надо, Ценить покой привыкнешь за войну… Торчат во льду баржи неровным рядом, Носами вниз, и смотрят в глубину, Ушанка чья-то в проруби кружится, Пустой подсумок крепко вмерз в паром… Далече отодвинулась граница, Далек, не слышен орудийный гром, А тишина на холоде крепчает, Молчит вода под пленкой голубой, И каждая руина обещает Поведать миру сталинградский бой!6
«Величье Волги взглядом измеряешь?» — Спросил Гурарий. «В мире равной нет. — Хрустящим снегом руки растирая, Сказал Садовский медленно в ответ. — Величие России не в просторах, Не в Сталинграде, — нашею рукой Здесь, возле Волги, взят фашизм за горло, Но корни ведь в народе, дорогой». А снег благословения седые Ронял на пепел, словно звездный свет… «Хочу себе представить путь России За двадцать пять походных наших лет. Здесь время испытало путь, которым Прошла Россия, здесь утверждена Навеки наша правда, и позором На недругов обрушилась она.7
Она еще почти эмбриональна, Ей надо развиваться и расти, Она не все постигла, глядя вдаль, но Постигнет все, на то она в пути. И мы преподнесем ее, Гурарий, Не на подносе в пляске бубенцов, Не в золоте, о нет. В шинели старой, С изрубленным буранами лицом. Отсюда, от развалин Сталинграда, Упрямые и юные всегда, Мы пронесем ее сквозь канонады, Метели, степи, села, города! Умывшись снегом, с красными руками, Пройдя полсвета маршем вихревым, Придем никем не прошены, и сами От сердца правду миру отдадим.8
Не босоногой нищенкой с сумою, Не богомолкой явится она, Шум леса принесет она с собою И пенье птиц. Она окружена Туманом грез девичьих, но из бездны Лазурной к нам орлицею она Опустится сквозь лязг боев железный. Дыханьем баррикад опалена. Ее броня ковалась на Урале Народами, идущими на бой, Ее глаза острее ратной стали, Кремлевская звезда над головой. Она — дитя пылающих столетий, Зачинщик битвы хижин и дворцов, Под палками прошла сквозь строй столетий, Подняв над миром гордое лицо.9
Она, возникнув в яростном размахе, Ломая темноту ночей пустых, Прошла сквозь тело Разина на плахе И декабристов гордые мечты. Но море не мелеет, если волны На скалы мечет яростный прибой, — Познала правда мир, страданий полный, И Ленин воплотил ее собой. Взглянуть вокруг попробуй без протеста — Одни руины высятся окрест, Здесь каждый камень — буква Манифеста, — Написан нашей кровью Манифест. Но мы живем — мы снегом руки моем, Мы в письмах ищем теплые слова… Я, знаешь, получил вчера какое — Березку Воробей нарисовал».10
Но сердце слышит дальние раскаты, Но полон взгляд заснеженных дорог, Стоять над пеплом некогда солдату, — От Волги новый яростный бросок. Фашистам путь отсюда, с пепелища, Намечен прямо в пропасть, под уклон; Ростов, освободясь, оружья ищет; Оковы разрывает тихий Дон. Несется, рамки времени ломая, Как белый шквал, как буря, как пурга, Победными громами громыхая, Железный сталинградский ураган. А снег лежит в цветенье красноватом, А вихрь поет у армии в ушах, — Судом неотвратимым и расплатой В Берлине отдается каждый шаг.1941–1948
Последняя книга (1946–1948)
Выбор Пер. Л. Озеров
Достоинство пчелы — не жало и не яд, И соловей поет не только о печали. И на восход нам путь открыт, и на закат, И в будущие дни, и в те, что прошлым стали. Мы, горечи хлебнув, поверим в жизнь опять И выберем рассвет, встающий над вершиной. В грядущем сын и дочь сумеют сочетать Усердие пчелы и посвист соловьиный. Так снова — в добрый путь, да поведет нас честь, Да не помянут нас потомки грубым словом! Пчела не для того летит, чтоб яд принесть, Но чтобы в улей свой вернуться с медом новым.1946
«Чуть я незрячести переборол тиски…» Пер. Л. Руст
Чуть я незрячести переборол тиски, Паденья под откос открылась крутизна мне. Подобно зеркалу, упавшему на камни, И сердце, вырвавшись, распалось на куски. Лишь суммой тех крупиц отныне ставший, я Мельчайший отыщу и подниму осколок… — Не растопчи ж меня, о Время-судия, Сколь ни был бы мой труд по воссозданью долог! Но как бы тщательно, — хоть кровь из рук теки, — Я тех ни свел частиц, — возврата нет к былому; Пребудет, цельности обманной вопреки, Мой облик искажен мозаикой разлома. И я, познавши скорбь крушенья под откос, Томиться обречен желаньем беспредельным: В том зеркале себя опять увидеть цельным, Чьи по семи морям осколки смерч разнес.1946
Дерево Пер. А. Големба
1
Его сбереги В глазах изумленных Взметнувшим круги Галерок зеленых. Спешит наяву В лазурь устремиться, Вспорхнуть в синеву Ветвистая птица…2
В лазурь влюблено, — Скажите на милость, — Давно ли оно У вас приземлилось? Давно ли с высот Глядит, как на страже? Зачем стережет Гранитные кряжи?3
Стоит на скале…. Средь вихрей летучих, Корнями в земле, Вершиною в тучах. Встречает грозу В холодных просторах, А к бездне внизу Летит его шорох.4
И гнезда в ветвях У снежной границы, И вечно в гостях Залетные птицы. И песня слышна Вблизи небосвода, Хмельнее вина И сладостней меда.5
Медведь и лиса Совсем ошалели: Встают чудеса В гранитном пределе! Шатер его весь, Все веточки скопом Кто вырастил здесь Вослед за потопом?6
Такой же шатер Листвы беспокойной Растил с давних пор Мой дядя покойный. В таком же гнезде Устроилась птица, Искавшая, где Навек поселиться.7
Такая же здесь Цвела вековая Любовная песнь, Сердца надрывая. Явилась чума, Вся в дымной кудели Сгорели дома, И гнезда сгорели.8
Осталась зола От зеленокосых, Не стало ствола — Стал нищенский посох. Листва унеслась, Но ярость окрепла, И птица взвилась С остывшего пепла.9
Рыданья и смерть, Земля сиротеет, И синяя твердь От гнева бледнеет. …В соцветьях горит Ствол дерева стройный, Под ними зарыт Мой дядя покойный.1946
Под дождем Пер. В. Тушнова (1–2) и А. Ревич (3–4)
Э. Л.
1
Нас берега не ждут нигде, Не ждут дороги с их зеленой сенью. Плывем вдвоем в невидимой воде, Сквозь ночь плывем мы, под дождем осенним. Чтоб ничего не видеть — тьмы покров, Внизу река, и молодость, и бездна, В глазах огни двух встречных поездов, Сознанье неизбежности железной. Тьма говорит, что далям нет конца И что пространство черное огромно. Так близко бьются, так стучат сердца, — Вот-вот, река расплещется от грома. Нас задевает бледный хлыстик света, Как обруч, в небе катится звезда. Постой, мы взглядами беглянку эту, Как чайку, в плен захватим навсегда.2
Мне кажется — не протекли века, Мир не существовал, — он только-только создан. И шеи наши, словно два клинка, Друг к другу тянутся в сиянье звездном. И мы плывем, плывем вдвоем сквозь мрак, Разделены и сращены волнами. Как молния, руки ежеминутный взмах, Плеч смуглота… косынки белой пламя… Но свет луны из пены туч скользит, Нас чернотою яркой зазывая. Постой! Я слышу — дерево шумит Вблизи… а где — не вижу я, не знаю… Скорей дай руку мне! Скорее… Берег вот! Согреемся, танцуя… Дрогнут плечи. Нас ветер руки торжественно берет, И дерево шагает надо навстречу.3
Закрой глаза — и вот препятствий нет. Какой простор вокруг! Я жду тебя. Приди же! Я не считаю, сколько прожил лет. Как не считаю звезд. Ведь я их столько вижу. У них тысячелетья впереди. Но равным вечности теперь мгновенье стало. Навеки ты желанна мне. Приди! И нет для нас конца — и нет начала! Твое лицо озарено луной Иль свет горячий излучает тело? Он, как бесценный дар, мерцает предо мной, Губами и рукой к нему тянусь несмело. О ночь, о кров, ветвей, благословенны вы! Пусть на единый миг мне этот мир подарен! Меня околдовал напевный шум листвы, За этот сладкий шум я листьям благодарен.4
Пусть ветер и любовь, пусть ночь и дождь косой Приветствует тебя, густое древо! Здесь, под твоей развесистой листвой, Укроемся мы, как Адам и Ева. Тебя не тронем мы, нам листья не нужны, Сегодня наготы своей не прячем. Мы поздней осенью стучимся в дверь весны, Распахнуты сердца ее лучам горячим. Нет на тебе плодов? Познаем все без них! Пусть только лунный свет пробьет завесу чащи! Нам хватит темноты и капель дождевых — Их пьешь с любимых губ, — они, как мед, пьянящи! Кружится листопад? Ненастье? Ну и и что ж! Неужто мало нам густой древесной сени? Неужто юности мешает дождь, Гостеприимный дождь, прохладный дождь осенний?1947
В сумерки у моря Пер. А. Големба
Э. Л.
Быть может, ты сейчас уже идешь домой, Последняя из всех купальщиц деловитых, А море за тобой — расплавленной каймой В расшитых золотом кипящих аксамитах. А волны говорят: «Нас на плечи накинь, Дай наглядеться нам на твой загар румяный!» До неба поднялась морская гладь и синь, Слепая синева под кровлей златотканой. Пусть морю по плечу могучие суда, Ты маленькой ему в мгновения свиданий Совсем не кажешься… Нет! Даже и тогда, Когда склоняешься над ремешком сандалий, Когда, распавшись вдруг, волос твоих пучок Струится по спине с тревожным черным блеском И открывается мерцанье плеч и щек, Как полированный янтарь в луче нерезком. Ты маленькой совсем не кажешься ему, Хотя и весела, хотя и тороплива! Вот встала, вот вошла в лазурную кайму Лишь на мгновение. И жадно ждешь прилива. Закат свою кайму над водами простер, Чтобы в румянец твой его вливалась алость. Чтоб красоте твоей дивился весь простор И кроткая волна у самых ног плескалась. Предела морю нет! И, увидав тебя, Оно весь мир обнять спешит как бы спросонок, — Так, чудо увидав, робея и любя, За юбку матери хватается ребенок.1947
Ветер, побудь со мной Пер. А. Големба
Э. Л.
Семь лет тому назад пролег здесь мой рубеж. Как прошлого следы, и он исчез в тумане. Иль ветер никогда не сыщет прежних меж? Иль вьюга занесла годов минувших грани? Прибрежной гальки блеск, и кряжей череда, И пальма над водой по-прежнему космата, И только на семь лет я отступил сюда Оттуда, где любил и сетовал когда-то. Ты их не видел, вихрь? Прошу, побудь со мной! Есть времени приказ! Несу плоды работы, И сердце верное, и день, и труд земной, И, как пчела, спешу наполнить медом соты. Я сам сплетаю сеть, я сам влеку улов, Сам возвращаюсь я в объятия природы, Я слышу мерный гул больших колоколов, С ним двинутся мои исчезнувшие годы. Да, ветер, это я — в исчезновенье весь! Да, ветер, это я — гость, проходящий мимо. Ты видишь эту грань? Сейчас рубеж мой здесь! Я должен от него уйти неотвратимо.1947
На перроне Пер. Д. Маркиш
Э. Л.
Обрамлено лицо твое окном вагона, Ты смотришь мне в глаза, тоскуя и любя. Темно кругом. Состав отходит от перрона. Как будет скучно здесь и пусто без тебя! И только светят мне с последнего вагона В густые сумерки одетые огни. Оливы глаз твоих, манящих и знакомых, Мне в этой зябкой мгле напомнили они. Зачем так сладостна тоска на расстоянье? Разлука почему до боли сблизит нас? Мне долго видятся глаза твои в сиянье Ночного огонька, хоть он давно угас…1947
Забота Пер. А. Ахматова
Лишь только луч цветка коснется, щекоча, А ветерок, кусты взъерошив, захохочет, Как, крылья подоткнув, кузнечик сгоряча У наковаленки своей уже хлопочет. Усами жесткими он грозно шевелит, Усы в ногах снуют с зеленым нетерпеньем, А мошкаре лесной стрекочет он, сердит: «Мне надобно ковать! Отстаньте с вашим пеньем!» Кузнечик прыгает — какая суета,— От кустика к цветку легко перелетая, Травинку хилую догонит у куста И опросит: «Припаять? Работа не простая!» Впивается его зовущий молот сам Во множество забот, звенящих и летучих Кузнечик приумолк, И вновь к своим трудам Вернется он, когда блеснет заря сквозь тучи.1947
Горная мадонна Пер. С. Наровчатов
Женщина утром, с ребенком, в горах, — Несет на руках его, словно мадонна, И горный рассвет, зажигаясь впотьмах, Их путь осветил вдоль кремнистого склона. Женщина утром, с ребенком, в горах, — Мерцает над ними рассвет, зеленея, А верба их путь осеняет в веках… И вспомнилась мне в этот миг Галилея. Женщина утром, с ребенком, в горах, — Вокруг нее ткань голубая струится, Трепещет косынка на узких плечах… Мне вспомнились ясли, и хлев, и ослица. Женщина утром, с ребенком, в горах, — Над ними сияющих радуг свеченье. Как хорошо, что в безгрешных глазах Не светится будущих мук отраженье! Певучей походкой идет на восход, Легкая, нежная, в воздухе тая… Нет, не мадонна ребенка несет, Казачка идет по тропе молодая. Казак ее муж? А быть может, еврей? Крестьянин? Не плотник ли старый, скорее? Я счастлив, колени склонив перед ней, Что миру не ведать второй Галилеи!1947
Море на рассвете Пер. В. Тушнова
У гор покоя просит море, Продленья сладостного сна. На небе ночь с рассветом в споре, На море — мрака пелена. И пробуждению не верит Его, дремотная душа, Оно ощупывает берег, Цветную гальку вороша. За камни ухватиться хочет. В береговой вцепиться склон, В последнее дыханье ночи, В последний, предрассветный сон. Но только собственному стону Оно внимает в тишине, И берег стелет тень на лоно, Мерцающее при луне.1947
Капелла Пер. А. Големба
И, даже не кивнув, а просто так — на слух, Договорившись вмиг со всем зверьем окрестным, Затерянный в горах ручей проснулся вдруг И дробно зажурчал в гранитном ложе тесном. «Кто вступит вслед за мной? — звенит он. — Говори!» И эхо повторить вопроса не успело, Как дрогнул над ручьем смешной вихор зари И в шумный разговор вступила вся капелла. Как ливень по весне. Вступили. Сразу все. В симфонию любви и скрежета и свиста. Кузнечик-музыкант почти басит в росе, И в стебли трав вплелась печаль жука- флейтиста. Сперва еще слегка смущаются юнцы, И режет чуткий слух рассветная настройка, Но вот уже стучат шальные кузнецы И тысячи цикад бьют по цимбалам бойко. Нас может оглушить скрипение цикад, Оно в рассветный час звучит с нежданной силой. Давно гудит пчела над венчиком цветка, Вплетя лазурь небес в свой плащ прозрачнокрылый. Как сладостно пчеле над венчиком висеть, Кружиться и жужжать, пускаться в путь окольный. А кто-то угодил уже в паучью сеть, И грозно загудел орган янтарноствольный. В сторонке богомол. Одет в зеленый фрак. И впрямь он молится. Свисают фалды сзади. Крючки передник ног — хитрец! — скрестил он так, Чтоб голову снести распевшейся цикаде. Но радость бытия не ведает конца, Сто тысяч голосов слились в один всецело: Певец в густой траве приветствует певца, Рассветной свежестью восхищена капелла.1947
Летучая мышь Пер. Л. Озеров
Уже не ночь, еще не день, И свет зари пока неведом, И мышь летучая, как тень, Влетает в щель меж тьмой и светом. Она проскальзывает в сон, Она виденьем из видений Вдруг прошмыгнет за грань времен Зигзагом мимолетной тени. Она торопится домой. Пора! Она боится солнца. Ее терзает свет прямой Слепящего, как медь, оконца. И перепончатую шаль Подняв над темной головою, Она летит куда-то вдаль, Освистанная синевою. Как день пришел, как ночь ушла — Не разобрать летучей мыши. Сейчас был свет. И снова мгла. То вниз летит, то взмоет выше. Утомлена, ослеплена, Косым лучом не обогрета, Вмиг улетает прочь она Над зыбкой гранью тьмы и света.1948
Роза Пер. А. Големба
Припала к белизне льняного полотна Недавно срезанная, вянущая роза: Впервые в жизни спит на скатерти она, Во власти колдовства, безволия, наркоза. Еще не замутнен ее прохладный сок, На горле стебелька не загноилась рана, Зеленой кожицы стыдливый поясок С подвязкой круглой схож, надорванной нежданно. Поодаль лепестки на влажном полотне Лежат, подобно сброшенной одежде. Она хватилась их (искала их во сне), Хотела их вернуть и стать такой, как прежде. Ужели в духоте, в густом ночном тепле Не раскрываться ей навстречу дробным трелям И в предрассветный час, дрожа в одном белье, Не ждать, когда ж ее согреет листьев зелень? И так у ней во сне кружится голова, Как будто вновь ее колючий поднял стебель, И млеет соловей в томленьях волшебства, И месяц замерцал: как знать, в душе ль, на небе ль? Но я не соловей! И я тебе верну Блаженную луну и пламя вечной жизни, — Я к телу твоему, к шипам твоим прильну: Не медли, кровь моя, — скорей на землю брызни!1948
У реки Пер. С. Наровчатов
Бегут они стремглав, расплескивая воду, Визжа, и хохоча, и путая шаги, И, на берег взбежав, дробь отбивая с ходу, От холода дрожа, прекрасны и наги. На пляску их, смеясь, глядит волна речная, Вбирает их следы податливый песок, У каждой над косой блестит, не просыхая, Кувшинок водяных русалочий венок. Обсохнув в тот же миг под жгучими лучами, На мокрую траву бросаются ничком, И, медленно струясь, журча под их ступнями, Щекочет их волна знобящим холодком! Сейчас они совсем девчонки-невелички, Подняв головки вверх, опустят их опять. Девчонки дружно в такт взметнув свои косички, Ногами брызги в такт им весело взбивать. Иль реку вздумали попридержать ногами, Чтоб не ушла она, была поближе к ним?.. Взрывается их смех, звенит над берегами, Пугая сонных птиц по заводям речным. Девичий звонкий смех куда реки свежее… Тонуть в его волнах, вновь обновляясь в них… На целом свете нет мне их роднее — Смешливых, загорелых, молодых!1948
Муза Пер. Э. Левонтин
Раньше, позже ли было все это? Сновиденье несет, как волна. Мама вместе со мной до рассвета, Словно в детстве со мною она… Помню, как просыпалась, не зная, Сплю, дышу ль я в ночной тишине, Подбегала к постельке босая И, дрожа, наклонялась ко мне… Материнские теплые руки Нежат ласкою сердце мое, И я слушаю милые звуки — Колыбельную песню ее. Только песню догнать я не в силах, Мамин взор как туманом укрыт, Но в напевах далеких и милых Радость детства, как прежде, звучит. Буря воет порою ночною, Непостижною злобой полна… Мама!.. Мама, как прежде, со мною, Словно в детстве со мною она!1948
Девушка с косами Пер. А. Големба
Она прошла вперед — сразила наповал, Откинув голову, тревожная, прямая, А волосы ее неслись, как пенный вал, Шипя и шелестя и плечи заливая. Нет, не идет, летит, стремится в вышину, И разметался шарф, подхвачен ветром бодрым, — Вот оба начали веселую войну, А косы, хохоча, спускаются по бедрам. И ноги стройные захватывают в плен, Сияньем оттенив прожилки нежной кожи. Им, косам, хочется прильнуть к теплу колен И успокоиться на их душистом ложе. Вдруг ветер разметал одну и вверх занес, Все затопила блажь русоволосой вьюги, Но дернулось плечо вот волна волос Метнулась на спину, отпрянула в испуге! Как гребень солнечный прическу увенчал! Как щебень захрустел! Вот так, вот так, наверно, По тропкам ледяным в краю отвесных скал Стремительно летит трепещущая серна! Она ушла в пожар бульваров городских, Туда, где на ветру сгорает листьев груда, И я ее лица глазами не настиг, Но щедро награжден одним мгновеньем чуда!1948
Осень Пер. А. Ахматова
Там листья не шуршат в таинственной тревоге, А, скрючившись, легли и дремлют на ветру, Но вот один со сна поплелся по дороге, Как золотая мышь — искать свою нору. И сад не сторожат — пусть входит, кто захочет, Там вихри, холод, дождь, секущий и косой, И — никого. Печаль одна здесь слезы точит, Но вдруг жужжанье слух улавливает мой. Пчела спешит пешком по рыхлому песочку, Тяжелым обручем пчелиный сжат живот, И так она ползет чрез пень и через кочку И судорожно вдруг на голову встает, И крылышки свои вдруг задирает криво, Как зонтик сломанный, они теперь торчат, И смерть уже слышна в жужжанье торопливом… На осень тишина переезжает в сад.1948
Твой взгляд Пер. А. Ахматова
Э. Л.
За счастьем призрачным бродя во мгле безбрежной, Унижен, возвращусь туда, где только ты. О том, каким я стал, твой взор расскажет нежный, Мне ласково блеснув с нежданной высоты. И есть лучистый свет в твоем прекрасном взоре, Что позволяет мне не опускать глаза В тот час, когда душа свое оплачет горе И по щеке течет раскаянья слеза. Пускай гоняюсь я за призраком летучим, Все чаще и светлей мои пути к тебе, И сердце шлю тебе через моря и кручи, Хотя даю обжечь себя чужой судьбе.1948
«Уже не в первый раз заката полосу…» Пер. А. Големба
Э. Л.
Уже не в первый раз заката полосу Провел угасший день по тверди небосвода. Я все еще в тебе блуждаю, как в лесу: Все перепутано. Ни выхода, ни входа. Стук сердца твоего в груди своей несу Прозрачным родникам, журчанием бесследным. Я все еще в тебе блуждаю, как в лесу, Я все еще в тебе брожу, как в заповедном. Шагаю медленней… А травы пьют росу, А тени ворожат, чтоб мне с пути не сбиться! Я все еще в тебе блуждаю, как в лесу, Я все еще брожу, рискуя заблудиться. Я, от ревнивых глаз укрыв твою красу, Сам преградил тропу к тебе в просторном мире. Я все еще в тебе блуждаю, как в лесу, С минутой каждою мои шаги все шире! Окутал мрак ночной заката полосу, Вновь звезды и луна скитальца увенчали. Я все еще в тебе блуждаю, как в лесу, Чтоб к сердцу протоптать тропинку, как вначале.Твоя слеза Пер. А. Ахматова
Э. Л.
Твой взор меня смиряет и гнетет И голову мою к земле склоняет, Когда тоскою искривлен твой рот И дрожь, слезы в твоих глазах мерцает. Слеза, набухнув, блещет, и она Вот-вот прольется через край, крупнея, Но там не я — вина отражена, Молчит слеза, таить печаль умея. Она не падает с твоих ресниц, Но остается между век дрожащей. В ней мир выходит из своих границ, А в глубине растет зрачок блестящий.1948
Самозабвение Пер. А. Големба
Так как же не любить, отдав себя всего, Как отдает себя любое существо, Когда к волне морской, что к молотилке злак, Луч солнечный припал! Не загореться как, Когда трещат сверчки запечные всю ночь, А поутру бренчат цикады во всю мочь, Когда, как медь, звенит под ветром хрупкий лист И надрывается кузнечик-цимбалист, Когда гудит, как гром, живая зелень трав, И стебель говорит, как флейта, заиграв, — И травяной оркестр устал и изнемог, И кое-кто уже готов свалиться с ног, И, хоть кукушки нет у синевы морской, Сдается и она кукует день-деньской! Пусть соловьи отсель за тридевять земель, Напомнит нам о них ручья ночного трель, И каждый из певцов хрипит и глотку рвет, И каждый забежать пытается вперед! Чтоб весь простор земной, чтоб целый мир вокруг Запомнил золотой непреходящий звук! Мир полон до краев, звук льется через край: Хлынь, гомон голубой, звучи, не умирай! И море синее вливается во тьму И дремлет: счастье снов является ему, И голос все нежней, желанней и ясней, В нем зреет глубина еще невнятных дней. Так как же не любить, отдав себя всего, Как отдает себя любое существо!1948
Зима идет Пер. А. Големба
Залетный вихрь по иглам бьет, Вздыхают елки-недотроги: «Идет зима! Зима идет! Зима в пути! Зима в дороге!» Как знать, успеет ли домой Вернуться человек проезжий, К вершинам, скованным зимой, Заснувшим спячкою медвежьей? Уже в тиши янтарных смол Вихрь суматошливый запрыгал И за стволом ощерил ствол Десятки тысяч острых игол! Нарушен трав мертвецкий сон, Зашевелился листьев ворох, И ветер, прущий на рожон, В осенних мечется просторах. Деревья голые молчат, Лишь ветер корчится от злости Да лихорадочно стучат Ветвей обглоданные кости! Вихрь пролетел сквозь бурелом По квинтам плача и тревоги, — Осенний шорох за окном: Зима идет! Зима в дороге!1948
Наливай полней! Пер. А. Ревич
Поднимались мы по круче Выше птицы, выше тучи, Нами высь побеждена, — Наливай полней вина, Так подымем же бокалы, Чтоб желанье явью стало! Уводила песня в дали, Мы пучину побеждали, Опускаясь глубже дна, — Так налей полней вина, Чтоб народной мощи реки Не иссякли бы вовеки! Лето кончилось нежданно, Наступила осень рано, И зима прийти должна, — Наливай полней вина! Мы бокал подымем пенный За цветенье нашей смены. Мы седеем. Ну и что же! Нами век наш славно прожит, Отдан родине сполна, — Так налей еще вина! Пусть, завидуя по праву, Помнят внуки нашу славу! Сколько жить на свете белом До печального предела, Сколько нам гореть дано!.. Наливай в бокал вино! Запрокинем к звездам лица — Пусть заветное свершится!1948
Примечания
1
В конце XV в. из Испании были изгнаны инквизицией жившие там евреи.
(обратно)2
В странах, захваченных гитлеровцами, евреи должны были носить на груди и на спине желтые шестиконечные звезды.
(обратно)


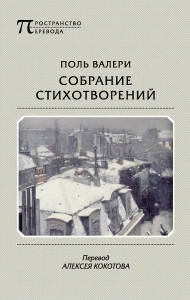

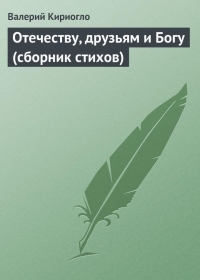
Комментарии к книге «Стихи», Перец Давидович Маркиш
Всего 0 комментариев