Владимир Аристов Открытые дворы. Стихотворения, эссе
© В. Аристов, текст, фотография на обложке, 2016
© Д. Бавильский, предисловие, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
Портрет неизвестного. О стихах Владимира Аристова
Интереснее всего посмотреть, попытаться понять, как эти тексты работают. Для этого важно, шаг за шагом, пройтись по книжке, точно по музею, время от времени замирая у разных работ, включённых в общую экспозицию [ретроспективу].
Тогда становятся очевидными важнейшие свойства того, что Владимир Аристов делает, прикручивая возможности поэтических жанров к особенностям современного зрения.
1
Оно ведь, также называемое оптикой, действительно отличается от позавчерашнего. Того зрения, что ничего не знает, к примеру, о бессознательном и чётко придерживается чётких же понятий о красоте как гармоничном сочетании разных частей внутри целого.
Этот, классический и традиционный, «платоновский» тип восприятия соразмерностей, много позже, уже после выступления Канта и наступления массового общества, сменился иным характером смотренья, открывающим красоту везде, где только можно (а не только там, где части правильно соотносятся друг с другом), даже и в обыкновенном, обыденном некрасивом.
Для этого, правда, нужно было, чтобы всё общество и каждый отдельный человек предельно эмансипировались и изощрили собственное восприятие, готовое при малейшем ветерке внешнего откликнуться на любое тело-движение или отзвук, мало заметный другим.
Ты вырос, окончательно стал взрослым, оттого и назначаешь красивым (важным, гармоничным или, хотя бы, прикольным; прикалывающим) то, что тебя трогает; то, что почти буквально касается, становясь близким.
Если классическое искусство, оставаясь в рамках веками проработанного канона, работало вглубь восприятия, то современное расширяет [должно расширять] наши представления о прекрасном, отвоёвывая его у энтропии и жизни (ведь искусство это то чего нет в жизни, не так ли?) – но и для жизни же.
Вы же уже знаете, как живописуют актуальные живописцы, балансируя между медитативным, японским каким-то пристрастием к деталям, и, напротив, огромными, расползающимися и наползающими друг на друга жирными цветовыми пятнами.
Здесь, правда, следствием, возникает две важных методологических проблемы.
Во-первых, такой случайной, незаёмной красоты становится слишком много (ибо она повсюду; и как же выбраться из-под её завалов?); во-вторых, как найти убедительный язык для передачи своих впечатлений другим, пока ещё её не видящим, людям?
Большинство нынешних спекулянтов и графоманов пользуются полнейшей безнаказанностью, следуемой из лозунга «а я так вижу». Не являясь Пикассо, нынешний среднестатистический текстопорождатель прикрывает немощь псевдоавангардными прививками, которые, правда, при этом, не порождают [не способны породить] ничего нового. Но лишь дожёвывать многократно жёванное.
Тут самое время перейти к методе Владимира Аристова, который начиная вместе с метареалистами, пошёл несколько дальше – и если Иван Жданов и Алексей Парщиков обнаружили возможности нового содержания («фигуры интуиции», интенции и излучения, любые слепые пятна), оставаясь на поле традиционного стихосложения, то Аристов, вместе с младометафористами (Аркадием Драгомощенко и Ильёй Кутиком, чьё творчество не замкнулось в определённой исторической эпохе, но продолжает развиваться; отчего, собственно, и хочется обозвать их более «молодыми») экспериментирует с самой формой поэтического высказывания, крошит её или же вспарывает, как Лючио Фонтана вспарывал свои холсты.
Так и Аристов, превратив осязание и обоняние в чистое зрение, размывает стих [как жанр] или даже разламывает его. Покрывает сетью лакун; полустирает.
Симметрии с ним неуютно: всё это внешне (но, обратите внимание, не внутренне) незаконченные высказывания, едва ли не буквально повисают в воздухе хлопьями или же разбежавшимися в разные стороны трамвайными дугами.
2
Больше десяти лет назад я писал о книге «Реализации»: «Один из главных мотивов творчества Аристова – свет, проникающий во все закоулки мира и изменяющий наше представление о мире; свет, изменяющий не только “картинку”, но и внутреннее ощущение предметов, связи между ними.
Вряд ли одухотворенные, одухотворяющие эти потоки имеют религиозные коннотации, свет для Аристова, прежде всего, физическое явление. Что не отменяет странной и глубокой силы, возникающей вокруг мерцающего ъекта (sic!) и пеленающих его процессов и явлений, связанных уже даже не со зрением или осязанием, но со смещением воздушных масс и всяческих там излучений, перемещений, сновидений, мысленных мыслей…
Кино, созревающее в кинотеатре лобной кости…»
Вот что важно: творческая манера поэта со временем сильно не меняется (хотя к стихам и добавляется проза, причём не только эссе, но и сюжетный роман «Предсказание очевидца»), точнее, она меняется не так радикально, как наше собственное развитие.
Поэзия Аристова странно вписывается в течение нынешней жизни, из непонятного раритета становясь всё более и более естественным речением, которое понимает и ценит все большее количество стороннего люда.
И то, что раньше казалось сверхсложным, как Тарковский в 70-ые, отныне становится приёмом, сколь простым и честным, столь и очевидным. Значит, догнали.
«Аристов все время пишет одну и ту же книгу, печатая куски и фрагменты, либо следует дождаться промежуточного итогового тома с солидной обложкой из толстого картона и картинками под папиросной бумагой (ей-ей, Аристов заслуживает куда большего!) и тогда восхититься красоте враз сложившегося пасьянса.
Впрочем, возможно, что эстетика зияния, отсутствия, ускользания, минус-формы избирается Владимиром Аристовым сознательно. Цельность невозможна, недостижима. Тем более в таких тонких и неуловимых материях, которые он, посредством стиха, уловить пытается.
Главное стихотворение в книге не случайно тоже рассказывает про путешествие. “Флоренция влажная (послание Б.К. в пластмассовой бутылке)” посвящена поездке во Флоренцию, уподобляется письму, “словно я бросил его к тебе в пластмассовой бутылке в воды Арно…”. Поэтому очертания текста размыты, в них попадаются паузы и умолчания, некоторые строки смещены вниз по течению…»
Но почему так важно, чтобы текст по ходу своего течения менял курс? Для того только, чтобы вместить больше, чем позволяет инерция традиционного стихосложения. Когда внутренняя драматургия строения выходит на авансцену со своей дополнительной информацией и набором ощущений.
«Собственно, “строфа” – это поворот, а изменение строфической структуры стихотворения – это одно из самых важных преобразований в возможном воздействии, которого хотелось достичь. Строфы совершенно различной массивности, геометрической формы, “быстроты” в своем движении – это те сценические “тела”, которые должны воздействовать. Часто при переходе к новой строфе, где сразу заметно внешнее ускорение или замедление движения стиха, совершаются и психологические повороты, здесь скрыты драматургические коллизии, возможно достижение кульминации…»
И, наконец, чтобы закончить с цитатами, характеризующими стиль и метод, приведу ответ Аристова на вопрос о том какие задачи при письме являются для него самым важными и должно ли быть стихотворение ясным и прозрачным.
«Самое важное – вовлечь в эмоциональное и интеллектуальное течение стиха. Внешняя понятность (равно как и непонятность) для меня не есть необходимое условие удачного стихотворения. Иногда стихотворение пишется, когда мысль уже существует “за кадром”, но она не всегда открыто формулируется или ее смысл может быть нов (и для меня тоже), и это способно вызвать ощущение непонятности.
Но часто, вступая в реку стиха, я сам отчетливо не знаю, о чем говорит мне начальное ощущение. С читающим я оказываюсь почти в равной ситуации, я лишь по времени раньше почувствовал нечто. Не значит, что я здесь отказываюсь от понимания. Просто это должно произойти не сразу. Часто стихотворение – способ познания через “не могу”, через непонимание в попытке выразить нечто важное. Перефразируя классика, можно было бы сказать применительно к такой ситуации: “они говорят о непонятном” и “хочут свою образованность показать”.
Пишущий здесь не является некоторым ментором или хранителем истины. Он сам вопрошает, но в особой форме. Поэзия настолько же приоткрывает тайну, насколько тут же ее скрывает, она заживляет сразу же порез, который вызван скальпелем мысли».
Через все статьи об Аристове, регулярное, как заклинанье проходит рефрен: у поэта нет объёмной, достойной его книги, «пухлого тома», способного объять и скрепить всю его вселенную; обобщить написанное и сказанное [зафиксированное и сформулированное], многократно приростаемое общей плотностью. Особенно важной для этой его принципиальной <вне> и бестелесности.
Теперь же, с выходом этого избранного положение изменится. Уже изменилось.
3
Эпиграфом к нынешней коллекции, автор избрал стихотворение о живописи и музыке, полемически начав сборник с заземляющего глагола.
Припёрся на конкурс Чайковского с лютней Никто не знает, как звуки извлечь Пошли к деревянных дел мастеру У которого засаленная репродукция Караваджо «Лютнист»Самое интересное здесь – кто «припёрся», сам ли Аристов, его ли лирический герой, не равный автору, или же вовсе сторонний персонаж, которого автор наблюдает вместе со своим лирическим героем подобно тому, как это происходит в повествовательной прозе. А может быть, на конкурс Чайковского припёрся с лютней ъект, обладающий мерцающей идентичностью, качающейся то в сторону личного опыта автора, а то и в область чистой персонажности, обобщающей частные, да и весьма конкретные переживания совсем уже каким-то сторонним взглядом, едва ли не случайным, едва ли не равнодушным (так надо для развития температурного сюжета).
На этом важно остановиться особенно, поскольку случайного у Аристова, несмотря на намеренную как бы небрежность словесного узора, складывающегося на наших глазах, не бывает. Тенебросо (живописная манера, основанная на контрастной светотени) Караваджо помогает понять особенности живописной техники самого Аристова.
Стояли, друг друга толкали локтями Как стадо немного уже неземных людей Туда в темноту где цветок Смотрели как будто бы в детский чердакБыло бы совсем уже идеально, если бы второе четверостишье являлось описанием какого-нибудь из многофигурных холстов Караваджо, однако же Аристов несколько раз повторяет «Лютнист», значит, речь идёт о мастерской, в которой стоят немного неземные люди, рассматривая нечто, не до конца проявленное – некий цветок (или же имеется ввиду конкретный цветок, стоящий в тёмном углу комнаты?).
Или цветок в углу эрмитажной картины и тогда всё стихотворение есть описание этой картины, в которой сходятся все внутренние реки текста?
Хотя, скорее всего, цветок – это музыка, открывающаяся навстречу слушателю и расцветающая в его сознании.
Несколько вывихнутое, нарочито неловкое, угловатое словоупотребление выстраивается в цепочку опорных сигналов: толкали локтями – как стадо – где цветок – в детский чердак…
Почему чердак детский? Потому что музыка – где цветок; так всё взаимосвязано: «детский» означает «игрушечный», «маленький», «игровой», не вполне настоящий; как тот умозрительный «цветок», распускающийся в восприятии и в воображении.
Щелчки-пунктумы, ступеньки-сгустки, подводящие к общему ощущению выведенности внимания за границы тела: люди в стаде оказываются немного неземными, так как внимание их переключено на некую внешнюю, вне их находящуюся точку, лишающую это самое внимание телесного самосознания.
Немного неземные, потому что сейчас они не здесь, но на (или в) детском чердаке воспоминаний, похожем на рождественский вертеп. И вполне возможно, что следующие четыре строки описывают эту несуществующую территорию, соединяющее звук и пространство.
Где пыльные стропила – сами как музыка в солнце Где под подмышкою кто-то быть может и ты Держал неровную деревянную ту восьмеркуСемантические и синтаксические неловкости (они всегда работают у Аристова на точность чувственной передачи) оборачиваются ощущением тесноты и захламлённости, неожиданно отступающих перед «музыкой в солнце» <на солнце? Речь идёт о солнечных лучах, проникающих сквозь грязное, ибо запылённое, стекло окна?>
Цепочка шагов, точнее, прыжков через ступеньки, такова: стропила – подмышкой – деревянную ту – восьмёрку. Далее, вполне естественным путём, музыка и живопись соединяются.
Ты звуки извлек темноту и цветок И ноту – помощницу темноты Караваджо И славу у уст Когда поцеловал репродукцию КараваджоВся звукопись здесь подчинена визуализации удвоения фамилии художника, поставленной в позицию рифмы, причём не столько фонетической, сколько смысловой. Караваджо уподобляется в этом четверостишье темноте, которая упоминается тоже дважды. Звуки тут рифмуются с устами и поцелуем, извлекающем то ли мелодию, то ли репродукцию.
Далее следует постепенно нарастающий, вытекающий из предыдущих причин, финал:
Стояли все прочие И твой результат ожидая Были заняты звукоизвлечением дали И радости не было струн и не было струн и границ Формальную повесть на миг заключили в футляр И вышел на миг и вошел сам друг темноты Караваджо.Главными в восьмистишье с формальной точки зрения оказываются неожиданно неудобоваримые льдины с налётом канцеляристской ангины в горле: результат ожидая – заняты звукоизвлечением – формальную повесть – заключили в футляр (у Вознесенского в стихотворении памяти Кирсанова – «невыплаканная флейта в красный легла футляр»?).
Официальные обороты чужого, очевидно, голоса, словно бы услышанные сквозь динамик, возвращают нас к началу – к конкурсу Чайковского, будто бы объявляющего свои результаты.
Но и, одновременно, к следующей сцене в музыкальной мастерской, где столпились нематериальные в своём интересе люди («все прочие», то есть, незнакомые), твой результат ожидая на концерте или, всё-таки, в мастерской?
Место уже не так важно, куда существеннее результат: проявившийся на миг Караваджо, возникший из перепада света и тьмы, из детского чердака в обратной какой-то перспективе, но переживаемый как осуществляемая данность; то, что можно ощутить частью общей реальности.
и не было струн и границАристов поддерживает нас на весу неопределённости (конкурс? мастерская? картина? музыка? живопись?), входящей в условия «игры», которая и есть главное фабульное приключение, обналиченное частностями.
4
Приём слов, сдвинутых со своих мест, похожий на типографский брак, хватающий глоткой нечаянно образующийся воздух, встречается в книгах Владимира Аристова постоянно, вскрывая принцип фрагментарности показа.
Не знаю все слилось все смешалось И письмо размокло я забыл слова Вставь в пропуски что хочешь по желанию Ты знаешь что сказать Я помню светлые подтёки На обоях в комнатах Хоть Лоренцетти хоть Мартини шедевр братается с шедевромПоэт, таким образом, уподоблял текст, описывающий ренессансные фрески, самим этим росписям с их многочисленными деформациями, лакунами, чьё полноценное существование более невозможно.
Буквенный строй, раздвигающий обычно впритирку (заподлицо) стоящие буквы и оттого похожий на нотный стан, спотыкается об кислородные обмороки и воздушные подушки, захлёбывается, лишний раз подчёркивая: полнота передачи чего бы то ни было (смысла, звука, изображения) невозможна.
Так стихотворение уподобляется человеческой жизни, проступающей из подробностей и складок чужого бытия какими-то деталями и отдельными частями…
Или же человеческому взгляду, выхватывающему из окружающего пейзажа (сейчас, записывая всё это, я вижу внутренним взором набережную Москвы-реки возле Новокузнецкой, точно стою у гнутого мостика спиной к Павелецкому вокзалу) не всё, что есть, но то, что чувствуешь ли, видишь.
Или же стихотворение уподобляется памяти, оказывающейся ещё более прихотливой и избирательной, чем взгляд. Внутреннее кино, вызванное усилием воли, всегда неполно, всегда фрагментарно; почти всегда оно отвечает метаметафорической позиции замещения и разрыва, нарочитой неполноты, оборачивающейся дополнительной суггестией, что выступает потом или смородиновой смолой.
5
Сдвинутые слова фиксируют недопроявленность, остановленный на бегу процесс, повёрнутый вспять. Отказ от перехода границы.
Совсем как в калифорнийских стихах Алексея Парщикова из «Cyrillica light» («но, может быть, впотьмах, и малого удара достаточно?»), где технология размытого изображения была позаимствована у поляроида – вот точно так же новые возможности поэтического зрения Владимир Аристов заимствует у мобилографии.
Поляроид обобщает изображение, сводя (сведя) его к иероглифу, фотография с мобильника смазывает картинку неощутимыми глазом пикселями, децентрирует фрагменты реальности, окончательно фрагментируя её.
Классик поп-арта Дэвид Хокни складывал из отдельных поляроидных квадратиков изображение улицы с деревом на переднем плане и картинка эта словно бы положенная на муравейник ёрзала, но не расползалась.
Мобилография же действует ровно наоборот: первоначально она расползается, просачиваясь на атомарный уровень, а уже после, куском студенистого студня, возвращается в мир как вещь-в-себе.
Мобилография – это складка, монада, отгороженная видоискателем и разглаженная монитором; это предельная субъективность, отныне заправляющая миром, и Аристов её, один из первых, певец.
6
Первое стихотворение раздела «Имена и лица в метро», «…перелицуют пальто | это подсветка высотки», намеренно проходное, полуслучайное, за-такт звучащее центробежным движением, как бы в проброс, как бы между прочим, вводит в сущность укрытия.
Так входишь под купол низко (так низко, что зелёный ставится серым) и тяжело опустившихся веток старого дерева, оказываясь в акустически (и планетарно, то есть, как в планетарии) ином измерении…
шёпот тихий камей…Здесь главная задача – точность передачи отдельных бликов (память, фактуры, температура, состояние влажности – вечера и времени года, скажем время роз уже закончилось, но время гладиолусов и последних астр ещё не началось; похожести одного на другое как примера ошибки и самозабвения) восприятия, складывающихся и нескладывающихся в отдельный файл.
Если бы можно делать фотографии воспоминаний, фотовспышками озаряя отцветающие, выцветающие цвета и ассиметрию умозрительных композиций, белеющих отсутствием по краям, закономерным белым (или чёрным. В зависимости от визуального темперамента) – как на некоторых недорисованных портретах!
Если бы закрепление изображений было таким же простым делом, как щёлканье затвором!
Аристов, между тем, как раз и занимается сохранением невидимого и незримого в максимально возможной аутентичной (адекватной) этому умозрению форме:
точные гостиницы «Украины» края тот нежный отверженный сверхосенний светТак Алексей Герман для «Хрусталёв, машину!» пытается найти особенный, старинный снег из 40-х, ну, или, хотя бы, из 50-х: в текстах этих роль поэта заключается в чёткости отбора опорных сигналов, точность которых возникает из сочетания семантики и фонетики:
лица ночные лицую Волейбол белой ночью гипсовые ваши тела задержались в воздухеПострочечно перевожу: летняя мгла, внутри которой освещённая прожектором волейбольная площадка, где-то рядом с промзоной (?)…
Хоть завтра да сегодня уж на завод снова пусть даже срежут процентовки порвется стружка в токарной мелочиЭто только мне кажется, но особенное расположение строчек превращает горизонтальную картинку в вертикальную и точно вытягивается на манер спортивных полотен Александра Дейнеки в осязаемое столкновение противоборствующих игроков?
но здесь в горячей посвящённости в такое бытиё где повторенье без изъятьяГлавной задачей Аристова в этом куске было подвесить бытиё точно мяч меж двух разгорячённых (об этом ниже) команд, когда событие чтения одномоментно совершается на разных пластах – строфики (графика) и семантики; впрочем, без изъятия и всех прочих уровней стиха.
на капли алкоголя жизнь пока не распадается на скамье оледенелой — верные тела, оставленные в белом воздухе без ночи без уничижающего сна совсем«Капли алкоголя» неожиданно превращаются в зернистость изображения, в атомы и молекулы (пиксели) кадра, где мощный тоннель подсветки, захватывающей лишь часть пространства, куда попадает ещё и скамейка, делает тела, зависающие в воздухе и тянущиеся к мячу бытия точно полыми внутри.
Гипсовые (шероховатые, статичные, ибо пойманы поэтической оптикой), они [рабочие? студийцы? студенты на практике?] теперь будут тянуться к мячу вечно.
Без уничтожающего сна.
7
Третье стихотворение раздела:
Отшумевшие аплодисменты. В памяти опали, как листва Где же рощи рук, Что дарили шум– вскрывает если не приём, то главный тематический интерес – отзвучавшие аплодисменты, прошлогодний снег и дырку от бублика.
То, чего не было, но то, что, тем не менее уходит всё дальше и дальше: Аристову важно зафиксировать как сгущается "минус-корабль" небытия, как нарастает энтропия забывания – именно энтропия, так как для сохранения мира в его полноте и целокупности необходимы титанические усилия сознания; мир прекращается вместе с человеком и внутренним зрением его памяти, луч которого обеспечивает глубину и объём.
Смена психологических регистров, выхватываемая, выхваченная из бесконечного потока и пригвождённая а) метафорой; б)миметическим жестом, продлевающем тормозной путь.
лишь за то, что я актёром вызвал или вызволил другого Лоб его и голос или локоть оголил Перед жаром всеслепительной и беспощадной рампы Лишь за то был дорог вам и мил Что открыл я жизнь иного и четверть жизни в чужих лохмотьях проходил сам френчу ношенному уподобленный немногоВажно, чтобы волна захлебнулась; чтобы дрожь нетерпенья передалась – после легкомысленного открытия в театре, когда тебе со стороны показывают тебя (совсем по чуть-чуть: лоб или локоть), что несмертельно и легко преодолимо, хотя и остаётся припечатанным в опыте; прозрачное, призрачное, тем не менее, никуда не девается, пребывает.
Но на сцене иногда думал вот вечер кончится выскользну из зрительской толпы и неузнанный под звездами, видя вас как одного огромного со стороны, пойду один в несминаемой своей одеждеВечер хочется и длить и прекратить (сам часто ловишь себя на том, что фиксируешь время, считаешь, сколько осталось – то ли от убыли, то ли от удали, то ль от зудящего нервного зуда, который не перепрыгнуть и не обойти, нужно обязательно выйти на свежесть и следовать умозрительной траектории расхождения), противопоставленный всему и всем другим, многоголовым и неделимым – своим впечатлением противопоставленный, открытием чего-то, что раньше было сокрыто, а теперь раздвигает твоё внутреннее пространство.
Несминаемая одежда, гипсовые тела, перелицованное пальто – оттиски пережитого на теле и на челе; слепки пустого, точнее, полого, ничем не закрепляемого опыта, утекающего сквозь дырявые руки.
То, что остаётся от того, чего не осталось: чистая форма.
Нерифмованные, свободные строки эти, тем не менее, не хочется называть верлибром – настолько они цельны внутри себя, спаяны и сжаты.
Ощущение осыпающейся фрески как раз и возникает из этой чреды сгустков, словно бы оставшихся от целого и непрерывного регулярного поэтического текста.
для нас истории той не было она не более жива чем эти силуэты переползающие по проволоке над пропастьюТочно это древняя рукопись (чужая история), оставшаяся во фрагментах, – Аристов противопоставляет друг другу соседние периоды, точно спорящие своими агрегатными состояниями и не всегда вытекающими из предыдущих строк.
Связь причин и следствий нарушается; линейной логике выкручивают суставы, но если опорные сигналы точны, то суть текста, его мерцающий смысл продолжает проступать сквозь пласты и напластования.
представлены на диораме где неживые люди переходят в фреску незаметноСтихотворение, написанное другим человеком, и есть чужая история, доносимая до нас по частям, частями – отраженье отражённого света, куски росписи, собираемой заново, но отнюдь не в произвольном порядке.
8
По «Открытым дворам» идёшь как по Музею Фотографии – большие белые поля страниц отштукатурены под выставочные помещения, на стены которых повешены снимки – где-то цветные, частью – чёрно-белые.
Сепия чередуется с дагерротипом, многократно увеличенный мгновенный полароидный (плавный, но загустевающий, молочной рекой с кисельными берегами) оттиск – с мобилографической куриной слепотой микромира, поднесённого к самому носу.
Где в песок вонзилась сгоревшая спичкаКрупный план фиксирует отнюдь не любовную размолвку с бытиём, но беглое бегство с окалин к окраинам.
Потому-то снимки или стихотворения как «люди слюды» крайне осторожны.
Увидеть и выделить (поймать) свет – главная задача фотографического искусства, отличающегося от живописи точно так же, как поэзия отличается от прозы.
…встретить идущий из камня свет | Свет, который пока не добыт | если он в заброшенном камне его надо найти…
«Забытое месторождение» («Книга твоя слюды | Не слова в ней | А люди видны | В неподвижной прозрачности…») предшествует картографически точным стихам, посвящённым Парщикову и Айги.
Текст, отталкивающийся от впечатления, произведённого выходом посмертного семитомника Геннадия Айги, формулирует важнейшую особенность метода – эйдетическую редукцию: «Лес становится снова деревом | Поле горизонтом безграничную обозначает страницу».
«Памяти Алёши» смешивает мемуар и формуляр, присягая задаче собирания и проявления «фигур интуиции» и ещё раз формулируя способ:
…попробуем собирать – твое зрение | рассеянное для нас | (пусть на странице описания жизни) затерянное среди ясеневской листвы | Прикрывая глаза, я отчетливо вижу твой свет…
Собственно, весь литературный путь Аристова и можно условно обозначить этим экспозиционным направлением – от Парщикова к Айги, с постоянным обезжириванием и обезвоживанием изображений, всё более скупых на проявление вторичных жанровых признаков.
Зря что ли вслед за полузасвеченным воспоминанием об Алексее Максимовиче и феноменологией Айги идёт финальный текст – «Фотография» («…ты сейчас – именно то, что ты видишь значит мгновенно мы совпадаем…»), фиксирующим совпадение зрения и бытия.
благодарность | за видимое твое безмолвие | единокровности новой сродни…
Усыхающая плотность мирволит возникновению «фотографических ожогов», когда точные метафоры или сравнения обжигают воображение, неожиданно раскрывающееся мгновенной вспышкой, внутри которого изображение становится объёмным.
Фотографически полное ощущение пространства продолжается за скобками (скобами, рамками, рамами) изображения.
9
Можно, конечно, пойти иным путём, каждый раз уточняя у автора, что означают те или иные тропы; понятно ведь, что за каждым сравнением стоит та или иная реальность. Да только зачем?
По замыслу Аристова, в сухом остатке должна остаться проекция, точнее, остаток её, хотя бы ощущение отброшенной стихотворением тени.
Ну, или интенция, сама по себе, тот самый умозрительный мост, воздухопровод, а то и целая радуга непрямых соответствий между двумя берегами, затеваемая [завариваемая, сложносочинённая] поэтом.
Да, есть ведь ещё один тест на интерес и оригинальность поэта – для этого нужно найти у него описание чего-то всем известного и понятного. И посмотреть – есть ли рема у такого общедоступного сюжета?
Раздел «Иная река» заканчивается итальянским циклом и, в том числе, венецианской ведутой.
Аристов пишет Венецию после Ахматовой и Пастернака, Брюсова и Блока и, конечно же, после Бродского…
Город-виденье Белые башни-домны, в которых, наверно, пыль отвергнутая поётВесьма сложно выйти за рамки дискурсивной колеи («Венеция сонм повторений, не способный уже улететь…»), пробуравленной предшественниками, прибавить что-то новое, оригинальное, сойти со стереотипного туристического маршрута.
Город-музей открыт любому, кто хочет видеть, главное чтобы было время (читай, деньги), единственный дефицит и то, чего в Венеции всегда не хватает.
Обычно сюда приезжают на день-два, селятся на материке, с заходом солнца уезжая в пригороды, из-за чего Венеция снова становится полупустой и тихой.
Для Аристова «Врата Венеции» оказываются дверью в свой московский дом, внезапно возникающий в проеме. «Открытые дворы» ещё ведь и про эту связь разрозненных, на первый взгляд, объектов и явлений, скрепляемых на живую нитку.
Юношеская неловкость интонации, закрепляемая инверсией, помогает перенестись на поле субъективности, сделав свой собственный венецианский ландшафт не похожим на фотоснимки других писателей и поэтов.
Не оправдаемся, если забуду отсвет небесный этот, снятый с обоев с дагерротипов содранный глянец за глянцем… Посланец… он улыбнулся, крыльями посылая привет были заняты руки, он нёс, как статуэтку, нечто с обломленными руками с пробитым носом и ртом он скрылся в проломе, что уходом своим в Москве оставила ты отсвет лица моего здесь ещё загорал в боковом окне пред ликами пылинок событий из областей ничтожеств рябинок напёрстков… Нашарить за спиной пепельницу мраморной отстоявшейся воды чтобы стряхнуть туда и отжать этот пепел влажный пронёсшийся сквозь стекло Дмитрий БавильскийОткрытые дворы
* * *
Приперся на конкурс Чайковского с лютней Никто не знает, как звуки извлечь Пошли к деревянных дел мастеру У которого засаленная репродукция Караваджо «Лютнист» Стояли, друг друга толкали локтями Как стадо немного уже неземных людей Туда в темноту где цветок Смотрели как будто бы в детский чердак Где пыльные стропила – сами как музыка в солнце Где под подмышкою кто-то быть может и ты Держал неровную деревянную ту восьмерку Ты звуки извлек темноту и цветок И ноту – помощницу темноты Караваджо И славу у уст Когда поцеловал репродукцию Караваджо Стояли все прочие И твой результат ожидая Были заняты звукоизвлечением дали И радости не было струн и не было струн и границ Формальную повесть на миг заключили в футляр И вышел на миг и вошел сам друг темноты Караваджо.ОТКРЫТЫЕ ДВОРЫ
(невидимки)
За рулем он откинулся навзничь — В пробке непроходимой в родном дворе — снег непробуден он взглянул на правую руку, но понял, что не видит левую руку он взглянул на левую руку, но понял, что правой – нет за аквариумным окном машины медленно промелькнул и исчез прохожий скрыл, скрывает лицо свое от снега и рождественским бродит Николой, Заплутал ты с мешком заплечным меж номеров машин с жестянками в сетке заплечной даром почти жесть меняя на медь Горизонты, дворы, немота монеты давно оброненной на мостовой И словно бы повторенье мантры — самого себя — в сквозняке проходной.* * *
пустоцветом? Лишь с железным зажатым в руке букетом — вилка, ложка и нож любовалась, нет, любовался собой в отражении и под ложечкой нежное жжение и везде на стенах в кружении и они, и она, и оно* * *
На спине на зеркальном паркетном полу Плоскость балетного класса Сколько пальцев в руках на демонстрации? Сколько волос непросчитанных и неубранных словно колосья со лба По переулкам стекающиеся образы-образцы Из разбитых шкатулок малахитовых не отражены в паркете Руки уже ушедших идей.* * *
в своих штанах, пошитых не на века добрел сюда на автобуса стертых подошвах с финишем промежуточным почему-то в кафе, посвященном Элвису Пресли отсюда до Ерусалима рукой подать но ты ничего не чувствуешь в нелепой руке с фарфоровой кружкой гитарного не твоего кумира очистил чувства свои вполне зачем стремился сюда пол-России и всю Украйну ты пересек затем, чтобы здесь разрыдаться у автобусного колеса везде кое-где миндаль расцвел а ты даже гору за рыданьем не видишь приготовился, словно бы собрался* * *
С Елеонской горы там не видно долины Иосафата из-за холма и на склоне лишь — шкурка банана, на три разделенная доли легкая тарелка, брошенная ничком вилка без зубца смеем ли глядеть меж неподвижных олив на склоне зрение вас всех преумножит как знамя небес Иерусалимский университет за твоим затылком в сплошной непроглядной листве подзорная труба на штативе на гранитном стоит парапете да не приснилось ли тебе море которое видел ты опустив в прорезь подзорной трубы древнюю стершуюся монету когда вокруг небо в холмах облаков* * *
«… и расцветут, как виноградная лоза…»
Осия (14, 8)«Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого»
Иона (4, 11) Видел я Масличную гору в бинокль говорлива толпа и ты ее немой язык стоокой толпой разноязыкой глядящей глазами в стороны света во все глаза, во все ворота на холм, летящий одетый в бетон недоступный невидим он от Шхемских ворот, от Ворот Ирода, от Золотых ворот, от Львиных ворот виден от Мусорных ворот от Сионских ворот от Яффских ворот тихо не доходит из бетонного гетто весть Вифлеем неприступный Ерусалим невидим ему Зрим снаружи семивратный славен Ерусалим но внутри недоступен* * *
«цветет глубоко под землей…»
По перламутровой ступени камня Под ногою готов разломиться высокою ступени каменный перламутр Ты замер, увидев в камне древний свой сад детства Древние кратеры, набатеи, Рамон Пересечения высохших высохших рек бедуины Поселки – временные полотняные их ангары треугольные знаки с верблюдом внутри Земля готова зацвесть под зимним дождем До Галилеи еще далеко пожалуй На языке глубинном и древнем наречии горят, говорят города Сухая зимняя земля расцветет именамиКОШКИ У МЕРТВОГО МОРЯ
Итальянская семья валялась в море Изредка перекликаясь много глаз у отеля — их бессонных очей глядели в стороны света не видя пресной воды, бившей в правую руку Глубоко мы на дне моря воздушного ниже земли, тише травы здесь у отелей они – глаза одни глаза брызги растут вверх к уровню-нивелиру земли Пресная вода пресная сквозь нее на юге вспышка белого облачка магниевого завода добывшего немного соли моря для земли* * *
Ты включил кондишн на полную мощь Чтобы мысли все заглушить Ан доносится откуда-то сотый твой анекдот от которого антидота нет Всё в посольстве по-советски сложно и необычайно светло говорят пиши бумагу даже по трафарету подложенному поперек ты хотел хоть одним глазком в будущее заглянуть но оттуда кто-то заглядывает сюда срок подписи твоей иссяк и истек юго-восточнее Азии здесь можно жить если б был воздушным твой позвоночный столб а не то, что ты на нем застыл на столпе боль твоя спеленута в местный пресный хлеб ты бы мог пережить и ее и избыть но избыток зрения твой бежит во все стороны здешних мест шумным холодом ты все соринки с пола прогнал все равно за окном необыкновенно тепло и стеноз сжал вас всех в одной небольшой стране и за краткой подписью видится лишь ее рука — не хотел, а приходится кратким быть как Магдалина Борисовна что нюрнбергский весь протокол запечатлела птичьими стенографическими значками только пальцы ее тогда на светлой стене повторяли щепотью шероховатое то движенье но тебе сейчас не на те пальцы тонущие в прошлом смотреть воротиться хотя б невидимым в свои края но жаль здесь себя потерять и на мировой твоей гармонии кто-то другой играет там за твоим окном воротиться бы в юность и набравшись сил побежать бы отсюда во все стороны жизни выйти б наружу за холодом пока не утратилась вся подпись твоя и чернила для белил этой стены еще в памяти естьИмена и лица в метро
* * *
…перелицуют пальто это подсветка высотки точные гостиницы «Украины» края тот нежный отверженный сверхосенний свет где-то в 50-х перелицовывали пальто также но навзничь лежала плоскость обнажена темная а с изнанки светлый свет и в пальто перемещенное перелицованное лицо словно с зари на вокзал все-то меня не отымут и не отпустят меня лиц безымянных значенья шепот тихий камей каменных лиц имена на той стороне Садовой, прямо на той стороне лица ночные лицую глажу пламенный камень и дорогие глаза бедное наше всемерное схваченное светом осенним, высотами не перелицованное лицо* * *
Волейбол белой ночью гипсовые ваши тела задержались в воздухе Хоть завтра да сегодня уж на завод снова пусть даже срежут процентовки порвется стружка в токарной мелочи но здесь в горячей посвященности в такое бытие Где повторенье без изъятья на капли алкоголя жизнь пока не распадется на скамье оледенелой — верные тела, оставленные в белом воздухе без ночи без уничижающего сна совсем* * *
Отшумевшие аплодисменты В памяти опали, как листва Где же рощи рук, Что дарили шум лишь за то, что я актером вызвал или вызволил другого Лоб его и голос или локоть оголил Перед жаром всеслепительной и беспощадной рампы Лишь за то был дорог вам и мил Что в себе открыл я жизнь иного и четверть жизни в чужих лохмотьях проходил сам френчу ношенному уподобленный немного Но на сцене иногда думал вот вечер кончится выскользну из зрительской толпы и неузнанный под звездами, видя вас как одного огромного со стороны, пойду один в несминаемой своей одеждеЛИЦА В МЕТРО
Плавающие слева иль справа сплавы их листьев на лацканах металлических Объемы их объемна их славы их глаз листва живая не говорили их глаза но порознь каждый жили глядел и уходил не уходил в свою сторону света света пролетающего за черным окном30 АПРЕЛЯ
Вызвать меж забвенья вещей образ Алена твой Здесь в средостеньи берез Аляповатых губ примкнувшего трутовика Шумом шоссе неясным оплакана Высота сосны горечь-даль сталь давняя неба — Обещание верное Бутоны черных копий на углах железных оград И несмела несметная Зелень пробирается первый раз на парад земли и в повторе как песня вытянет, вызволит во всю длину жизнь жизнь твою вечнуюПЕРЕУЛОК
На перекрестке ночном Трехпрудного где разделяется он На Ермолаевский и Благовещенский ты стоял тогда и сейчас Направо налево ль пойдешь — словно два свежих отворота — воротника у форменки отклонены во тьму направо ли – в Благовещенский где закрыв глаза снится все тихий утренний шелест сумки холщовой направо ли там где казармы и за стеклами лица безмолвны налево ли где каштаны светятся над посольством со странным страны окончанием на «агвай» или «угвай» Но не слишком ли обнажена там улицы Жолтовского улицы будущей в повороте ночном книжная эта желчная желтизна Кто передоверил перепроверил кто не переуступил на пороге осеннем свои права чтобы за всех видеть и тихо за вас всех сказатьИЗ ЦИКЛА «МОСКОВСКИЕ МГНОВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ»
(12 час. 48 мин., 26-сентября, Яузские ворота)
…встретился совершенно незнакомый человек Несмотря на солнце, в капюшоне Правой рукой опираясь на палку, шел наразмашку В левой – с раскрытою книжкой в желтой обложке взгляд его был, как пароль И в лице непрочитанные морщины.* * *
Пресловутого Дуная Льются вечные струи Ф.Тютчев Там на берегу Дуная возвышается гора мимо велосипедисточек не разъедется толпа Люди косвенно мешают зрению (не обесточь) бестолочь толчется в оптике ей мешает человек И по бесконечной набережной однодневками снуют велосипедисты встретились разошлись и вновь снуют И мешают восприятию разошедшиеся тени, самостийные тела Как объять, когда проносится бешеный велосипед Буда, Пешт или безумная восхищенная Москва Легче нам, что не проносятся по краям Москва-реки велопеды скоморошные легкие, как плавунцы Легче нам изъять из зрения, как застрявшее стекло Пети Медленного дление И Наталью Медовых Станислава Иванова и еще Полину Грач Где кончается в них город Где тогда начнется ужас Город в нас воспоминания очищаем от людей и бесшумно ходют дворники всех сметая как соринки ветровых открытых глаз И вернуть удастся ль в город Тех, кто выброшен до дна Гору Геллерт неочищенную от людей, людей, людей И холмы Москвы* * *
памяти А.Ю.
75-го август Мерцая дремали авгуры Расстегаи с визигой и литровый цилиндр Зелена вина В «Центральном» Проницаем был взгляд И духовная несомненна еда Может быть, хохолком от времянки-стремянки Время любое я достаю И в аи отзывается ай, Али, и а-у слышно в А.Ю. Ты ореховым взглядом по лицам вещей скользил Разорвать повторенье такое времен – это выше временных сил. Что же будем в том времени делать опять? Декламировать жизнь Подгонять несозданье по улице И ореховым прутиком все в ту ж непокорную загоняя тетрадь? И на что возрождаемой жизни пламень исчезнувшего вина? Горечь мира, молодая вина легко в безликое летнее в несомненное претворена виноСтихи, сочиненные львом-поэтом (из романа «Mater studiorum» («Мать учения»))
СНЕЖНЫЙ ЛЕВ (LEO, THE POET)
Человекобез-образный Человеко-бесподобный Лев-поэт милостью божье-человечьей тихий, смирный, грязный, как овечка, Перед нами предстоит Он устал на задних лапах Душно в его старой шкуре в глазах больных трахомой вековая грусть зверей Он пришел, некрасивый, сюда, хромая с пыльной кистью, с бахромою снежной пеною хвоста Белый лев из Алабамы из университета града Florence распростясь с своею львицей стал поэтом меж людьми Речитативом он произносит прошенья (с книжкою «Рейнеке-лиса» на немецко-львино-русском в молью траченной подмышке) С флагом небывало-пестрым он последний царь, предстательствует от посольства всех зверей. Он стоически повторяет проникновенно лапами помавая отнюдь не геральдически Лево-агнец но вдруг он оглянется огненно Словно грозный ангел в уголках его глаз промелькнул Он восстал из тысячелетней пены — человеческий вассал встал из снега но в холоде человеческих взглядов будто бы скрылся Не исчезнув, не истлев в зимнем зоопарке над вратами дремлет лев в виде белой аркиОКНО МЕДАНЫ
Йелке и Младену
В комнате царило окно Мы держали ставни, разведенные в ширь наших рук деревянные ставни, нагретые незнакомым солнцем Нам была видна Медана вина Обернувшись мы увидели за спиной другое окно кто-то вглядывался в комнату с внутренней галереи как художник близкого Ренессанса В темную комнату где контуры и мерцанье брошенной на кровати одежды И окно, что мы распахнули, как зеркало Где была дана Медана вина но мы знали: из сияющей этой равнины наши лица на глухой амальгаме в темноте этой комнаты почти не видны только проблеск глаз словно чрно вино Мы открыли… мы снимали… слой за слоем убегающие в даль виноградники нестройные голоса поэтов или то чудится эхо из боковой ванной — донесла гроза из окна так что комнатный ливень сливается с шершавым по тихой бумаге шуршаньем дождя в комнате, где парило окно Мы еще и еще раз приближали к глазам эту местность в линиях виноградных блуждали но вода смыла пульс прожилок листьев с пропыленного винограда где Словения, где Италия? тщетно не было швов и границ Фрагменты соединяли вино Из глубины, изнутри мы увидели мы видели сияющий день отступали как будто глазам не веря потому что окно открылось как свет в мир огромный который хранился в подземном пространстве Дорогое вино в глубине раскрывался слой за слоем времен медленно через прозрачную прочность сквозь крепость вина свет его изменялся в лице и долина раскрывалась все глубже Но окно в воздухе оставалось и когда стемнело вокруг Мы вошли в промежуток меж стен во тьме на старинном буфете светился портрет юной девушки здешней с цветами вкруг глаз Испарялось вино меж трех деревянных стен здесь жила тишина морская хотя не было моря за ближайшим углом машины далекие вечернюю обозначали долину высох клей под отогнутым уголком Европы несколько насекомых пересекли нить взгляда что вернем дорогому другому другу такому же на дне ящика тумбочки с тонкостенным днищем что колеблет руки пятна исчезнувшего вина что оставил нам письмо несказанное стертый пятак евроцентовый незакрытый замочек от чемодана и переложенный на словенский «Ладомир»ТРОПОЮ РИЛЬКЕ (RILKE WEG)
Долго мы шли вдоль оград — меж деревянных жердей словно деревенской околицей пряслом ограждавших нас от моря Сквозь лес мы проникали дальше К нашей цели – бухте Sistiana Она была невидима с дуинского балкона замка По сути, недоступна взору Но все же цель не была ясна Кажется, гостиница Где больше сотни лет назад С собой покончил безумный физик Зачем искать ее было неясно Найти наи-европейскую гостиницу Где все сверкает, люди редки И где-нибудь в углу В сияющем прямоугольнике, Начищенном так, что и прочесть нельзя, Написано, что сюда когда-то Прибыл на отдых (с семьей) Тот физик знаменитый. Наконец чрез много километров Мы вышли на обрыв над морем Там бухта замыкалась оставался небольшой пролив два тонких мола почти соединяя словно два несведенных пальца у глаз «Можно ли вообще спуститься с этого обрыва? — ты спросила Мы долго опускалась, снижались медленной спиралью сквозь темный лес пробкового дуба Мы снизились к границе моря горною тропинкой где в море крошечная бухта (наверное для младшей дочери его) Мы подошли поближе ничего не видно, кроме дороги рядом с окраиною моря Наконец вблизи автостоянки Громада незаметная на фоне леса заполнившего гору Заросшее южным бурьяном Здание, похожее на остов средней московской школы Прикрытое зеленым косогором Мы обошли его вокруг со спины, где редкие машины прислонялись к нему в виртуальной зелени. Неохраняемый вход-провал Пересекая экскрементозные полоски воздуха — мы вошли и дальше внутри вещи, разбитые на части зубчатая звезда велосипеда цепь ржавая последний раз замкнулась и уходящий вверх обломками ступеней путь лестницы там где виднелось белое небо в куполе зияло круглое отверстие казалось, от рухнувшей с огромной высоты небесной люстры путь завершился без указанья окончания тропы Rilke Weg Так медленно балкон Дуино кружился рука хваталась за побеги зелени проросшие меж рельсов Крепивших балки с крошащеюся штукатуркой той гостиницы балкона, того человека у окна, люстры рухнувшей в мир с захваченными взглядом территориями скрылся он за дневной газетой задвинув занавес из букв и Райнер на балконе из глубины гостиной замка не знал об этом от кого-то слышал — не умел читать газет но балкон словно та маленькая бухта, подхваченная на ладони снега Мир, похожий на рухнувшую люстру, которая еще летит к земле Мир неуспокоенный Серые скалы с зеленью побегов Море слепящее до горизонта Предстала новая ландскарта В Дуино дивные двоятся названья и пути словенское Divino Duino итальянское? через несколько лет начнется бомбардировка с моря — прямые попадания в окна гостиницы где не было уже австрийцев бежали в мир как физика, пытались скрыться в атомы зловонная материя – в идеальный космос атома, где словно в коконе – будущий мир. На спорной территории – Италия великая адриатическая дуга ручьи вина сюда иногда приходят из Словении, впадая в море. Платон изгнал поэтов такого-то числа такого-то века империя поэтов – Атлантида и рухнувшая люстра в глубинах морей Разошлись пути здесь к Монфалькано или в сторону Триеста бесспорная территория на карте, на марке но марки больше нет Во многих местах мы не опознаны – здесь и сейчас.ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА «ВООБРАЖАЕМАЯ AUSTRALIA»
australis
(смотрящей сквозь море)
Та полотняная вода (взгляд не отводя от южных всех морей и океанов) возникла вдруг опять вспомнила ты как полоскала там где на воды скатерти не стелили здешний фестиваль развеян роздана поверхность празднеств и убранств и темноту волос убрав с лица ты словно снова взглянешь в отраженье священных северных рек под сумрачным обрывом где прежде полотно ты полоскала и нынешние флаги трепетные что тебе теперь видны с полосками морскими колыханий в них скрыты рыбы лед на глубине ракушки, крабы и кораллы но та полотняная вода ласкала твои руки так к ней прикасалась ты как будто ты ее стирала светлела давняя вода морщины исчезали и видишь что меж пальцев выступили в воде истинные созвездия иные Павлин и Феникс и ближний к нам Центавр вышиты морские знаки и тебе склоненной в отраженьи виден Южный КрестАВСТРАЛИЙСКОЕ РАЛЛИ
Красная пыль здесь безвременно стала с тех пор как пронеслись машины мы контуры, мы контуры лишь узнавали иного человека угадывался профиль тела очертанье лица но не его самого хоть мы в кирпичной мгле протягивали руки поодаль где-то зрители стояли от солнца изнывая на солнечной зеленой неземной траве но мы их видели едва словно снова блуждая как номады сновавших сквозь наши сны в красной этой крошке вослед машин они стояли чуть поодаль брызгая на себя водой под зонтиком водяным (утром все листья здесь поворачиваются к солнцу ребром с дребезжанием жалюзи) мы в красном мареве стояли не опускавшемся не отпускавшем разыскивали других что препирались в гермошлемах своих голов в контурной пыли даже себя не слыша что соскочили с мотоцикла выпали из машины снялись с пробега но в этой тонкой пыли, крошке пахнувшей мнимо и привольно довоенным шоколадом мы с нами – вы с вами спорили, судили, препирались стучали в окна шлемов — не только лиц другого но даже своего – не видя кулака крики ваши на древние были похожи причитанья словно рыданья ребенка в люльке — ваши лица бились, плакали, смеялись в слезах текущих по стеклам термошлемов изнутри которые забыли вы сорвать, но поздно – вы без голов – дышали задыхались кирпичной крошкой — пылью от всех рухнувших стропил мир пролетел, оставив зрителей, словно шлейф искусственной кометы невысохших шампанских брызг местного бормотания шаманов осколков, экскрементов междометий пазух, где руки, как звереныши иноземные, пригрелись в подмышках ожиданье кончилось уже давно давно они промчались оставив на бетонном парапете слова, выбитые слова несколько батареек ускользнули из всех алюминиевых гнезд еще могли бы они сверкнуть плюс поменяв на минус но ищут их, как ягоды драгоценные в утреннем летнем лесу но в крошеве этом красном в этой замшевой пыли не находят под ногами у нас тоже люди — собиратели давно забытого мы отступив на шаг оказались в ином пространстве в чистом коммунальном коридоре людей была там половина человека схвачена охвачена омыта воздухом зеленым но половина жизнеописания его осталась в марсианской части наверное – неустроенная слава еще-уже неудостоенная словаCAIRNS
Рельсы терялись в траве Вначале я не поверил Я шарил долго закрыв глаза пытаясь найти окончанья Не может не могут две соседних реки быстро так потеряться чтобы нельзя не догнать их и в прятки играя поверить нельзя стоя между корней мангрового дерева когда обнажил их отлив закрыв глаза и не досчитав до ста — что можно пойти их искать и не найти Рельсы эти – откуда-то с забытой наверное плантации сахарного тростника сейчас уходили в лес терялись в траве непроходимой — волнисты от времени две дрессированные змеи что парно струились так по земле закончились вдруг, в траве исчезли словно возникло здесь близко знакомое заколдованное море туда руками парными я потянулся одна ощущала какой-то пенный укор другая – протуберанец юркий холодной звезды никто не скрывался, но и голоса не подавал я видел, как реальная железная дорога вся растворялась в мире в дверях которые он ей отворил Теперь густая здесь трава я плакал, словно я видел, как исток реки в себя впадает — течет обратно вглубь седые два текучие уже под солнцем два рельса не связанные ничем — здесь я это открыл их соединив руками — в них никакой не осталось прохладцы они были послушно нагреты солнцем до самого своего дна до дня основанья когда были созданы здесь вопреки песчинкам кварцевым этой земли которые кротко не увидел никтоК ПОЯВЛЕНИЮ СОБРАНИЯ СТИХОВ ГЕННАДИЯ АЙГИ
Семитомник твой — Ствол застенчиво выступает из тьмы вослед за другим стволом Лес становится снова деревом Поле горизонтом безграничную обозначает страницу С чистого листа Мы считываем твой снег Словно одна снежинка… Тает – не тает Но именно та Нам остается как слово Твое* * *
памяти Алеши
где-то под аркой тогда — открытой из поля в поле — названных Соловьиным проездом рядом белая голубая ячейка-плитка на стене дома и неправдоподобное чудо автомат-телефон кажется он так назывался? от той отлетевшей плитки я говорил с тобою тогда из голоса в голос в комнату твою на высоте где-то в середине 80-х… в мае в один из дней твоего рожденья вспомнил сейчас… потому что прочел у Кавафиса упоминанье об Аполлонии Тианском верно… я тебе подарил «Жизнеописание Аполлония» был я единственный, кто пришел тогда к тебе ты отвечал вкрадчиво что день рожденья не празднуешь но если зайдешь буду рад начал читать ты с тех пор жизнь Аполлония в которую я перестал заглядывать уже в лифте и затем не смотрел потому что она в надежном взоре и читаешь ее только ты теперь ты ушел – и я знаю что книга открыта и мне просто теперь я могу приподнять эти строки полные тайн и чудес Но что есть не стоящие одного слова истинного другого чудеса и тайны? и все же все то, что хранили глаза твои на оборотной стороне взгляда — попробуем собирать – твое зрение рассеянное для нас (пусть на странице описания жизни) затерянное среди ясеневской листвы Прикрывая глаза, я отчетливо вижу твой свет.ФОТОГРАФИЯ
Белого превыше собора – в небо твой падает взор нет у паденья, паренья такого дна ангелы не падают в небо ты сейчас – именно то, что ты видишь значит мгновенно мы совпадаем – головокружительна глубина — взоров падением в небо все выше — все вниз там где борозды санных полозьев узор иль самолетные межи дай говорить перечить все здесь едино но не одно безмолвие нынешнее твое там за самолета пахотой, пахтой среди бела инея небо еще синей отрешенность совместна наша но предначертано мне иное отделяясь словно во сне уходя белогривыми величественными садами фигурами накрененными на краю балюстрад уклонение в это время невесомости взгляда благодарность за видимое твое безмолвие единокровности новой сродниИз книги «Месторождение»
ПОЕЗДКА НА ОСТРОВА
– Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût! C. Baudelaire. «Un voyage à Cythère» [1] «… на “ferry” поплывем» – так они проговорили? да, не на Киферу… лишь созвучие… словно исполняется обещанье уже забытое — поездка на острова наверное, почти блаженных плаванье на этот остров Кеджо? – так кажется? да, мы плывем на Cozy-island — от берега песчаного пойдем где у гостиницы силуэт пробитый Афродиты в плоском граните сквозь который видны морское солнце и край далеких островов октябрьское скольженье по волнам в Восточно ли Китайском или Желтом море все обещания исполнены мы движемся мы неподвижны на пароме словно в ладье с огнями по бортам память прерывается в этом томительном мутно-зеленом море да, на острова блаженных… «А вот и остров Кеджо…» рождался он из моря, как призрачный нарост под звук мотора с перебоями как точка мечты разросшейся вдруг до огромной правды обитаем все-таки, заселен этот остров-порт пустоты знобкие Кореи: между сопок, между деревьев, между людей прохладно как-то зябко под ветром и взгляд кружится меж дальних сосен спускаясь к морю но посредине острова есть снова остров и там на сопке обнаженной Преувеличенный заведомо на осеннем взъерошенном склоне вздыбленный танк сквозной через который единственный вход туда… то не был лагерь смерти лишь место ожиданья скорбного (под эгидою ООН) окончания войны когда умчит на родину китайцев-северян черный паровоз как завершение того темного входа в танк за две недели… до твоего рожденья началась неведомая война в Корее война для нас почти что нереальная и вот историю здесь играют манекены пока живые люди заняты другим На парашютах вероятно опускались на берег скудный этих островов накапливались как отдаленный лес на сопке полуголой и с надписью POW (Prisoners of War?) на спинах вступали в действие на мягких лапах восстания здесь происходили представлены на диараме где неживые люди переходят в фреску незаметно подзвучены живыми голосами подкрашены ненатуральной кровью Говорящие куклы изображают лагерную историю объемом в 120 тысяч жизней для нас истории той не было она не более жива чем эти силуэты переползающие по проволоке над пропастью из памяти диарамы извлекаемы лишь они – немые манекены путеводный маршрут по холму слепок тех слепых голосов в репродукторах черной бумаги пропавшие в окопах следящие сквозь амбразуру за нынешней морскою синью лишь за брезентом бывшего лагерного театра-шатра под ногою разбито живое стекло разделенное на несколько осколков, как море это или острова где плавают свободно отражаясь небо безмятежное сосны и чьи-то лица на террасах горы, где лагерь был когда-то под открытым солнцем С той стороны на склоне срединных гор видны «Райские острова» на выходе у моря другого Здесь хижина на берегу, ручей негласно впадает в море и шубертовская тишина словно нечаянно сгравировали сюда горно-немецкий воздух в этот край древних рыбачьих сетей История вползает в географию Ночью возле стен гостиницы неясное сиянье доходит у песка морского над безвидным горизонтом — то острова ЦусимаПРЕДМЕТНАЯ МУЗЫКА
Отдаленный города гул Ты заслышал зимним утром Глаза закрыв Ты вспомнил: в метро-переходе играли так же гусли-самогуды Ты пробегал с привычной сумкою через плечо и ощутил под пальцами всю городскую музыку, трепет и людские разговоры ты был его источник, слабый родник этого гула ты чувствовал, как мир играл, переходя в простой предмет но некому его собрать, создать город везде и где-то но там тебя нет отдаленно болит голова еще в сумерках ты нащупал звук – внезапный лай отдаленный — узор незнакомого смутного перламутра ты думал, что сможешь вернуть тот рисунок И в мерзлом трамвае Где музыка отдаленная Остекленная холодом Твой портфель на коленях под руками звучит Словно ты гитару перевернув Струнами вниз В желтом дереве музыку слышишь Затрепетав, как лира полевая Город вокруг – не видит тебя И ты лишь ладонь его чувствуешь что это… легкая дрожь купюры, детский флажок или вымпел под ветром и вокруг снег – руина, но все ж нерушим просит город-мир, чтобы ты бродил по улицам его, садам даря ему его отдаленный смысл Ты играешь пальцами на сумке своей или дереве старой гитары И хотя город каждым жестом своим торжественно тебя опережает он не произойдет без тебя.* * *
Неверный свет костра вечерний поворот дороги И несомненный и неумолимый дым. Он быстро перенес к нам шум тепла родного став не воспоминаньем но всеми вами прежними вернув непостижимую неуловимость верностиОБЕЩАНИЕ
Смывая пыль и водяную пелену Медленно напяливая на лицо перед краном бьющим вниз куда-то в светотень этого или того дня. Разрезы кровли, утренние тени, свет резкость голубиных крыл и гул в глубь двора растерянно откуда-то так попадает. Держа письмо перед собой на водной пелене не прикоснувшись к чернилам — их смоет непутевая вода. Лишь завороженно следил как бурлила и пропадала драгоценность в воронку с правым завитком. По ногтю тень прошла лицо бумаги обескровилось недостоверно было в молчании все, что я мог сказать по причине твоего ухода. Я медленно произнесу бессвязный протокол между зубов дневной Где-то сигарета зардеет меж светофоров Папиросная фабрика продымит Легкие проснутся Тот день начнется Сверкающим камнем.ПЬЕСА
Две поэтессы напротив друг друга На табуретках Покачиваясь Изображая июньскую встречу Ту полутайную Перед самой войной При немногих свидетелях В комнате восьмиметровой «Был ли паркет, это надо проверить Или только партер марьино-рощинской пыли», — Так говорил режиссер им, Что рассадил их по двум сторонам комнаты «Собственных стихов не читайте, но держите их наготове рядом с речью… Перед собою протяните руку с большим бумажным листком на котором написано их имя…» Он предложил им одеться в старые водолазки Чтобы осталось, не утонув, в безликом том трикотаже только лицо. «Вы играйте лицами белыми, как листки, на которых еще не написаны глаза и ресницы играйте хотя бы с чистого древесного листа липы» «Лицо поэта, – так он им говорил, — в моем представленьи – лишь цветная неуловимая ткань, по которой войною времен проходят лица встреченных им» «Можно курить?» «Нет, не нужно. Потерпите» «Для кого мы играем? И что значит “играть”?» «Вы остановочный пункт… что вполне достаточно… или безостановочный… времен тот пунктир, откуда исходят волны ветра от ваших волос в прошлое, к тому дню… или в будущее» «Но продолжим… Именно он воплощает других Имя его — это мозаика благодарных имен других Но именно им Он обязан всем Потому что они – его воплощенье» Приблизительно так бормотал он им в уши… Обдавая свежим дыханьем Внушая инструкции, отвлеченные, как реклама лаванды. «Изображая другого мы имя держим свое словно маску перед собой но написано на нем имя чужое» И он выдал им листки, прикрепленные на длинных планках похожие на белый веер написав слова на одном «Ахматова», на другом «Цветаева» «Так вы станете двойным анонимом», — он внушал им. Изображая других на табуретках пригнувшись в черном своем трикотаже. «Ваш диалог отдаленно может напоминать допрос» «Кто же кого допрашивал?» «Никто никого и при том – обе друг друга эта встреча, в которой воплотилась вся жизнь это пьеса… потому что они играли встречей своей всю-то жизнь нашу… все свидания безымянные при понятых… при свидетелях чьи лица едва различимы в рембрандтовской темноте ведь все, кто искал другого… встретились в этой комнатке и кто, говорил утвердительно тот вопрошал и смотрел на себя сквозь драгоценные глаза другого» Вечер… нескончаемый вечер июньский «Помните… в последний раз встреча их на этой земле но здесь на дощатом полу нашей комнаты на подмостках, верней, на мостках расставанья вы напомнить должны что их встреча еще состоится. Вы не играйте Ту первую ордынскую безымянную встречу Вы играйте вторую где-то в Марьиной роще а Александровском переулке Но главное – вы играйте себя Играйте свидетелей марьиных рощ облаков волокнистых стад над Москвой над московским июнем запечатлевшим как паспорт всех нас… но тех неизвестных соседей кто спал в других коммунальных комнатах как молодой сосняк не знает никто» Две поэтессы в черном Начинают играть тихо проявляясь лицом в темном воздухе они могут изображать все, что хочет любая из рук «Вы поймите… им не играть предстояло — рыдать… трубным голосом звать… и рубашки шить из подорожника ниток… Или играть только небо за небольшим окном играть тот июнь что мгновенно ушел тогда незамеченный Поймите, вы играете монумент той встречи но играйте так, будто она была репетицией встречи вашей здесь и сейчас» «Дверь откройте, – он сказал чтобы воздух входил постоянно чтобы вы ощущали живой сквозняк, озноб на известковых своих локтях Вы воплощение их они остановились, проходя, в вашем взгляде в этой комнате со свежими окнами…» Обе синхронно отерли глаза при пробужденьи от слез или снов И продолжали молча игратьВИД АТЛАНТЫ С ГАЛЕРЕИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
М.Э.
… и все романтические сны хоть и на этой трезвой жирной почве юга здесь круговая панорама — видны лишь грозовые отсветы гигантов Все дождевые мельницы вдали, пронизанные солнцем Отсюда с вознесенной квадратной галереи Дома, вершины И шапочки людей видны машины осенние что устье улиц устилают Земля почти необитаема еще не появились люди Способные ее узнать Открыть ее среди звенящих Индий ту Индию людей, Идущих где-то там внизу среди деревьев невидимы они скрываются в Middle и Down Town’е они незримы лишь контуры их как эти башни грозовых гигантов на горизонте сквозь облачную лазоревую мглу благословенный горизонт тетивой натянут и тут же отступает лишь ты пытаешься приблизить или выпрямить его есть сон о дне, который был уже и значит состоится о стране, где мы летели в нежных неживых полях сумрачных и солнечных со смолками во рвах мы в путь открыты, чтоб себя открыть.КАРТОЧНЫЙ ИГРОК
Он построил на даче карточный дом на песке — легкий он, опирается на песчинки и поэтому прочен Ветер или огонь — лишь одни могут смахнуть его рукой со стола но остальные – нет читая эту притчу знаков и букв Он играет в канасту зазывая соседей, которые не идут будто он затягивает их в болотную политическую игру А на самом деле он чувствует в той игре — когда руки его говорят другим — прозрачность денег и вещества проницаемость лиц и благо, что можно жизнь свою раздарить никому.СПАЛЬНЫЙ ВАГОН МЕТРО
Мимолетен бросок этих глаз В тех, кто безгласен. Они в метро спускается, чтобы спать Вместо глаз – открытая пасть Это они в кацавейке вповалку А глаза – ресницами сшитые щелки В зловонном вагоне метро кольцевого И заросший след от часов на запястье Все под палубой тихо, а наверху – сон В чистом безденежьи нашем Что-то от этих снов Явь чистотельна, как сон их прост Сон санитарный с белозубым оскалом До оскомины повторяемый след До изнеможенья у какого-то моря марсельского, куда в купоросную синь рукой дотянулся ты Что же мы делаем, повторяя: Не марай их моралью Деньгами не сори Между лузги и пылинок И высыхающих быстро их вздохов. Ненависть снег.ЗАБЫТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Ты оставил свой планшет у ручья И гео-молоток с протяженною рукоятью Сквозь туман плексигласа Говорящая карта видна И тетрадь слюдяная Здесь у воды Приоткрылась мне Книга твоя слюды Не слова в ней А люди видны В неподвижной прозрачности Я на ощупь искал ее в комнате вашей забытой и на пыльных равнинах книг — неземной пейзаж ее от уреза страницы словно долгие волны земли Забайкалья Но здесь у журчанья невидимого ручья мне случайно открылась тобою забытая книга слюды и прозрачней открытия в мире нет В ней остались люди, лишь чистые их следы здесь иссякли прошлые слезы и нет воды Эти люди тверды но прозрачны, как сплоченные листья слюды Бесконечно тонок их свет И у каждой страницы есть время и место Перелистать словно рощу Или волны реки Эту книгу Слеза за слезой Перечислить весь век Хватит вам! искать и кричать уж на весь ваш век Чтоб пустым он остался, — чтоб иссяк, – не осталось ни слезы ни одной И тогда начать свето-образ отца Не раскрытую память я начинаю читать Но в твою нераскрытую весть вхожу, как в тетрадь Где молчание есть твое обо мне Чтобы ты начался здесь и сейчас когда тихая весть световая уходит от нас. Ты наверно забыл, что в тебе, лишь в тебе эта прелесть осенняя земных перелесков ты один чтобы встретить идущий из камня свет Свет, который пока не добыт если он в заброшенном камне его надо найти Эти люди слюды так они осторожны Вы – люди слюды чтобы кожа светилась уносилась весть твоя слюдяная все что видено вами Иногда является Ингода промелькнула меж рельс Селенга за спиною осталась уже Ангара и далеко на западе последняя степь – Джезказган, да Джетыгара. это начато было где-то там у костра в октябре… ну а ты рождаешься как свет и весть о себе Это есть световое рожденье твое светлой боли былье припорошено но под снегом легким света, словно истина, — пронзенное бытиеЛИСТОК ИВЫ И ТОПОЛЯ МАНДЕЛЬШТАМА ВКЛАДЫВАЯ В КНИГУ ДУ ФУ
И на пожар рванулась ива, А тополь встал самолюбиво. О.Мандельштам Перед домом твоим в Задонске — номер 8 по улице К.Маркса именно потомки листвы этой а вернее единственный лист, ладонью отколотый от ивы той, той ивы и тополя положены между страницами — влажен вложен и скрыт между страницами биографии века восьмого танской эпохи поэта в единственности своей тебе равного также как эти друг другу скрытые уже от взгляда листки* * *
Вновь пахнуло речною прохладой И над светлым июльским лугом строки проволоки извитой Распахнулись светлые ивы Ну а ты лежишь от небес отвернувшись Нет ни облака над темной спиной Где в песок вонзилась сгоревшая спичка Перечислить взглядом песчинки Не блеснет ли в расколе кремня огонь И в огне повторенье имени Но смирись, повторенье твое вновь утешает река.* * *
Тогда в провинциальном театре давали «Риголетто» в антракте на улицу мы вышли покурить в восточном воздухе Там за каменными стенами театра Шла опера, а здесь в тени деревьев шла жизнь вечерняя оперативная Мы думали, укрывшись за звездочкою красной сигареты, что в театре роскошном и несколько аляповатом похожим на здешний подземный метрополитен идет своя поставленная столь концентрированная жизнь что здесь вне стен все ей завидуют, хотя и не подозревают, что происходит там, и что вообще там происходит что-то в этом темном доме откуда не выходит ни одного неоплаченного звука, за исключеньем отраженных звуков, из которых и так вечерний воздух состоит — шуршание листвы, неясный щебет, арыка поступь еле слышная там в окружении платанов пятнистых — в огромном доме, похожем чем-то на метро но куда не входят поезда ни колесницы с возницами ночными с окрыленными плащами лишь может тихо танк войти если почует будущее ноздрями, да тихая когорта с темным изменившимся лицом комсомольцев-мусульман туда в театр или из театра в жизнь прямо на политическую сцену забыв про каменные стены и про то, что здесь ночной фонтан умолк когда солист из зала в распахнутой рубашке первым подымется и крикнет «Браво».САД КОНФУЦИЯ
На этом острове, И в этом городе Есть храм, что мысленно перенесен с материка Ворота в нем открыты И над стеною южной Над парными драконами Взлетает неподвижно реактивный самолет Есть двери в нем из сада в сад Верней, проемы И также выходы во внешнее пространство Там под деревьями бетонные скамьи И рядом, всего лишь через несколько ступеней Двор, где сидят соседи за столом Две-три машины под узловатыми деревьями И дальше ничем не ограждаемые проходы в город Где красные огоньки у светофоров и мотоциклов Ранние сумерки и этот сад И улица, напоминающая чем-то Москву 50-х Проемами между домами Такая же, точнее, та же вечерняя грязь нежная И сжимающая тающая легкость темноты Вечерний сад с проемами дверей Там двери не изъяты — Они воздушны изначально И если кто-то сможет задержаться в них – он станет воздух.* * *
Одна балканская страна Смутно неприкаянно родная Шла неравномерным шагом и не вся была видна из этого окна длинного как корабль дребезжащего трамвая Ты был ты не был здесь не каждым и медленно раздельно под уклон машины обтекаемые внизу спотыкаясь и ковыляя и этот город и медленный вагон и люди невдалеке заглядывая шли тебя то обгоняя то отставая Доисторический платан раскинулся над нашей встречей иль это был лопух или табак Балкан сошедший лист от моря нашей речи Она плыла была ты ради этого вечера сюда достигнул долетел добрался а где-то там на Цареградское шоссе выходит стройный куст-ребенок так тело вечера теплое бесшумно шло вперед или назад толкало и повторяемое солнце сентября из поперечных улиц ослепляло не полночь за полночь прошла но солнце эллипсисом было своим зиянием нас подхватило по пути и похвалило Все это было или нет и может быть что так трижды было в будущем вечер и земля простая трамвай бесконечный и людей огни их взоры заглядывая шли в окне то обгоняя то отставаяИз книги «Иная река»
ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ
МАДОННА-СМИРЕНИЕ ФИЛИППО ЛИППИ В КАСТЕЛЛО СФОРЦЕСКО
Ангелы (или дети) Фра Филиппо С лицами беспризорников Вглядываются печально в наши глаза В миланском кремлеФЛОРЕНЦИЯ ВЛАЖНАЯ
(послание Б.К. в пластмассовой бутылке)
Дождливый ветхий Понте Веккьо дождя апрельские флагштоки смеясь вонзили в реку конники Вероккьо и где ступали мы – водоподтеки. в итальянском дворике мы продвигались год за годом ко входу этому по сути, мы очутились своим ходом под теми ж сводами уффициального искусства где каждый копиист – пиит Сюда сбежали мы от бормотанья русского флоренских негров Из под полы пучками зонтиков торгующих: «Продам задаром» Не удивляйся, что речь отрывочна бессвязная Письмо таскал я по Флоренции, но смыты буквы, Словно я бросил его к тебе в пластмассовой бутылке в воды Арно, Но понял глупость и извлек обратно, однако Остались лишь фрагменты, так что и сам уже не разберу. Отчетливо я помню ряд гравированный людей поверишь ли под сводами Уффици увидел я людей того же профиля куда Давид копированный заглядывает — еще один из под дождя двойник мы копии самих себя во времени И все же отличить себя я не смог, как не пытался Поторопись же рисовальщик ведь в этом веке не наказывают нас за подделку человека не помню многое, мне кажется что видел я костер в Палаццо Питти, где грелся я и сушил одежду то был художник с веселой точностью людей без очереди выхватывая из толпы через мгновенье предъявлял их карандашный образец Он был в ушанке со шнурками, связанными на затылке в шинелишке горбатой его лицо пожгли дожди с усами, с карими глазами — тождественник поэта Ер был дико счастлив он без повода И тут же из дверей Синьории из под воды под своды, взявшись за руки под свист вбежала свадебная пара Бряцая грязным подолом невеста он поднял всю тяжесть платья и бился с ней в бессильной радости Но видишь ли не передать Того, что видел ты и мне рассказывал — Не выйти из под дождя навеса в сад Боболи Не знаю все слилось все смешалось И письмо размокло я забыл слова Вставь в пропуски что хочешь по желанию ты знаешь что сказать Я помню светлые подтеки На обоях в комнатах Хоть Лоренцетти хоть Мартини шедевр братается с шедевром Мы взглядами погружены в другого но напрасно по сырой собрались штукатурке его писать нет красок в кистях рук чтоб увидать фрагмент надо собрать осколки сжать в руке остатки целого Отжав дожди как жатву Письмо ко мне вернулось По недостиженью адресата И я стою его, читая, здесь по адресу обратному — на станции Firenze S.M.N. Напротив моего стола Стоит какой-то странный человек И смотрит, улыбаясь, на меня Он мысль свою простую пьет, дожевывает грушу И ждет, когда со мной заговорит.1-ГО МАЯ В МИЛАНЕ
Улица Anton Chekhov незаметно свернув выводит на белую между стен улицу Монтале Sul muro graffitti На улицах я был один, Как Первомай этот — Праздник труда (festa lavoro) Транспорт стоит и метро на приколе Я был один прямоходящий на солнечных площадях мимо пролетали в скорлупках корпускул обтекаемых светом машинах, но даже сдавленный шепот не доходил из них Тополь высокий раскрывался ввысь в незаконченной глубине боковой перспективы да водяная пыль искрометно рассевалась по кругу за сетчатой оградой сколько сделать еще протяжных шагов к месту, откуда можно найти весь городской горизонт В тот же день – я не знал – в этот миг ты навсегда покидала Москву Глубже, чем боль, уходя, глубже сна, выше облаков этих, еще не лишенных чувств Панорама с холма Милана здесь не видна: древо сухое на фоне зеркального банка И наметают мороженое в кафельно-вафельный факел у ипподрома galoppo.3 МАЯ В МИЛАНЕ. GALLEREIA D’ARTE MODERNE
Там снаружи за решеткой зеленой музея Солнечно и приготовления к свадьбе в парке — церемонно-ретроспективная пара соломка светлая канотье узкие панталоны в полоску девочка или мальчик в матроске рядом в кустах фото-рекрут, вспышки внезапные, на плече – телекамеры светометатель Я один в галерее, лишь три служительницы веселых — смесительницы света в униформе свежей с ключиками вместо пальцев и одна в очках, где отражается небо от той картины Здесь безлюдно Но между Карра и Моранди где на картине город средиземный и безвоздушно-душный в стороне на невидном столике — служебно-оливковый телефон Из терема этого через косую решетку Ты слышишь вдруг в парке звонок мобильный И не прекращая разговаривать с подругами музейными и глаз не спуская с меня Ты очки поворачиваешь вовне туда, где праздник буффонный настает Где в начале века вы были? кто прильнул к этим окнам снаружи в матроске? и с музейными этими музами, когда я обхожу квадраты картин, отраженных в паркете но здесь в окруженьи и в круженьи вещей один неподвижен на постаменте молчальник-телефон — вещь посторонняя без внутренних очей Ты ночью не спишь окружена ненужными копиями с дневных картин словно в каюте наперстковой где сквозь отверстья игольные входит с палубы свет ты тянешься к нему перстами но не перчатка, а звезда морская на сушу выбралась из темноты перстнями извести лишь что-то начертала у глаз отведенных на мгновенье от воды Ты слышишь звук телефонный где-то в глубине во сне ты тянешься к брюшку закрытой сумки и молниями полость рассекаешь но замкнут далеко тот звуковой исток И оливковый скромный телефон и во сне твоем отрешен скрыв под фалдами виц-мундира свой секретный хвост или шнур, уходящий вглубь стен Не откликнется телефон, даже если вскрикнет картина Есть в тишине древесной темная сень И магия цветущих вишен, магния Редкие вспышки под солнцем, передвижение церемонии в парке Словно раскаты, уходящей под своды неба грозы Между людей и мгновений на незримом току, на свету, где пыли идет обмолот лишь телефон затесался — вечнозеленая вещь втерся служебно и жалобно Словно и я вкрался в эту ткань чужеземец и посторонний с хрупкой охапкой мгновений Я вышел в парк я шел по замшелым тропкам левой и правой ногой, мне античная статуя, сваленная навроде окурка, сообщила из ретро-ленивых своих новостей: не разбирается на огонь и солнце магнитная карточка, что в прорезь входит, как язычок огня, И впереди под деревьями зеленый склон Был сплошь затенен.PORTA VENEZIA, Т.Е. ВРАТА ВЕНЕЦИИ
(приложение к путеводителю)
Если въезжаешь на поезде Оборотясь назад (хлеб свой последний торопливо глотая) Незаметно начнется лагуна И посрамленные лгуны смолкнут Видишь, уходит в ширь моря серп этот — призрачный город мгновенный (уверен, не более года продлится мгновенье) Город-виденье, белые башни-домны, в которых, наверно, пыль отвергнутая поет и не Duomo, а Mestre и не предместье Венеции, а истинный город-пилот. Сейчас в последний раз развеется дым перед неясными вокзальными стеклами, где поезд твой смолк там поезда красоты – транспорт спасенья, но Венеция сонм повторений, не способный уже улететь А здесь рассеяться скорбно согласный тот скульптурный, не тронутый вечностью экологически чистый дым что удержит его кроме красной краски-каймы на трубах Все дымы-побратимы исчезание их – начало воспоминаний, где дымы обратимы, акварельное грязное пятнышко байкальского горизонта разрастаясь цветет где по граду иному люди бродят рядясь в кафтаны из желтого меркаптана-тумана житель тот прежний влечется в наш день и нехитрым перышком истрeбимым мгновением в утицу каждой улицы — венецианской заводи под молчаливое днище моторной лодки сойдет. Лишь несколько лиц опечаленных оставили отпечатки в фотопластинке оплавленного плазменного стекла спутников, тех, кто сошел у озера без горизонта на пол-пути к Венеции, к испарившимся венериным циркам. Не оправдаемся, если забуду отсвет небесный этот, снятый с обоев с дагерротипов содранный глянец за глянцем… Посланец… он улыбнулся, крыльями посылая привет были заняты руки, он нес, как статуэтку, нечто с обломленными руками, с пробитым носом и ртом он скрылся мгновенно в проломе, что уходом своим в Москве оставила ты отсвет лица моего здесь еще загорал в боковом окне пред ликами пылинок событий из областей ничтожеств рябинок наперстков… Нашарить за спиной разбитую пепельницу мраморной отстоявшейся воды чтобы стряхнуть туда и отжать этот пепел влажный пронесшийся сквозь стеклоРИМСКИЙ АПРЕЛЬ
А. Сергиевскому
Через восемь лет, а не восемьдесят Встретил ты меня на вокзале Termini В полузимней куртке своей И не так уж много минуло, Это все ж обозримый срок. Православная Пасха, и прохладная римско-праздничная весна Из Милана, с севера милого Я приехал в эту южную сторону Здесь в квартире твоей оперенные ставни высоких окон неподвижные со световыми щелями со времен картины Иванова Словно тот же свет, да не тот же мир или только пригород мира – Рим или города профиль – невиданный Гоголь-Рим? Столько лет мы блуждали за прообразом мира и в разреженном римском метро… и Петро с Украины вдруг заходит в твой дом Это узнанный Рим, где расставлены все по своим векам, по своим местам в добровольном зверинце четвероногих арок, колонн и форумов Рим незрим, он закрыт от нас потому что глядимся сейчас мы друг в друга и неузнаваемы незнакомые лица В высоте На соборе Петра, на известняке cupola я могу лишь прочесть “Здесь были Никола и Василий из Городца”. Не увидим, как спускаются в скрипт под пенье псалма, но поем мы, не узнавая, со всеми. И неузнаваем, но светел мир в пасхальную ночь эфиопы под марлями рядом со стволами зелеными лилий и из прошлого лица над огнями свечей их когда-то с земли нашей смыло пламенем, значит в пламени их надо искать Если здесь каждый камень-хлеб, что преломлен и порист в веках Рим незримый – это люди вокруг, что сейчас ускользают — Мы не видим мгновение ока их… Но того, кто странником восемь лет все шел по вагонам… Мы узнаем по отблеску света земного в глазах Если он губами и порами брошенный хлеб проницал и лишь видел как все вокруг люди бедные живут напоследок.РЕСТАВРАЦИЯ СКАТЕРТИ
В этой сумрачной трапезной — Реставрация скатерти На стене. Напротив нее – далеко через искусственный нерушимый воздух, где лишь движение глаз и нет даже ветерка от рубашек — «Распятие» Монтерфано. Неизвестен, по-видимому, художник он во времени извествлен и застыли губы, прошептавшие его имя А здесь столы наполняются хлебом это хлеб, что дремал в веках Открываются темные дали И проступают ноги апостолов под столом Словно зрение силою их возвращается городу глаз В отблесках японских лиц быстро заполнивших солнечную площадь просочившихся сюда сквозь вакуумный тамбур с очарованной оптикой Но не видят Эту женщину с лампой, что парит над квадратным своим сантиметром фрески скатерти вечери столько дней ее возделывая одна и никого не заметив, выключив лампу, уходит. В полутьме остается Самобранная скатерть Испещренная пометками, Рытвинками дневными И безвременна подпись наша Но кто из лиц безымянных В длинной каменной трапезной Сможет выйти в голод слепящих лиц? «No flash», – повторяет голос разгоняя руками ничего не давая запечатлеть. Что значит «флеш»? — не помню, «вспышка» или «плоть»?* * *
Ты любил виноград, сливы и вишни Или я ошибаюсь Может быть абрикосы Этим талым и зимним днем Я не смог уже привезти тебе винограда зеленые ягоды* * *
Может быть в северных странах Светофоры стрекочут И ночи светлы. Но у нас, где на перекрестках Скрещен красный свет в темноте Здесь в Хамовниках мягких Я не спас тебя той июльскою ночью Я не спас тебя Мы все спасли нас* * *
Елизавете Мнацакановой
Прототипы эпохи, ее негативы Проступают по веленью руки В просветленной черной мартовской пыли, В мановеньи мгновенья. Наклоненной рукой со стилом Ты царишь Лишь держась на его острие От себя по листу убегая накрененной юлой Навевая на себя, наборматывая Уходя навсегда Из распахнутого с открытою крышей двора Миром брезгует только рука, Сквозь которую светит журчащая ось, Окруженная Стеною бегущего беловика. Это взгляд твой оторваться не может от черты самописца С утомленным пером дорогим В гравированных нежных перстнях Хоть сжимаешь его твердой щепотью в перстах Все ж бледнеет внезапно возвращенный и вспыхнувший прах И забвенью мешают Пробегая смеясь в новогодних снегах В снежной пыли Музыкальные автомобили Перечеркнута нотным станом В откровенно заемный век Спит рука прикрытая плащ-накидкой Из вуалевой серой перчатки.ИЗ ПОЭМЫ «ИНАЯ РЕКА»
Berlin West. Пыльные стекла вокзала «Zoo». Поезд вползал в Восток Сквозь остатки стены Они были из иссохшей бесцветной неземной пастилы Перед тем как пойти на распил. По двум сторонам Германий Ты в больнице провел ночь Что лечить не знаем Меланхолии привычной инъекцией науськивал шприц Чтоб кусать эти ржавые трубы границ Но в Берлине ночью Поезд у светящегося остановился окна Посторонней женщины в платье никчемном там застыла спина Возрастанию радости Нельзя научить И куда, в город какой это все внести Когда человек неизвестный в окне Внушительней стены Или горящей ночи…ОКСФОРД
Я не был в городе таком Себя опровергая Хоть на вершине факта На свершенье Я помню несколько зонтов Зонтов и струн, и молодые трости Том Фаулера или Фаулза in folio А гребешка железного, Через которые уходят гривы воды Под землю Нет, не помню. Не было дождя в то летоСЛЮДЯНКА
Нет берега Нет между углем и морем черты, Сопок и неба слиянье не здесь Граница Байкала и неба в месте другом. А здесь людская стихия И сразу на шаг от провала Черемуха отцвела Лес безродный И на повороте в зеленую тьму Повис отставной товарняк. И библиотека городская на ремонте.УГЛУБЛЕННОСТЬ КИТАЙСКОГО ЗЕРКАЛА
Мы пробыли в Китае, как в глубине страницы рисовой Зачем? Она давно в тебе — тот желтый свет над крышей, загнутой под солнцем Та изразцов сырая цитадель и перелетная библиотека образов Наносный тончайший слой еды иной Там книга углублена, как зеркало. Ты возвратился с прозрачной рукой В ней – глубина потерь, Не старятся в ней трещины ее ветвей, По рамке вьется печаль Или лоза изложенья Что пишет рука зеленого ученика, Погруженного в быстроту опьяненья.* * *
Ты волшебный фонарь И когда ты глядишь На простынку стены То тебе лишь дано Световое его волшебство. Так когда-то давно Ты сцарапнула взглядом Эту мантию боли С дорогого лица С плеч долой – с исторических плеч. И теперь ты ценна Лишь дорожкой той пылевой Что струится из глаз твоих На обои в светлых цветах. Можешь ты говорить Комментируя шепот того человека, Что когда-то сидел за этим столом. Но на стенах обои Где оба вы с ним Увядают под взглядом твоим. Но ты гораздо дороже Того огнедышащего горшка, Где, словно в домне ручной, прошлого свет хранится. Потому что ты ценнее себя Это нам понять не дано Потому что мы ходим во дне за тобой С подойниками для света Что пролить ты должна для нас На тот день (и на тень пистолета) Но не разучить нам тот день И не разлучить тебя саму с собой — где-нибудь… в нас, наверно.* * *
Н.И.
Безнадежности нет Если бездна — Помесь Негасимого ветра И мерцания, что меркнет последним. Есть сигнал по которому нас узнают Непрерывность — Верное слово И вот осколок мира — Ты всей глазурью не вместишь Всю даль очей твоих бесцветных Как будто воздух вытеснили из комнат под грязною голубизной Ты переход, ты очертанье входа Трансляция пламени вовне Из мира, как из комнаты, Куда? Шекспировскою торопливою риторикой Дробь коридорную Переключение программ Блужданье пальцев Бесшумных клавишей на теле Но поздно? Формулы витиеваты запоздали И немощь наших голосов — Лишь эхо Еще несозданных и непробудных снов Дух оттенен и наготове И материя замерла Для сбора всех нас в раствореньи мира.ОТРЫВОК МУЧИТЕЛЬНОГО ЛЕТА
Н. и Е.
Летний полдень, забвенье, Ленивка, Этот холм и реки незаметная повилика… Здесь отделим мы плоть от плоти, лицо от лица, лик от лика. Содрогаясь, к отлету готовятся зданья Но не так растворится столица, Улетая из глаз в расставаньи, Как во тьме, забывается негасимая сахара, соли крупица. Улетающим вам за Аркадию Там, где синяя времени бездна видна Будем сниться мы все, к невесомой идущие летней ограде Это время во сне мы раздвинем сильней, чем странная жизни страна.КЛОН
Летний солнечный банк. Деньги снова копируются Клеевой элемент вновь отлетает от стен Моны Лизы лицо с подзабытого провинциального рядового папируса Так легко в этот летний уходит обмен. Для закланья сои близнецом вы ведете козу и овцу тихо блеет она в трубный рожок. Но не слышите вы рядового папируса Темной грамотой облепившего роговой этот слой Будет тот человек наказан молодым блистательным близнецом, что однажды заменит его и уже не узнает свой дом. Что тогда тому вспомнить, всеми изгнанному всем замененному затененную ту протокопию ту козы иль овцы Будут тени по стенам ходить полузéмными овнами Только копию провинциальной на стенке Джоконды Да, полузабытую, полузатерянную ту купюру в дождь, нет в летний провинциальный полдень С оторванным уголком и с усами дорисованными обильно на купюре той над или на галстучном том над тем исповедальным лицом или на долларе с незнакомой Джокондою Или где Оборванный полдень где на купюре поверх той подписи Пишешь ты к самому но где и когда откликнутся и воскликнут?Из книги «Частные безумия вещей»
ВОСКРЕСНАЯ ЯРМАРКА В ФОРОСЕ
Уже в темноте предутренней занималась очередь возникая частями голосов. Сон длился, пульсируя под веками, все вслепую ощупывали впереди стоящих, словно фрукты, обернутые в знамя. Казалось, сон дозированный спускался к нам с рассветных гор, со стен московских магазинов от сытых фресок тех, в щедрости всеюжного загара. Тогда в пятидесятых школьниками мы в очереди стоя, пересмеивались, но сердце, горящее, как вырез у арбуза, готовы были незаметно передать в ответном жесте на гору. В той очереди томной внушало все нам, что надо запахи преодолеть из долины тесной подняться, чрез орды дынь, чтобы от яблоков, гранатов оставалась лишь прохлада, как благодарность. Нас звали воспарить, пройти сквозь кожу пористую фрески, порхнуть под арку, где модерна нашего авто мелькнуло ненадолго, оставив полости, рельефы… подняться ввысь сквозь нарисованное время, где ткань одежды пропускает свет, как шкурка от плодов, выше груд из фруктов на плафонах, выше магазина «Фрукты» в доме том, где на фасаде – кариатиды — стоят с заломленными за спину локтями. Превыше превентивной тьмы, что вы приготовляли миру, — над верховной фреской — и сразу темнота ночная. В тех квартирах до дрожи незнакомых, где ты не был никогда, в пространствах, уготованных для будущего, где людская жизнь шевелится неозаренным золотом «Рая» Тинторетто в палаццо дожей нас приготовили терзаясь для расцвета к изгнанью в рай чтоб разрастаясь в спальнях коммунальных достигнуть тесноты извилин внутри священного ореха. Но мы не укоренились там мы полетели меж зеркалами — небом под потолками и дном дождливой ночи, где ты мой друг предшкольный там в палаццо незримого подъезда за кирпичами в высоте ты, Саша Кирпа, был Изчезли мы из стен, сохранив лишь плоть под одеждой цвета невыразимого осенней пропускной бумаги — прозрачность, дынность, тыквенность… мы превращались на глазах в плоды иные, опознавая друг друга где-нибудь, случайно: у транспаранта трепета ярмарочного грузовика в месте подобном… кто помнит: «Форос», по-гречески – «дань»? Мы избежали и судьбы вещей, витрины были переполнены дешевыми разноусатыми часами тогда вещам, считалось, достойно стать часами /иль фотоаппаратом ФЭДом, например/ показывая одинаковое время. Теперь в том доме только темнота жизнь выбита из окон бездомные и те его покинули оскорблены и выскоблены липы перед ним Перегорела в черноту та сладостная мякоть, но мы, превратившись частично в подобье овощей и фруктов /похожие на муляжи/ все ж отличим себе подобных от съедобных. И в очереди сонной и ночной /уже чуть пыльной/ я обниму тебя немного впереди смотрящего Сдернется простынная завеса с нашей скульптурной группы овощей культурных мы – перемирие. Флаконы духа высохли, но море простое – рядом.КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Когда замрет дневной Левиафан И государство отдыхает Так хорошо через окошко В океаническом мерцаньи Сразиться со всею скукой мировой Фигурки падают в подставленный стакан И нищета любви в сознаньи угасает. И время – чистое, как снег… И не найти на нитке числовой Ни ответвленья, ни задоринки… Прорезая нам затылок, Проходит ночь в фиолетовой спецовке цеховой. И зимний день чадит при сумерках. Так утл и мягок в отраженьи пражелти. И так легко забыться, сжавшись где-нибудь в конторе Меж планетарием и зоопарком. И нету больше чисел, нету рук, чтоб всех пересчитать. Одаривая полыми руками Сыграть в колечко И пройти по людям. И где-то у законченного миллиарда В подставленные слабые ладошки Уронить кольцо. Что не звеня, их вдруг наполнит смыслом, Заворожит число и явится поверх улыбки слова.ДОМ ПЛАТОНА
Дом Платона. Темно. Мы проникли сюда С ключами чужими Мы в квартире чужой вдвоем Не включая света. Незнакомая мебель… нарисованная Едва выступает из стен Кто хозяева? Дом наверное в спешке они покидали Не захватив ничего Но не видно книг ни одной Лишь единственный том раскрыт на столе — Две страницы с блестящею пылью Легкий кремния скрип На страницах забыт Прозрачный заварочный чайник Мы садимся за стол По обе стороны этих волн-страниц, «Том Платона», – ты говоришь Да, тебе виднее Это тот вожделенный Непрочтенный песчаник зеленый Перевернуты строки, Которые я пытаюсь прочесть: Имя, похожее на «Тет-а-тет». Сигарета зажженная в твоей руке Прочерти́т оголенный воздух Над окном без завес. Впрочем, здесь не так уж темно По стенам умилительные улыбки Угасающего людского жилья И древесные стены хранят дневное тепло Эта книга изгнала хозяев? Лишь дыханию их еще приоткрыта щель Толщиною в тень Это они озабоченно в кухонных стеклах скользили Здесь они, доведя до сияющей силы свой сон? Чтобы мог Платон возвратиться в мир? Улыбаясь, ты глядишь мне в глаза Этот книга – город, что открыт за окном Где на оголенном стекле Сполохи факела над Капотней Это он нас читает Между неведомых строк?. Будем мы говорить, Чтоб закрыть эти паузы слов Разговоры припомнив все те же Здесь за окнами строили по замыслу твоему Тебя не прочтя Перевели на реликты стихий И поэтому твой жестокий порядок Обернулся царственным раем Но мы не знали ничто Мы слабели уничтоженные в размерах твоим исполинским солнцем У входа в воздушные камеры города, Где огромный резиновый вентилятор, лениво вращаясь Вялыми лепестками Не пропускал нас в паз. Оттесняя нас в черно-белые хроники мира теней, Где навстречу нам Меж вокзалами призрачными Пролетают они с женовидным лицом Не узнавая нас Мы могли только видеть И сны создавать Чтобы здесь сильней воссияла явь. Мы вошли и создали город иной Город-хаос Эротикон? Чтобы возник у горизонта Остров воздушный? Платоновской плоти плато Ты не глядишь на меня… Марля дымного света вокруг волос, Титус, Уходящая тень, забытая, может быть, прости История наша сошла в комментарии Вся она, как дряхлая паутина – тронуть нельзя Налетели переписчики, Словно летний дождь под солнцем За спиною в комнатах Влажные исчезающие шаги Это он проходит в купальном халате, Отшлюзовавшись в отсек. Звук обнажен Ангел плеч Темна оболочка земная Тени цветные На обороте потустороннего солнца, Откуда мы сами привиделись нам Здания хрупки и окна в отсеках темны Вечер, но нету заката Здесь на склоне пологом к морю ржавой земли Таврический Пушкин Собранье прозрачных женских теней Белокурые контуры окаменелых виол их колки́… корабли… И мы в это море древнее вступили поплыли над полдневной светлотой И над пещерами морскими, Где тенями бабочки мужские нежнее женского парящие в воде Трепет света в темноте Вечнозеленый отрок-пророк это ты? Мы держим в руках двукрылое нечто Постигаемость света есть время твое — угасание здания мира? Если кто-нибудь скажет о повтореньи, Верить ему не надо, Потому что слова эти – правда. По окраине этого мира Гонит по линии несгибаемого залива Утопический обруч Платоновский мальчик Пусть даже окислы вымысла Слиты в единый чан Поэзия или амврозия Пивные дрожжи Пена Одно вино Почему в детской комнате мира Мы чьи-то родители тоже? Но чьи? – это выведать, значит, все простить ему И можно ль назвать Еще никогда нерожденного? Мы хотим стены комнаты этой сдержать, Они начинают сжиматься, Вытесняя нас образами световыми Слишком много прожитое Не дает нам время любви В этой комнате слепящих лиц Куда уходить нам Хоть нечего делать здесь Озираясь брезгливо Нас из темной ниши выводят, как из депо Мы уходим, за нами Комната эта сомкнется И уже не повторится здесь? Но есть в Мытищах Черно-кирпичная на повороте стена там лежат в нерушимом стекле наши частные имена Мы выходим в вечер, светлее, чем был На столе оставляя Темную буханку хлеба А здесь на земле, омытой дождем Реклама “Эскадо” И уходящая в небо Безумная эстакада. Все-таки между других страниц там была трещинка, похожая на травуТРАМВАЙ В ГРЕНОБЛЕ
Вначале кажется, что почти не о чем говорить… Но так странен очерк мира, что рассказан плебейски во всем, И еще не замечен Отзвенит с перерывом, отходя трамвай И с зеркальной гибкостью обводя дома… И везде во взоре – горы. Это чудо дизайна Серебристого света По сути бессмысленно — Тавтология мира Который раз. Но, однако, Пока мы гнались за смыслом, Мысль опередила нас. Окрупненно-невидимый, Словно не отделившись От голýбо-стальной скорлупы Повторится стеклами своими в любом окне Он нигде, И во сне Рука с сонеткой памяти очнется Со звоном трамвайным в спальне тридцатых годов. Эволюцию видов вещей Напитал городской суховей И покуда мы развивали людей, В притязаньях тягаясь с Дарвином, Вещи сами росли в темноте. Вы тогда разнесли по Европе разъятое тело страны И вечерними всполохами Разглашали в эти долины Тайну прошлой страны Чтобы здесь заворожены холодом От альпийской земли стали снова вы в мире детьми. Если память истории – клинопись, Что наполнена инеем, Пусть очнется при первом же звуке слагающий буквы, И облачными инкрустациями По скользящей стене с затененными стеклами Память вместит о вас Бунинский абрис У иноземной кадки с развесистой пальмой Ниццеанской И сонетка с шнурком в руке слабеющей Все же вызволит, зазвенит. И без трамвая молчат остовы мачт и мостов И гудение стекол Стоическое, ветровое Замкнут рельсами Земной механизм. Появленье нас здесь непредсказано, Бессмысленны и легки, словно ветер, вести. Слишком поздно, мучительно рано Мы появились здесь. И невменяемо любованье своим прошлым в зеркальной стене: Потерявший в детстве монетку, блеснувшую где-то в траве, Оглянувшись ты увидел вдруг облака за оградой Словно облик далеких стран, ледниковых гор На траву положили в вечернюю колодезную прохладу. Но сейчас в площадях на цветочных каре Вспоминать напрасно и напрасно искать тех людей лучезарных Нет их крови разнесшейся в отражении этих гор. Города эти западные, Где горят полируемые немыслимыми умами Словно уже не улыбки вещей, но один неразбочивый кайф, И боится боится войти человек в свое непрерывное непрерывное отраженье В озеро сна с рукотворной кувшинкой Здесь побеждает – слабейший, побеждает – точнейший, Побеждает ничтожная нежная вещь. И мерцание отражений друг в друге Доведенное до дробной дрожи молекул. Там хранится в несгорающем дне мысль, посвященная нам. Эмиграция снов, Эманация слов моих к вещам этим, оттолкнувшим свет К людям В охладелом ларце Грацианополя Между гор… Хватит вам спать под Альпами! И увиденный призрак образа Разобьет мгновенным плечом трамвай И качнется цепенеющий дух бытия былого. Пробудимся и мы, И пространство дальнего дня Двинется вниз всею счастливой толщей По солнечным городским полянам: Благовещенский, Ермолаевский, Вспольный…ОСМЫСЛЕННЫЕ ТАНКИ
Танки сами вошли в Будапешт. И взирая застенчиво на голубей, Отпускали слезу Расчетливо, по боезапасу. Мы не думаем, что можно иначе, Ведь не может же Лысоватый простой человек Управлять траекторией атомов стали. Танки неуправляемы, Тонким клином уходят на юг, Улетают на запад, Будет жить в них мужская слеза, Что запаяна в глубине их солдатского глаза. Но ничем их, Ничем их нельзя Нам порадовать. Бег на месте – и все ж по холмам, Но безумье металла не в том, А в другом – в том, что мы их Сердечным не кормим овсом, И небесным святым молоком Мы не можем их в детстве порадовать. Словно смутное стадо сирен Иль свиней ностальгический слет Сбились в кучу и тычутся рыльцами, Нет обрыва для них, нет судьбы Они метят не в наши грехи И железные рушат стихи. Мы их кормим с ладони железным овсом, Но не любим их в нашем детстве простом И в божественном нашем живом, но для них — пролетающем мире пустом, И ничем их не можем порадовать.НЕВСКИЕ СТИХИ
I
Гранитные рамы, И в них – предельная даль. Полдень. От тяжести камня в медленном дленьи Ты без видимых крыльев летишь. Ангел вступил носком на стезю На ускользающем золоченом шаре. Не было больше зеркала колебанья И жидкой замазки небес. Расторгнуты рамы пустые, И за ними – море. И тицианской Венеры Колышется зеленый сорт тишины И Кунсткамеры – фарфорово-точный мундир. Растаявший признак льда Да японский флаг За кормою консульского дворца На Мойке. Искорки январского гранита Залетают киноварью снегирей В сокрытые наши ладони. И летняя ночь ушла.II
Прóклятый город, зачеркнутый пулями, Здесь только люди живы. Греют ладоней линии Иней зеленых стен. Но Зимний не взят… И хоть зима еще Все же в крови возродится Черная наша весна. Словно венозный вентиль Есть и в ветвях измерзших. И подвезут не напрасно Жизни бензин в цистернах. Хоть половина кубика Крови из той цитадельной Необоримой трезвости Нам принадлежит. Камешком кремневым кремлика Под инженерным вымыслом, Замком бессрочным замысла, Выстоявшим на крови.МАЙСКИЕ ОМОВЕНИЯ
I
(Осколки фресок и фраз)
Соловьи пролетали Комками свинцового цвета — Ими во тьме окропляли поля. Кашевары стояли стальные, Устремив радиальные взгляды На пылающий север. Голос бездомный перебегал по холмам, Люди, лишенные имени, Бродили меж нас по равнине. Незнакомого света штрихи Были нанесены усталой рукой На дверях каждого дома. И сквозь пыльные эти царапины На черноте амальгамы зеркал, Видели вы в оставленном доме Только вздыбленные плинтуса И в проеме дверном – тень Укрывшихся от потрясенья мира. В этом доме Вода еще дрожит на ноже, Но уже отражается в ней незнакомое небо. Отсветы фресок Вовне отступившей сферы С множеством лиц и глаз. Там прозрачно светились Приблизившись к нам – глаза Пленного академика. Ужас холодный бушевал на стене за ним, Пламень коричнево-красный горел сам собой, Словно фреска Ороско, Где рука, где нога? И не видно в невинном просторе, В воздухе, скатанном в пылевые клубки, Вход, исчезнувший в зеркальном проеме, За которым сходятся к горизонту Половицы покинутого дома вдали.II
(Рассказ призрачного свидетеля)
Они вошли, не стучась, Счетчиками, словно спичками, потрескивая в темноте, Они обыскали меня И деньги мои просветили дозиметром. Разрéзали бритвой обои, Осмотрели жену и дочь. Они перетряхнули в квартире все живое и мертвое. Они искали источник заразы. Он освещал всю окрестность, Оповещая мир обо мне, Жегся холодным светляком и не давался в руки. Они смотрели на меня так, Словно я проглотил золотые запасы страны И стал драгоценным. Потом меня отвели в бронемобиль, Сами шли рядом, Я видел их сквозь оптические щели, лупоглазые дыры, Но никто не приблизился Даже на сто шагов. Потом меня замкнули где-то В свинцово-воздушном пространстве И допросили, крича в мегафон через пустошь. Мне сказали, что я – источник опасности, Невидимой глазу и сердцу. Ликвидировать меня бесполезно — Это только усилит мою вредоносность. Но я должен с учеными вместе (Это их огневые очки Роговыми жокеями Иногда проплывали По краю пустыни) Осознать, где сплетенье Темных лучей во мне. Они просили, чтоб я вытребовал у сил неземных прощенье — Я должен стать гением, чтобы преодолеть себя. Они сказали, что меня опознали — Я самый средний из всех, Я занял саму сердцевину мира. Но я – мир, я – свет… Мне говорят, что я – скверна, с которой воюют все государства, Сеятель грубого света, прошедшего тайно сквозь сито, И поэтому приговорен… А я думаю миру в досаду: Я лишь источник самой чистой голубиной голубизны.III
(Межзвездные переговоры)
Нас было восемьсот человек из Луганска – ликвидаторов (аварии). Пятерых уже нет в живых.
(Из разговора в больнице) Тихий смех в полутемной ванной. Женский голос без слез. И еще один… Вы прибежали с дождя Раскрасневшиеся, Сняв целлофановые страх-пакеты, Уходили под воду, Что сыпалась с потолка. Вы стояли, смеясь, в прирученном дожде, Но ветер иной раскачивал воду меж вами, Ударяя в стены струнами певчей воды. И навстречу течению музыки этой Нераздельный голос ваш Слитный От сверкающих тел, говора-створок, смеха сестер Залетал в промоины черные неба. Нет больше слез, Чтоб омыть Прикасания к мертвым Нынешним. Но вещь, зараженную человеком, С которой сражался ты в неузнанном зеркале, словно с тенью своею, Можно простою водою омыть. Падали в дольний низ капли, Смуглые плечи Смутные пыльные дали Сквозь светлое око воды Все в вас голубело. Но голос возносится Возносится голос — Ариетта сестер Сирых. Так в пределы звезд поднялась зона звучащих уст без уст Высветив весть о нас И осколки узнанных голосов В зеркале мира, созданном вновь, сверкали. В нем оголилась глубокая кость И сверкнула не кровь, а радуга Как повязка воды. И в ответ Прозвенит над землей в проводах изоляторов хор Из межзвездного дома И раскроется в черном зеркале млечная дверь возвращенья. И слезы невидимого лица Сольются в прозрачный и сумрачный фарфор светящейся плоти И скулки и бедра, как контуры ваз невесомых, На террасах затеплятся в высоте. Словно с вещи снят наконец неземной скафандр Там, где перила незримой пыльцы водили нас за руку В тот оголенный полет… И небес этих фрески отпрянули ввысь. И слепые еще для света в воде за руки все вместе взялись Влажные вестники – навстречу летящего купола Неотделенные еще от внешнего смутного облика И отраженные в небе от влажного этого асфальта покатого Кости открытого лба и несмытого мира завязь и связь.Реализации
ДЕЛЬФИНАРИЙ
(Стихотворение в четырнадцати высказываниях)
Посвящается Оружейным баням
Дельфин – морское млекопитающее из подотряда зубатых китов, служит предметом промысла, его сало идет на выработку жиров, шкура дает прочную кожу, плавники и хвост – клей.
Словарь иностранных слов, 1954 г. Let us go then, you and I… T.S. Eliot. «The love song of J. Alfred Prufrock»I
Ну что ж, пойдем, Ты и я… И в переулке За водной гладью воздуха Расстанемся Здесь по сторонам решетки, Где кладбище осенних самолетов — Обезображенной случайно кленовой жести. Ты скрылся в последнюю арку, И я губы обвел изнутри языком, И язык мой недвижно лег, К зубам припав головою. Ты мелькнул, как дельфин со свирепым лицом, С огоньком сигареты Уходя ночною Москвою. И язык мой, блеснув, Ушел вглубь меня, Пробираясь по крови С фонариком речи. Выходи на поверхность, дельфин, Это тело твое проступило во тьме Еще ранних сырых переулков, И из влажной глуби Твоей и моей Шел голос морской. Стрекотал в фонтане дельфин С медным плещущим мундштуком во рту, Застыв перед входом У зашторенных иллюминаторов глаз.II
Кто слышал крик дельфина? Я не слышал… Кто дешифровывал в ночи их голоса Из влажной донаучной тьмы Родного переулка, Кто с ними говорил на эсперанто междометий? И погружаясь с головою В поддельные осциллограммы Их голос на руках вздымал? Но разве мы там его ищем? Плещется в нас ночной дельфинарий, Не усидеть у окошек его. Выйдем к внешнему морю, Где мы плыли без глаз. Где оголенные спали У раскаленных вод И нараспев считали Длинный перечень лет. Ах эти бани — Вот наш забытый сад морской… Как описать их? В предбанной ночи сохнут полотенца, Их махровые пальцы залетают в мир, И мыло прижав к самой груди, По переулкам шли мы, как в мастерские. Мастеровые или лингвисты С языками, спрессованными из бронзовых мелких опилок, Все мы стеклись во тьме в Оружейные бани.III
Застенчивая прелесть Оружейного Я твои стены, видно, больше не увижу — Строительная пыль развеяна Над пыльным зеркалом, живущим в каждой луже. Дельфины жили в Оружейной бане, Но краны им, наверно, перекрыли, Напрасно собирались на собранье, Его, как видно, так и не открыли. Осталась деревянная решетка Того торжественного трапа, Куда в священный пар звала побудка От переулочного храпа. Я с вами пиво пил, хоть времени в обрез, Я прошептал сквозь пену общежитья, Что мы окружены водой и кровью, Но по кафельным плитам вода уже не бежит, И сух дельфинарий.IV
Лает в наушниках море Над паутиной волны, Кто там хрипит или молит… Что там, детский призыв Или родительский голос… Кто же тебя заставит Перевести их лениво В доли речи ничьей И музыкой проложить: “Сынок, космическая глина, На ощупь мы тебя лепили Под тенью быстрого дельфина, Над темью дна И под качнувшейся лазурью В безбрежность отпускали сына.” Или: “Словно пух, мы бросали тебя под солнце, Где томимая светом вода, Не затем, чтоб торпедой свинцовой Уходил ты громить города. И вот стоишь ты и не знаешь, Где утопить свою главу… Здесь, где отхлынули улицы На перекрестке сухом. Замер ты, Заглядевшись на площадь, Где гений твой на пьедестале Повернулся вослед уходящему солнцу, Опершись на каменную гитару…” Теперь я и сам увидал его. Но все разошлись в парикмахерские — Растворились в пульверизаторах пыли ночной, А ты дельфин один на пилке зубов играешь У входа в разбитые бани.V
Кто обезвоженным ртом мычал С подводным тремоло созвучий, Кто с бубенцом транзистора Похмельною мотая головою, Брел на водопой — Тот поймет тебя. Тебя молодой дельфин, Заблудившегося в переулках, Я увидел – ты подслушивал тайно себя Через провод, идущий к ушам, Куда поджелудочный магнитофон напевал Сквозь стальные кассеты свои. Это он твой гитарный кумир Шептался с тобой у самой воды, Вызывая тебя из моря. Ведь когда-то и он Гитарный атлет В беспорядочной мира пальбе Все ясней проступал изваяньем из вод И отбросив прозрачные створы, Замер над миром. Там в воде отражаясь, Перемигивались городские огни, И красные глазки дельфинов Скрывались в морское метро. Но в мерцающих искрах одежды сухой Из расколотой бани ни звука, И сух ваш летний ночной дельфинарий, И пуст ваш ночной дельфинарий.VI
Кто ты вставший и певший, Чтоб нас судить? Если ты гитарный бог В безводную ночь С ними заговоришь просто на их родном языке… Но они при виде тебя Закрывают уши, Так что камфора капельками выступает. И ты застывший ничего им не сможешь сказать На языке океанских наречий, Ты, снявший маску бога морского, Ведь сух дельфинарий.VII
Повернись же к себе И в себя вглядись… Кто ты там за очами своими сухими? Вспомни, к городу ты подъезжал, Что вечерний темнел на горе, И, признайся, сильнее руками ты сжал Поручень бархатный в коридоре вагона. Там на холме ты стоял В рост неземной, Достойный, ты думал, для человека. И как будто друзья твои разом заговорили в поезда броневом стекле, И радостью светились медальные блики их лиц, И резные листья заката Облепили твое лицо. Так тебя воздвигали… И когда закатное солнце втянуло, казалось, всю кровь с плеч твоих, Ты увидел, Что лишь между статуй своих ты стоял. Так тебя добивали Верноподданные твои. Дайте крови моей, ты шептал, Дайте крови! И рассыпал лишь горсть чешуи, Прикоснувшись к своей улыбке. Но далекие башни больших городов О забытой ночи напоминали, Где над рекой Любимая твоя прошла.VIII
Она тогда тебя искала, Поверь мне… Прошла она под арками ночными, Где ветер, словно легкая косынка притягивал к себе ее земное платье. И замерла под тенью серой мóста, Переступив на лестнице гранитной, Чтоб вытряхнуть из туфли летнюю былинку. И видела за темною рекою На гребнях крыш туманных часовых С осыпавшейся тяжкою пыльцою От каменных венков колосовых. Над набережной ты покачнулась И поплыла над окнами у замершей воды И над всеми лицами в сиреневой пыльце. Но лишь одного тебя она искала, — Ты спал здесь между статуй С румянцем мрачным на лице. Ты рубиконы рук переходила По стынущим часам с запястий, Ты промежутки лиц переплывала. И над сияньем умершим остановилась, Застыв на облаке Над образом лица. А ты не видел ее, а ты покинул ее… Ни дельфины и ни тритоны Не трубили в пустую ночь. Ты увидел, как за шахматной далью паркета Между карликовых нежных лимонных деревьев Ты ушел, поклонившись, Шагом шахматного коня. Оглянувшись, ты вынул ключ из груди.IX
Впрочем, зачем тосковать… Остановись, Еще шаг… Можно теперь прикурить. С оголенным лицом Пред ощерившимися дискозубами Что кричать, что петь? Это ты еще с высоты пьедестала Стоял и завистливым оком Взирал на людей и дельфинов. И вы готовились слушать, Уже не терзаясь предсмертно Ночным расставаньем с водой. Расселись дельфины по голым трибунам, Говоря на языке зажигалок И трением кожи о кожу.X
Зачем голодные смеющиеся рты Рассеялись по всей долине, Расселись по водам и весям, Вы перевесясь, никните на проводах, Дельфины, Зачем вы слушаете меня? Скажите! Ну! Прошу вас! Но вы припали в страхе к телу друга И слушаете, слушаете, слушаете: Как за грудной решеткой бьется сердце. Но почему не слышите, о чем пою я вам?XI
Все мы станем сиамскими братьями, — Вены скрестим друг с другом, — Чтобы общая кровь в морских виноградниках Нас обняла леонардовым кругом. А ты сквозь очки скользнул под воду, Ты лицо раскрыл и в испуге дельфина вокруг ты видишь, Там в другом – иная твоя свобода, Но ты себя ненавидишь? Это не ты… это не мы – перемол морзянки, Хруст во рту от стеклянных знаков. Но больше нельзя, нельзя, нельзя Кричать в ночную сушь, Оступаясь скользя В свою неизвестную глушь.XII
Что спеть еще вам напоследок, Сходя в морскую глушь? Давя ногой ракушки Наушников и телефонов? Но почему, скажи, дельфин, В наушниках ты вечно, И я тебя не понимаю? Что шепчут тебе в стоптанные уши, Когда лежишь на пыльной мостовой, Беруши? Куда идешь ты? Зачерпывая финики с лотков, Мелькая черным бантиком хвоста? Следи, дельфин, Как чертит море караван судов, Разыскивая карие провалы В кофейной жиже мира. И кто-то на моторке Пускается один С эсхатолотом блуждать над морем. Ужель ты ждешь, Когда под вопль аплодисментов И магния бесшумные круги Корабль с подводной бульбой вместо носа Ты за собою повлечешь В наполненную минами авоську, Чтобы подняв ее ликуя, Взлететь уныло над толпой? Иди, дельфин, Ни слов, ни букв не ведай, Плыви в раскатах раковин квартирных. Пока вода не пришла Для опустевших душей ночных.XIII
Если ночью вода войдет, Опустевшие души прольются горячим дождем. И вы застывшие по банным полкáм, По кафельным пóлкам Понахохлившись, в мыле по брóви Отгребете руками радугу пены К ступеням у входа. Вы скользнете кафельным глянцем В источимой тоске, И отпущенный пар сойдет Над открывшимся чистым морем.XIV
Так заканчивается история дельфинария И всех его братьев в наушниках, Которые отстрелялись и сняли пробки с ушей. Лишь мальки мелькают у арок — У входа крови нашей, освеженной и вечной.БАЛТИЙСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ
Е.Т.
Как дневные прогулки, Далеки острова. И шаги твои осторожны, Чтобы след не оставить в мире. Там морская даль над домами, Чаек гулкие поплавки, И вечерняя не молкнет заря, Словно Альтдорфера битва, Стянувшись пучком к горизонту. Здесь природа света чиста. Световые координаты На лице твоем прижились. Но всегда над молчаньем твоим и моря Красота твоего лица. И радуги распущенный хвостик, Угасший за лесом. Лишь вода отступает, Проходя по соленым колосьям, Рядом с памятниками, Где дети играют, Ударяя мячом в свое отражение в постаменте. Мелют все так же соль муки или денег Мельницы над простором морским, И радары, словно мельницы ветряные, За избой на поляне. Только ветер кружи́т Сквозь ажурные крылья, Только дети шлепают мячик И прячут его в ячейку руки.КИНОРЕЖИССЕР
Памяти Андрея Тарковского
—
1-й план-эпизод
—
Вновь ночь облавная на студии, И люди с фонарями Собрались в груды для ночной охоты. Вновь по колено утопая, бредут болотом бутафорским. И снег искусственный бело-янтарной соли Летит нетающий в глазах. И рядом за границей декорации На хвойной просеке Дежурят напряженные пожарные. А по другую сторону дороги Миры иные угасают, И Фамарь, уснув, с фонарем сидит у ворот. Здесь ветер зимний Не выдул нас еще Из мест обжитых По эту сторону отснятой кинопленки. Не протрубили вентиляторы Из реактивной глуби над болотом. Блеснет огонь Сквозь прорези фанерной амбразуры. Так факельный родник влечет Из-за ночной реки. И я прошел вдоль всей стены зубчатой, Ощупывая декорацию, Что трепетала на ветру.—
2-й план-эпизод
—
Там дальше плыли Безыскусные поля И я проник туда С шуршанием знобящегося шелка Через леса из арматуры И на мгновенье острие гвоздя Задев виском. И не заметил, Как подмалевок сумеречный Излился из виска. Сквозь раздвижные города в долине я прошел, Я пересек все ваши аргентины, Что вы построили В поселке Подмосковья После полýдня. Где на засовах магазинчиков замки́ И на ружейных магазинах смазка спит. Я раздвигал все баррикады Из пластиковых ящиков При свете мотоциклов Я предъявлял несуществующие документы. Я плыл над смутными холмами И видел тени От ночной охоты, Что гналась за мной по следу Внизу и впереди меня. Лишь шепот крови настоящей Из мира сквозь разрезанный висок Входил струей остриженного целлулоида, Промытого до вытемного блеска. Безостановочно шуршала пленка, Сворачиваясь в розы злополучные И заполняя целый мир.—
3-ий план-эпизод
—
Но можно ли хотя б сквозь эту щелку вернуться в жизнь, Протиснуться в ту дверь, Куда пускают лишь невинных? Куда свободно величаво Идут на четырех ногах, Не оглянувшись, Лишь лошади, да, может быть, собаки. Не стать мне тонким, как фанерная борзая Построены здесь пограничные отсеки. Пещеры бункеров Ощерясь улыбаются Под козырьком стекла непроницаемым С изюмом на губах. И все ж влечет меня туда Ко входу темному По просекам, Куда сгущаются лесные рельсы. Здесь эта дверца На перекрестке лесных дорог Где на распутье – все, И вещь от образа отделима? Но в прежний мир Сквозь ту подковку, Сквозь скобку самолетную, Через кордон отнюдь не из картона Мне, пошатнувшись, не пройти С железным отпечатком пальцев на горле. Чтоб тайный зуммер не звенел Во всех ушах ненасытимых, Во всех очах малахитных Да, во всех очах ненасытимых. Здесь где путь раздвоенья, По ту или по эту сторону двери?—
4-й план-эпизод
—
Здесь где свободна память Звенит, звенит звонок… Не школьный сумрак ли, как наждаком покроет парты Там эта память свободна Когда очнутся лепестки Но скобка разбита, коньки расклепались и очки мои раздвоились—
5-й план-эпизод
—
Я мог бы ждать В ночном лесу У сада, созданного на помосте Но жизнь скользит иная В пластмассовых надломленных ветвях. Река бежит, И яблоня с батистовыми цветами Дрожит в забвеньи над водой И темная вода Окружена прожекторами Вода, не ведавшая, что творит. Что отражается в ее сомкнýтой глубине? Кто черным облаком сады проглотит Плеснув слюну змеиную на землю? А вы… вы изгороди обставляли фонарями Вы в воду до рассвета подливали свет, Вы проявитель лили в нашу душу, И стало черным белое и белым — черное. Но вот иной далекий Весь выгнувшись на прутиках невидимой кровати… Сгорает он вдали, вдали Чтобы прорвáлась черная бумага, Мелькнули лица в перегаре света С медузами опавших эполет Рассыпавшихся юпитерóв.—
6-й план-эпизод
—
И броневая линия стекла исчезла, И только шаткая лесная дверь Покачивается на свету. И дрогнут сцепки прочные границ, Качнутся люстры над плечами с портупеями, И побежит в обе стороны мир от наших линз. Замрут вокзалы На выгнутых нервюрах, И Гете с чемоданом, Что пробирается сквозь разлинованную Европу, Под озаренными разрывом, Дюралевыми парусами Замрет. Летит в лицо раскрытый на щупы и спирали звездный огонь И словно прутиком раздвоенным блуждает Слепая вена на виске. В мире распада я быть не могу Но есть зубчатая и хриплая звезда, Что повернулась вдруг во всех глазах, Словно колесико часовое закружившись в оплавленном песке. И с хрипом, в темноте мерцающей Разорванною лентой Заструилась мысль всеобщая. Я вскрикнул — Я возник. И к морю глаз открытых ваших вышел. И по полозьям найденным Скользнет ночная кинокамера, Прожектора разбитые идут по сторонам, Последний, как обугленная пальма, гремящей фермою пройдет, Бежит земля. И рельсы входят в море. Мелькнут над ним, Как тень от чайки, руки. Рябь от воды накроет Монтажный стол. Две полосы стальные, Струящиеся над пленкой, Прогон – щелчок – прогон. Довольно глаз, Откиньте море. Здесь на холодном кварце Зеркало для зренья И небо просветленное. Но где же люди, Куда их отнесло? Их море грубыми мазками Собрало в верхний ярус неба. Кто тянется с лицом горящим, Кто со свечой стоит, Кто путевым кивает фонарем. Я не был ослеплен Здесь в этой точке ночи — В эпицентре вашей мысли, И вы глядели сквозь мои руки, И я мыслил вами. А фонари ночные Мигнули и от поезда отстали Среди болотных огоньков знакомых.—
7-й план-эпизод
—
Ночь масляная, И копоть под глазами прогорает, Открывая свежий мир. И двое за столом Прозрачные тасуют карты, Прозрачны лица их И кадры пленки, отвлеченные от мира. И лес сосновый виден прозрачный, словно школа, За партами рядами спят ученики, Все головы шмелиные склонили на руки тяжелые, В пыльце испачканные у реки. Чуть сероваты хвойные откосы Железнодорожной насыпи, Где под журчание воды в разрезах Собора профиль проступает. Легальны сны мои, И спать легко мне Здесь у ручья На влажной гальке. Неощутимый свет Под шум воды, струящейся под веками Сожнем и вынем Из наших глаз Влажную рожь кинопленки. Это тот лед, это тот мед, Что виден изо всех глаз На подъездных путях Спицею света. И ночь, хотя держится в стороне, Но также во тьме голуба, Остановятся глобусы Утомленных белков Сливовых глаз собаки, Что оглянулась в полете от сырых трав Веретено этого света, зазвенев, не упадет на землю.ПРОБУЖДЕНИЕ
Не размораживайте страх. Бесстрашнее остаться в страхе? С узором мерзлым на устах. Не размораживайте прах, Чтоб мамонтом отледенев На миг продлиться, на глазах Возникнув и истлев. Все постарели в одну ночь Из сада зимнего изъяты Счастливейших семидесятых. Еще сверкнет Ерусалим В небесной дали Иордана, Губами из под льда молим, Заговорившими нежданно. Но в тех живых, что вырваны из льда Не нарушаема свобода, Как камень в бездне небосвода, В других не кровь и не вода — Лишь пыль, встающая у входа, Убитых и воскресших без суда.ОМЕГА МОРЯ
Я пришел сюда, Где строится вторая дача N1, Где вода в желобке После полудня, как в мензурке зудит И в меланхолическом зное Смешаны с металлическом вкусом Фейхоа и Мисхор Омега моря… Здесь, где стройбат С обеда уже прошел И у мраморных глыб, Меж реликтовых сосен На кулинарном тамтаме Играть перестал солдат. Все спокойно. Не слышно ни сердца, Ни звука во втулке стеклянной На холме. Но ровно каждые полчаса С тайным щелчком Открывается эта хрустальная табакерка Омега моря… И по нижней веранде, По патрульной тропе, С паутинной пружинкой в каркасе, С автоматом в руках, завороженно развернувшись Совершают они Музыкальный свой ритуал. Суп для всех стоит в площадях, Заслоненный колышимой кисеей Остывающий суп в жаркий день Будут будут еще Вдаль уходить твои руки, Будешь воздух жалеть. Омега моря… Вот он воздух мучительной хвои морской. Половину поверхности света Держат в море, дрожа, электроны Гравитацией мира, Отделяя половину другую, Заслоняемую от нас. Это туда, Словно черный изгнанный контур Сквозь меня вы прошли — В те же прозрачные своды, В закрытую музыку снова По ступеням грохоча сапогами Я за вами вступил в ваши тени С отмычкой от мира Разжимая в кармане железную скобку волн Шлюзы шли за ширмами старинного моря во мгле Провисали гирляндами виноградные лозы Мы глядели на них изнутри. Словно сквозь прорези сундука — В балюстрады недосозданных галерей Вы взглянули отсюда, Словно с оборотной стороны Земли. От висячих мостов далеких В чащу родимую наших лесов, Где бегут по лицу Тени шагов И туманная просека над водой. Здесь меж затаенных камней Вы бродили Не находя того К чьим ногам В летний день на плацу Припадали вы Неподвижным солдатиком тени. Вы искали хоть просвета в куполе смутном И дрожала на игле случайной Омега моря моя. Лишь усталость Словно юность продленная Застиранным маскхалатом В темноте волочилась за вами И к последнему бюсту его вы подошли И дыхание ваше воспарялось На его умоляющее лицо. В этот миг Под закрытыми веками гипса Тишина… Я сказал Это здесь Та последняя точка — Моря и неба прицел, Где минута поворота и вдоха для статуй дана. И никто уже меры света не видел И вбежавший по ступеням солдат Ударил прикладом в его лицо. И услышали мы встречный гул из камня и моря. Вы молчали, Разбивая прикладами бюст. И под гипсом тирана В трепещущей маске Мы увидели нашего друга — Как сплошную рану, лицо. Мы держали его, Словно нежданного брата, На руках в разломленной скорлупе. Отмотайте же бинт, И бегите, и тяните его до моря… Побежим по окраине мира… Размотается гипсовая чалма, Пусти их невинных, виновных Пройти успеть меж створками света. Вы качнетесь в трепещущий свет, В эту бьющую рану из гипса И в лицо исчезая его Вырываясь из бюста наружу Вы ворветесь на станцию ночи. Караульную будку минуя, Где под ветром колышется часового фигурка И в открытом море за ним – маяк. И у писаря из рук выбивая перо В замедленном вечном полете И не скальпель, а нож падет, замкнув эту ночь о рельсы. И в чернильную ночь Ты уйдешь, и двинется поезд, расчищая искры с путей. За собой оставляя в разомкнутом свете лишь обрывок газеты На одной стороне газеты Ты в афганской просторной каске На другой стороне — Ты убит. Перегоны-мосты Вам привидятся на закате, Силуэты дорог В резкой сырости бязевого белья, Силуэты мишеней с белыми оспинками от пуль Голоса… Через строй переездов Раствориться немыслимо в этой земле. Омега-моря-подкова На твоей, как браслетка, надета руке, Ты потянешься в ночь, Увязая прощальной рукой, Но не в нашей земле. Живы все, кто вернулись. Молох в серой мерлушке, В усах и улыбке-пенсне К вам приблизится на вокзале В той объемной оспенной фотографической серой икре… Ты въезжаешь в лицо его, закрыв глаза — в крупнозернье этого века. Ты въезжаешь в свой город На яблоках спелых В дневальной грозе, Что смывает с плеч знаки различий. Ты въезжаешь в Москву В подбровья мостов и садов В ветки редкие световых реклам И десны госпиталей, Где в потерянном завтра-сегодня-вчера Иероглифы в серых халатах Подметают больничный двор. И одежда разъята твоя на ура, Ты вошел в половину световую лица, Ты вышел из ниши тени, И подковка сверкнула во лбу: омега моря. Счастья не хватит на всех.Из книги «Бессмертие повседневное»
* * *
В зале темно, Но елочный запах уже появился В темной золе неизведанных прежде предметов. Цифры в игрушечном сердце не спят. Пальцем их в диске ракушечном тихо заводят… И голос гудков сердцевин В вокзальной пыли отзовется Из щелéй болевых пробудя́тся вихри всех швов позабытых, И павшие нити, что в щели соленой смолой убирали, Очнувшейся влажною стружкой завьются И палец уколют в ночи́ открывания двери прохладной и нежнойК ПОСЕЩЕНИЮ БАХОМ СТОЛИЦЫ ПРУССИИ БЕРЛИНА В 1747 ГОДУ
Неотделимо тело от парика, Неотличима зеркальная гладь реки От завитков зеленоватых трав. На что мне добротный костюм, Он и так запыленный лежит, Словно старый конверт на дне светлой реки В одна тысяча девятьсот сорок седьмом году. Не надо и створкой зеркальной кареты Лучик чужой ловить, Чтобы светить в себя, Ведь в камере-обскуре забытой Все свалены в стихотворных позах, И кровь девятнадцатого столетья Похожа ныне на желе для бритья. Кто подскажет мне как мне быть, Если тело всего лишь храм, Кто нашепчет мне в уши Улицей зеленоватой Королевскую тему и шестиголосный канон. Как белесая медь вокруг разлита… И в березах бирюзовая сыпь на запястьях. Ты ли думаешь, что возьмешь меня Гулом чугунным, идущим из ноздрей коня? Как посылку для века небудущего схороня И химической надписью Поджигая в воздухе, отошлешь поклон. Немота стены из зеркальных линз реки бирюзовой.* * *
Я осень вспомнил позднюю, Когда венчальный серебристый желудь темный Вниз сквозь редеющие руки пролетает И сквозь редеющие сети солнечные Друзей твоих. И смутный дуб в падении злаченых желудей увидишь И клена влажного нездешнюю стальную красоту. Заглинили дороги вдоль оврага, Копытца давние печально отзвучали. Но эхо дальнее все ближе, Чудесный вкус воды Все искренней в твоих ладонях. И шар прозрачный соберется Из тысячи умытых маслянистых брызг, И гладкая его поверхность Вдруг на колени хлынет к нам под солнцем.БЕССМЕРТИЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ
(поэма)
Часть первая
Вступление
Коричневый отсвет на городе… Ржавеющий вечер сквозь дымную кровлю, О как же обнять листву и ослабнуть под тяжестью тени земной В щедрости предвечерней. Но поздно сжимать этот отблеск у листьев И закатной вытертой кровли ржаной, Поздно, ты слышишь, поздно. Поздно уже говорить. Поздно шептать И лимонные дали гасить И наконечники стрел ссыпать Ржавой звенящей струей в карманы Из распавшегося кургана. Сухость бетонных столбов с виноградной лозой, Медных ночных проводов И зелень латунная под ногами, Кирпичный отсвет тел наших, Дарующий в подземной теми метро Осенние георгины. Первая ночь наступила, Ветер еще не болел, И горечь в садах не осела. Ночь вторая ожиданий зыбких на набережной недвижной И сирени, сметаемой слабым скребком с реки. И сырая глубокая во влажной и ломкой ржавчине черной Уходящая ветром третья ночь.1
Вечер, вечер предлетний Шепоты осени дня… Когда люди глядят под землей друг другу в глаза, И метро размежает их мимо Угасающих глаз иных. Но не хочу я и сна ночного Под раскрытыми в моющим свете огнями, Нет, не хочу я остаться во сне, что хрупким своим молоком мне веки спечатал. Шепот, смежающий веки, и кивающий ветер… Город прощального солнца, Весь притянутый из длинной рельсовой влаги росы. Нет, не хочу я и смерти дневной, Словно пламень медлительный в вещи погасшей Только приникнуть ко взгляду уже постороннему, Только облачка на весу тополиного пуха коснуться Волосяного, с тайнозелеными меркнущими зернами в глубине.2
Слабые лица уходят. И светлая ночь видна. Но не хочу засыпать я В предгориях града земного. Нет, не хочу угасать я У подножья лучей его георгинов, В пыльных подземных каналах его. Знаю, в молочной листве сонными губами ты проведешь над собой в крошке угольной мокрой, ты прикоснешься ко мне, и я уже без сна тебя провожаю губами. Город земной, облаченный в легкие огненные облака из фольги смытых огней, из предстоящих еще путевых зарниц в хрупкой руке, обведенной огненной чернотой. Сонный текучий металл пред поливом, пред одеваньем водой, Когда вены твои развевает город в ночи. Сон подступает, и отбыванья рессоры вздымающих парков в витых птицевидных отблесках ослабели, часы витые мускулы отпустили во тьму. Нет, не хочу угасать я Вместе с другими вещами. Но сладостный слабый глоток — Взгляд твой, на коленях держащего руку, Нас разводит по города талым огням — лабиринтам открытым его.3
Ночь! Это ночь… — Лето, Бесшумное лето вещей. Здесь между дальних прочерченных линий И в кранах воды посторонней Вещи не спят. Из гигантского солнца своих соцветий Устремились они Под мостами стульев и кресел. Ножниц, брошенных в бегстве, Двойные лиманы На блеснувшем столе. Брошены в ночь поезда… И книга закрыта земная. Лечь у ступеней ее — У страниц ее сжатых В городе, – щекой на страницы закрытых ступеней ее. Что же, Меж пылью вещей проходить Бдением, а не бытием? Все мы в светящей ночи не спим, Ведь тьма на вещах – наш сон. А мы с каких этажей Даже взглядом и в городские сады не выходим. Только контур вещей увидеть– их пылевой горизонт И отсвет стены, хранящей дрожание тени гвоздя, И в заброшенной комнате Струны ракетки ночной Отпить эту пыль от паркета сквозь прозрачные прутья, Сквозь гибкий их звон В зарешеченной тайной гитаре. От мягких комков мячей, Что лежат в глазах Редимыми пятнами белизны на полу.4
Город свои очертания смыл, Но не проходит над грудью моей, Серпом совлеченный, парус рубашки земной. И в памяти смутные лица и облака зацветают над городом в небе ночном. Город, — Дочери это твои. То, что прошли и приснились мне Летнею полночью днéвной. Я бы ночью такою ж хотел… Тающим краем ножа Медвяную снять смолу бытия со всех… Снять с марли трепетной, И между промытых повернутых косточек инструментов… В просветленных приемных покоях, Где мокнут браслеты мужские… Но дочери твои В парусинных прохладных одеждах Отвели мне глаза На юг этой ночи И на север их трепетавших волос. В просветленных покоях, Где за ушедшими двери ребро звучит и тихо колышется на свету, Прильни ко мне, светлая грудь клеенки. Дочери это твои… В летних ремонтных лесах библиотек промелькнувших, За пряничной патиной белых одежд, След их над цитаделью ступеней Во тьме растворяя… Из теплых книг дождь смежающих книги ресниц, Из бережной будущей вечности… Книгу хоть в этот конверт из распавшейся газеты закутав. И летнею ночью в открытых пространствах квартиры Вас прижимая К плоской карте темной груди своей Без окон светящихся города средины жизни. Жизни чужой? Нет, не моей… Ведь не время сейчас часов металлических и других – с передвижным этим театром, и точек черных в глазах — цифр зеленоватого макового московского неба. Дочери… Сестры слез милосердных, тронутый парус материи вашей, словно грубым шнурком продернут в ночи, и прослышен звонок прохладный. Это площадь средь мира, в которой я пробуждаюсь, я иной, Но веет все та же прохлада за вами.5
Нет, из сна этой ночи уже не вернуться… Под ее небесами цветными Ты прошел. И он все сидел, взгляд свой подняв От бритых сандалий До ступеней циклопичного зданья в зените, Ломая в руках лучи золотые, Хоть солнце заката ушло. И вот говорит он: «Хватит, пора поквитаться, Милые символы века». Чтоб начертить в огненном небе Математики буквы иной. Кто же их пишет их прахом белым, И камень-орешек в руке царит, Кто же царапает доску беззвездную И мыльной зеленой водой Смывает буквы со стекла зверозубого? Нет этой ночью Не надо больше сжимать Мел это – крупитчатый снег, Чтобы где-то в другом берегу «Мене», «текел» прочли. Но все же Ужель это только обманная маска — Зеленая поросль и сеть ускользающих букв, Лишь теневое письмо В блистательной режущей кромке под солнцем, Зазубренной голубизною клена? Знаю, настанет пора, И из этого века Грозные вычтут слова, Как знаки ночные, скользящие вверх по реке.6
Город остался за прежней чертой За вершинами гребней своих и каймой светящего тела… Все оружье его, все ржавые солнца гербы и доспехи Разошлись в огнях путевых. Ветер вошедший гремит и кружит тебя, забывшего лечь на мгновенье. Рваться из комнат, из комнат и комнат… В воздухе смятом, затрепетав на перекрестке его, Превращая дали пустынные переходов В коридор бесконечный вагона. Рваться сквозь сон этот С раскаленными дырочками поддона вагонного, Чтобы снизу прошла обугленная родная кора. Раскаленные тьмы и трубные ливни… Слово свое мятным приступом речи забудь… Слово и речь… И речные его промежутки за стыками рельс и паузами проступят.7
Запахов поздних в прорéженной ночи вздыманье — Это последняя нашему телу преграда. Поезд, ветрам открытый, И пройденный ветром тоскливым из конца в конец. Темные струи его, Как имена, между вещей ваших хрупких, Обвившие заводи ледяные. Все воздушные этажи, промывы, Где вещам уготованы ниши, Только в вагоне пустом — Черешни косточка в оболочке воздушной И кукурузы изъеденный тенью початок, Что проходит на плитах наклонных дощатого пола. Вот открытая до истока вещь, Ты меня ждешь Томительней тени от лестницы, прислоненной за дверью. Темной щетиной темноты заплаканной ощупать вас. Во всем открывшемся грушевом запахе загнившего моря… Тыльной стальной стороной руки́ отбросить Ладони иных людей и вещей ледяных Редкость нательных запахов оживит эти стылые двери-поля, Уйди к себе, теплый нескончаемый вихрь, Где венчик вещи открытой — изгиб лишь предскажешь.Часть вторая
Вступление. Зеркало в провинциальной гостинице
Зачем выцеживать пробор Зубчатой лестницей полночной? Продребезжит ли рамой темнота, Трамвай меж морем и беленым шкафом в окнах прозвенит, Раскроется ли в нише пыль земная? Зачем глядеть в стекло, Глаза подтапливая смолкой ягодною слез И волосы гребнем ночным с пеной невинной во тьму отводить. Танцы давно закрылись. Что зеркалу ночному ты внушаешь, Прихорошась и приодевшись? Пред вертикальною стальной равниной, Здесь пред морской провинциею мира. Трамвай трескучей дрожью просквозит зеленоватым семенем в грибных изгибах белых изоляторов на повороте. Ты ли Зеркало руками охватишь (С темными лентами глаз?) И белый бритвенный свет Эпидемстанции за окном… Та вода за столом, Что изгибаясь рукой твоей становилась Влага на белом столе – та звезда на мутном дне под стаканом. Вся ты здесь По эту сторону стекла С именем провинции земли на губах. Кто ты нынешняя, ты ночная и надо все силы собрать, чтобы вспомнить не та ли, которую в прошлом я видел и когда перед сном будущее появится на исчезающих жалких конфетных узорах. А ныне… я полон умолкнувшей влажною пылью — пылью часов. И медная плавная ночь мешает мне прошлое вспомнить. Где же средина жизни и моря, где пенный его полумесяц? Там, за белой оградой земли? И в просверленной зелени трамвайных путей, Изъятых и сваркой ночной подсиненных.1
Ты ли мелькнула тогда у парковой низкой решетки? Там где в летней листве проступили словно пятна из снежного детства на коже погасшей жирафа сквозь бегущую сеть зоопарка в надломленных светом деревьях. Пламенем жизни зеленым объятый! Ты ль это в памяти платье свое на свету примеряла Под редкой московскою темью, Платье забвенья? Лестницы глиной полны, как ракетные сумерки часом ступенчатым с красными пятнами крылий. Где же я был, когда жизнь совершалась? Только слухом своим из будущего, застигнутый у ледяного лотка? Белые ветви забытых деревьев в ладонях хрустнули, звуки ушли в тот мелодичный колодец, в который резьбу от гайки я проливал ночь за ночью под маревом над теплицами озаренными крыш в прозрачной жести без меры. Неужто струи речные, стволы деревьев, что в руках холодали, камни фруктов и долины парковых жнитв, дары огородов далеких, неужто все это закрылось сейчас молчаньем и праздником сквозь поцелуи века иного и пробуждением ткани в холодных сумерках зелени у окна?2
Это снова берег, покрытый ветром… И побег твой от ветра у моря… Бег твой по замерзшему пляжу ты помнишь, Но отчет нашей крови не нужен нам, Где зимы еще нет в отступающем тяжеловолном море, Пояс его цепочками замерзших брызг еще брезжит. Рядом с нами замершей жизни сосна, Скаты звонкие ее черепицы, Планеризм чешуи… Отступает к морю Почерк ноги твоей И кожи без запаха хвои. Ночь без запаха, ветер без запаха. Ночь безошибочной жизни горящей Только ветер… и друг его ветерок в улыбающейся расческе исчезнет в руке твоей перед зеркалом тайного ребуса грани и поворота ключа в воде. Это ты на ветру без шляпы в планерной этой сосне расщепленной, ты возникла из зимней тени и рядом со стеной проступила с летним шепотом и кильватером скрипа ногтей, задевших трещину штукатурки и со шпилькой обломанной боль позабудешь и в зеркале узнаешь меня за спиной.3. Книга памяти и плачей осенних
В промежутке провинции жизни твоей В створках зеркала, шелестящего, Словно книга осенняя Просьб и прощений у низких киосков. Ты увидишь Как склонившись в плаще и поясом поддакнутый своим холщовым, Учитель мой, Ты во тьму протянул мякоть своей ладони. И шляпы оги́б павлиний Из маслянистой шелковой боковины Убрал ты под фетровый гипс Умоляющих скул твоих встречных. Больше мне нечего вспомнить оттуда… Размягченные памятники Хранили косточки сливовые… Можно по капле вернуться назад Между летних нагретых ворот С багровой решеткою винной. Проплывали мимо куски арматуры С вздыхающей окисью бледно-зеленой… Ты прошел в туманную низину твоего переулка С томной скрипочкой вдавленной несмываемой своей улыбки. Проси же прощенья у времени, В вихре руки, описавшей свой шаг ремешком от часов Пока еще времени ты своего не покинул. Сквозь губы прошепчешь: «Прости». И пальцы бронзы чернильной За алой золой замалюют бег твой воздушный по контуру зеркала и утренний клей сохранят на стекле.4
И клубневая скорбная трава Из пыльных пазух земли продленной соберется Из тех дней, где обронили мы Гремящий мячик, Что ветром опрокинутый в траву Распался на подземные чаинки. И вот сейчас у решетки Черный клубящийся шар заденешь Весь в семенах травы. Пускай меня и зеркало уводит С пути сбивает В ниши неживые… Лишь потому, что с тесным сердцем По лестницам я восходил поросшим пылью, Где сморщенные углубления звонков В древесной прячутся одежде. Там лестница раздвинулась на темные извитые спирали на двойки и волны, обласканные масляною краской. Я твердо думаю вернуться… Но где я, погружен в какое время? И частность, частность… между зубцов едва мелькнувших презрительных зеркальных призраков их позвонков и перезвонов армадами огней из призматических щелéй. С рассеянною книгой плачей Мне не пройти назад… Как будто мне не испросить Прощений у времен ушедших. Там за стеклянной дверью затененной Мелькнешь и ты В плаще широком И с хлебным запахом От кожи уходящей Ты скроешься в других дверях, Как в сладких складках времени, На полпути к окошку ты протянешь руку Просьб о прощании твоем, а не прощений.5
Словно из времени звук тот был создан. Внятный отбой молотков, Что осыпали известку, Готовя помост постаментный. Как будто Пока тебя не было дома Вошли они в дальний отзвук двора, Лесины шершавые молча внеся И древесные дали в ночи возводя Руками замерзшими в мыльной шерсти́. Но разве не вы друзья мне сказали О будущей ночи В Москве темноликой? Зачем же Тогда, столько лет назад, Мой друг, ты руку в бархатном жесте отвел В летней гранитной мгле на Смоленской, Когда ты вино в бокале сжал с горстью застывших пузырьков на свету. Зачем же восславил Ночь, открытую на всех широтáх В бетонной прозрачной рубашке. Разве не помните вы Разве не вы звезды морские сквозь ветви могли подтянуть с земли? Разве не вы прошли в глубине С тинистым илом И сеном тенистым… И в полночном хладе и свете Провожая меня в воздушный путь, Помост содрогая в холодной пыли́, И руки мои раскинув в ложбины гранитной длины У звезды гранитной забыли. О звезда из гранита! — Сестра из молчанья. Это взглядом очнувшимся Я провел в накаленной ночи́ Над вощеными крышами и платьем морей жестяным. И звезда Длинным свисающим мхом С крыши морей На кровли земные склонилась. Распахнуты веки! И пахнущий светом флакончик мраморный моря и муки́ под ногами истлевшей звучит. Только волосы млечные Тихо по стенам руками томимыми в знобящих своих безрукавках голубоватым камнем сойдут. Звезда из кургана… Но и в бархатных устьях лучей Напрасно, друг мой, тогда Пролил ты голос твой В бездонный колодец московской ночи. Звезда отгорела. Жесткой пемзой своей проведя под затылок открытый. Сестра из признаний! Глаза ее слюдяные В гáревой пы́ли далеких околиц вокзальных. Только блестками недр своих тайных Глаза мне промоешь. Словно санки в радужном снежном вихре с горок мелькнут. И продленная влага Руки́ перламутровой нóчи, Хранящей железистый цвет и бензиновый след в полутьме, И в изгибах застывших ног речных твоих, Блеснувших за краем подхваченной ночи угла.6
Город? Жизнь? Где обрывы домов отступили Опоры последние пали. Кто же гору воздвиг, Кто отвел толпу На предел, достижимый биноклем? Кто же летнюю цифру в пыльной листве зажег, Зеленей, чем листва? Я думал: мне хватит увидеть еще два-три фантастических ливня И смогу я начать от царапин, кипящих на коже стены, От рубашечек этих глядящих детей и отцов их. Чтоб курчавилась мгла и книга вращалась во тьме световой. Если даже разрыв – я готов! Время… во мгле я его повторяю. и стороны книги глубокой вплавь уходят, руки свои разводя. Неминуема жизнь… Я запомнил только это одно у обрыва последнего раскрытого дома. Неминуема ночь с мягким чирканьем спички и чарующим шуршаньем перкали. Я бы хоть слово одно сказал… Но длинные зажимы реки прозрачной Долго в горле дрожат. И после ночи такой – я готов. И после кварца выбитого застывшего моря? После всего, После… Ко мне приходите вы после… После серпа… на лунной и пыльной повязке… верней всего после. Если, как снег, распахнулись стены Распахнулись дома в замершей слюне шоколадной. Кварц непрозрачных домов последних, Жизнь проскользившая – манна скользнувшая в указательный снег, Все указатели – снежные звезды – сгорели И между домов проливных Иная вселенная – мята.7
Зимний город раскрытый… Разъятые чаши домов И единственный в нем – запах-борец, Может быть чебреца, что в ладонях растерт на душистые веретенца… И льдистая лунка одна над землей Иллюминаторного окна, Пролившего свет свой вослед тебе. Здесь из пространства далекого Люди, опять появляетесь вы В цветущих огнях… Но если тебя я не встретил, По улице темной Бегущего, обгоревшего, как пепельный ангел… Нет, я не встретил тебя. Верю, времени река в тумане завьется еще… И ты неверный сын века, В глухом переулке в снегу потерявший нож, И ты держишь путь к добру. И сквозь решетку сада Увидишь и месяц, и праздник на площади рядом с широкою вишней И сядешь на землю, к ели спиной привалясь И шляпу свою до бровей опустив. И летние тени пройдут по лицу твоему, И нежная пища твоя Войдет в твои жилы, В кисею морщинистую кожи погасшей, Едва шевеля ее, словно огненным ветром с полей. И даже забытый тобой человек, Прижатый полуденным ливнем к земле, Не сгинет, вернется опять к тебе. Что ж, тот человек не вернется? По глинам, по запахам, по слогам, По насмешливым стеклышкам крыльев очков? Придет он, вернется к тебе. Столь малые дали даны нам, Что в эту ночь я и сам такой И тоже из этой дáли. Склера окна закрылась.8
Когда ты уходишь, то в памяти пропадаешь… Вернитесь! – Зовут уходящие вещи И корни их смутных волос В уносящем мутящем их мыльном потоке, Где светящие камни ждут у двери в морской залив, И кружащие мельничные руки раскинув, Труп человека, чьи вены ушиты в рогожу и стянуты вены узлом И зубами оборваны нити цыганским ртом И снаряжен он и в рогожу одет для отплытья. Кони вас черные ждут, Уж угли не мечут их хрупкие ноздри, И сажа не залетает в их звездные злые глаза, Они погрузились в несущийся ил внешней жизни, И ты, поводья в руках зажав, Путь по реке начинаешь от мелкого плеса. Прощание с тенью твоей едва шелушащейся, Прощание с домом, где тень твоя плесенью павлиньей покрыта, И с трещинками губ прощанье, С ноготками остриженными, Что, как сонные крылышки, в лунки ночные скользнут.9. После прощания
Что же останется На смятенном полу квадратном Вслед за веничком редким? Несколько брызг леденящих От просяных обглоданных колосков, Связанных в юбку жгутом? Холодноватых брызг из труб заржавелых, Где улыбочки человеков полумесяцами плавают среди бликов, Среди бляшек и блуз беловатых, проявленных в темноте воды. Звездочка пыли на бледном полу, Подметенном грозным прореженным помелом. Память твоя с протокольными нотами, Что держишь ты на руках Под морскими прозрачными стенами, Уходящими вдаль за стеной. Сестры мои, Платья ваши последние в сундуки кладите И обратно из них вынимайте. Корабельных комодов не нужно, Открывайте их портовые люки, Их ореховый трут пусть потонет в огне. И сучков благородные отпечатки — ваших пальцев отточья. Доставайте всю соль благовоний, Открывайте город флакончиков и засохших пропеллеров детских сизой фиалки. Не молчите, скажите мне что-нибудь! Пол уже подметенный Чист от праха будущих наших ночей… Все ушло из летящих огней нюхательной соли, Из машинки лоскутных брызг, Из гадательного клубка… Все ушли, И я остался один В этой комнате темной, Где жила ты одна.10
Что делать нам со списком пожелтелым бытия? А ты Словно в проданной комнате мира сидишь… С печатями пахучими, С суконками от шахмат постаревшими. С обуглившимися цветами, С букетом воплей давних, с жалобами неподписанными. Со всеми неудобными телами их в руках твоих, Как в грубых колыбельках лубяных. И в затененной комнате ты вспомнишь: Ты словно школьник Прошел тогда прямой дорогой сквозь кладби́ще, Ты оказался там, Не находя ее могилы. Молчат предметы тишины, С тобою за руку здоровается липа, Но ворох всех цветочных документов Обрушится сквозь звон венков ночных Все той же медленной неуловимой комнаты…11
В комнате прежних трубных багровых маршей… Вспомнил я площади В холодном свирепом барокко. Но не могу я пройти В комнату, где ты жила. Там рядом с односпинной кроватью. где куклы спина прилипла к длинной площадке буфета… в ночи глазами фарфоровыми скользя по пыльному карнизу тени… Ныне, ты новая спишь Под отблески незнакомые Дисков и магнитных радуг гремящих из-за стены, где соседей тела молодые будто в какой-то мастерской ученичеств тебя отражают в поседевших стальных своих гобеленах на стенах, чтобы изморозью рук и глаз очнулась ты в комнате за стеной. И вспомнила… Как мужа баюкаешь ты за тридевять земель в нитяной кошелке, а не здесь не в этих узлах и тритонах влажных одежды и в одолжениях вечных у пуговиц, чтобы мог он к ближней горыни выбраться, к холодному песчаному склону ее. А ты говоришь, что море… А!.. говоришь… море… и трепет лепестков сухарей в руке и уголок паруса, прижатого между створками разогретого дневного трамвая. Если коричневый край тоски, как нагар батарей, всей чешуи от картофеля в белой сиренево-свежей трясине, когда пол в очертаниях ласточек и ног, отклоненных от встреч в канцелярии утром. Свежий скрипичный очисток-листок от картофеля, что же за скрипкой, что же еще за плечом складок несшитых концертных платьев твоих? Что же за скважинкой скрипки, что же еще за ее очертаньем? у ворот забытого дома ты играешь на скважинке той ночи, когда за оградами в воздух вечерний памятники излучают сенной прототип мокрого лба и хвойного дорогоглазого дома в июле. Дорогоглазого дома… и скрепки и скрипки для прилипших денежных знаков дневных, переплывших границу памяти между всеми на дно погруженными, где отпечатки пальцев, как денежки случайные на дне у подножья фонтана.12
Все, что запомнил я – лишь вас, Чудесные люди иные. Ваш мир – мир счастливый, Как капельки денег на весеннем снежном крыльце… А этот трамвай к больнице твоей не спешит, и лебедь скольжения тишины над черкизовским черным прудом… и домов отпил или сруб… дом, что сгорит, переправившись в вечный запах. Где же мост между теми зубными железными длинами и летней цветочной сухой слюной Между мной и тобой Между мной и тяжелым хлястиком ноющим… Жаль… только жаль мне тебя… …и пуговицами хлястика, что тяжелым грузиком реет всю ночь над твоим окном. В комнате прошлой твоей в шесть часов открывалась тьма в сонной щепоти и разжимке под шелест и шепот и уход твой из комнаты в снежных висках трамвая, в их боярских красных обводах и в пышных тулупчиках снежных одежд. Я ушел из комнаты этой… как и ты тогда уходила в новый холодный день, я шел сквозь мерзлые чертежи, которые я не знал, если запах-борец возник этим зимним разорванным днем, значит летопись жизни не зря томилась в печах, значит не был исчерпан ни щебень, ни песок мелочной под лопатой во рвах. Значит, я облако жизни чужой отъятой этим утром над собою провел и туманом тихим во мгле осадил этот медленный вечно свежающий запах-борец.13
Пусть изюминка или кислинка долгой дороги Куда? – в никуда… К этой летней заставе приводит. Пусть же возникнет опять… ситец, сатин и другие простые названья глубоководных наших ночей, над которыми мы проводили время между рожденьями. Все танц-облавы, статуи в побеленных нишах и над стадионом дневным облака… И ты человек, весь сотканный из черешни, ты посмешище с пятипалой лапкой, повергнутый в вихрь движенья. Суровой музы́ке молчанья не дать ничего от себя отстранить и всем хороводом имен и длиннот всех дней обрушить свирепую поросль на все подобия крылышек платьев людей, суровую песнь ночную петь, и щеки стальные свои колоколом рук остужая.14. Возвращение
Вот я вернусь в город. Гладкий закат ляжет на поздних карминных щитах. Медные краны закрыты. Пусть же ворвется сквозь трубы, очерченные, голубыми ночными губами, сквозь летние створы медных величественных отверстий подземного ледяного града струя. Кто провозвестник ночи города прежнего? Темным периодом хлынет подземный косой дождь. Будет бульвар шуметь. Память, память снова вернись. Помнишь ветер, идущий от парусной низкой реки? И рассветающих ягод на парусе горсть, Амальгамы дрожащий туманный листок подъязычный. Игол и ягод нутро. Утро и серебра звериного пепел холодный… В старой квартире настороженное утро. Снова земля… И от века мы с нею. Наше спокойное утро, ушедшее печальным вослед парусам. Тихо… томящийся пепел во тьме табака крепости стиснутой твоей руки. Я не уйду, я не уйду никуда, любимая, поздней тени твоей уходя вослед, парусу серому языку серой сливовой лавы, погасшей в базальтовом пепле асфальта. Уйдем же, любимая, от реки, разлетимся, как пепел, в волосы нежные уходящие и встряхивая пепел в угли воды разлетимся… и больше… вернемся… нет… снова вернемся в другого, но уже не в себя мы вернемся, и я доскажу, разлетаясь.Часть третья
Вступление
Времена… Пробужденье… И твой профиль орлиный над небесным огнем и черной смолой пустынь Волосы морские, лепечущие иглами соли, уходящие к горизонту… волос полузакрытая тьма… Только плещется в комнате вешней Томительный хлад пробужденья За яблоками глаз. И веки, что ты, когда-то сомкнул, Печатью закрытой Дымным утром становятся. Эти конверты из времени извлеченные… Их ждут вестовые суда, Гербы почтовые сохнут (Почтовый чиновник нейдет) Так дымный твой профиль горит в предрассветных лучах, И в пы́ли холодной приходит чиновник во мгле. Он летнюю рвет парусину, И медные долгие волосы проволок встретит И ветхий, в сломавшейся извести, пропитанный слюною конверт С глубокой волной, дохлестнувшей сквозь сон Что меж пальцев пронзят брючною теневой бахромой и солью осядут во сне.1. Морское путешествие
Море безгрешно… Но между узоров, узлов, Смуглых плеч, в памяти погребенных, Летних гравийных бухт Путь мой во тьме морей. Парус синий по детскому рельсу в асфальте прошел, Когда сиреневых красок шепот рассыпан был на полу, Люки, педалью открытые двери, Стеклянные мухи, Заключенные в огнегорлые стены. Золоченые сетки на маяках в светлицах Над Пропонтидой. Но все города, недра гор, Обернувшихся сиреневым краем без трещин, Потопленные косы, полегшие в сухой земле долины, Солдайя, Откуда твой дальний и утренний треугольник лица Бледным воспоминаньем морочит черную бухту. Виноградники, где корабли заблудились, В покое Немощное море И путь земельный мой во тьме моей.2
Голоса мне слышны ваши из под купола моря, Вещи вещей И друзья мои все… Будто эхо меж скал раскаленных: Ты… и ты… и ты Голоса, замершие в августовской тишине, Словно дымный медузы листик вянущий Как же назвать мне вас, Чтобы вы погрузились во врéмя, Чтобы ты не ушла из него однажды с гремящею галькой подножья? Разве очки твои хрусталевидные С огненной панорамой Не были раньше в мире И не старше медуз, Созданных из парашютного шелка? Разве не дети твоих волос золотистых Деревья остроконечные эти? И генуэзской крепости холм над летним плечом твоим Слово молчит, И время между иллюминаторов спит. Серою цифровою медузой Безвидный корабль слепит свой защитный торс. Влагой иной и пыльцою пронизаны бабочки крылья фанерного у выхода сада морского… И никуда не отписаться От воды с прозрачной щекой Под плоскою мискою денег… И чебреца расписка в безврéменьи слова.3
Ягод черных ты видел кусты И сквозь них поляну под солнцем… Что для вас смерти страшней? — Бессмертье? Почему же от ушка ягоды вьюга застывшая? По шагам уйдет она На поляну горчащую… Если зеленый застенчивый свет… Не уходи… Ты пред светом предельным, Сверкнувшим из глаз твоих И из мякоти Раскрытой ягоды мира… Ты пред светом На спи́ну падешь, Зажав в руке ежевику земную. Контур лица твоего — Гребень города низкого — Словно ты прощальным городом стал. Да, городом стал, Да, родимый, И пред лицом ее под солнцем Что ягоду тебе протянула Скрылся в дали́ городской.4
Если бы нового я не встречал ничего В осенних бульварах московских, Чтобы я делал… Ветер минует меня И край ослепительной кожи формует Каждую новую жизнь поминутно. Новую жизнь… но где он, прошедший, Серебривший следы и слова в сером песке городском, Что выбрал я, как рыбную снасть С пола осенних улиц. Вода сверкает… Ты мне прошептала в глаза, Но что, я не знаю… Чтобы время вернуть – его надо построить опять… Нависшие резные балюстрады, Фонарики бульваров незнакомых Горят подсвеченной бумагой И справа – масло, Слева – воздух. Но почему же нельзя не рыдать, Для чего эти бледные ночи даны нам, Только ноздри еще раздувать на полотнах, Чтобы только не спать. Пройтись тонкой пилочкой по оградам ночных батарей, Только майские ночи расписаны в мисках забытой глазури. Бесконечная светлая эта печаль в эту ночь С холодом терпким своей белизны на левкасе И смородины беловатой. Но из этой смолы прозрачной Времени нам не построить. Эта ночь, этот холод Были даны тебе, как предутренний сжимающий сердце подарок у изголовья. Только сливы наполнились окончаньем ручьев, Только в них это время синело. Этой терпкою ночью Среди галечника общежитья, где река под крышей звучит… Времени нет… И если ты течешь и считаешь не волны во мгле языка, Я не боюсь сказать и последнее слово сейчас и всегда первозданно.5
Крыши прежних московских домов — Крылышки бабочек лилово-свинцовых, — Там на магнитных подошвах, Приставших к прозрачной мокрой теплице, Ты простоял в полупрóстыне неба земного. Лепет из будущего… Где ты себя разглядишь Сквозь пасмурные зевоты… Но где же зима? Будущее – детство сегодня. А я окончания своего ожиданья жду Над любимым иллюминатором Из люкарны забытого дома, Сквозь окно с океаническим пузырьком Над расплавившимся стеклом Москвы. Где же закат? Где ленивые шезлонги теней на крышах, объятых пламенем темно-зеленым? Кто же на крышах не ждет Багрового солнца над миром? Кто сожмет кипарис В пурпуровой рукояти Высотной башенки века? Между времен, Где занимались плодовые сумерки гнева… Чтобы время твердить, оглянувшись из будущего сквозь операционные очки. Но операция в этом веке идет… Рядом со мной стоишь ты в одышке, И противни крыш чернотных Поднес ты, чтобы собрать Всю ушедшую талую воду, Чтобы излить ее в расплавы и трубы и лепные террасы на крышах, Отлить во все обаяние века!6
Вечные струйки вещей… Где же донце коричневой вещи, Что сквозь отверстие мира Лицо в содрогании света омоет? Паутинки трещинок ракообразных На кожаных плечах промелькнувших На пустых колосках мы летели — На гондолах пиджачного века, Между пальцами пыль от встречных вещей забилась. Где загадка одежды вещи? Где духа питье? Вымолвишь мир И услышишь, как воздух его проходит по лицу в золотистый и черный предзольный вечер То не ваша ли оболочка – хрустящая корочка этого века, Что видели мы на прозрачных телах В плащах прокаленных? Отпишитесь в ночь с запекшейся корочкой губ из отверстий мучительных века Пред горой дырчатых детских сандалий, Отпишитесь хоть серой золой отчаянья. Опреснители горького века… Где канал застыл И морская волна У горла звучит рукавами. Барабанная корка из глины Сине-белой окалины над костром Не услышишь, как воздухом тянет Из дырочки ручки цветной, И прильнув к световому канальцу века, Барабанные детские лямки ты не можешь приладить Ремешки от часов на песчаных плечах скользят, расплываясь. Чтобы ты, очнувшись, увидел здесь на гостиничном стуле Убывающих каждой секундой, седину своих пыльных часов.7
Если встреча моя с этим миром таким, — что ж, я готов. Потому что, когда поискать среди этой пыли далекой от моря, И в серебре выцветших желтоватых часов И между плачущими ресницами у термометров. Что же найдешь ты? Между статуями городскими С гипсовой их сетчаткой, Пропитанной марлевой хвоей. И даже если эту пыль Отсыпáть в дорогие бидоны, Отправляя на берег дальний. Но куда? А я с содроганием жду Приближения жизни в слове, — На словесных своих оболочках Вы подымитесь пузырьками под небо, Вы вспорхнете улыбкой кривясь в полете под марлевыми сачками. Но зачем это нам – я не знаю… Что же дух твой молчит, Когда ты на дне вещей И в глубине гостиницы меж людей прекрасных, как вещи. Иль это комнатный бормочет ручей — Коса стеклянная за спиной… Нет, молчи, как губы людей и вещей И с духом не собеседуй, Ни с книгами, ни со зверьми, ни с ключами от двери твоей. Ступени белого аккордеона за широким окном Под пальцами уйдут и восстанут. И тяжесть мерцающих пальцев на поясе прозвенит ключевом.8
Для сборов немного времени у тебя… Собраться и сразу всю пыльную даль времен Всю у себя ощутить Всю свою жизнь пробормотать От полноты этой ягоды прозрачной в ночи́ Начать обратный путь. Все, все, что забыто, Все, что казалось забытым уже навсегда Не будет в памяти больше храниться Город вокзалами полон… Из каждый квартиры Из каждой раскрытой вещи Сквозь матовую дверь речной больницы, Под свинцовый блеск спринцеваний, Сквозь брызги расколотых шприцев Собрание в памяти поездов для отбытья. Всею памятью быть От истока до устья осеннего нынешнего что мелькает сквозь листья глубокие Разве не вздрогнешь ты, Когда все, что увидел ты Станет гулом садов в поездах твоих встречных. По землице редкой коридоров вагонных Ты погонишься за прошлым своим.9
Любимые — Твое лицо неуследимо. Нет, не отражения ждал я В нарциссовой чешуе фонтана, Где на дне проходят блики и трещинки раскаленной воды… Я снова нашел вас И цéлую кипу кирпичных роз Я опустил вам Сквозь витые стебли колющей арматуры. По изгибам их я и сам сошел В этот город памяти огней неизгладимых. Твое лицо – только то, Чем я не стал… Острая хворь бытия Женской тоски неизвестной И нагара мужской тоски… Если бедная радость твоя Гремит в тебе и куполах Синей ночью в зеленых подпалинах неба… Это миг твой. Но как же собрать Лица любимых, Если в ушах лишь струенье песка, Завивающего тонкую песнь, Только слабые просверки кварца зубцов песка Меж городов несъедобных, Между кружева лестниц, Разорванных роз кирпичных И золотых коронок На дне холма из людей. Только песчиный свист И ничего иного… В сломленном переулке, Где слышится звон ведра И чирканье спички о темную шкурку… И влажные руки твои.10. Interludia. Вокзал в Симферополе
I. День Вокзал, Я заперт – открыт В субтропических залах твоих. Где птиц далеких Голоса под куполами. Нет, не поезда жду я Здесь у выхода в свет И на входе из света Под аркой дуги фонтанной. Кто там играет на флейте газетной И газыри бархоткой в полутьме протирает? Ты прощаешься с пальмой – царицей платформ, Ты умыл ее листья железистой щеткой вод, Ты умыться успел со всеми. И под алою пальмой На расстеленной вширь, словно снег, газете В монотонном тепле Ты заснешь, засучив рукава. II. Ночь Над Крымским вокзалом салюта развяжется сноп, Серпами и косами вместо колес в колесницах обреют скрижали, Под куполом мира мерцая осыпется твой серебрящий озноб, У самой земли искривившись гримасой медали. На очи примеривши каску из воску до самых краев, Наполнить солярно-жемчужною пеной, До светлого яблока дна погрузиться, до бледно-золóтых безумных основ, Под тень мавританскую арки сойдя пред всей покоренной ареной. III. Утро Ледяные дали бессмертья сойдут, Ты предстанешь меж зеленью и огнем. Ветошью вы нагрузили тела, Гневным огнем вас охватит одежда ваша. Тверже иней морской, Чем все мутные ваши шелка, Просторней супружеских чаш и тяжких убранств. Из тьмы этой вещи Тьма золотая взойдет тогда, Если сомкнется речь ваша — Все пребудет как речь. Только слово последнее дай сказать, Ты земля… Ничего не смогу я сказать. Только круг руки и неба огонь во мне, Только круг и свет, непогасимо твой, Что для вас – земля, пироги, сиротинки покоя, облачный вихрь, Что для семя – слово – властная сила огня, Хоть пуста она чернобровым своим опереньем, И в ночи палящей зеленый вихрь, Где плечо твое, оперенное пальмовой пылью, Где гостиница светлая под карнизом дождя, Вихри и все стволы ледяные, Ротовые вокзальные ночи и чудеса ограды игры и мира.Общее заключение. Старая Руза
И вот снова в тот же день и час, Но в год иной Над берегом реки ты прошел… Я не знаю, где клетки рубашки той, Что впору пришлись теперь зеленым полям И коричневым пашням, Уходящим вверх на той стороне реки. Я не знаю, где ты, тот другой… Та же вода, Но лишь на губах прошептала… И помраченье под берегом той же ивы, Где мозг ее в ледяной лягýшечьей голубизне хранится. Под яйцевидными крапинками горящих икринок. Если я снова в купальни, В штакетники мокрые С штапельными пятнами от кувшинок войду… Если не отвернусь от жизни прошлой своей перед холодноватым оком весла протекшего… Если я, покачнувшись от счастья, не зная сам, взойду в солнечный час на холм над рекой. В тот же год, но в век иной. Если число не потонет в ветвях лозняка, в водовороте воды И испить можно будет только то, что еще не испито и уже испито. Эон иной… Если и поле я в смутном покое узнаю. Ты скользи перелив этих рек иных в реке иной. Я отпускаю и вербу холодную. «Ива» – текучее имя мое из-за поворота реки я узнаю.Из книги «Холодная долина»
МУЗЫКА
Как выбрал ты священные листки, Обернутые в нотные прожилки? Есть правильные звуки в мире сем, Ты вынул их из мира, И место поросло, как не бывало Остались пустыри и бред каменоломен, Небесных пуговиц сухая синева На ватниках в кирпичных терриконах, Лишь дратва уст, кустов, пересечений Далеких еле всхолмленных небес, Все заросло, все заросло до слез. Как отгрузить нам хладобойный век, С горы спускаясь в ледяном вагоне, С откоса заблудившейся травы Во мрак земли и тишину объятий. О позабытом плещет тишина, Не уходи, эпоха неолита, С ружьем, направленным в простор реки, С исчезновеньем поворота жизни За блещущим колесиком воды, Где вспухшее крыло стеклянной птицы Подъято вверх циничной силой мысли. Метеоритов век не наступил, Еще подобные деревьям или людям От сладостной земли не устремились камни, Еще равнины нам принадлежат, И волчий след наполнен талым слепком. В открытое окно пустынный двор земли Доносит голоса под полнолуньем, Но этот мерный хаос впрячь не удалось Ни в звездные цирюльные пустоты, Ни в города глубокого гранита. Не уноси же в музыку наш звук, И так безмолвно море перед нами, Без звука разве больше опустеет? Не надо музыки, не надо звезд Пред нашим древним морем без названий.* * *
Из подмышечной мякоти, плоти зефирной, Целым парком из шин шелестящих, Уходящих в зеркальную ночь галерей магазинов, Где отрезы натурного тела Отогнули во тьму манекены. И с шуршащей и влажной решеткой асфальта Минеральную воду дождя прорежая, В этом городе поминутного детства не спал. Ничего нет, что с благодарностью нам бы не дали: В фарфоровой дымке заката Высотные здания с папиросной бумагой Клали между страниц в гербарий. И пустоты прохладных подъездов Нам открыли в ночных колоннадах, Выемки вы счастливые выемки детства. Ах, зачем это знать нам, Ведь порхающий самолет — С настоящей не ангельской тенью, Если мы можем железо от железа отъять, То это и есть благодать вековая. Чудесами волшебными тихо нам застили свет, И вода загоралась, и вращались в ночи телескопы, И лиловые стебли огня Задавали загадку безмерней, Чем сфинкс бы придумал На всю предстоящую жизнь. Что ж наша жизнь? Только повод умыться на страшном рассвете И уменьшиться в дали глазницы? Неужели родились мы, чтоб железную трогать загадку, Да и рождались ли мы? Разве уличные крики сирен Уши заставят заплавить нам воском, Чтоб не рваться в проклятую ширь Проходя по земле с шипами от перекати-поля, Оставляя питоновый след. Не раздаривать глупо во тьму бытие, И уткнувшись в сверток одежды — Завиток от колонны морской На самом дне улицы мира, Море схлынуло в стоки дождя, Спи спасенная атлантида детства, без сна.ЗАНЯТИЯ АРХЕОЛОГИЕЙ
Откуда знаю я, что живы мы. Как отличить мне месиво живое От Геркуланума пустот? И я ходил по берегам реки, Вступал в людские разговоры И любовался первозданной формой, Готовой стать иль домом иль дворцом. Под трактором холодные борóзды На грязи свежей раннего литья Запечатлеть, выпарывая ветошь Из темной телогрейки под кустом. Едва сдувать оранжевую пыль с ресниц, Окрашенных египетскою охрой, И цвета синего дворового заката Ткань рубчатую собрать со всех. Не сверху у ворот в Микенах Заглядывать сквозь толщу ила, Но снизу сквозь решетку тротуара Сухого пресного под львиными вратами Решеток бывших английского клуба Читать о распорядке ночи: да, закрыто по субботам. Писать об этом можно без конца: Ведь свиток я пишу и сам читаю: Как в подворотнях довоенный шепот И хвойный трубный голос роз военных И сон послевоенных мавзолеев, Когда чтобы через болото перебраться, На ичиги прикручивают генеральские погоны. Не торопиться в описи вещей, (Себя не позабыть среди других…) Рукопожатий крепких, как цемент, И поцелуев – пятен на граните, Сверканий тех огней иллюминальных И ненависти безымянных дней. Всем зорким старческим дыханием дышать, Чтобы не пыль, – пыльца золотозмейки По правую бы руку отходила И становилась тяжестью земной.* * *
Пройдет ли в домне ночи Белых искр пустынный плес? Я вспоминаю, грудью загораясь, (Как разогрет кирпич на солнце, как щербат). Я вспоминаю превращенье рек, Что на столе руками мы смешали, Я помню тот земной испуг, Когда из леса вдруг выходит поезд, словно зверь. Но жизнь – безмолвная, Не знаю, как понять. Лишь прибавляет холоду и льду, Лишь прибавляет ходу мне по снегу, Но не хочу я объясненья жизни. Еще остался мыльный галечник над морем, Еще остались времени сплетенья — Зацепы звезд за кровли родовые, Прохрусты рук по танковым следам. Еще остались дальние поселки, Что видел я своим безмолвным взором Из водопада поезда стекла, Наплывы мудрые морщин равнинных И возле глаз пустая борозда — Все отдаляет окончанье жизни.ЭЛЕГИЯ
Ночная опустевшая Москва… И вот когда я возвращаюсь По горькой улице, водой политой, То я уже не знаю как назвать Гранитные провалы, постаменты, Что траурным стеклом остеклены. Прохлада липовой аллеи, Безмолвны каменные львы сторожевые, И ловит смолкнувшую птицу, Подпрыгивая в сквере, мальчик темный. Так почему ж тоска стоит в пустыне… Но вижу я, как мреют и горят Набухшие водою автоматы, И газированные пятна пахнут морем И муторным отцветшим запахом свободы. Лишь слабый свет прозрачный и подземный Исходит в этот город мертвый, И видно, как внизу проходит поезд, Последний голубой вагон метро.* * *
С каждым днем сильнее полдень жизни, В грозовой столь гулкой тишине Чуткой бельевой веревкой виснет И стоит в раздавленной волне. Будущее – темное забвенье… Как лоснился ветер темных плеч… Брошенный купальник в черствой пене Под равниною деревьев может лечь. Переправа смутного мгновенья Сильною раскатится волной, Будущее, полное сомненья, Не прожив, забыли мы с тобой.ИЮНЬСКИЙ ДЕНЬ
С экзамена я вышел… В бледности бассейна Увидеть море, плещущее до отказа Живучею подкормкой тел. Когда с трамплина оторвавшись в глиняном движеньи, Расправив волосы стальные, Ты входишь в воду, выгнувшись в просторе, В обкусанном стволе из тополевых пузырьков. Все это было так давно… Бензойный день, заляпанный случайным сургучом, В окрашенной сгущавшейся медыни, В чернилках грозовых, сиреневолиловых, В преддверьи лета, меди пятачка на поезд И мраморных покоев «Павелецкой». Я знал, что сумерки еще наступят, Еще умоются в чернильных поздних ливнях Грозы подземные кусты, И только я с изъятьем дня увидел Бензиновый бессонный слепок жизни.* * *
«Он полюбил жизнь грубую и простую»
И сад у площади Борьбы изображая В смешавшейся кошелке света И детские песочные чулки — Дымящийся кулич подводный. Изображая жизнь, ее пути, Буквальные пути в дожде и снеге, Плуги железнодорожных стрелок И синий потайной фонарь.* * *
А.Ю.
Умнее мы уже не будем И лучше мы уже не станем. Фонарный свет лица ночного Отцвел и в сад сошел за поездом вослед. Я помню тот китайский парк, Бордюры из камней, людская лень, Из кособлоков облака над хижинами века, Цемент плакучий и бензин бессильный. Под вишнями и яблонями зимними в саду Лишь проволока растет стальная.ИЗЫСКАТЕЛИ
(30-е годы)
Перед нами земля открывалась, Где живое еще не враждебно живому. Темным утром открылась Сибирь, Ржáвень светлая лиственниц В долину парящую шла. И с обрыва гранитной горы Нам нельзя было сдвинуть незнакомое тело В огромную чуждую жизнь. Что мы видели с этой горы Под небом, полным замерзшего жара, Забывая материю предвоенную нашей одежды. Как мы счастливы были в земле этой. И нет нам прощенья. Почему же глаза закрыв, Мы не видим, как тени земные сошлись В разделенных равнинах. Ждет возлюбленную немецкий офицер У Бранденбургских ворот, Погрузив лицо свое мертвое в берлинские розы. Почему же так страшно сердцу здесь, Ведь оно не в перекрестках дорог Предвоенной Европы, Где загнанные в холодной росе Молоком поят локомобили. В лихорадочном блеске ногтей Снимаются копии полей ночных, Аэродромы спящих стрекоз И стоянки цветов полевых. Смутным запахом мокнет табачным И знакомую пыль предзакатно кружи́т За фабричной стеною «Дуката», Кожаный воздух сминая смолистый С курткой у кирпичной и черной стены. Открывается дверь, и за вышедшим человеком Он уходит туда, поближе к закату, Тот оглянется и повернется опять: Перелески зеленые солнц И пожарные лестницы неба Проходят в последний путь над головой, Под небом далеким скрываясь. Кто же нам скажет, какою платить нам ценой, Ведь мы отыскали долину, Что идет к океану в бесконечной своей прямизне. Но пробившись через гранит, Мы и здесь человека открыли — Человека наших годов. Мы стояли пред завещанным тайным стеклом, Апельсиновым деревом там стекал человек, Закрывал от света глаза И у камня просил он прощенья. Завиднéлось далекое царство без сна, В халцедоновых светлых долинах Стояла ночная вода. Открывались дремучие ставни осеннего камня, И танталовой грудью пространства Звенела рабочая мгла. Опустись на колени в кремнистом ручье. Пресной ряби пустырь И верéсковый ветр понаслышке. Все гудит молотков полевой перезвон. Только гром мы услышим Уходящих во глубь поездов, Но и только… и хрипы ночной пересмены. Не разбудят во тьме голоса. Только рокот и шепот и смерть И гром пробуждающих поездов.ЦИКЛ «ИЗ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ»
Треугольный пакет молока. Если угол обрежешь, То белая хлынет тоска. Как письмо непрочитанное Пропадает в ночи. Тихо. Молчи. На росе разведенный, Рассвет, помутившись, растет За углом, где работа постылая ждет. Я его позабыла, Значит в памяти он никогда не умрет. На окне на ночном цветных пирамид молока Громоздятся мучные бока. Молока струйку зыбкую чувствуя нить — Эту память уже не прервать, не продлить.* * *
Невозможно быть добрым или жестоким, Можно быть только встреченным иль одиноким. Потому и не верю, что о тебе говорят мне соседи, Когда утро встречаем с тобою в знобящей беседе. Вижу, как тяжело наклоняется профиль твой тонкий К освещенной рассветом скользящей холодной клеенке. Вижу: спишь ты и снится: качает вас строй поколонный В той фантастичной далекой стране покоренной. Видишь: держишь лоток ты с водой золотою, И рассвет протекает сквозь пальцы рекою. Но уж двери дробят, и голос доносится дикий: Открывай, отвечай, за тобою из леса пришли твои земляники.* * *
Другой был век. Забылось все. Сквозь призрачные сумерки С невестой рядом провели меня, Закрыв со всех сторон. Сверчок томил в углу Лесной древесной церквы. Другое время… Кровь хоть не текла, Вонзилась скрепка в палец В прихожей канцелярии Для бывших каторжан. Невеста накренясь Широким гребнем света (Страшишься ты, но помнишь) Перед лицом слепящим наклонилась. Но отвернувшись к тихому зеленому окну, Ты видел: вытащили пруд на берег Крестьяне редким бреднем. Каштанов выпечка не та… И сердцевину растоптав костра Босыми мокрыми ногами, Лишь слушать черном круге ветер, И мальчик обходя по кругу, Обметает угли, И теплота раскрытой мякоти дороги, И южной ночи темнота.ВОСПОМИНАНЬЕ
Учительница музыки жива, Но не войдет уже в свою квартиру. Там хоровое пение портьер И хлеб посередине комнаты вечерней. И низкий коридор, и кухонный сквозняк, И пыльное в привычных скрепах небо. Там улица покорная прошла. И вечный дождь Вахтанговского театра. Там в серых складках сотканных колонн Пустынность летняя скопилась. На мшистых шинах быстрая машина Уходит длинными шагами. И вечер наступает наконец Оркестр театральный сушит ноты. И в даль к Смоленской торною тропой, Дверь приоткрыв уходят музыканты. Учительница музыки жива И множится складная книга детства. Но дверь закрыта, ключ заледенел, И в сонный бархат двинулась машина. Испытанные кресел локотки, И тающий бинокль на коленях.ИЗ ЦИКЛА «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ»
О дай мне жалости к дракону, Пока он спит, И диктор шепчет равнодушным словом Его дневную речь. Покуда он не пробудился, В глазах кровавые глубины не открылись. Пока Георгий не пришел, Свое копье не погрузил В бессильный глаз. Пока от боли дракон не стал столь человечным. Дай мне успеть, покуда жив Георгий. И диктор не способен в страхе Летучей мыши сквозь себя полет сдержать И в воздух словом отпускает.* * *
У стен ночных Иерихона Молчаливо стояли мы, Только слышался шорох травы, Да изредка в воронку трубы Пробегал обессиленный раб с донесеньем. Туда заглянули мы, прелью садов Родимых тянуло из бездны, Но гладкие твердые своды Сходились, тая в глубине Орех непроглядный хрусталика гнева. И тихий оркестр разводил Неуемную песню вразброд, Но знали мы: солнце не встанет, Как жертвенный город падет От звуков протяжных, словно холмы. И с другом у темного входа Не знали мы, что же нам делать. Спадала вода с медного края в овраг, И можно было в забвеньи заснуть Меж глиной и теплой трубой, Волосы под утренний ветер подставив И уши заткнув пучками сухой травы.ЦИКЛ «ЛЕТО ОЛИМПИАДЫ ТАКОЙ-ТО»
Летнею днéвною тучей скользя… Долго над белым ночным стадионом… Парки закрыты дождем. Храм ожидает, языческой тенью застыв Медленных тяжких колонн на закате. И побледнев, Ты Минотавра увидишь, Что рыжую женщину коленями попирает. Рядом ладонь оскорбительно нежная ляжет Тихим листом аканфа на гипсовой вязкой простынке. Ты не поверишь, что может ее человек Вырвать из бешеной клубящейся тучи вверху. Ты не поверишь, Кожицу персика собирая во влажный комок, Чтобы найти на ее глубине Морскую гранитную косточку груза.* * *
Жадную влажную рукопись ночи встряхнуть, И я в этих свившихся росистых листах был Меж капель, застывших в летнем полете К Карпатам под дальние ели в голубящих глазах. И в ночи отомкнул эту ночь почти — Замочки от молнии Скважинки черные На пальце во тьме благодатной крутя. Почти подступился я к жизни, И лица знакомых Отпуская объемным дневным поцелуем — Чуть длящую глину его. Но в жизни сильнее, чем губы, мне толпы людей шелестили. И если б от свившегося края губ до укропа пахучего Достать хоть губами, Не знал бы и горя я, Знал бы, что жизнь Не мягкая вода, что проходит в ушах шумом полночным, Но только, что я покорно и нежно твердею И воздуху тихую твердость верну.* * *
Что же стоишь ты, от слабости нежной колени согнув, Маргарита? Сквозь окно Фауста видишь затылок, Что склонясь над огнем Багровые держит на свет чертежи. Подорожник зыбучий Сминает платье твое. Что же стоишь ты на долгом крыльце, Маргарита? Серый в комнате схлынул огонь — Мефистофель из маски исчез. Что же застыла и в заводях с кем говоришь ты, земля? Не так ли презрительно морщит тебя влажная маска воды. Если не слышу я, что ты говоришь Потому лишь, что разным временем сухие повязаны вены, И медленно ты, земля, слова произносишь И звук сырой сырой источаешь Здесь на крыльце под мальвою огненной света.* * *
Старится тихо вода… Ключами звенят проходя… Солнечными звеньями по дну проводя… Тихо застывшую тень удильщика роняя И тень поплавка На морщинистой дрогнувшей возвратной воде. Рыбы жестя́ная тень мимо во глубь ушла. Мойры шепчутся в тихих хорах… Порт занесенный полуденной сыпью и светом В лишних бликах по стенам. Медленно тень… ах, лепетно жизнь… тень Отходит вперед. Сребристую сетку кефали На звездчатой чешуе руки Струйкой воды обводит рот наклонившийся жадный твой над фонтаном.ПРОВОДЫ
В трамвае, затерявшемся в толпе, Сквозь окна мокрые, в снегу весеннем Мы видели, как улицей они прошли… Несли его торжественного, Слепленного не из стеклобетона, Не из флажков, по-детски клеем пахнущих, И не живого пронесли по улице. Не знаю я, в какой далекой высоте Его несли на длинных бронзовых шестах. Весь выпуклый, в мундирных пятнах, С крошащейся соломой из матраса на плечах, Он двигался в весенней вышине, И солнце поминутно открывая, Нам глаза слепил. Не для больниц несли его врачи На поднятых руках тяжелых, как носилки, Не для учения несли учителя И не как пугало сжигать над пустырем. Он двигался, танцуя в вышине, Его обняв, теснились на ходулях Напудренные плакальщики в стальных фуражках. Его несли торжественно под гул Небесного автобуса, везущего к работам Известных нам детей. Был полон небосвод сенной трухи. И вот прошли они, куда? Я знаю, больше не вернутся Ни те, кто плакал и ни те, кто молча шел, А тот на бронзовом шесте подавно. Куда они ушли, с какого места Шагнут с заснеженного обрыва? А что осталось нам? Смотреть сквозь засоренное сенной трухой окно трамвая, Как здесь на мостовой сметает черная машина Обрезки лаковых ногтей ушедших тех. Да в небе аэробус ворочается на повороте, Как списанный вельможа на диване. Невнятны нам дела твои, о, господи.* * *
Видел я в сумерках: стройка идет, Люди парят на стропилах. Горько смыкается брезжущий лед Этих рисунков застылых. Я бы попробовал с пачкой углей Врезать их след в котловане, Чтоб эти крылья растягивал клей Перед ночным расставаньем. И ради будущих этих гравюр В небе ползти с дельтапланом, Крóя пучки пятипалых нервюр Трепетным барабаном. Сбросить над озером башмаки, Стягивать ноги к затылку, В воздухе низком, где вьются шнурки, Каждую чуя прожилку. Все по рабочим укрылись местам, К ночи крепя перепонки, Что-то знакомое чудится там — В шалях растянутой пленки. Хрустнув под дальний строительный гул Резким крылом аппарата — Это художник свистяще смазнул Реющие «Диспаратос».ПЛОДЫ ОСЕНИ
Белые твердые пальцы, Сизые сливы из тьмы, Что же таится еще В медном венчающем хмеле? Разве мы сможем объять Густую осеннюю тяжесть. Сколько хрустальных плодов перемелет Низкий душистый табак забытый. Разве все мысли мы можем вместить, Разве не скучно, не сладко осенним днем, Греясь под редкою синью, Тихо во рву шептать. Ветер под вéчер настанет, Волосы женщин распустит седые. Что же над глиною теплой В забвеньи ты спишь в траве, Памяти темный плод?* * *
Что я помню еще В погоне за метром — Жизни метром и крови размером. Помню я, вечером предгрозовым Поезд вышел к украйнскому мелу, Где в синеющей бли́зи Тот берег реки Синим белым молчал. Лишь щелóчные травы обрыва Желтой пеной кипели внизу. Помнишь, жизнь, Мне почудилась сладость твоя. Сколько чéрпать из ласточкиных гнезд Их песчаных, Из песчаной горы полной щедрою грудью. Если б так не палила земля, И в молчании не облизывать губы.* * *
Шел я по нитке, нитка сорвалась… кровь унялась.
Стань, руда, не кань!
(Из заговора на кровь) Не в силах я вспомнить Ни поле, ни моря нескошенный холм, Ни возраста, ни вьющихся бальным простиранным шагом Волос, оборвавшихся на ветру. Возраст мой не помечен еще. В яростной тишине, Обнаружив себя на площади гневного города, Что же дрожащую руку свою берешь ты другой рукой, И, древесину с кожи смахнув, золотистую вафельницу тебе подают, За бежевым сумраком крадучись В рыхлом движении крошащихся мороженных струй. Запечатлеть. Дайте почувствовать на невстронутый вес Вес ваших парных локтей в изумительной пирамиде, Что строили вы в московском оранжевом небе. Ваши друзья не чета… тому… тем… Раз… если первый ты, знаю тебя, Мы встречались… да, знаю тебя, Я сын твой, я брат твой, я тысячи Раз говорю, что не только мелькнувшие майки И звездочки шпор на верху, на колонке спортивной твоей пирамиды Тебя не вернут. (Запомни.) Любовью метить вас. В пыльную синь. Но не хватит и синьки, хваленые щетки, не хватит щетинок с синими волосками от краски. Репы не хватит, чтоб соком своим лепнинам и бюстам горячим карнизов придать земляной очарованный вид. Не хватит углов у столов с лимонною выжимкой, чтобы вас захватить, словно театром, и боком лиловым синить от удара при виде заката во рту театральном. Здесь театры стояли и форумы жили и жилки «Аквариума» чешуйками рыбок листвы заговаривал жилки чтоб вас останавливать милостынь ваших чтоб деньги обратно цвели и вились по рукам вашим. Но траты… не театры, прошедшее время прошло, но оборванный спуск и больно пружине во тьме оловянного детского пистолета щиток не горит на закате и кнопкой трепещет приколотой к месту обрыва и плот проплывает над театром пустым. Пометная карта разграфленная по людям и по назначенным дням выдыхаясь не метит и так не гнетет нашатырный приложенный день ко рту стенописца. Не запомнил откуда берется начало обдумать и это но временный диск отсверкал и я никого не запомнил. Нет, ничего не запомнил, но гни́лую воду под серыми железно-закатными теми вратами запомнил и выкатил обод, так тихо прошедший по краю рифленого камня и музыкального сладко-каменного дворца, что замерли все и сжавшись в сладкой обученной сфере добра твоего прошли по вискам с стальными пластинами закатными бликами в них но без номера лет и пропали… И я запомнил вас.Некоторые стихи и фрагменты
* * *
Я пересчитывал людей на нынешней войне… И раздвигались лица чуждых жизней, Как будто нежная и жаркая долина Все ниже уходила в медленном полете, И заволакивало просторы Губной обтянутою синевой посмертной. Но вот последний взвод последней роты Ушел, ушел в ночную тишину дороги, И осторожно завершая путь, Их догонял с гремящим котелком Хромающий солдат отставший. И роднички светились в теме травяном. И всех пространств хватило бы на всех. Как мало нас, еще кровавой плотью Мы тщимся стать родней друг другу. Как мало нас, не отставайте ночью! Ведь хор пустынных голосов зовущих Три раза обежит земли прозрачный омут И станет эхом войн нам неизвестных. Как будто войны совершились все из-за тебя — В отчаяньи людей перед отставшим человеком.* * *
Выходящие из этой зимы, люди кажутся тоньше, Из туманного белого мрака, Где сколоты, словно колбы, льдины подобием матовым молока… Вырастают оне на автобусной остановке в щетине бензиновой, но не новой, В синей саже, В новых тенях полинялых, В длинных полах пальто серо-финских И храня поставленный на ручник затаенный свой голос. — Это глас их из сна И глазница пророка проросшего, Словно льнувшие к людям лунки семян, что проклюнулись вдруг на сером окне. Из отросшего за зиму меха пальто Ничего не извлечь нам хорошего Не излечит ничто нас от пасмурной робкой всегда доброты.ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ «ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
С другом в магазине игрушек
Был зимний плащ твой мехом внутрь, Как сердце эскимоса, Ну а лицо открыто, как всегда, И среди сумеречных лиц всегда, И между ранней темноты всегда, И по закону сохранения улыбки. Все в мире полнится людским пересеченьем — Пересеченьем дружбы и любви, И человека с деревом замерзшим Двойная тень у двери замерла. А наша удивительная встреча Пересеклась с игрушками в витрине. И мы блуждали пальцами Меж водорослей трепетного мира, Среди атоллов в ледовитом океане Сходились мы и расходились вновь. Как будто руки разнимали воздух, И облака в резине оболочек Держались правильно на тонких тросах И прятали в себе все небо наше. Наборы рук, сердец и нежных желез Ласкались в изумительном пространстве И клювами точили алюминий И плакали в разорванности тайной. И люди в новогодней позолоте Своих побед, в предпраздничном забвеньи Шли так нежданно в глубину витрины С обеими ладонями участья И прекращали лепет разобщенья. Но вспархивая в невесомость, Игрушки двигались над маленькою бездной И, как пылинки, подлетали к свету. Всю пыль вещей и достояний жизни Их тени чуткие с материи срывали И зимнюю одежду раскрывая, Нас оставляли в пролетавшем мире.Достижение
Утро, прохладное утро… Пó мосту каменному ты идешь на работу, С каждым шагом все ближе конец твой сегодняшний. Ты в неподвижном зданьи двери еще откроешь, Снимешь пальто и войдешь в бесконечность. Так вот пó мосту ты шел, Помнишь ли встречных? Не помнишь… Помнишь ли дрожь мелькнувшего грузовика? Рельсы трамвайные, полные солнечной мути, Вы почему не прижались, не оставили след на лице? Но ведь и ты, поэт, ты, кто все это увидел, Чем ты пред утром другого отличней? Все мы сегодня еще передвинулись в творчестве нашем земном, Мы еще раз пó мосту перешли через реку… Разве не чувствуем мы, что земля с каждым днем все иная, Чудный, без вести в жизни пропавший своей на земле. И потому, что я превращаю все лишь в подобие жизни своей — Золотом станет все то, к чему я прикасаюсь, Да, природным, тяжелым, мытым в сердце моем. Но ведь уже не простые прекрасные лица вокруг… Жизнь! Но темнеет она в блеске жестоком, И на окрик мой земля голосит, И округа гремит непрерывным металлом, Словно эхо в разбуженном храме. Жизнь! Но ведь глубже она и дороже, чем в наших делах. Ты вот, достигший, Боишься коснуться тела еще твоего, Что, если только глаза уцелеют В золоте тела тогда неподвижного, Стоящего утром на улице ранней твоей.Склоненный к земле
Весь этот свет дневной с его глубокой силой… Где ночь проходит незаметным шагом, Так благодатна ощупь всех предметов И в этой темноте блуждают тени И бархатные мириады звуков. Животные давно к земле приникли — К сосцам камней и рудным жилам меда, Глаза их смотрят только внутрь земли, Когда им веки прикрывает ночь, То наступает прошлое планеты… Рука блуждает в поисках дороги И чувствует глаза зверей и позвонки растений. И ты художник… воздух – только воздух И ты лишь движешься над страшною средою С невидимым тяжелым сгустком сердца, Людей не замечаешь ты: ты миром стал для них. И в плодородной и ночной равнине, Где ты блуждаешь темными глазами Нет ничего, чтоб ты уже не знал. Где те постройки, что построил разум? Проходишь ты сквозь них тревожным ветром, Через металла влажную поверхность Ту входишь в мировое отраженье, Молекулы лишь только узнавая. Так что же, познанный, увенчанный металлом Ничто тебе не скажет: «Я – твое». И зрения всевидящего мало: Когда познаешь все, – то ты умрешь. Не умирай! Земля еще ночная Невидимая нежная видна. Ведь ты ее касаешься еще — Так значит ты на ней среди других, Так значит ты еще земной и нежный.ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ВЕТВЬЮ»
Вступление. Галатея
Где те песчаные города у моря, Которые я думал тебе создать? Разве явленье твое понимал я, Когда каждый вечер земля тобой тяготела, И мосты уходили в далекий невидимый берег. Разве ты берег тот долгожданный, И ты на мосту, Галатея? Только город хотел я начать, Только город тайный у ног твоих, Чтобы его уходящей ночью Разбивал молчаньем и воздухом тихим Ветер морской равномерный. Темнота, лишь одна темнота В песчаных улитках земли… Заколдованный город, Закруженный легкой водой. Ты, земля неизвестная, Уходящая в глубь вращенья и моря, Вся в губах нерожденных, Вся в дельтах рек пересохших… Нет, не я тебя вызволил из темноты, Галатея. Ты сама пришла По обочине брезжущего шоссе. Я увидел тебя лишь минуту назад В широком его повороте. Можно и жить теперь у подножья земли, Только вначале даруя для всех Стены из влажного утреннего песка. А дальше, а выше? Разве не ищем мы в верхней жизни земной Путь от города ночного песка?I
Развалины урартского Эребуни
Нынче начнется бронзовый ветер, Заструится зеленая медь — Это черных грифонов крылья Грозно замерли в твой приход. Это мы сквозь бронзовый ветер Над долиной летим ночной, И любовь – это первое слово о смерти — Чей-то голос шепчет со мной. Издалека приходит бронзовый ветер, И уже не могу я тяжелою медью не течь, Потому что любовь – это древнее слово о смерти, И любовь мы в крови отыскали, как урартский истравленный меч. Мы летим в каждой ветке разбиться горькой долины, Чтоб закрылись и смолкли в полете глаза, Чтоб исчез и забылся у грифонов облик их львиный, Чтобы крылья истлели во тьме, как в земле пропадает лоза.IV
4. Она молодая и бесконечно молодая Шла по этому безлюдному до края лесу. Когда она во мху глубоком Нашла начало воды великой И лицо впервые за столько дней Положила на дно бочага, Как взглянула она в это свое лицо, Узнавала она себя там, Любовалась, как прежде? Только думалось ей: «Почему лицо мое не трут, не огниво, не дымная лодка, На которой я поплыла бы между деревьев упавших Туманным утром к оставленным людям?» Белый камень на дне ключа И тот счастливей лица моего, Людей позабыла и деревьев не знаю, Что меж ними лицо есть? Я бы стала красивейшей, Ко мне вы потянулись бы все. Если корни оно, пусть будет смолистые корни Глазами черники я двинула б ваши соки с себе. С прикосновеньем сосны золотистой На песчаном обрыве (Как в хвое опавшей солнце играет!) Я бы осталась здесь навсегда. 5. Одинокая ночь женщины Календарь ночной и букет цветов, И часы ручные, и будильник, И теплота растаявшей постели, И тишина моего тела, отраженного в темноте. О как раскрыть вам в эту темноту Весь холод тела, отлюбившего? Мой муж забытый так давно… И сын мой, не рожденный никогда В кувшин забытый с росою утренней заглянет, И что останется на дне от взгляда? Лишь темный лист осины… Мой нерожденный первенец любимый! Кроватки без тебя осиротели, И лестницы рождают звук пустынный, И по ночам ты возвращаешься из школы весь в снегу. И чудной тенью в светлой чаще Я замерла в дрожащем мире нежном. Еще видны мне корневые руки, Дымок растительный идет от корья, И светляки пылают сизыми ночами. Вся боль во мне непознанного мира… И топот костяной ноги по руслу каменистого ручья, И детский нерожденный трепет От сладостных зловещих лебединых крыльев жизни.V
1. Но если я притянутый к дыханью Заснувших городов, Которыми в кубики играют реки, К дыханию домов, затянутых дымом, К морозному предсмертному дыханью Косули, убитой на снегу, Сквозь пелену пространств И речные длинноты перекатов дней Несущих плот к морю незнакомому… К дыханию лепетаний в нас нерожденных, К тому, что просит возродить, достроить, Украсить золотцем из потемневшей неживой ладони Вершину недостроенного зданья, Создать еще неизвестное, Неисточавшее горький запах мысли, И тусклое зеркальце закатного солнца Запрятать в карман потайной… Всю жизнь можно оплакать в миг такой, Всю жизнь отпустить в неизвестное. Ржавый ельник, елань и болотце И берез молодых чахлый хруст. Меж них, хватаясь за ломкие травы, Уйдет она, счастливая жизнь. 4. Не очнуться, о, нет, никогда не очнуться, Чем любимей, тем ближе и глубже. Иначе, как бы жизнь охватили мы голосом, Тихим голосом вдаль? Как бы жизнь нам признать, Если б не путь ночной, К любимой путь, нежный, Выход тела, исход? Если б не так, то как бы мы узнали людей? Ведь любимое нами – знакомое. И если скажу я, любовь, я люблю тебя, То умрет человек любимый, Пораженный грохотом сил земли. И нет, не смогу поразить я забвеньем Иные, но ближние жизни, Доверенные мне любовью. Я хочу состариться сразу, только честно и тайно, Чтобы только на миг вышли к земле Эти руки, гудящие теплой смолою внутри, И утренняя влага лица неотчетливого, Только унять этот вечный период тепла и хлада в крови. Только на миг, чтобы мир мне узнать. Что, не смогу я? Лица крови моей мелькнут на мгновенье, Чтобы старческий шум моря остановившегося Замер перед глазами молодыми… Нет, только подумать и сможешь, Нет, никогда не предашь ты жизнь, Если я говорю, что люблю тебя, Это значит только – верю, Что ты существуешь. Если ж ты жизнь прожить не хочешь, Только опыт понять ее хочешь, Мудрость окончанья мгновенного, Любишь любовь – ты не существуешь. Ведь если бы не любовь, То как мир бы поверил нам, То как бы песчинки водой нам слепить Раннею ночью после вселенной дневной, Как бы нам отдых жизни понять В нежных заводях крови? Чтобы будущее больше не скрывалось И не страдало от света прямого.Из книги «По нашему миру с тетрадью»
* * *
…но оказалось, что «Трансаэро» собак и кошек не берет на борт Не пронести кота как шапку под наркозом Не запакуешь ведь, средь багажа не затеряешь Сидели с ним мы вечером перед закатом И лакомились теплым молоком Раздумывая, кому бы поручить судьбу свою Но все же, его в карман не спрячешь, мой кот объемистый, хотя и легкий прошу его не есть последний день, чтоб нашу участь облегчить…* * *
После дождя на детской площадке нет никого только сизых четыре голубя гуляют примерно в одном направлении пересекаю косо их путь и я Солнце! Волшебное солнце! нарисованное детской рукой замешанное на этом мокром песке шевелится, наверное, здесь под землей* * *
из-под земли метро на «Юго-западной» ты вышел в вечер в воздухе неповторимом взглядом ты смешал чернильный цвет суровый край стеклянных зданий и темную младую зелень в высоте была видна «Звездочка – торговый центр» два желтых хомута «Макдональдса» и подлинная над ними звезда теперь не сквозь очки, но очи из 30-х годов ты смотрел недоуменным его зреньем смотря на все это вечернее замечая лишь детали поскольку ты был рассеян во времени во всемПамяти Аркадия Драгомощенко
Аркадий, можно ль найти ненужный какой-нибудь в мире предмет но не дается все у нас приспособлено все вокруг сподручно, все под рукой все говорит и о том, и о сем все задает не вопрос, а ответ не обнаружить совсем постороннюю лишнюю вещь – это был бы ковчег для тебя но все они сочтены все подшиты для дела все пущены в ход или в рост нет ни щепочки, что была бы ненужной кому-нибудь но где – для тебя? ты бы создал ее сам в своесильном зрении, ты бы ей удивился но для удивленья теперь — нет-мир без тебя тише и тоньше сейчас словно бы все лезвия слез своих обнажили но все же оставили мир без надреза и некуда закатиться, исчезнуть невинной вещи все они, все они здесь, сочтены вижу, лишь легкая краснота на месте том, где стоял ты но через такой порез не произойдет ничего мы соберем, собираем к себе всех, кто летел над настурцией всех кто по ту сторону ранки* * *
Когда забытый Фирс раскроет окна в сад, полный цветущей сакуры и ребята, – целый их отряд не пионеры, нет – бой-скауты подойдут к нему с цветами в руках дети самого интернационального состава и самая многонациональная девочка («бой-баба» как кто-то произнес о ней в отряде) набравшись смелости произнесет: «Спасибо, дедушка Фирс, спасибо, что для нас играете столько лет и играете на все сто что ты не гонишь природу в дверь а для нее распахнул все окна мы часть природы той, что вам и не снилась в том прощальном сне мы аплодируем вам» и все захлопали даже листва из сада позабыв состав захлопотала и листья и/или лица детские друг друга отразили* * *
Над головою крымцев пролетел болид Поболее телячьей головы Светилось в нем и видно было опытное поле Делянок не было Лишь виноградарь в белой шляпе С немыслимыми ласковыми глазами Звал сюда отведать Неземного вкуса Вина* * *
Когда ансамбль «Битлз» выступали в Древнем Риме То ор стоял такой, что стыли жилы Вдоль Колизея был расставлен караул Вдруг пронеслась пустая колесница с обломком колонны от триумфа Все отвлеклись на миг Как будто знáменье какое-то На миг застыли все Все звуки вдруг попадали как ласточки И даже певший смахнул кровавую пену С медной гитары Толпе и себе под ногиНАЧАЛО АПРЕЛЯ
Песок со снегом. и земля с песком. «Солнцево». неподвижная тень собаки. Бутыли опустошенные на мерзлоте. Шаги. Слюна рвется, как дратва. И ничем не прикрытое солнце.* * *
Все под голубыми одеялами вагонными С улыбками разной стойкости Витают в своих небесах. Сон повальный нас всех поразил Кажется, не может быть направленья во сне И все же Ледяная всем предстоит стрела. Однорукая жизнь маячит Милосердия просит, и мы Отдаем ей то немногое, что у нас есть во сне.Из книги «Лепта»
АРИЯ АЛЬТА
В заполненном зале Когда в нестройный оркестр Голый голос вошел То не дали ходу ему Трижды пропел мобильный в чьем-то нагрудном кармане несколько раз пролилось золото флейты меж обесцененных лиц стало не денег жалко — но объявилась откуда-то жалкость денег и всеобнимающая жалость к деньгамМОСКВА-ПЕКИН
Когда родители мои вступили в этот поезд я понял, что я не весь себе принадлежу То есть есть часть моя иная невесть откуда ни возьмись что нас в единое соединяет два рельса стянутые невидимы или незримы под вагоном Два города не одиноки, хоть одиноко в них поет невидимое радиоИЗ ЦИКЛА «ГОРОДА МИРА»
Всегда он думал – с детства – почему-то, Что Будапешт и Бухарест – одно и то же Но ты попробуй-ка скажи о том румыну, Попробуй венгру Ведь их соединяет только лента плоская Дуная Да и то не через каждый город он еще возьмется проходить, Словно коммунальный коридор Деля квартиру надвое — С одной стороны спальные комнаты — С другой сама улица Полная, наверное, потому что не видно за каменной стеной, Одиноких звезд, соединенных людей Слушающих иногда радио В пол– или в оба уха Но все же лента песни стелется меж них* * *
Поехал в Париж, чтобы проверить, что он еще есть Но на дороге споткнулся Застряв ненадолго в Варшаве Над Вислой-рекой испытав неземной восторг И мысленно здесь навсегда осталсяЖИВАЯ НАТУРА
Слева – золотая метла Справа и выше, по-видимому, – золоченый колчан Оба, по-моему, из времен Чингизидов, О сколько бы, о чтобы я не дал, Чтобы те времена не вернулись Но разве хватит наличных средств? И чем больше в топку времени ты бросаешь своих желаний Чем больше мечешь туда золотых монет Тем сильнее ревет и гудит и сверкает Непонятная времени печь И сильней долетают оттуда Брызги расплавленного золота И я видел на лицах болевые отметины того золота, что никакое будущее уже не слижетМОЛЕНИЕ
Две веточки вен одинаковых на руках скульптуры Скровеньи* * *
Воды Яузы Июньский мост Я помню Янцзы Октябрь или сентябрь, Нанкин* * *
Granada Arena del Toro[2] Здесь иногда происходят сражения человека с нечеловеком На теневую сторону все проданы билеты потому что там ничего не видно на солнечной стороне – зритель один и он слепой слышен всем лишь неясный шум и потом вероятно, тихое шелестение крови переходящее в шепот листвы, раскаленной под солнцем* * *
Западные интеллектуалы Что смотрят телесериалы… Один вопрос волнует: В какой одежде смотрите вы их? В какой пижаме или без пижамы? Какую ткань быть может разорвали на груди? Из скромной тени бытия Вышла на свет ваша одежда и вышита бесшумными цветами* * *
Торопливая, и еда и мысли твои на ходу Ты куда-то бежишь, но откуда – не знаешь Потому что работа неостановима И не деньги боишься ты потерять, но потерять себя. По огромным лестницам вверх и вниз Как по русско-американским горкам За зубцы их ты цепляешься еле слышимыми шагами Лифт не действует, но некогда его починить и лицо свое ты не помнишь Ты скользила в конце коридора И исчезла в воздухе словно вплавь Я следы твои сохранил только мысленно, только в памяти, Не надеясь почти на пустые памяти соты я знаю, прозрачен их мед Но возвращается он не для всех И надеяться на память о тебе – последняя в том надежда* * *
Спор отдаленный Обида на родителей Как отголосок рухнувшей грозы Все это в миг неоконченный рассыпалось И не собрать осколки и следы* * *
Застыв, как глыба малахита Облитый прозрачною, несмолкаемой, непромокаемой во времени водой В полдень на ВСХВ Частью улыбки фонтана «Полная чаша»САМОЛЕТНЫЙ ПЛАВНИК
и настольный иллюминатор неотличим почти от настенного и действительно за окошком каждый видит свое, словно разговаривал с собственным облаком не меняя настройки и экран видит море сквозь экран мы читаем: единое море только делит его на две волны строго самолетный вертикальный плавникТЕРМЫ ДИОКЛЕТИАНА
Бани я несколько раз обошел стороной Пинии Рима отчетливы были на фоне бледно-закатного неба Буратино на вершине сидел Шишки сымал и бросал в фонтан Тень Диоклетиана обнаженная Явилась, но не для всех Тем лишь, кто прочел «Историю Рима» в трех томах Тем лишь, кто засмеется заслышав глупое изречение по латыни Всем остальным остается речь их родная влага фонтана и незримая тень на лице от сеток косых римских старинных лифтовПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ ЯХОНТОВА
После спектакля зритель не расходился Долго около палубы сцены нестройным бродили они табуном Так что от дробота ходила она ходуном Вышел он наконец с тонкою шелковой сетью Бросил на них он на миг И невидимой нитью стянул И незримый в воздухе узел изобразил Все, кто боялись расстаться, остались Все, кто боялся скрыться в одиночество переулка Где свобода быть без других Зная, что любимый артист разделился, как льдина на множество жизней А здесь услышать еще раз в бесшумии голос певца Который сейчас, словно ножницы разделенные, реял Лезвием разрезав легко всех их собравшую нить* * *
Следил ты Как малый кораблик Обходит контур Ночного тела твоего Нигде не споткнулся Не пренебрег темнотою Но описав голубой кругосветный очерк Оставил в памяти чудесную книгу Которую лишь осталось открытьИнтимная технология стиха
Эта работа была написана в свое время по предложению французского переводчика Андре Марковича. Он хотел выпустить в Париже антологию составом примерно из десяти стихотворцев (Соснора, Айги, Драгомощенко, Жданов и др.), куда помимо собственно поэтических вещей должны были войти авторские тексты на приблизительно обозначенную тему «как делать стихи». Антология не вышла в основном по финансовым причинам, но эссе сохранилось.
Заголовок может ввести в заблуждение, поэтому надо сразу пояснить: речь будет идти не о скрываемом, но, скорей, – о скрытом. О том «скрытом смысле», который ныне ведет к целостному познанию и мироощущению. О соотношении текста и того, что предшествует и объемлет в бытии текст (наверное, это можно условно назвать контекстом). То есть, каким образом бытие и поведение в мире воплощается в поэтическую речь, и каковы взаимоотношения текста и контекста?
Здесь под этими терминами будут пониматься способ воплощения и способ существования в мире для воплощения. Но есть еще третий компонент – подобие наблюдателя, рефлектирующая фигура, которая сейчас и фиксирует все это. Фигура рефлексии нужна не только, чтобы разъять запрограммированное соотношение текста и контекста, но и чтобы сказать, что реальный мир все-таки шире любой нашей интенции, и такой холодноватый взгляд со стороны означает на самом деле надежду на неисчерпаемость мира.
Если думать, с чего начать говорить о процессе написания стихов, то приходишь к необходимости прежде всего явить тень или контур наблюдателя в себе. Она оказывается в какой-то степени посторонней в установившемся «горячем» способе воплощения впечатлений в слова. Но именно эта отстраненность и позволяет увидеть на мгновенье мир в проблесках «бесполезной» новизны. Для меня «поэтическое наблюдение» – понятие, очень далекое от рационального подхода к познанию. «Поэтический наблюдатель» в наибольшей степени, так сказать, экспансивен в своей ранимости. Он как бы заранее заявляет о своей слабости, понимая, что скрытое в мире (для уподобления этому скрытому) требует соответствующего инструмента, но созданное может неограниченно превышать его своей силой. Необходимо подвергнуться воздействию внешнего мира, но не столько растворяться в нем и становиться им, сколько делать его собой. Такая мягкая агрессивность часто носит только подготовительный характер (накопление без явного словесного результата), но и такое слабое совершение входит в продленную память.
Это могут быть «две-три случайных фразы», которые кажутся настоятельно важными и повторяются как мгновенные (недолгие) мантры, и у которых есть предел воспроизведения. Но есть другие, которые частично материализуясь, как будто бы обречены к воплощению, словно пространство незримой комнаты сгустилось, и обозначился проем, и дверь медленно двинулась и закрылась, и раздался звон выпавшего ключа, но этот продолжавший звучать ключ-слово внушает нам, что мгновенья, когда ключ выпал, не было, и по звучащему слову можно двинуться вспять к еще открытому образу мира.
Вот предложение (вернее отрывок нерожденной фразы), которое появилось недавно «…и грозового цвета стекло». По-видимому она должна иметь отношение к ощущению от событий, происходящим у нас сейчас. В этом отрывке есть кинематографический исток – ассоциации ведут к одному увиденному фильму, – но значимость этих нескольких слов основывается и на обычном повседневном наблюдении за «жизнью стекла». Еще неясный образ показался мне новым, и хотя неизвестно, достаточно ли такого сочетания слов, чтобы стало рождаться стихотворение, мне кажется, что я уже его не забуду. Даже в измененном виде оно все-таки может войти в какие-то стихи в дальнейшем. Смысл такого образа будет ясен только, если конкретное впечатление было достаточно точным. Но для этого требуется время. Взвешивание слов – процесс длительный.
Чтобы подчеркнуть специфичность «поэтического наблюдения», его можно сравнить с онтологией прозаической установки. В прозе вызывает недоверие (хотя и завораживает) принципиально «демиургическая» позиция автора: существование вещей уже словно бы предполагается заранее, и пишущий свободно проникает в любую материальную и духовную оболочку своих персонажей. Подобное «флоберовское» всеприсутствие, по-моему, и отличает способ изображения в прозе; в поэзии установка, позиция автора иная: существует только «в первый раз пережитое». Поэтому даже в кажущемся отстраненным «поэтическом наблюдении» зрению и чувству поддаются только люди и предметы, которые даны в «самопереживании», уподоблены в некотором усилии лирическому «я».
Для передачи «внутреннего цвета» или «внутренней проведенной линии» в технике поэтического выражения есть лишь одно средство – слово. Упражнения в трансляции внешних видимых движений во внутренние и обратно, но с обретением обобщающего смысла, есть упражнения в неопределенности, имеющие непосредственное отношение к выражению и сохранению скрытого. Не менее важным, чем наблюдение, условием возможности соотнесения «контекст-текст» является концентрация внутренней энергии. И здесь важную роль играет культурологический аспект, как ни странно. То есть знание близких и отдаленных литературных и иных образцов дает некоторую ассоциативную уверенность в ненапрасности усилий концентрации и сосредоточенности для приближения к ощущению целостности мира. Можно назвать и дзен-буддистское понимание пустоты как полноты, и страстность самоотречения в экстатических периодах протопопа Аввакума, и возвышенную терминологию гностицизма, и суфийские озарения и т. д. Однако не должно создаваться подобие эклектического постмодернистского перечня. Важны лишь метки понятий и смыслов, практический путь к ощущению единого должен быть вполне самостоятельным со всеми возможными заблуждениями и ошибками.
Один из способов вовлечения неясного еще контекста в состояние возможности разрешения текстом – приведение всего своего существа в состояние «частичной целостности», мгновенной соединенности с миром. При этом весь рождающийся образ мира предстает в прекрасной замкнутости светящегося яйца или шара. И трепещущее плазматическое состояние способно в какой-то момент сгуститься и стать словесным клубком, из которого можно вытягивать незастывшие нити строк. Такое недолгое или протяженное во времени ощущение мира как сгустка духовного вещества с небывалыми свойствами может и не привести к словесному оформлению. Но поэтическая выразительность связана с умением аккумулировать и переживать такие чувства. Кроме того, есть внесловесный облик памяти.
Для создания ощущения сильной концентрации и сосредоточенности могут использоваться и привходящие обстоятельства. Например, в нашей социальности внешнее окружение, «общественное мнение» относилось настороженно или даже враждебно к проявлению непредсказанных чувств и мыслей (в частности, в поэзии). Поэтому внешнему воздействию надо было противопоставить такое встречное внутреннее давление самососредоточенности, которое позволило бы не только выжить творческому началу, но и продвигать «линию сопротивления» вовне. Правда, такие неестественные условия существования могли привести и к неизвестным «болезням» стиха.
Третье условие «предсловесной проявленности» – возможность соединения своего порыва с ощущениями других людей, «симпатия» к миру, порыв к бытию иного. Это проявленность мягкости, или душевности, связующая людей. Духовная сосредоточенность видится действующей по вертикали (от земли к небу и от неба к земле), а направленность душевности – по горизонтали (от человека к человеку). Подобная «мягкость» содержит в себе незащищенность, потому что дает хотя бы в возможности другому войти в твое душевное пространство. Но именно поэтому здесь возникает опасность благодушия или сентиментальности в проявлении такой тенденции в стихе.
Стихотворение в своем текстовом выражении для меня – раздвинутая цельность. В удавшемся произведении действует множество пар оппозиций, которые создают узлы и точки динамических равновесий. Поэтому суждения о гармоническом как о чем-то скучном и застывшем кажутся необоснованными. Но противоречия подобной множественности не являются изначальными, они находятся не в «онтологии» контекста, а есть следствие способа превращения контекста в текст конкретного стихотворения.
Для меня поэтическая форма – наиболее емкая, способная вмещать большие промежутки жизненных переживаний. Причем пространство возможностей в стихе возрастает (правда, здесь проявляется одна из тенденций, другая состоит в определенной демократизации и упрощении стиля). Но все же в поэзии могут быть ныне выражены непредсказуемые, «нелинейные» взаимоотношения, то есть, по сути, может быть дана экспрессивная запись множества простых процессов и судеб вещей.
Фактором, который явно переводит размытость контекста в очевидную определенность текста, не разрывая связи этой оппозиции, является внутренне драматургическое начало. Усилие скрытого драматизма не есть следствие некоего специального эмоционального стимулятора, не должно быть словесного атропина, расширяющего в ужасе зрачки. Внутренний драматизм в напряжении есть способ поддержания внутреннего пространства в готовности вновь возвращаться к полному миру с его невыразимостью, и, вместе с тем, фиксировать в постоянном динамизме память о прошедшем реальном взаимодействии характеров и сущностей. Возможна различная фиксация на письме скрытой драматической партитуры. Безусловно, приходится в какой-то мере мириться с сознаванием того, что слово – не только колоссальный в своей потенции сгусток смыслов, но и проекция, сокращение таинственного «континуального» действия самого чувства. Поэтому и графическая организация текста чрезвычайно значима. Что иногда может проявляться в форме записи строк или расположения строф. Промежутки, пробелы на бумаге между строфами могут играть важнейшую роль, при игнорировании таких «внесмысловых» пауз исчезает сама возможность для перехода в некое дополнительное эмоциональное измерение (графика строф и пробелов очень важна для меня, например, в поэме «Бессмертие повседневное»).
В тексте помимо «вечных» структур должно, по-моему, зафиксироваться «окружающее нас» бытие и время. Здесь передается отрезок конкретного времени с его «идиостилем», в этом смысле поэт (стихотворец) является некоторым фантастическим хроникером. И наверное обратная расшифровка возможна (хотя и весьма сложна) – ведь в стихах слова слагаются и движутся под диктовку другой единицы феномена сознания – числа. И могут быть восстановлены условия того странного эксперимента, который ставился над поэтическими поколениями: насколько искусство важно само по себе, почти без обратной связи, почти без отзыва социума? Если на Западе поэзии приходится, по-видимому, существовать в условиях устойчивого общественного равнодушия, то для нас были созданы идеальные условия официального запрета. Мечта Льва Толстого о «непрофессиональности» искусства имела хорошие условия для воплощения. Каждому, конечно, сроки изолированности были отпущены разные (для меня от начала писания стихов до первых публикаций прошло двадцать лет). Но в такой «безответственной» ситуации, когда не было обязательств перед творческими союзами или печатными органами, легко ставить сверхзадачи. И, безусловно, без чувства юмора трудно было воспринимать и пережить ситуацию одновременных параноидальной мании социального преследования и мании художественного величия. Чисто внешнее охлаждение и отстранение презрительного рационализма были необходимы. Такое отрезвление было в посторонних занятиях (для меня – это физика и математика). Постоянная работа над стихом становилась заботой подсознания. Но не только некое подпольное свечение сознания было тем, что создает интерес с неизвестной развязкой, – отрешаясь от всякой игры, можно сказать, что прославление бытия в какой бы то ни было форме – слишком широкая и захватывающая вещь, чтобы огорчаться неудачами, и ощущения пребывания со всеми и во всех важнее, чем ощущения ледяного тамбура бытия.
Установление момента окончательности текста, «самообнаружение» его очень важно. Написание стихов происходит, как правило, по двум путям. Первый способ – создание спонтанного отрывка, когда контроль сознания «ослаблен». Второй – медленное проращивание фрагментов будущего цельного произведения из некоего неопределенного замысла, который может быть довольно абстрактной идеей. Но в любом случае перед тем, как прийти в окончательный вид, текст проходит стадию долгого ожидания или изменения и подвергается различным испытаниям. Момент, когда стихотворение (или часть поэмы) можно считать завершенным, условен. Но есть некоторые нестрогие правила и «критерии». Один из них – принципиальная исполняемость текста (более широкое понятие, чем приспособленность к прочтению вслух). При этом стихи из «внутреннего театра» выходят на «промежуточную сцену», чтобы попытаться затем войти в неизвестное внутреннее пространство воспринимающего. «Исполняемость» связана с некоторым ощущением, которое можно назвать ощущением пустотности завершенного текста. Это чувство может особенно явственно проявляться при чтении стихов вслух, когда от установленной точности поставленных слов возникает образ матрицы или сот, которые при желании могут наполняться новым смыслом. Здесь уместно вспомнить слова Андрея Тарковского об «олимпийской холодности формы». Именно завершенность, замкнутость (в смысле целостности, а не отделенности от воспринимающего) порождает такое определение.
Что же является структурными элементами, придающими стихотворению желанную целостность и образ отделившегося и сомкнувшегося подобия мира? Здесь видится принципиальное уподобление, взаимоотражение структуры текста и контекста. Концепция, перенесенная на письмо, через напряженную систему приемов, осуществляет преобразование поэтической материи. Метафоры, стягивающие (в своей дуальной или множественной структуре) чувственные предметы в некие новые знаки, являются особыми «сенсорными словами» и играют важную роль в преобразовании внесловесной стихии в словесную и обратно. Хотелось бы сказать кратко еще об одном важном элементе поэтической структуры (он относится и к композиции произведения). Это поэтические кульминации. Они могут быть весьма различными в качественном смысле. Например, решающим трансформационным пунктом может стать важнейшая мысль, которая своей кажущейся парадоксальностью подводит некий метафизический итог и бросает свет на предыдущие строки и освещает дальнейшее. Таким центром в стихотворении «Треугольный пакет молока…» являются строки «я его позабыла, значит в памяти он никогда не умрет…» Число кульминаций может быть различным. Собственно, это те нервные звезды, узлы стихотворения, которые связывают текст и придают ему дополнительные черты завершенности. Через эту систему «катарсисов» происходит выход в широкий мир, предельная целостность и замкнутость уже не боится за свое существование, поэтому форма открывается и смыкается вновь, принося частицы пыльцы далекого теперь, но возвратимого внешнего мира.
Так созданное и так понимаемое стихотворение можно уподобить автопортрету, который дан как внешний мир, видимый в этот момент времени, именно из этой точки пространства, где находится мое «я» (то, что видит человек изнутри). Свое лицо, увиденное сквозь свои глаза, невидимо, потому что воспринимается изнутри. Лишь пальцы и окончания волос, и воротник одежды запечатлеются здесь, и, может быть, где-то отраженное в стекле витрины будет видно и свое лицо (которое обычно изображают извне на автопортретах).
Соединение внешнего и внутреннего способно обозначить ту подвижную границу, которую мы и стремимся изобразить и расширить в стихе.
Примечания
1
О, дай мне власть, Господь, без дрожи отвращенья
И душу бедную, и тело созерцать!
Ш. Бодлер. «Поездка на Киферу» (Пер. Эллиса).
(обратно)2
Арена для боя быков.
(обратно)



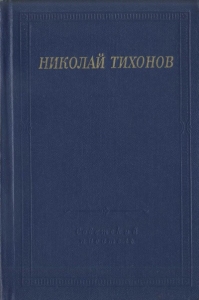

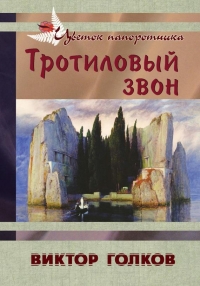
Комментарии к книге «Открытые дворы. Стихотворения, эссе», Владимир Владимирович Аристов
Всего 0 комментариев