Если нельзя, но очень хочется, то можно Выпуск № 2
© Интернациональный Союз писателей, 2017
* * *
Предисловие
Вряд ли российский читатель плохо знаком с современной израильской литературой. Время от времени различные издательства выпускают книги признанных мастеров, уже зарекомендовавших себя в литературе, переводные антологии новых авторов, пишущих на иврите, но едва ли ошибусь, если скажу, что представление о русскоязычных израильских поэтах и прозаиках российский читатель имеет довольно слабое. Если какие-то книги отдельных авторов и издаются, то тиражи их невелики, и они тут же исчезают с книжных прилавков.
Интерес к таким авторам со стороны россиян вполне объясним. Авторы в подавляющем большинстве выходцы из различных регионов России, и то, что они пишут сегодня, это прежде всего послание своим землякам. Конечно же, переписки, телефонных звонков и редких посещений бывшей Родины для полноценного общения явно недостаточно.
Интерес к Израилю во всём мире велик, а уж со стороны россиян, почти у каждого из которых есть в Израиле друзья, знакомые и прежние сослуживцы, огромен.
Хоть библиография израильской литературы в российских изданиях и обширна, но, я бы сказал, грешит некоторой однобокостью. До последнего времени её представляли только авторы, пишущие на иврите. Мы не говорим сейчас о классиках еврейской литературы, писавших на идиш, таких, как Шолом-Алейхем, памяти которого был посвящён конкурсный отбор работ, представленных в этом сборнике.
Лет двадцать-тридцать назад это утверждение, может, и можно было считать верным, потому что при пропагандируемой в те годы идеологии «плавильного котла», когда не прекращались попытки создать единую израильскую монокультуру на основе иврита, русскоязычные авторы были как бы в стороне, их творчество не воспринималось всерьёз и считалось второстепенным по сравнению с литературой, создаваемой на иврите. Время показало ошибочность этой идеологии, и сегодня в Израиле с большим успехом выпускаются книги и периодические издания на русском, испанском, амхарском, грузинском и прочих языках – языках стран исхода для подавляющего количества населения страны. Работают национальные театры, культурные центры, творческие коллективы.
Но книга, которую вы держите сейчас в руках, в своём роде уникальна. Представленные в ней авторы – это молодая поросль израильской русскоязычной литературы. Многие имена не только неизвестны в России, но с ними пока мало знаком и израильский читатель. У многих представленных здесь авторов выпущено по одной-две книги, а есть и такие, для которых публикация в этом сборнике едва ли не первая серьёзная публикация.
Если на первых порах поднимаемые русскоязычными авторами темы были в основном бытовые – неустроенность репатриантов, знакомство с новыми реалиями и непривычным окружением, то сегодня авторы уже не гости, взирающие порой с недоумением, а порой и с неприязнью на новую для них страну. Сегодня это люди, твёрдо стоящие на ногах, всё больше и больше пускающие в эту землю корни и, безусловно, принявшие в себя и полюбившие этот крохотный клочок земли, для многих спорный и конфликтный, но – только не для них.
Среди авторов почти нет профессионалов, зарабатывающих на жизнь литературным трудом. Да и нигде сейчас в мире, наверное, нет такой возможности для пишущего человека. Но это ни в коей мере не сказывается на качестве текстов, в чём может убедиться придирчивый читатель книги.
Хочется поблагодарить Интернациональный Союз писателей и его руководителя Александра Гриценко за идею выпуска этой книги, за хлопоты и старания по отбору материала, за внимание к авторам и человеческую доброту.
И хоть принято относить авторов, живущих за границей, к литературе русского зарубежья, хочется верить, что нет литературы «тамошней» и «здешней», а есть только одна огромная и великая русская литература. Главное в ней – это любовь и бережное отношение к русскому языку. Если авторам-израильтянам удастся внести в неё свой скромный вклад и запомниться российскому читателю, значит, наши старания не пропали даром.
ЛЕВ АЛЬТМАРК,
член Союза русскоязычных писателей Израиля,
член Интернационального Союза писателей и координатор по Израилю
от Международной гильдии писателей.
Евгений Александрович Евтушенко
Русский советский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
Начал печататься в 1949 году, первое стихотворение опубликовано в газете «Советский спорт».
В 1952 году выходит первая книга стихов «Разведчики грядущего», – впоследствии автор оценил её как юношескую и незрелую.
В 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей СССР[10], минуя ступень кандидата в члены СП. В последующие годы печатает несколько сборников, которые приобретают большую популярность: «Третий снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Нежность» (1962), «Взмах руки» (1962).
Произведения его отличает широкая гамма настроений и жанровое разнообразие. Первые строки из пафосного вступления к поэме «Братская ГЭС» (1965): «Поэт в России – больше, чем поэт», – манифест творчества самого Евтушенко и крылатая фраза, которая устойчиво вошла в обиход. Несколько поэм и циклов стихотворений посвящено зарубежной и антивоенной тематике: «Под кожей Статуи Свободы»,
«Коррида», «Итальянский цикл», «Голубь в Сантьяго», «Мама и нейтронная бомба».
С 1986 по 1991 год был секретарём Правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года – секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года – сопредседатель писательской ассоциации «Апрель». С 1988 года – член общества «Мемориал».
14 мая 1989 года с огромным отрывом, набрав в 19 раз больше голосов, чем ближайший кандидат, был избран народным депутатом СССР от Дзержинского территориального избирательного округа города Харькова и был им до конца существования СССР.
В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в г. Талса, штат Оклахома, уехал с семьёй преподавать в США, где и проживает в настоящее время.
Сторож Змиёвской Балки
Когда все преступленья замолятся? Ведь, казалось, пришла пора. Ты ответишь ли, Балка Змиёвская? Ты ведь Бабьего Яра сестра. Под землей столько звуков и призвуков, стоны, крики схоронены тут. Вижу – двадцать семь тысяч призраков по Ростову к той балке бредут. Выжидающе ястреб нахохлился, чтобы выклевать чьи-то глаза. Дети, будущие Михоэлсы, погибают, травинки грызя. Слышу всхлипывания детские. Ни один из них в жизни не лгал. Гибнут будущие Плисецкие, гибнет будущий Марк Шагал. И подходит ко мне, тоже с палочкой, тоже лет моих старичок: «Заболел я тут недосыпалочкой. Я тут сторож. Как в пепле сверчок». Его брови седые, дремучие, а в глазах разобраться нельзя. «Эти стоны, сынок, меня мучают, и ещё – как их звать? «Надпися». Я такого словечка не слыхивал, ну а он продолжал не спеша: «Сколько раз их меняли по-тихому, эти самые «надпися». Почему это в разное время колготились, незнамо с чего, избегаючи слова «евреи», и вымарывали его? Так не шла к их начальничьей внешности суетня вокруг слова того. А потом воскрешали в поспешности. Воскресить бы здесь хоть одного. Жаль, что я не умею этого. Попросить бы об этом небеса! Я бы тратить всем жизнь посоветовал на людей, а не на «надпися». Ростов, 13.12.14. Написано к Международному проекту «Мужество помнить!»Медсестра из Макеевки
Кусками схоронена я. Я – Прохорова Людмила. Из трех автоматов струя меня рассекла, разломила. Сначала меня он подшиб, наверно, нечаянно, что ли, с пьянчугами в масках их джип, да так, что я взвыла от боли. Потом они, как сгоряча, хотя и расчетливы были, назад крутанув, гогоча, меня хладнокровно добили. Машина их вроде была без опознавательных знаков, и, может, я не поняла, но каждый был так одинаков. Лицо мне замазав золой, накрыли какою-то рванью, и, может, был умысел злой лишь только в самом добиваньи. Конечно, на то и война, что столько в ней все же оплошно, но мудрость немногим дана, чтоб не убивать не нарочно. Я все-таки медсестра мс детишками в интернате, но стольких из них не спасла — СПИД въелся в их каждую матерь… За что убивают детей родительские болезни — дарители стольких смертей, когда они в тельца их влезли? А что же такое война, как не эпидемия тоже? Со знаками смерти она у шара земного по коже. За что убивают людей, от зависти или от злобы — как влезшие тайно микробы, ведь каждый из нас не злодей. Что больше – ЗА ЧТО или КТО? Всех надо найти – кто убийцы двух Кеннеди, надо добиться, чтоб вскрылись все КТО и ЗА ЧТО. Я, в общем-то, немолода. Мне было уж тридцать четыре. В любви не везло мне всегда, и вдруг повезло в этом мире. Нашла сразу столько детей, как будто родив их всех сразу, в семье обретенной своей взрастила их новую расу. В ней Кремль дому Белому друг, и сдерживают свой норов, и нету националюг, ГУЛАГов и голодоморов. А смирной О’кеевки из нашей Макеевки не выйдет. Не взять на испуг. И здесь, в гаррипоттерском сне, любая девчушка и мальчик в подарок придумали мне украинско-русское «мамчик»! Над Эльбой солдатский костер пора разводить, ветераны. В правительства медсестер пускай приглашают все страны. Война – это мнимый доход. Жизнь – высшая ценность святая и станций Зима, и Дакот, Макеевки и Китая. Политики – дети любви, про это забывшие дети. Политика, останови все войны в нам данном столетьи! Что мертвым – молчать да молчать? Не хочет никто быть забытым, но дайте хоть нам домечтать, ни за что ни про что убитым! Февраль 2015 г.К властям
Проявите усилье, Немедля, как можно скорее, Верните евреев в Россию, Верните России евреев! Зовите, покуда не поздно, На русском иль на иврите. Верните нам «жидомасонов» И всех «сионистов» верните. Пусть даже они на Гаити И сделались черными кожей. «Космополитов» верните, «Врачей-отравителей» тоже… Верните ученых, поэтов, Артистов, кудесников смеха. И всем объясните при этом — Отныне они не помеха. Напротив, нам больше и не с кем Россию тащить из болота. Что им, с головой их еврейской, На всех у нас хватит работы. Когда же Россия воспрянет С их помощью, станет всесильной, Тогда сможем мы, как и ране, Спасать от евреев Россию… 2012 г.Карина Муляр (Масюта)
Родилась в Кишиневе в семье профессора.
Окончила музыкальное училище по классу спецфортепиано. Затем Академию искусств.
В 1991 году с семьей переехала жить в Израиль.
В Израиле окончила Академию художеств.
Работает в общеобразовательной школе, преподает Изо.
Является членом Северного союза свободных художников Израиля. Выставляется в своей стране и за рубежом.
Пишет короткие рассказы под псевдонимом Масюта.
Изданы книги: «Сотрите мою память, господа», «Незнакомка», «Чашка кофе».
Разве может одинокий человек, совершенно никому не нужный и никем не любимый, быть добрым и не обозлиться на весь мир?
Трудно однозначно ответить на этот вопрос.
Теоретически не может, а в жизни? В жизни всякое бывает.
Начать сначала
В подъезде дома номер 35 Елену Николаевну откровенно ненавидели.
С ней почти никто не здоровался, а если и говорили что-то типа: «Добрый день» – то непременно с выражением лица человека, только что съевшего целый лимон и подавившегося им.
Со стороны казалось, что Елена Николаевна плевать хотела на весь этот подъезд со всеми его жильцами.
Она всегда модно и со вкусом одевалась, несмотря на свой пенсионный возраст.
Ходили слухи, что во времена Советского Союза Елена Николаевна работала в Академии наук и сделала даже какое-то толковое открытие.
Но времена изменились. Советский Союз исчез, уступив место бессмысленной суете и откровенной деградации людей.
То, что тогда считалось важным и ценным, сегодня выглядело мелким и совсем ненужным.
Елена Николаевна, поддавшись массовой волне отъездов за границу, как и большая часть интеллигенции, рванула на прославленный Запад, захватив с собой мужа, маму и свое открытие.
К ее большому разочарованию, Запад встретил очередную эмигрантку, да еще с претензией на ученость, лицемерной улыбкой.
Она упорно стучалась в закрытые двери, пытаясь протолкнуть свое открытие.
Ей вежливо отвечали, что на все нужно терпение и что с ней обязательно свяжутся.
Время шло. Никто связываться с Еленой Николаевной не спешил.
Она задумалась о том, что нужно было как-то начать зарабатывать на жизнь.
Муж постоянно выяснял свой статус на Западе, былые лавры не давали ему покоя. Естественно, что этот поиск себя сам по себе отрицал возможность просто где-нибудь работать.
Елена Николаевна вскоре поняла, что зарабатывать для того, чтобы прокормить свою маленькую семью, должна она.
Она засунула свою гордыню и обиду в неприличное место и пошла убирать виллы у богатых господ.
Платили неплохо, иногда даже отдавали ненужные вещи и продукты.
Прошло совсем немного времени, что-то около полугода, и тяжело заболел ее муж. Будучи по профессии хореографом, он все это время так и продолжал выяснять свой статус. И чтобы лучше его понять, этот статус, муж постепенно пристрастился сначала к пивку, а затем к водочке и всему тому, что могло хоть на короткое время затушить пожар, разгоревшийся в его душе.
В последние месяцы его жизни казалось, что их былая любовь с Еленой Николаевной возвратилась к ним.
Она часами сидела возле кровати быстро угасающего мужа и, как в молодости, все время спрашивала его, как долго он будет ее любить.
Муж слабо улыбался ей. Восторженно глядя на постаревшую Елену Николаевну, он отвечал их любимой фразой:
– Я буду любить тебя вечно и еще один день. В очередной раз произнеся эту так дорогую для них фразу, муж Елены Николаевны в последний раз улыбнулся и затих, наконец-то успокоив свою израненную душу.
После его смерти события развивались по сценарию, написанному явно для того, чтобы окончательно сломить Елену Николаевну.
Вслед за мужем умирает мать. Она просто не просыпается утром.
Елене Николаевне наконец звонят и предлагают встретиться по поводу ее открытия.
Собравшись, она едет несколькими автобусами в другой конец города. Ее воображение рисует изменения в лучшую сторону.
Встретившись с известным немецким профессором, она слышит примерно такие слова:
– Ваше открытие, безусловно, заслуживает внимания. Мы согласны взять его в разработку. Есть одно «но»… Вместо вашего имени я поставлю своё, а вам выдам чек на сумму двадцать тысяч евро. Так легко вы такую сумму на вашей нынешней работе не заработаете…
На протест Елены Николаевны жирный профессор краснеет и переходит на поросячий визг. С ненавистью глядя заплывшими наглыми глазками, он дает понять, что разговор окончен.
Елена Николаевна тихо кивает головой в знак согласия.
Немец тут же выписывает ей чек на данную сумму.
Елена Николаевна, глотая слезы обиды, выходит из его кабинета и едет на свою съемную полупустую квартирку.
В конце концов, устав от постоянных унижений и мытья полов, она решает вернуться на Родину.
Благо, от матери ей осталась двухкомнатная квартира.
Денег, полученных от жирного профессора и заработанных на мытье полов, хватает на вполне приличную жизнь в распавшейся стране.
Елене Николаевне даже удается за былые заслуги выбить себе неплохую пенсию.
Она становится нелюдимой. Почти ни с кем не общается. К ней практически не приходят гости.
Соседи, имеющие домашних животных, натыкаются на ее брезгливое фырканье и угрозы вызвать отлов или отравить всех собак, как хозяйских, так и прибившихся к дому номер 35.
Соседи в ужасе от такого поворота событий. Группа активистов организует тайное наблюдение за Еленой Николаевной.
Им удается выяснить, что каждое утро примерно часов в пять она идет в сторону заброшенной турбазы и тащит туда достаточно тяжелую сумку.
Как и когда возвращается, соседям пока не ясно. Видимо, она возвращается домой другой дорогой. Только какой? Это для жильцов пока остается тайной.
В продуктовых магазинах Елена Николаевна покупает много и часто.
Ответить на вопрос, зачем так много, живет ведь одна, жильцы не могут.
Все ждут от нее чего-то очень нехорошего.
И это нехорошее происходит.
Внезапно исчезают живущие во дворе две маленькие шавки, для которых сердобольные жильцы сколотили из досок кривую и продуваемую со всех сторон будку.
В морозные дни эти шавки согревались в этой будке, тесно прижавшись одна к другой.
Все жильцы их подкармливали и жалели, но никто не брал к себе. Так они и жили в своей кривой будке.
Шавки были абсолютно безвредными и очень ласковыми.
Всем все стало понятно – Елена Николаевна от угроз перешла к делу.
Жильцы решили серьезно с ней поговорить, поскольку не были готовы к такой жестокости. Жильцы были уверены, что это она вызвала отлов и бедняжек отравили.
Для убедительности они попросили участкового Семена пойти с ними. К тому же Семен тоже любил животных.
В назначенный день группа активистов дома номер 35 во главе с участковым позвонила в дверь к Елене Николаевне.
Долго не открывали. Минуты показались вечностью.
Послышалась возня, и Елена Николаевна показалась на пороге. Выглядела она неважно и сильно кашляла.
Рядом с ней крутились исчезнувшие шавки, одетые в вязанные специально для них свитера.
– Входите, раз пришли, – охрипшим голосом сказала Елена Николаевна. – Садитесь. Слушаю вас, – продолжала она.
Незваные гости послушно сели за круглый стол советских времен.
– Чай, кофе? – предложила Елена Николаевна.
Семен начал говорить.
– Мы пришли, чтобы выяснить, на основании чего вы, Елена Николаевна, вызвали отлов собак. И вообще, почему у вас такое пренебрежительное отношение ко всем жильцам.
Елена Николаевна сильно закашлялась. Из глаз потекли слезы. Успокоившись, она сказала:
– Вы так не нервничайте. Я постараюсь объяснить вам свое поведение.
Она присела на кресло, и тут же обе шавки устроились у нее на коленях.
Елена Николаевна спокойно заговорила:
– Людей обычно не интересует, что стоит за спиной у каждого человека. Мы все спешим делать необдуманные, полные злобы и зависти поступки. Жила за границей – значит, богатая и счастливая. Вернулась обратно – значит, там уже нажралась. Есть немного накоплений – шикует, сволочь. Так думать просто и удобно. Но, думая так, вы создали меня в виде высокомерного, бездушного монстра. Сопротивляться и доказывать что-либо у меня не было ни сил, ни желания. Мне бы все равно не поверили. Я стала вести себя так, как вы этого хотели.
Соседи смущенно начали все вместе говорить, что ни в коем случае не хотели обидеть Елену Николаевну.
– Не хотели, но обидели. А теперь уж будьте любезны выслушать меня. Живя за границей, я в короткий срок потеряла двух самых близких и дорогих мне людей. У меня украли мое открытие, заплатив мне за молчание. На жизнь я зарабатывала мытьем полов у богатых господ, которые получали удовольствие от постоянного напоминания мне, что я – ученая, а убираю их квартиры…
Елена Николаевна замолчала.
Она молчала буквально пару минут, но жильцам показалось, что прошел целый час.
– Теперь насчет отлова собак, – продолжила Елена Николаевна. – На прошлой неделе, возвращаясь домой, я случайно услышала, как участковый Семен дает координаты вот этих двух малюток. Он договаривался об их отравлении. Я спряталась за дом и продолжала слушать. Мне удалось понять, примерно на какое число все планировалось. Дождавшись темноты, я вышла из дома и забрала этих крошек к себе. Теперь мы живем все вместе.
Елена Николаевна погладила притихших на ее коленях шавок. Участковый покраснел, пытаясь промямлить что-то о своей подневольности.
Жильцы зашикали на него, и участковый поспешил ретироваться, стараясь ни с кем не встречаться взглядом.
Тем временем Елена Николаевна продолжала свой странный рассказ:
– Каждое утро я хожу на заброшенную турбазу. Там бом-жует мой одноклассник со своей собакой. Я передаю им еду. На все мои уговоры съехать ко мне – у него один ответ: нет. Он так же, как и я, очень одинок, но это его выбор. Вы знаете, что такое одиночество? – ни к кому не обращаясь, спросила Елена Николаевна. – Не отвечайте. Я осталась одна на целом свете. И это не мной выбранное одиночество. Это другое, жуткое одиночество, когда ты один стоишь на вершине горы, а вокруг тебя есть только молчание вечности. Ты хочешь начать все сначала, но рядом нет тех людей, которые могли бы сказать так нужную тебе фразу: «Я буду любить тебя вечно. И еще один день…»
13 декабря 2015 года
Интервью
Камеры готовы? Свет. Начинаем.
– Наша съемочная группа находится у известного черного мага, господина Амброзия.
Большое вам спасибо за то, что согласились дать интервью для нашей телевизионной программы.
С вашего позволения я бы хотела задать вам несколько вопросов.
Вы очень популярный черный маг.
У вас нет отбоя от клиентов.
Скажите, пожалуйста, откуда такая популярность?
Сегодня, когда компьютеры и Интернет забирают почти все жизненное пространство, люди почему-то продолжают приходить к вам.
– Я думаю, что даже с приходом в нашу жизнь элементов виртуального общения, которое в конечном счете заменит реальное, пока что человеческие эмоции не отменялись.
– Да. Я понимаю.
Но ведь речь идет о том, что к вам иногда приходят люди, которые просят навести порчу.
Разбить чью-то семью или сделать что-то еще страшнее.
Например, наложить смертельное проклятие.
– Да. Это так.
Просьбы у людей разные.
И не всегда безобидные, как вы правильно заметили.
– Ходят слухи, что вы по образованию врач и раньше работали в больнице.
– Это не слухи.
Так и было.
Я окончил медицинский и много лет проработал в терапевтическом отделении.
– Господин Амброзий, почему же вы все-таки решили уйти из медицины и заняться черной магией?
Были на это какие-то веские причины?
– Причины самые что ни есть обычные.
Я бы даже сказал, житейские.
Знаете, Катенька…
Вас ведь Екатериной зовут?
Давайте я вам расскажу сам то, что сочту нужным, а если
останутся какие-то вопросы – вы спросите.
– Ладно, – ответила Екатерина. – Я согласна. Вы мне облегчаете мою задачу.
– Как я уже говорил, по образованию я врач.
Много лет я увлекался гипнозом.
Учился, работал над собой.
Мне удалось овладеть этим интереснейшим явлением.
Я научился проникать в подсознание людей и заставлять их выполнять мои команды.
Сначала это были сеансы в больнице для людей, страдающих алкоголизмом.
Потом для тех, кто хотел похудеть.
У меня все получалось.
Я продолжал совершенствовать свое искусство.
Однажды я познакомился с очаровательной женщиной, которая пришла ко мне со странной просьбой.
Она попросила меня помочь ей с помощью гипноза отпраздновать свое горе.
Я был удивлен.
Что значит – отпраздновать свое горе?
Женщина пояснила:
– Это значит пережить его еще раз со всеми подробностями, а потом полностью все забыть и жить дальше.
Просьба была очень странной, и я впервые понял, что бессилен.
Женщина сказала, что я могу думать о ней все что угодно, только помочь ей уже никто не сможет.
Через несколько дней, читая газету, я нашел репортаж о женщине, которая прыгнула с восьмого этажа.
В кармане пальто была записка, что она хочет отпраздновать свое горе и обвинять в этом никого не нужно.
Это была та самая пациентка, которая просила меня помочь ей с помощью гипноза.
Потом я – старый холостяк – влюбился.
Влюбился глупо, по-мальчишески, а она была замужем и вообще ничего обо мне не думала.
Я пытался добиться ее расположения, как мог.
Благо, мы работали в одной больнице.
Как-то в шутку она сказала:
– А приворожить меня сможешь?
И я взрослый человек, врач, ходил к гадалкам.
Делал привороты, заговоры на любовь.
Мои старания успехом не увенчались.
Смеясь мне в лицо, она цитировала слова Наины из «Руслана и Людмилы»:
– Герой, я не люблю тебя!
Тогда я решил заняться магией сам.
– Извините, что перебиваю вас… – встряла Катенька. – А почему вы не занялись белой магией?
– Деточка!
Где та четкая грань, которая отделяет белую магию от черной?
Этого никто не знает.
Маг внимательно посмотрел на Екатерину и сказал:
– Хотите, приворожу вашего любимого?
Он ведь вас не любит.
– Откуда вы знаете? – спросила Екатерина, краснея.
– Я много чего знаю, – устало сказал Амброзий.
Он встал со стула.
Одними глазами приказывая собрать аппаратуру, тихим голосом произнес:
– Вышли все. И там на улице уничтожили пленку.
Екатерина почувствовала, как дрожь пошла по всему телу.
Мысленно она пожалела, что пришла сюда за сенсацией.
Амброзий подошел к ней.
Положил руки на её плечи и сказал:
– Не бойся. Сейчас проверим, как ты поддаешься гипнозу.
Екатерина тихо промямлила, что гипноз на нее не действует.
Маг еле заметно ухмыльнулся.
Неожиданно в комнате погас свет, и Екатерина как сквозь пелену услышала голос Мага:
– Расслабься.
Ты полностью мне доверяешь.
Ничего не бойся.
Сейчас ты почувствуешь, как приятная теплота разливается по телу.
На счет «три» ты закроешь глаза и заснешь.
Я проникаю в твое подсознание…
Обмякшая Екатерина сопротивлялась из последних сил.
Маг считал:
– Один… два… три…
Екатерина погрузилась в сон.
Маг ни о чем не спрашивал.
Он произносил заклинание:
«Луна светла, по воду пошла, Заглянула в окно, там его нашла, За собой повела, ко мне принесла, на воду легла, тебя отдала…»Екатерина, продолжая спать, шевелила губами, повторяя заклинание.
Наконец где-то рядом с собой она услышала голос Мага:
– Ты просыпаешься.
Все хорошо.
Ты спокойна.
Екатерина открыла глаза и, удивленно поглядев на Мага, спросила:
– Как вам удалось? Я спала? А что вы говорили про луну?
– У тебя столько вопросов, – улыбнулся Маг. – Отвечать? Или оставим все как есть.
– Можно вас все-таки спросить? – произнесла Екатерина. – Вы не раскаиваетесь в том, что сделали помимо хорошего очень много плохого?
Ее голос начал дрожать.
– О вас рассказывают столько страшных историй.
Вы можете наложить сильнейшее проклятие, которое снять практически невозможно.
Вы же врач.
Как так можно?
Ваше призвание – спасать.
Неужели вы не хотели бы раскаяться?
Вы не боитесь расплаты?
– Нет.
Я не боюсь расплаты.
Я только пистолет в руках людей.
И от них зависит, выстрелит он или нет.
И еще.
Запомни.
Сатана слышит слова и вершит поступками.
И только ангел-хранитель способен услышать мысли.
А теперь ты уйдешь и все забудешь.
Ты все забудешь.
Забудешь.
Меня нет.
Ты поняла?
Екатерина, молча кивнув головой, вышла на улицу.
Съемочная группа терпеливо сидела в их микроавтобусе и ждала ее.
Дико болела голова.
Екатерина тщетно пыталась вспомнить, для чего они все сюда приехали.
Оператор Женька, в которого она была безнадежно влюблена уже два года, вдруг подошел к ней и помог зайти в микроавтобус.
Екатерина этому очень удивилась, так как Женька обычно даже не смотрел в ее сторону.
В голове у нее зазвучали странные слова:
«Сатана слышит слова и вершит поступками.
И только ангел-хранитель способен услышать мысли».
Екатерине показалось, что она уже где-то это слышала, но только где?..
P.S. Имя Амброзий (греч. от «амброзии» – пища богов, дающая им бессмертие и вечную юность).
Павел Фёдоров
Живет в Израиле, г. Нетания, с 2015 года. Кандидат технических наук, доцент математики. Член Союза писателей России. Победитель литконкурса 2009 журнала «ЛЕКСИКОН» (Чикаго, США) в номинации «Поэзия». Лауреат конкурса имени Петра Вегина (Украина, 2010 г.). Дипломант конкурса Поющих поэтов 2009–2010 «Зов Нимфея» (Симферополь, Украина).
Автор 19 журнальных публикаций (Москва, Чикаго, Рязань, Щекино, Керчь, Витебск, Ульяновск, Новокузнецк, Саратов), а также восьми поэтических сборников: «Музыка счастья» (Саратов, 2001 г.), «Открытое сердце» (Саратов, 2002 г.), «Узоры» (Саратов, 2005 г.), «Судьбы прекрасная улыбка» (Москва, 2006 г.), «Наедине с собой» (Москва, 2007 г.), «Ветер времени» (Москва, 2009 г.), «Чересполосица» (Саратов, 2012 г.) и «На посошок» (Саратов, 2014 г.)
Вечный народ
Разнеслась Благая весть — Божья власть На свете есть. Беды простим, Станем добрей, Дух элохим — Это еврей. Плачь душой, Пой душой, Богом любимый, Пой душой, Плачь душой, Славя свой род, Неба посланник, Гений и странник, Непобедимый Вечный народ. Всем пора Давно учесть — Божий рай На свете есть: Древности тайны, Свет на заре, Ирушалайм — Это еврей. Плачь душой, Пой душой, Богом любимый, Пой душой, Плачь душой, Славя свой род, Неба посланник, Гений и странник, Непобедимый Вечный народ.Йисраэль
Островок в океане Мусульманской тоски — Йисраэль, не устанешь Ты цвести, и ростки Иудейского племени Будут вечно всходить, Пролагая по времени Своей правды пути. Песня юности древней Из глубинки веков — Йисраэль, через тернии Ты сражаться готов За свободу и веру, И награду служить Беспримерным примером Как любить эту жизнь. Притяжение мира На планете войны — Йисраэль, ты квартира Света, счастья, весны, И так было и будет, Поклонившись стене, Разнесут веру люди По великой стране.Пепел Холокоста
Нельзя забыть ни стон веков, Ни боль, ни слезы, ни проклятья, Чем виновата наша кровь? В одной реке земных собратьев Свой темперамент, как алмаз, Несущая по воле Бога, Благословившего наказ Идти всегда своей дорогой, Народ, не сломленный бичом Невежества и мракобесья И над усталым палачом Поющий гордо свои песни. Нельзя забыть ни звон оков, Ни дым сожженных поколений, Чем виновата наша кровь? В одном вселенском устремлении Свой дар особенно светить, Несущая в рассвет надежды И заставляющая жить Ещё священнее, чем прежде, Народ, не сломленный судом Несправедливым поднебесья И вместе с праведным трудом Поющий гордо свои песни. Нельзя забыть ни холод слов, Ни все грядущие напасти, Чем виновата наша кровь? В одном желаньи видеть счастье, Свой удивительный талант Несущая волной свободы И избирающая фант Вести за верой через годы Народ, не сломленный судьбой, Как некогда Господний вестник, И над безликою толпой Поющий гордо свои песни.Ханука
Добавив масло веры В святой кувшин души И людям все химеры Прощая, Бог спешит От служки каждый вечер Зажечь огонь свечи, Чтоб свет её навечно В прижизненной ночи Остался, озаряя Надежды небеса, Врата земного рая Неспешно отворяя Навстречу чудесам.Рош-а-Шана
Трубит шофар, провозглашая Царём Всевышнего, Творца, И милость Бога помещая С каваной в верные сердца, Чтобы с молитвой из махзор Открылся праздничный исход, И, зажигая каждый взор, Пришёл хороший, сладкий год. Трубит шофар, звук извлекая Из духа жизни без конца И, грех невольный отпуская, Волнует радостью сердца, Чтобы с медовою зарёй Жил Богом избранный народ, И, словно истинный герой, Пришёл хороший, сладкий год.Еврейская суббота
Еврейская суббота — Такая благодать, Под синью небосвода Мы будем отдыхать. Пророком Моисеем Дарован этот день, Работать мы умеем, А веровать нам лень. Язык родной не учим, Ни идиш, ни иврит, Душа – Иеговы лучик По-русски говорит. Обычаи в заботах Теряем на бегу, Еврейская суббота, Мы пред тобой в долгу. На детях всё острее Печать иных племен, Одумайтесь, евреи, Верните блеск имен. Чтоб вера и свобода Не пали, как Содом, Ты нас прости суббота, Что суетно живем.Паулина Чечельницкая
Родилась и выросла в Молдавии. По профессии преподаватель иностранных языков, выпускница Ленинградского педагогического института. В 1991 году репатриировалась в Израиль. Путь в литературу начала с переводов с немецкого, французского и языка иврит. Печаталась в различных альманахах и сборниках России, Германии, Израиля. Автор восьми книг поэзии и прозы (три из них изданы в электронном виде). Лауреат третьей премии на поэтическом конкурсе им. Булата Окуджавы в Хайфе (Израиль). Член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Да хранит тебя любовь моя
Шестерых детей подарил бог Бенциону и Соне Пайкиным. Хотел дать им больше – да двое умерли во младенчестве. Но и шесть немало: три дочери и трое сыновей. Поровну, чтобы никому не было обидно. Выросли все красивые, похожие на мать лицом и статью. Перед самой войной старшенькие – Любочка и Федя – нашли себе пару, и в каждой семье родилось по мальчику. Значит, семья стала больше. А потом сыновья ушли на фронт. Семён – так тот прямо с армейской срочной службы воевать отправился. Ещё школьником он записался в Осоавиахим, всё бегал на местный аэродром, учился летать на фанерных самолётах. Вот его в авиацию и определили. Все глаза выплакала Соня, боялась, что и ей похоронки придут, как приходили они к её соседкам. Но бог миловал: старший Фёдор и средний Яша вернулись целёхонькими, а младшенький Сенечка, сталинский сокол, хоть и ранен был, но из госпиталя письмо написал: мол, не волнуйтесь, дорогие, рана пустяковая, скоро вернусь к вам, там и поговорим. К этому времени Пайкины как раз из эвакуации вернулись.
Но вот уже и весна пришла, и Победу отпраздновали, а Семён всё не едет и не едет. Забеспокоилась Соня, стала теребить мужа: напиши да напиши в госпиталь. Бенцион не стал дожидаться, когда супруга ему окончательно житья не даст, и быстренько отправил в Харьков заказное письмо с запросом. Недели через две пришёл ответ: так, мол, и так, уважаемый товарищ, ваш сын, старший сержант Пайкин С.Б., после проведённой операции и курса лечения выписан из госпиталя полгода назад. Соня в слёзы: убили, по дороге убили! И действительно, тогда, после войны, пошаливал народец; бывало, что и грабили, отнимали ценное. Могли и убить – в ту пору жизнь человеческая ничего не стоила. Только матери от этого не легче: сын на войне живой остался, а до дому не доехал.
Тут соседка Катя ей присоветовала:
– Сходила бы ты, Сонечка, к гадалке. Может, она тебе что-нибудь утешительное скажет. Говорят, что и через десяток лет возвращаются.
И повела её тайком от пайкинской семьи на самую окраину Кривого Рога, где в старых, ещё дореволюционных бараках жили шахтёрские семьи. Старуха, мрачная, жилистая, разложила карты, что-то зашептала, забормотала и вдруг ясно сказала:
– Живой твой сын. Помяни моё слово – вернётся.
Соня только вздохнула. А потом написала своему брату письмо, попросила приехать, поддержать её с мужем. Были они с братом близки, всегда друг другу помогали, вот и захотелось Соне Пайкиной поплакать на родном плече. Видимо, мужниного ей было недостаточно.
Брат Фроим, огромный, широкоплечий, громкоголосый, купил домик в Новом Буге, перевёз туда семью и собирался налаживать хозяйство: по Украине тогда лютый голод гулял, а жить как-то надо было. Но после Сониного письма засобирался Фроим в дорогу. Положил в кошёлку хлеба, пироги из ржаной муки, фиолетовые головки старого лука, слегка прихваченного морозцем прошедшей зимы, и яблоки-ранюш-ки, мелкие, кислые – скулы сводит. Какая-никакая, а всё же еда. От Нового Буга до Кривого Рога – полдня пути. Но поезд плёлся едва-едва, останавливался у каждого столба и пропускал встречные составы. Замучился Фроим. В общем вагоне теснота, шум, детский плач. На рассвете старенький паровоз подтянул их к какой-то станции и, выпустив облако дыма, словно нехотя остановился.
– Долго стоять будем? – спросил он у проводницы.
– А я почём знаю? – огрызнулась она. – Приобресть чего хочешь? Иди, успеешь. Вон, видишь, базарчик? Если денежки водятся, сметанкой разживёшься. Я завсегда туточки покупаю.
Фроим спрыгнул с подножки, зябко повёл плечами. Несмотря на ранний час, у небольшого обшарпанного здания – то ли вокзала, то ли склада – шла бойкая торговля. В ногах у продавцов на газетах была разложена всякая всячина: часы, самодельные зажигалки, подержанные вещи. Хмурый небритый мужик продавал на разлив самогон. Он ловко открывал бутылки, наполняя мутным пойлом один и тот же гранёный стаканчик. «Зараза к заразе не липнет», – заплетающимся языком объяснял он недовольным.
Рядом с бутылками, радуя глаз, теснились горки черешни, пучки пузатой редиски, пупырчатые огурчики, глечики со сметаной и творогом. Фроим из внутреннего кармана пиджака достал тряпицу с деньгами – слава богу, на месте, обошёл всех стоящих крестьянок, попробовал из каждого глечика. Ах, вкусно! Раздумывая, у кого купить, глянул вправо, словно бы его кто-то приманивал: у деревянной будки худющий парень с пустым левым рукавом пытался открыть огромный амбарный замок. У него не получалось, ключ падал, и парень, чертыхаясь, снова и снова поднимал его с земли. Что-то знакомое почудилось Фроиму в фигуре этого парня, в упрямом наклоне головы, в тёмно-русом кудрявом чубе, свисающем на лоб.
– Кто это? – быстро спросил он у молодайки в рябой косынке.
– Да Сергунька, Аньки Коцюбы чоловик.
– И не муж он ей вовсе! – прервала её дородная соседка. – Так, полюбовник. Привезла его из дальних краёв. Он ничего хлопец, справный, даром что без руки.
– К мужицкой работе, конечно, непригоден, – добавила молодайка, – так он кладовщиком на станции оформился. Хороший, вежливый. Видать, из городских.
– А давно он у вас? – заволновался Фроим.
– Поди уж месяцев семь будет. С Крещенья, – ответила дородная и вдруг подозрительно прищурилась. – А что это вы, чоловиче, всё выпрашуете и выпрашуете? Может, знаете Сергуньку? Или того хуже – из органов будете и вора шукаете?
Фроим засмеялся, махнул рукой и оборвал разговор. Ни в чём он не был уверен, чего же зря людей волновать! Купил глечик густой, как масло, сметаны, сторговал у какой-то бабки туфли – в подарок сестре, глянул на криво прибитую к зданию станции вывеску «Вапнярка» и вернулся в вагон. И всю оставшуюся дорогу до Кривого Рога думал: Сенька ли это Пайкин, племянник его родной, или просто похожий на него парень? Да и откуда Сеньке ни с того ни с сего вдруг оказаться на станции Вапнярка, в приймах у какой-то Аньки Коцюбы, когда у него есть родители и куча родственников, которые до сих пор в его гибель не верят!
К вечеру Фроим, так и не придумав ответа, вышел на станции Долгинцево, а оттуда на попутной телеге в полчаса добрался до дома Пайкиных на улице Глинки. После слёз, объятий и вопросов о самочувствии уселись за стол.
– Помянем сына нашего, Сенечку, – сказал Бенцион. – Его одного нет за этим столом. Все с войны вернулись. – И вытер ладонью выступившие слёзы.
Соня, как наседка, защищающая своих цыплят, набросилась на мужа:
– Сколько раз тебе говорила, Беня, не смей его поминать! Чует материнское сердце, живой он. Зол мир зан фар им![1]
– Правильно, Соня! – поддержал её Фроим. – Никого не слушай, верь только своему сердцу.
Плохо, видно, он знал свою сестру. Та вспыхнула, сузила глаза.
– Что это ты, Фроимкэ, вдруг так заговорил? Не споришь со мной… Или знаешь что-то о Сенечке? Рассказывай! – Соня резко поставила рюмку на стол. На скатерти расплылось бордовое пятно.
– Да нет, это я так, – Фроим уже не знал, как отвертеться. – Просто слышал много разных случаев… Всякое бывает… Запишут человека в покойники, а он – раз! – и вдруг домой заявляется.
А после обеда Фроим отозвал в сторонку Бенциона с Яковом – вроде бы подымить на веранде – и рассказал им обо всём, что видел на станции Вапнярка.
– Говоришь, у того парня руки не было? – тревожно спросил Бенцион. – Получается, что в том госпитале у Сени руку отняли.
– Но вся штука вот в чём: нет у меня уверенности, что это Сенька, – понизив голос, чтобы его не услышали остальные Пайкины, проговорил Фроим. – Вроде похож, а вроде – не похож.
– Так проверить надо! – крикнул Яков. – Поехать и проверить!
– Тихо ты, балбес, – беззлобно сказал Фроим. – Конечно, поедем! Только Соне об этом – ни звука. Если это не Семён, она нам не простит.
Решили ехать вчетвером, в качестве «тяжёлой артиллерии» пригласили соседа Колю Марченко, здоровяка с пудовыми кулаками.
– Мало ли что там будет! Может, у этой бабы родня с вилами!
А Соне объяснили, что едут по деревням покупать старую картошку. Мол, до новой ещё дожить нужно, а голод – не тётка, пирожка не поднесёт. Через денёк и отправились. К Вапнярке подъехали в разгар дня. Солнце палило уже вовсю. Вокруг – ни деревца, ни самого что ни есть завалящень-кого кустика. Тоска, да и только. У стены вокзала стояли, прикрываясь платочками, давешние тётки. Скучали – покупателей было маловато. Увидев Фроима, одна из них громко закричала:
– А что я сказала, православные! Вот же он, этот мужик, что про Сергуню Анюткиного выспрашивал! Значит, всё-таки агент! Ох, я и дура! Всё ему, как на духу, рассказала, а он энкаведе привёл!
– Замолчи, бабка! – выдвинулся вперёд Коля. – Чего орёшь зря? Воевали мы с ним вместе, вот хотим повидаться.
– Ага! – подбоченилась стоящая рядом молодуха. – Так мы вам и поверили! Документ давай!
Пришлось Коле паспорт показывать, где было написано: «рабочий».
– Ну, убедились, Фомы неверующие, что я не мильтон? У тех другая запись – «служащий».
– Нет, – настаивала молодуха, – пусть тот покажет, лысый! Шо в прошлый раз меня допрашивал!
Фроим тоже показал паспорт, правда, с меньшей охотой. Женщины, не обратив внимания на его национальность, сразу же успокоились и стали объяснять, перебивая друг друга, как добраться до дома Аньки Коцюбы.
– Вапнярка – это станция, городок такой. А мы сельские, за железной дорогой проживаем.
– Меньше часу ходу. Деревню нашу Речицей зовут, потому как речка там протекает. Войдёте в деревню, третья хата по правую руку. Ставни голубым крашенные. Вот там Анька с дружком вашим и обитает.
– А Сергуня, ну, Сергей по-правильному, сегодня на работу и не приходил. Может, болеет, а может, выходной у него.
– А сметанки с творожком не купите? У нас недорого, вот этот лысый знает.
Еле от них отстали. Шли, всю дорогу обсуждали, какие всё же доверчивые тётки им попались. «Вот так, за здорово живёшь, выложили всё первым встречным. А вдруг мы бандиты какие? А с другой стороны – что бандитам в селе делать? Много ли с того Сергуни с его бабой возьмёшь?»
Только Бенцион Пайкин не принимал участия в разговоре. Был он по жизни молчаливым, громкого слова никто никогда от него не слышал, а тут и вовсе замолчал, с неодобрением посматривая на говорунов. Молился про себя, просил у Бога, чтобы этот парень из Речицы его Сенюшкой оказался. Яков, как две капли воды похожий на младшего брата, но с более крупными чертами лица, сказал:
– Чего уж теперь переживать! Сейчас всё узнаем. И ты, батя, ко всему должен быть готов. Лично я в Сенькину смерть не верю. Вот так.
Солнце ещё только подкатывалось к верхушкам деревьев, когда они подошли к дому с голубыми ставнями. Впрочем, голубыми они были когда-то, а сейчас краска облупилась, и сквозь неё проглядывали тёмные деревянные проплешины.
– Эй, хозяйка! – крикнул Коля Марченко. – Гостей принимаешь?
Лениво залаяла собака, из соседнего двора ей ответила другая. Коля потряс хилую калитку.
– Хозяева, откройте!
Дверь заскрипела, в проёме показалась женщина неопределённого возраста, простоволосая, в потерявшей цвет кофтёнке.
– Чего надо? – крикнула она. – Все свои дома. Кто такие будете?
– Женщина, – вежливо обратился к ней Фроим, – вы Коцюба Анна?
– А если да, так что?
– Сергей дома? Мы его фронтовые друзья, вот свидеться желаем.
Женщина скептически оглядела всю компанию и ехидно спросила:
– А этот, старый, тоже воевал с Сергуней? – и на Бенциона показывает.
– Этот старый, между прочим, его отец, – вдруг выкрикнул Бенцион. – Так пустишь нас в хату? Или силой ломать дверь придётся?
Анна ахнула, засуетилась, чуть ли не бегом спустилась к калитке.
– Заходьте, люди добрые, будьте ласка. Вы и вправду его батька? Сергунька казав, шо никого у него нэма.
Фроим толкнул свояка в бок: мол, с ума сошёл, мишугинер! Зачем раньше времени слова такие говоришь! А вдруг это вовсе не Сенька! Бенцион тихий-тихий, а как глянул на Фроима горячим глазом, как схватил его за руку, сжав до боли, так Фроим сразу понял, что ему лучше попридержать язык за зубами.
– А дэ ж ваш чоловик? – чуть помешкав, спросил он Анну. – Дэ наш боевой товарищ?
– А в хате. Приболел малость. Он же увесь израненный. Контуженный. Вы его не дуже тревожьте. Сергунька! – крикнула она вглубь дома. – До тэбэ гости!
В небольшую комнатёнку со столом, табуретками и русской печкой в углу вошёл парень в гимнастёрке и галифе. Увидев гостей, дёрнул худой кадыкастой шей и сделал попытку уйти. Мужчины, ахнув, в один голос вскрикнули:
– Сеня!
– Семён!
– Сенечка мой! – заплакал Бенцион. – Сын! Живой! Недаром я молился, помог мне бог!
Яков и Фроим бросились к парню, стали его обнимать. Коля схватил его своими железными руками, заорал на весь дом:
– Нашёлся! На радость мамке с папкой! Что ни говори, а Соня это чувствовала. Эх, сердце материнское!
Анна стояла ошарашенная, не понимая, что происходит.
– Какой он вам Сенечка? – тупо повторяла она. – Не Сеня он вовсе! Сергей он. Сергей Борысович.
– Ах, во-о-от оно как! – Фроим даже присвистнул. – Бенька, ты слышал? Борисович! Что скажешь?
Бенцион молча гладил сына по плечу, – худой какой! – едва прикасаясь к пустому рукаву гимнастёрки, словно бы хотел убедиться, что руки там нет. Семён выглядел растерянным, жалким. Он то улыбался, то хмурился, и было непонятно, рад ли он вообще этой встрече. Наконец-то Семён пробормотал:
– Да как же вы меня нашли?
– А ты что, ховался от родичей? – грозно спросил Коля. – Я тебе покажу, как от матери прятаться! Ишь чего удумал!
– А про какого такого Сергея Борисовича она говорит? – вдруг вспомнил Яков.
– Я документы поменял, – промямлил Семён. – Мои сгорели, когда нас в бою сбили… Был Сенькой, стал Сергуней, – добавил он жёстко. – К прежнему возврата нет. Вот видите, с одной рукой остался. Кому из родных такой я нужен!
Мужчины заговорили, завозмущались. А женщина заплакала.
– Вот дурак чёртов! – в сердцах бросил Фроим. – Родным ты как раз и нужен. Любой – без рук, без ног. Это бабы сто раз подумают, а на сто первый – бросят.
– Неправда! – запричитала Анна. – Мне он тоже любой нужен. Он чоловик мой, не отдам его никому!
Семён стоял растерянный, несчастный, его и без того худое лицо заострилось ещё больше, карие глаза потемнели и казались чёрными.
– Всё, – сказан он глухо, – принимай, Анюта, гостей. А там видно будет.
К ночи все угомонились. Анна постелила мужчинам на полу, сама ушла в соседнюю комнатёнку, крикнула оттуда:
– Так вы там не засиживайтесь, Сергуне рано на работу вставать.
– Покурим, что ли? – предложил Коля. – Во дворе. Там и поговорим.
– О чём говорить? – вскинулся Семён. – Никуда я с вами не поеду.
– Да расскажи хотя бы, как ты в Речице очутился! И почему отцу с матерью об этом не написал, – Яков еле сдерживал себя, чтобы не нагрубить брату. – Мы ж тебя уже оплакали. И похоронили. Спасибо Фроиму, это он твою личность на станции заприметил. Судьба, брат! А против судьбы не попрёшь – хоть спрячься от неё на другом краю земли.
Они вышли из дома. Ночь стояла густая, тёмная, хоть глаз выколи – даже луна пряталась за высоким вязом. Все, кроме Бенциона, задымили самокрутками.
– Знаете, – сказал Семён, – я как документы поменял, понял, что и жизнь свою менять должен. Руку у меня отрезали в госпитале… А могли спасти, мне одна медсестричка рассказывала. Некогда им было там, в госпитале, раздумывать! Чик – и руки нету. А кто про молодость мою подумал, про будущее моё? Э-эх! Вот тогда-то я и решил, что к своим не вернусь. В нашем Кривом Роге не то что без руки, здоровому работы не найти. Разве что на шахте. А какой из меня шахтёр! Образование, чтобы быть начальником, не успел получить, вот и придумал махнуть куда-нибудь подальше.
– Учиться бы пошёл. Ты ж лучшим учеником в классе был, Ивана Франка наизусть шпарил, «Каменяры». Помнишь?
– Помню, Яша, помню. Но учиться не пойду, на шею родителям не сяду. Люба и Федя устроенные, при семьях, а вы с отцом и матерью живёте… Раечка с Маней ещё школу не закончили. И тут – здрасте вам! – я заявляюсь, инвалид безрукий! Когда Аню встретил, понял, что это неспроста, что так богу угодно. Хотя в бога я не верю… Аня вот верит… Лучше пусть меня погибшим считают, чем семью обременять.
– Где ж вы с ней познакомились? На фронте? Вроде не похоже. В госпитале, что ли? – Коля свернул новую «козью ножку», закашлялся, раскуривая.
– В поезде вместе ехали. Теснота, духотища. А я после операции чуть живой. Угостила она меня картошечкой горячей, пирогом с капустой. Давненько я домашнего не ел. А потом говорит: «Жалко мне тебя, солдатик, война жизнь твою раскорёжила». И с собой позвала. Я ж ей сказал, что никого из семьи не осталось, всех война унесла. А она одинокая… Вдова. Похоронку в сорок третьем получила.
– Видел я дураков, Сеня, но такого, как ты, в первый раз вижу, – Коля даже побагровел от возмущения. – Открестился, значит, от всех? И от матери, что тебя на свет божий произвела, и от братьёв, с которыми в догонялки в детстве играл! Эх ты, не знаешь, что ль – за битого двух небитых дают!
– Может, и дают, да не больно-то берут, – усмехнулся Семён.
– Вот что, – сказал вдруг до этого молчавший Бенцион, – хватит друг друга шпынять. Поедем домой, с матерью повидаешься. Мать нельзя обижать… А дальше – как тебе твоя совесть подскажет.
На этом и порешили. Наутро Семён сообщил Анне, что хочет на недельку съездить домой. Женщина зарыдала:
– Не вернёшься ты, чую! Ох, лышенько! Зачем только гостей незваных в дом пустила! Убирались бы вы подобру-поздорову, пока я вас поганой метлой не погнала!
– Аня, уймись, – Семён растерялся, не зная, как себя вести. – Это ж мои родичи всё-таки. Вернусь я… Вернусь. – Но уверенности в его голосе не было.
Когда уже все, кроме плачущей Анны, вышли из дому, Фроим вдруг хлопнул себя рукой по лбу:
– Вот дурень, кепку забыл!
Он вернулся в комнату, подошёл к женщине и, глядя ей прямо в глаза, сказал:
– А ты знаешь, что твой Сергунька еврей?
– Нет, – испуганно пробормотала Анна.
– Шо, нэ бачила, он же обрезанный!
– Нэ бачила, – ответила женщина. – Я ж в этом нычого нэ розумию.
– Так вот, милая моя, – Фроим перешёл на русский, – он еврей, по-вашему – жид. А еврей не может жениться на гой-ке. На чужачке, значит. Вера не велит. Ферштейн?
Анна молчала.
– Ну, я пошёл. Будете в наших краях, заходьте!
Анна сделала попытку что-то спросить, но, натолкнувшись на острый взгляд Фроима, смешалась и опустила голову. Фроим уже переступал порог, когда она громко крикнула ему в спину – так, чтобы её было слышно во дворе:
– Дядьку! Кажи Семэну вашему, шоб не возвертался!
Вечером того же дня они прибыли в Кривой Рог, и Соня
Пайкина, еле живая от потрясения и счастья одновременно, целовала-обцеловывала Сенечку, не отпуская его ни на шаг от себя, и приговаривала:
– Ох, Фроимкэ, хорошую картошку вы привезли мне из деревни! Никогда такой вкусной не ела! Даже до войны.
Младшая из Пайкиных, тринадцатилетняя Маня, которую в семье называли Манюськой, повисла на брате и визжала от восторга.
– Вот это да! – толкала она среднюю из сестёр. – Глянь, Райка, сколько у него медалей! Больше, чем у Фёдора! Ты настоящий герой, Сенечка! Завтра в школе похвастаюсь.
– Герой, ещё какой герой! – смеялся Фроим и хлопал Семёна по тощей груди.
Соня, седая, грузная, сидела как королева-мать у трона сына. Сдержанно, как и подобает знатной особе, она улыбалась и со значением посматривала на мужа, словно бы говорила: «Вот, Бенцион, каких детей я тебе нарожала! Ни у кого нет таких!»
В этом она была абсолютно уверена.
Ханох Дашевский
Родился в Риге. Учился в Латвийском университете. В течение 17 лет добивался разрешения на выезд в Израиль. Был одним из руководителей нелегального литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике», в рамках которого впервые начал заниматься поэтическим переводом. Продолжил в Израиле, где проживает с 1988 г.
Член Союза писателей Израиля, Международного Союза писателей Иерусалима, Международной гильдии писателей. Печатные издания: «Ханох Дашевский. Из еврейской поэзии. Переводы с иврита и идиш» (изд-во POEZIA.US, Чикаго, 2014); Перец Маркиш «Куча», перевод с идиш Ханоха Дашевского (изд-во «Книжники», Москва, 2015); «Из еврейской поэзии. Перевод Ханоха Дашевского» (изд-во «Водолей», Москва, 2016). Многочисленные публикации в журналах и альманахах Израиля, США и Германии и в Интернете.
Ури Цви Гринберг (1896–1981)
В Царстве Креста
Поэма
Перевод с идиш Ханоха Дашевского
Аннотация переводчика
Написанная в начале 20-х гг. прошлого века в Варшаве на идиш экспрессионистская поэма классика еврейской поэзии на иврите Ури Цви Гринберга выражает протест против лицемерного поведения католической церкви, насаждающей антисемитизм в польском обществе, и содержит предсказание Холокоста, вызвавшее в тот период недоверие и критику в широких еврейских кругах. Поэма впервые переведена на русский язык в преддверии отмечаемого в этом году 120-летия Ури Цви Гринберга.
* * *
Дремучие чёрные чащи, равнины, равнины — долины страданья и страха в глубинах Европы! Здесь в дебрях лесных, в полумраке зверином, в одеждах кровавых висят мертвецы на деревьях. (Серебряный отблеск лежит на их лицах, и масляный свет льют на них золотистые луны.) Крик ужаса здесь — голос камня, упавшего в воду, молитва здесь — слёзы, потоком текущие в бездну. Я – птица, чей крик будит полночь слепую в долинах страданья, где царствуют башни с крестами. О, если б нашёл я приют на Востоке, среди аравийских песков, в бедуинских кочевьях! Но болен я страхом овцы: полумесяц приставил свой серп к моему обнажённому горлу… Я гибну от ужаса на перепутьях Европы, я вижу подставивших шею, готовых к закланью. Кровавым плевком я окрашу крестов позолоту. Евреи! Разбухнув, качаются головы ваши. Две тысячи лет полыхает молчание в бездне: отрава, которая ест и побеги, и корни. Две тысячи лет кровь из вен вытекает, и нет никого, кто б ответил слюной ядовитой. Записаны в книгах деяния рук Амалека[2], и только ответ наш на кровь в эти книги не вписан. Дремучие чащи, бескрайние чёрные дебри страшны ещё больше, когда их луна озаряет! Крик ужаса здесь – голос камня, упавшего в воду, а кровь из раздувшихся вен – как роса в океане. Европа великая! Царство Креста! Когда воскресенье наступит, я праздновать буду: я лес тебе страшный открою, тебе покажу я, Европа, гниющие трупы моих мертвецов на деревьях. Порадуйся, Царство Креста! Смотри – и увидишь в долинах: колодцы пусты, и убиты вокруг пастухи, и головы мёртвых ягнят белеют у них на коленях. Давно нет воды в тех колодцах – одно лишь проклятье.* * *
Вы нас не пускаете к солнцу, убить нас готовы ещё до того, как с ресниц наших сны упорхнут золотые, ещё до того, как молитва заре растворится в пространстве. И тысячи тысяч в лесной полумрак убегают, туда, где во взгляде овечьем ноябрь[3] отражается блеском ножа для закланья. И там, под деревьями страха, рождаются дети с отравленной кровью: они увядают быстрее, чем розы. Для вас я не буду сажать плодоносные рощи. Стоять оголёнными будут сады моей скорби у ваших костёлов. Звучат без конца колокольные звоны под вечер со всех ваших башен. С ума они сводят, они мою плоть разрывают, как хищные пасти. На сучьях в лесу я тела моих мёртвых повешу, оставлю их гнить на глазах у созвездий, беспечно сияющих в небе. Я в тёмный колодец во сне опускаюсь. Я вижу распятых евреев, я вижу, как, вытянув шеи, залитыми кровью глазами глядят они в окна, шепча на иврите: «А где же Пилатус[4]? А где же Пилатус?» Откуда же знать вам, что ужас у вас в изголовье, что чёрным пророчеством он ваши сны отравляет? Ведь сон забываете вы, потому что с рассветом звонят колокольни. Я чёрные дни вам пророчу из наших низин, где спасение мы ожидаем, из наших обугленных душ и мольбы ежечасной! Тот ужас не сможете вы ощутить вашим сердцем. Вы будете сплетни свои громоздить воспалёнными ртами, ругаясь: «Евреи, евреи!», пока не окутает газ ядовитый церковные своды, пока не застонут на идише ваши иконы.* * *
Лежат меж деревьев тела пастухов неподвижно, и радуги отблеск мерцает у них на ресницах… Хлева догорают. Испуганно мечется стадо. А люди поленья подносят, костру не давая угаснуть: ведь алчет немедленной жертвы серебряный крест! И падают замертво овцы, в дыму задыхаясь. Белы их глаза и огромны – огромны, как луны… Так яд поедает траву, так свершает закланье чума! Вновь день после ночи пожаров, и ночь – ночь молчанья: наполнены страхом домов опустелых глазницы, и запах гноящихся ран над крестами восходит. (Один уцелевший здесь – я с мефистофельской злою усмешкой). Овца, у кого ты просить милосердия станешь, когда твой соломенный хлев стоит во владеньях Пилата, а луг, на котором пасёшься, – на огненной Этне!* * *
Разорванный талес[5] на раненом теле. Хорош этот талес еврейский – в нём телу удобно: ещё не зажившие раны ветра не засыплют песком. Слышны колокольные звоны, евреи трясутся. Не надо трястись так, евреи! На кладбище я стерегу могил свежевырытых ряд. Клеймо ваших ран на челе моём рдеет. Я царь в этом талесе – в мантии красной и рваной! Я каждой руке отомщу за пролитую кровь в болотах, в сараях, на улицах и у порога костёлов. Иначе зачем им носы и зелёных два глаза? Иначе зачем нам два ряда зубов и костлявые два кулака? Отец! Покраснела стена в этом городе, видишь? Приблизился вечер, и скоро засветятся звёзды. Чего ты добьёшься молчаньем и кротостью вечной? Не помнишь ты разве, что страж наш – Господь, что дрожать ты не должен?! Горят Небеса… О милости будем молиться! Ведь милость нужна Небесам… Небеса потемнели! Подумай, они ведь не чувствуют боль, не страдают, как плоть человечья? Ты умер? Я Имя тогда назову, и осядут высокие башни костёлов, откуда несётся сводящий с ума перезвон. Как дрожал ты! А ныне останутся только (для памяти и для рассказов) на кровлях железных кресты, как кресты на надгробьях. Из кладбищ, из тысяч и тысяч могил еврейское воинство встанет и выйдет с оружьем, и будет в шофары[6] трубить на все стороны света. Иначе зачем алый шар поднимается в небе? Иначе зачем в этом городе красные стены?* * *
Багровое солнце. Еврей на закате Европы. Дом в городе страха. Обилье крестов в поднебесье и звон колоколен. Завеса истлела. Дверь шкафа со свитками Торы висит на петле, как подстреленной птицы крыло. В крови голова этой птицы, посыпана пеплом. Грошовая свечка в гробу полутёмном мерцает и светит внутри, будто в сумрачном зеве. Отец мой сидит неподвижно и смотрит на запад: всё ждёт, что услышит оттуда он звуки шофара и весть, что пришёл сын Давида и улицы Рима в огне. (Наверно, поэтому окна пылают и острые шпили). Тебе хорошо здесь, отец, ты сидишь неподвижно, лицо пламенеет в лучах уходящего солнца, похож ты на солнце. Но там, во дворах Амалека – там мама моя над колодцем стоит и кричит в яму с чёрной водою: «Верните мне голову – здесь голова моя тонет! Зачем она вам, что её отсекли вы от тела, злодеи?!» А птицы поют, как назло. И над чёрным колодцем кровавые яблоки зреют, когда наступает рассвет после ночи. Кто знает, откуда являлись наездники эти, которые наших сестёр в логовища тащили? А после – стенания рек о деяньях сынов Амалека: ведь женщин тела обнажённых теченье выносит на берег.* * *
Не только над чёрным колодцем – повсюду на яблонях зреют плоды, но не мы их срываем, ведь красные яблоки эти созрели на нашей крови. Проникла осенняя сырость в тела иудеев: нет сил у нас больше взывать, небеса сотрясая — в костях дотлевает бессильный обугленный крик. Сквозь глубь синевы не доходят стенанья до Бога. Но чует земля, что беда идёт следом за нами. Земля к нам добра, нам любовно она предлагает: прильните ко мне, укрываясь моим одеялом, не ждите заката. А ночью над нами поющие звёзды восходят. И бархатно небо. И есть ещё милость в страданье. Но страшен, как Марс, окровавленный облик луны. Так падает Каин на землю, с Эдемом прощаясь. Дурман опьяняющий, запахи крови и вербы. И мечется Бог – ему тесно в чертогах. Рычит он, как раненый лев, и срывается с Трона, и мчится в небесных снегах – так ему одиноко.* * *
Отец! Что, евреи бездомные, сделать мы можем? Оставил Господь сыновей, оставил пастух своё стадо. Спустилась в сады наши осень, в крови нашей серый туман. Пустынный наш край на востоке – приют для шакалов, а здесь нам цыганский шатёр служит кровом неверным: любой поджигает его, как солому, и топчет. Все дни наши здесь, чтобы каялись мы: «Преступали!» И взор отводили тоскливый, встречая друг друга. Ночами вселяется ужас в дома наши: чёрная птица. Что можем мы сделать – напуганных горстка евреев, когда возвышаются римские башни над нами, и звон колокольный должны каждый вечер мы слушать, и в чёрные наши субботы, и в чёрные праздники наши. Проклятие жить так, когда ежечасно огонь может вспыхнуть повсюду: костры под ногами, костры под домами. Что можем мы сделать – напуганных горстка евреев, когда наши жёны и дети кричат нам: «Спасите!», и крыши пылают, и пламя горит в наших окнах. Проклятье быть телом, которое топчут, как уличный серый булыжник – но тело не камень. Из мяса оно и костей и почувствовать может, как лезвие режет. Где мужество взять нам, отец, чтоб на башню подняться, и колокол сбросить, ввергающий разум в безумье? Сорвать этот крест золотой, достигающий неба, горящего медным закатом? Смиримся, сойдём же в долины страданья, где зреют плоды наших слёз под деревьями страха. Сорвём те плоды и вонзим их шипы ядовитые в глобус!* * *
Я вас ненавижу до кончиков пальцев, скрывая в горящей от яда груди нашу чёрную правду: Быть двадцать веков Агасфером и не поклоняться Кресту. Мой ужас за мной заостренною движется тенью, как будто наточенный меч, занесённый над нами. Я – в сердце Европы. Я думаю: как же случилось, что те, кто Бейт-Лехему молятся здесь на коленях и Библию чтут – это те, кто мечтает библейский народ истребить, без остатка его уничтожить? Об этом сказали давно мудрецы, только мы позабыли (но звёзды горят, даже если глаза их не видят): «Лишь чудо спасает нас тут, в этом логове львином». О, правду, великую правду мои мудрецы говорили: Что мёртвый в костёлах – не брат наш Йешуа, а Езус, что он в Вифлееме рождён, не в селенье еврейском Бейт-Лехем, и что Магдалина не Мирьям, еврейская дочь из Мигдала, с кувшином прозрачного масла, в одеждах льняных, а Мария. А что же тогда миллионы кричат: «Аллилуйя!», когда проплывает над ними в процессии сын Галилеи? Об этом скажу я, еврей, обескровленный так же, как множество множеств других, в рваных талесах и с ремешками — в стихах изливающий тысячи лет нашей скорби: Эй, мир, посмотри: верят в ложь миллионы! Бейт-Лехем – селенье евреев! И мёртвый еврей Йешуа на стенах костёлов развешан!* * *
Казните их всех: тех, что ходят по улицам вашим, объятых тоскою, с глазами, глядящими в землю. В крови их отрава – там кладбище слов ядовитых, которых они никогда вам не скажут. Но я их скажу, еврейский поэт в этом Царстве Креста. И множество тех, что в крови своей носят отраву безмолвных проклятий – те солнца не видят, а видят лишь луны, лишь луны в опаловых водах. И множество это всё движется дальше и дальше по морю, по суше – и столб идёт следом за ними: привязан к нему иудей: «Боже, Боже!» кричит он сухими губами в пустое пространство. Казните их всех, молчаливых: они вам не скажут тех слов ядовитых, которые я говорю вам!* * *
Я здесь, в вашем Царстве родился, в глубинах Европы, под сенью Креста, где тоскует печальная ива над омутом тёмным. И только в тумане рассказов я видел Бейт-Лехем, далёкий и синий. Я знаю: здесь каждого страх поражает. Боятся они, что бандиты к ним вломятся в полночь с ножом, топором и убьют их в постели. А может, я сплю, и всё это мерещится мне? Во сне ли услышу иль в час пробужденья те крики, что рушат небес безмятежность?! Отправьте меня за пределы полей ваших, к морю. Оттуда – в края, где блестит золотой полумесяц. Он острый, как серп, и приставлен сынами пустыни к овечьему горлу. Отправьте меня на Гудзон – там живут мои братья и доллары копят – «жидовскую копят монету, чтоб с нею в Европу приехав, скупить все алмазы славянской короны»… Отправьте к соседям, в Совдепию, к брату: Он там комиссаром – ни слова по-польски не зная, на идише пишет декреты свои для поляков[7]. О царство страданья, лесное славянское царство! Наш след на земле твоей – кладбища наши. Гниют там евреи, лежат поколенья в могилах, и пищею служат червям, и питают древесные корни. Куда же идти, где искать себе новое место, чтоб звон колокольный ваш больше не слышать, не видеть кресты золотые и шествия ваши. Одно только место такое: глубинные воды, куда не доходит гул вашего Царства. Но я не хочу опускаться в морскую пучину, пока ещё суша цветёт и сияют ночные созвездья. Я просто беду ощущаю, которая ждёт нас под сенью Креста.* * *
Затмение солнца у вас, в полутёмной Европе, и рад я тому, что затмение солнца настало. Так радостно кровь молодая по жилам струится, и реет над тканью одежд аромат предвечерья. Багровою ночь будет в Царстве Креста! Я свод ненавижу небесный, лежащий на шпилях. Для нас это медь – она давит на головы наши. Для нас это небо, откуда дождю не пролиться. Проклятье лежит на полях, и они не дадут урожая — но то, что нам здесь уготовано, — с вами случится!* * *
Проклятье приходит к нам с ломтем осеннего хлеба. Отчаянье пьём мы с водою из чёрных колодцев. А ночью является страх, перед тем как постели коснёмся. Так дни здесь проходят – и стелятся запахи ивы над реками мрака, где тлеет ноябрьский ужас. А ночью слетаются совы оплакивать лето. Сидят пастухи наши мёртвые на побережье, а овцы испуганно мечутся ночью пустынной и влаги для ртов опалённых своих не находят. Но утром и вечером в мире царит вожделенье. Есть чудо рассветного неба, есть чудо заката. И в полночь с землёй в наслажденье сливается тело. И лишь старики у нас рано встают, до восхода. В сердцах у них сумрак: полны их сердца, словно ивы, осенним кошмаром. Предчувствием смерти.* * *
Мирьям, Мирьям, мне больно, что в затмении тащат твои образа по Европе и бормочут с амвонов, тебя называя Марией… Если б мог я к тебе подойти в час, когда ты плывёшь над толпою, чтобы губы твои целовать, словно розы Шарона, и тебе рассказать, что живут здесь евреи, евреи простые, и что есть у них жёны и дети в этом городе, городе страха — раскололся бы тотчас мой череп и вытек белый мозг мой на камень, а толпа продолжала бы путь как ни в чём не бывало. Кровь течёт, я иду, но ты, Мирьям, об этом не знаешь, и звучит твоё имя: Мария. Звучит на латыни.* * *
Улетают в скитание птицы – прекрасны их птичьи скитанья. Сердце мира открыто для них, озарённое светом: вольной стаей взлетают они, устремляясь в просторы, — и с ними поднимается солнечный круг, и бежит он с востока на запад. А усталым ногам говорят вавилонские реки (сквозь туман, полный слёз, застилающий звёздное небо): «К нам, бездомные, к нам возвращайтесь из края страданий. Вы устали в пути, а дороги уходят всё дальше. Велика перед вами земля – так войдите же в реку, и она унесёт вас в глубокое счастье покоя, в океан беспредельный». Мой суровый отец, моя мама – само благочестье! Не прислушаться ль нам? Уже вечер. В тумане, полном слёз, не войти ли в поток, что уносит в океан беспредельный?.. Или мы не хотим изумляться цветению лилий, видеть ясный закат, любоваться походкой красавиц? Но отрада для всех – океан беспредельный… Не прислушаться ль нам, ведь туман полон слёз в этот вечер?* * *
Красен хлеб наш субботний. А красные яблоки наши — как кровавые луны, лежащие в чёрных озёрах, как кровавые луны, созревшие в ночь полнолунья в вашем Царстве Креста. Велико это царство: моря занимает и сушу. И кого здесь волнуют вавилонские реки, чьи потоки оставили нам непросохшие слёзы бесконечного плача? И кого здесь волнует, что хоронят упавшее в воду чьё-то тело, а рядом стоят лики смерти живые — люди в чёрных одеждах: они окружают череп женский пробитый, наполненный грязью и тиной. Для того колокольня, чтобы слушать нам звон похоронный, слушать колокол скорби. А ещё есть в костёле орган, что поёт «аллилуйя» в чёрный вечер субботний – словно кровью он мажет двери наших домов: знаки Каина ставит.* * *
Может, самое чёрное вижу я здесь из пророчеств, каждым нервом своим ощущаю я ужас, оттого что сбываются эти виденья здесь, в долинах страданья, на земле христианства. Мы сошли со ступеней крутых, на которых стояли, покачнул наши лестницы ветер Европы: всем любовь – даже тем, кто готовы нас резать, даже душам злодеев – Небесное Царство. Пламя в наших глазах, опалённое небо: и пылают костры, и снуют между ними евреи, и ни слова не могут сказать, и не знают, где выход, и не видят, что небо в огне и что бездна под ними. Только мельницу видят они, чьи вращаются крылья в ядовитом пространстве, и мелют, и мелют воздух кладбищ осенних, старых кладбищ Хешвана[8]. Как могу я, идущий от страданья к страданью, одинокий еврей, в чьей крови страх еврейский и ужас, ужас ночи насилья слепой и закланья овец – как могу я пробудить это павшее воинство: тысячи тысяч на полях Украины, на польских дорогах! Чтобы встали они и себя, своё множество сами увидали: червями обглоданных мёртвых евреев в снежном Царстве славянском, в стране колокольного звона. Только ночью встаёт это воинство мёртвых, и когда я иду к своей белой постели, к моей белой постели их тени подходят, говоря: «Посмотрите на нас, посмотрите! Вот таким ваш конец – всех и каждого – будет!»* * *
Только десять евреев останутся после закланья, чтобы видели все: был народ здесь, в краю колоколен. Но в крови своих ран не придут они к римским воротам. Как случилось, что вместо Давидова Царства есть у нас обветшавшее царство литовских местечек, где мы сумрачный сон иудейский наш видим о берёзах, корнями вцепившихся в землю, и о лунах, мерцающих над изголовьем… Есть у нас царство польских тоскливых предместий (где порой наши сны прерываются воплем), Есть край скорби и ужаса на Украине — тот простор, где закланье овец происходит… И ещё есть на суше, от моря до моря, много мест, где раскрытые ждут нас могилы. Есть и мельница – чёрными машет крылами и касается туч: милосердия просит. И шатры есть цыганские – ставят евреи их, кружа по земле, будто солнце по небу. Только десять останутся, с горлом овечьим, слепые, но останутся вечно. Детей породят они в страхе, с тонкой шеей, с глазами, как птицы в тумане, с кровью сморщенных роз – а ночами трубить будет некто, звёздный свод сотрясая.* * *
Если б мог удержать я пылающий Марс на орбите, чтобы он осветил, сквозь затмение солнца, дороги, где сидят наши матери возле обочин и баюкают там своих мёртвых детей на коленях, своих мёртвых ягнят и птенцов на распутьях Европы. На востоке, на западе – всюду кошмар под крестами! Что я сделать могу, собирая в кулак наши слёзы? У обочин сидеть, молча плакать в тени колоколен и баюкать ягнят и убитых птенцов на коленях? Или кладбище выкопать в сердце Европы для погибших ягнят, для птенцов моих мёртвых?* * *
В облаках кто-то водит смычком окровавленной скрипки. Час молитвы пришёл! Встаньте в угол, молитесь, мои мать и отец, за меня на закате! Потому что ваш сын, хоть на нём христианское платье, он еврей всё равно, он скиталец, бродяга, на висках его – пейсы; Если их не увидит никто, это значит – мой профиль незаметен в тумане. А ещё здесь, в тумане, звучит мандолина, но тоска от неё в этот час предвечерний. Потому что еврей в элегантном костюме под крестами здесь бродит – один в этом Царстве на исходе субботнего дня, когда звёзды восходят. Изумрудно-пьянящая ночь, запах мяты и яблок, голубой аромат, полнолунье над лицом материнским, над лесом страданий, над телами моих мертвецов на деревьях… В кафедральном соборе висит обнажённый Йешуа, и блестят серебром неподвижные старые лампы.* * *
Оберните бурнусом меня и набросьте на плечи мне талес, ибо вспыхнул угасший Восток и горит в моих венах. Заберите обратно мой фрак и ботинки из лаковой кожи — всё, что здесь я купил, чтобы стать европейцем. Посадите меня на коня и отправьте в пустыню, Возвратите в пески вместо роскоши ваших бульваров. Есть в пустыне народ с обожжённою бронзовой кожей. (Колоколен там нет и крестов, лишь созвездья сияют). И когда воззовёт кто-то бронзовый голосом зычным и воскликнет: «Любовь!» – и взойдут полуночные звёзды — отзовётся вода голубая, разлившись у края пустыни, отзовётся любовью. 1922–1923Ярослава Фаворская
Родилась в 1972 г. Педагогическое образование. До 1999 года жила в Риге. Работала журналистом в газете «Бизнес & Балтия», в бизнес-журнале «Карьера». Участвовала в ряде арт-проектов. Первые стихи печатались в газете «Советская молодежь», в Волгоградской областной газете в 1988-89 годах. До 1994 года писала в основном в традиционной манере. После знакомства и дружбы со знаковыми для меня фигурами Алексеем Ивлевым, Олегом Золотовым, открывшим для меня мир авангардного искусства и либрической поэзии, обратилась к верлибрам.
Живу в Израиле, член Союза писателей Израиля. Стихи опубликованы в «Антологии поэзии Израиль 2005», составитель Александр Кобринский, в ряде выпусков «Южного альманаха», в журналах «Знаки ветра». Отрывки из повести напечатаны в «Альтернативной антологии прозы» (составитель Владимира Тарасова). Работала журналистом в газете «Русский израильтянин», печаталась в «Вестях» и «Новостях недели». Финалист международного поэтического конкурса «Дорога к Храму». Участник ряда арт-проектов. Автор книги стихов и короткой прозы «Верлибры Рифмы» (Израиль, 2004).
Сказка
Я родилась – верно, ведунья сглазила, русалки голые на озере ворожили, гномы зелье варили, меня опаивали, соблазняли, в искус вводили, искушение, покушение. Искус искусством, искус Иисусом. А я думала – змей укусил, искусил, запретное яблоко предложил.
Мамушка меня в поле нашла, в подоле домой принесла, а баба с дедом глядят зло, дед на мать замахнулся: «Приблуду, – говорят, – принесла, блудила с кем-то, пропащая, лучше бы ты умерла».
Мама плакала, а я как трава сорная, негожая, сама по себе росла. Глаза бесстыжие тоже видят божий свет. У пруда сидеть подолгу повадилась, глядела в воду – я ли не пригожая, чем я им не мила? Солнышко греет, на яблоньке дикой яблоки тоже сладкие, в овражке ягодки красные, спелые, в шиповнике шмель жужжит. Венок сплела из ромашек и колокольчиков. Запах сена, трава сочная, мягкая, вода глубокая студеная – век бы здесь провела.
Русалки выплыли, сказали:
– Иди, сестричка, твоя кровь холодная, тело гибкое, глаза зеленые, ты нам сестра, там на дне хрустальный дворец, жизнь тихая, неземной покой. Нырнешь – скажем тайну страшную, людям неведомую, будешь её хранить.
Я с сестричками поплавала, а потом сказала:
– А что с вами будет, когда зимою озеро промерзнет до дна? У меня ноги есть, я домой пойду…
Дома маму опять спросила:
– Почему нас люди не любят, почему в глаза не смотрят, о чём за спиной говорят? Откуда я, мамочка, откуда такая взялась?
Она рукой ласковой до щеки дотронулась, тихо мне говорит:
– Я в лугах гуляла, землянику собирала, венки из ромашек плела… Ноченька рано на землю опустилась, в небе синем белые звёзды зажглись… Шла домой, сумерки, сверчки и соловьи поют. Вдруг вижу – с неба звёздочка упала и за дальним овражком лежит, мерцает, ясная. Я подбежала – там ты лежишь.
Мамушка меня в поле нашла. В подоле домой принесла.
Зима пришла. Озеро льдом затянуло – где мои подруги, русалочки? Может, путями подземными успели уплыть в тёплые моря? Иней на солнце переливается, весь мир – как хрустальный дворец. По колено снег, по пояс снег, набился в валенки, в рукавицы. До дому далеко. Метель началась, иголками в лицо, ноги и руки стынут, озноб прокрадывается внутрь, оковывает ледяной бронёй и вдруг – тепло, спелый жар.
Очнулась у огня. Огонь в печке по поленьям потрескивает, дымом пахнет. Истома сладкая.
– Сомлела ты на холоде, – говорит мне незнакомый голос. – Хорошо, недалеко от меня.
Глянула – женщина с лицом ласковым. Дала мне выпить отвара горячего. Отвар пахнет летом, земляникой, пропечённой на солнце, душистым сеном.
Вставать не хочется, пригрелась я. Говорить не хочется.
– Полежи, отдохни, хочешь – не говори ничего, – её речь журчит, вливается звенящим весенним ручьём в уши. – Русалок ходила проведать? Да они уплыли давно в моря тёплые. Им там хорошо, там рыбки как птахи – красные, синие, жёлтые. Хочешь, деточка, я тебе поворожу? Скажу, что на роду написано, предскажу судьбу, от злого глаза оберегу?
Взяла мою руку, в глаза посмотрела.
– Как исполнится тебе 15 лет, заберут тебя в страну дальнюю, южную, где солнце нещадное превращает землю в песок и камень.
Пойдёшь по земле, неузнанная, ослепленная обезумевшим раскалённым солнцем. Пыль запорошит глаза, набьется в легкие. Вспомнишь иголками в лицо метель и запах первого снега, знай – к прошлому возврата нет, возврата к прошлому, нет возврата.
Ночью метель утихла. Вышло солнышко. Пошла утром по деревне – люди косятся:
– У ведьмы была, – говорят. – Ворожила, демонское отродье, теперь у неё чёрный глаз. Если беда какая – как бы не от неё?
И, опустив глаза, чтоб не сжигать их взглядом, всё думала: «В сущности, ведунья – только слово. Ведьмачила, велась, была ведомой, сама кого-то за собой возьму, велела ведь поведать ведьмам это ведовство. И открывала книгу с древней ведой».
Сказка 2
На её локтях и коленках алели свежие ссадины, руки и лицо были перепачканы. Она пришла рано утром, когда мужчины открывали ставни, хозяйки готовили на кухнях завтрак, а дети выбегали в сад, чтобы собрать в корзины свежих фруктов. Первыми с ней заговорили мальчишки.
Дон стоял у калитки отцовского дома и оживлённо обсуждал предстоящий поход на рыбалку к дальним карьерам за Сонным озером. Дон рассказывал, какого здорового леща поймал в тех карьерах, Тед внимал ему, смакуя румяное яблоко. Вдруг Дон осёкся и замолчал, прервавшись на полуслове с приоткрытым ртом.
– Ты что? – спросил его стоящий спиной к улице товарищ.
– Глянь, кто это? – Дон жестом обратил внимание приятеля на происходящее.
Тед обернулся.
– Эй, – окликнули они проходящую мимо. – Ты откуда? Как тебя зовут?
– Лиза, – сказала она. – Тут у моего папы машина сломалась, недалеко, за теми деревьями.
Мальчишки никогда не видели машин и не слышали такого слова, но Тед переспросил:
– А что там сломалось-то?
– Колесо прокололось и с мотором что-то, – ответила Лиза.
– Я сейчас дядю Йона позову, он в колёсах знает, – тут же сорвался и побежал в дом Тед, оставив Дона наедине с Лизой.
Дон стеснительно отвёл взгляд от её голых коленок под лёгкой оборкой юбчонки.
– Это что ты, в сорочке ночной, что ли, разгуливаешь? – хмыкнул он смущённо.
– Что? – Лиза окинула взглядом его одежду из цельного груботканого холста и ответила: – Нет. У нас мода такая.
Она употребляла в речи непонятные слова. Дон пожал плечами.
Тут подбежал Тед, за ним степенно шли дядя Йон и дед Сэм.
– Что стряслось, ребятки? – спросил Йон.
– У нас машина сломалась. Папа остался там. Это недалеко. Ему нужна помощь.
– Пойдём, коли так, – сказал Сэм.
– Вы откуда же будете? – бодро спросил Йон, вышагивая в указанном направлении.
– Из Таунвилля, – отвечала Лиза, едва поспевая за ним вприпрыжку.
Йон никогда не слышал о таком городе, но спросил:
– Далековато, наверно. И как вас сюда занесло?
– Мы ехали в музей Коринара, папа сказал, это будет очень полезно для моего развития посетить такое место, там хранятся подлинники Радара, мы рассматривали вчера репродукции на их сайте, даже на мониторе это так впечатляюще, – говорила она непонятные слова.
Йон и Сэм отстали на пару шагов, и Дон услышал, как Йон прошептал старику:
– Не пойму и половины того, что она там лепечет. А она не того ли? Вроде как не в себе…
– Погодь, погодь, поглядим, – пробормотал старик.
Когда они подошли к покореженной машине, помощь её
отцу уже не требовалась. Его тело было изранено, но лицо даже не было искажено предсмертной мукой.
Его отнесли к Сонному озеру, положили в лодку, усыпанную цветами, подожгли и оттолкнули от берега.
На рыбалку Дон и Тед в тот день так и не попали…
Девочку, за всё время не проронившую ни слезинки, привели в деревню и посадили на скамью около дома деда Сэма.
– Посиди, пока мы на стол накроем, – сказали ей.
Скоро её позвали в дом, но она будто не слышала. И когда
Сэм подошёл к ней и, приобняв за плечи, попытался увести её, она неожиданно спокойно сказала, взглянув прямо в глаза старику:
– Оставьте меня, пожалуйста, мне крайне необходимо посидеть здесь в одиночестве.
Старик не знал, как ответить, и оставил её. Люди постояли вокруг, повздыхали. Лиза не замечала окружающих и смотрела на закатное небо.
– Я за ней присмотрю, люди добрые, – сказал Сэм. – Спокойной ночи, соседи.
Когда утром дети вышли на улицу, Лиза так же сидела на скамейке.
Она просидела так два дня.
Несколько раз Дон пытался заговорить с ней. Однажды Лиза отреагировала.
– Так вы не знаете, что такое Интернет? – спросила она.
– Нету тут у нас такого, – ответил Дон. – Что это?
– Ну… там очень много всякой информации… всё что хочешь можно найти, даже друзей, переписываться там или видеть даже… – Лиза впервые за долгое время оторвала взгляд от горизонта и взглянула в лицо Дона, выражающее сочувственную заинтересованность.
– Понимаешь, – продолжала, оживляясь, Лиза, – вот коробка, да, коробка стоит на столе, а от неё провода идут, а там антенны, подсоединённые к спутнику. Ах да, это средство! Средство связи! Глобальная сеть! Паутина, да… – Лиза внезапно осеклась, уловив сомнение в выражении лица Дона.
– Да ладно, паутина, – сказал Дон. – Напутала ты что-то.
Подошла тётя Рута и сказала девочке:
– Я платье тебе новое пошила и баню истопила. Хватит уже сидеть здесь. Татку твоего всё одно не вернёшь.
Лиза неожиданно легко поднялась и пошла за тётей Рутой.
Потом дети позвали её по ягоды. Она пошла с ними, и в холщовом платье до пят, босоногая, ничем не выделялась среди местных ребятишек. И так случилось, что она будто заплутала, потерялась. Ходили кликать её к овражкам за Синей рощей, да так и не дозвались.
– Интернета нету, нашли бы её, – сказал Дон неожиданно.
Темно уже было. Взрослые попеняли детям да разошлись, сговорившись поискать чудную девчонку завтра.
Она вышла к деревне сама, на третий день, в пышном венке, с охапкой цветов. Глаза её будто поголубели сильнее, сияли, как два озерца.
А зимой через их деревню в серебряных санях, запряжённых тройкой белых коней с развевающимися белоснежными гривами, проезжала укутанная в соболя фея из недоступного старого замка, что стоял на горе за лугом, поросшим травой забвения. Она подхватила девочку, усадила в сани и увезла, и больше в деревне её не видели…
Лиза
Это было в детском отделении больницы в маленьком провинциальном городке, куда тридцативосьмилетняя бездетная Антонина пришла навестить единственную племянницу.
Одиннадцатилетняя Ольга перенесла тяжёлое воспаление лёгких и, ослабевшая после высокой температуры, рассеянно отвечала на сочувственно-ободряющие тёткины реплики. На гостинцы она взглянула равнодушно. Антонина положила конфеты и фрукты на тумбочку и вдруг почувствовала, что кто-то тянет её за рукав. Крошечное существо, остриженное наголо, тонущее в непомерно большой, застиранной до дыр и всё же жёсткой полосатой пижаме. Существо с огромными глазами бездонной небесной голубизны на мертвенно-бледном личике покосилось на гостинцы и издало неопределённый просительный звук. Антонина улыбнулась, протянула ребёнку конфету и яблоко.
– Ей три года, а она говорить даже не умеет, – то ли сочувственно, то ли осуждающе объяснила, вдруг оживившись, Ольга.
Антонина ласково коснулась рукой белесого ёжика едва отросших волос на головке девочки и хотела взять её на руки, но Ольга сказала:
– Да нечего её приучать. Мы уйдём, ей ещё хуже будет. Она же живёт здесь.
Как подтверждение слов племянницы, в палату разъярённой фурией влетела нервная санитарка с ворохом белья. Она начала застилать пустующие кровати, бормоча под нос:
– Ироды, мать вашу так, ни стыда ни совести…
Ольга поморщилась и вопросительно взглянула на тётку, а санитарка, дойдя до кроватки в углу, взвизгнула:
– Лизка, опять всю постель зассала, засранка!
Сорвала с постели мокрые простыни, хищно обернулась, подскочила к переставшему дышать ребёнку, схватила, бросила на постель, сорвала пижамные штаны и хлестнула ими по нежной плоти…
– Сиди тут, бестолочь!
– Ах, нельзя же так! – горестно вскричала не успевшая опомниться Антонина.
Санитарка пренебрежительно окинула её взглядом:
– Добрая, да? Взяла бы да нянькалась бы с ней, коли такая добрая! Понарожают да покидают, как кошки, – вышла с охапкой мокрого белья, всем видом выражая презрение и негодование.
Голенькая Лиза горестно сидела в углу кровати, съёжившись, и Антонину поразило, с каким взрослым упорством ребёнок сдерживал рыдания, стискивая скулы и едва переводя дыхание.
Бездетная Антонина, чьё сердце давно заходилось затаённой болью при виде каждой детской коляски, раздобыла чистую пижаму, переодела ребёнка, тайно восхищаясь: ах, ручки, ах, ножки, младенческая нежная припухлость, шелковистость тонкой, почти прозрачной кожи, проговорила тихо несколько раз:
– На горшочек надо, где у Лизы горшочек, под кроватью. Лиза хорошая девочка.
Подхватив лёгкого, как пёрышко, ребёнка, Антонина пошла к главврачу.
– Ну да, – подтвердила главврач, – мать этой девочки в местах лишения свободы, хроническая алкоголичка, лишили родительских прав, девочка была у нас тут на карантине, да так и осталась, детские дома переполнены, – врач внимательно посмотрела на Антонину. – Свои дети есть у вас?
Антонина вздрогнула, как всегда при этом вопросе. Врач не стала дожидаться ответа.
– Девочка без врождённых дефектов. Педагогическая запущенность чудовищная, но при правильном подходе… А санитарке я нагоняя дам. Хотя и её понять можно. Вы в пятой палате не были? И не надо, не надо.
Перед выходом Антонина всё же заглянула в эту палату. Там лежали брошенные младенцы. Многие дефективные, с непропорционально раздутыми головами, деформированными лицами. Некоторые дети возрастом около года с довольно правильными чертами лица не умели сидеть, держать головку. А в одной кроватке сидел младенец-переросток, ростом с двухлетнего, и, вцепившись в прутья кровати, бился о них головой, мыча раззявленным слюнявым ртом.
На следующий день Антонина попросила главврача разрешения погулять с Лизой в больничном парке. Тогда в первый раз Антонину поразила эта детская походка – словно из страха упасть ребёнок вдруг взлетал и летел над землёй, лишь для вида едва касаясь её ножками. Увидев новый объект, цветок или птицу, Лиза восхищённо всплескивала ручками и издавала такое удивлённо-восторженное междометие, что, выговорив по слогам название предмета – «пти-ца», «цве-ток» – Антонина едва не теряла сознание от острого приступа счастья.
Диббук
Евгению Арье
Мир живых черно-бел. Распорядок размерен веками — Трапеза – спальня, Праздник – поминки, Рынок – молельня. Тени ушедших цветные. Пусть жених мне наденет кольцо, с которым мать хоронили. Тешится мертвый жених — Мне покойно в тебе, белокожая Лея, Места не знаю желанней и чище! И нежная невеста живому под хупой Голосом мужским – уйди, ты не мой! Платье разодрано, сорвана фата — Позор отцовский. Средоточье мук – говорят – Диббук. Пусть старуха зашепчет, Раввин отмолит — Отпусти девицу во цвете дней — От мертвецов не бывает детей! Вторит – изыди, друг долгожданный и милый, Мужу живому отдам сокровенный тайник В ожидании чуда. Ступай в свое царство, А мне еще здесь — Мужа встречать, люльку качать. – Если наше единство Лее мука – покину… Но откуда такой холод? Пустота? Ушла одержимость духом… – Окончание дней по воле моей Пойду за ним в царство цветных теней. Январь 2015Наталия Терликова
Литературный псевдоним – Наташа Ростова.
Родилась на Западной Украине, но выросла и стала известным журналистом в городе Ростове-на-Дону. Сам город подарил литературный псевдоним, так удачно созвучный с её именем Наталья. Последние годы перед выездом в Израиль работала в Ростовской синагоге главным редактором газеты «Шма». В 2001 году после нападений подростков-антисемитов решилась репатриироваться на Землю обетованную. Здесь решила уйти из журналистики в художественную литературу и написала свой первый роман «Приключения ростовчанки в Израиле». А судьба привела Наталью в город Арад в литературное объединение «Строка».
В настоящее время работает над циклом рассказов «Машиах пришёл и ушёл». Некоторые рассказы этого цикла и представлены в данном сборнике.
Оскар, но не кинопремия
Зовут меня Оскар. Только я не фличный врач, тренер по фитнесу и стилист. Живу я в квартире с тёплым туалетом.
А со мной ещё двое неудачников: один – редактор журнала, другая – директор фабрики. Но своими делами они занимаются на улице, потому что на своей территории я позволяю им лишь вечеринки с фуршетом и лёгкой музыкой.
Когда заходит нудный разговор о смысле жизни, я тоже начинаю задумываться: не упустил ли я нечто важное в этой жизни. Может, стоило обзавестись собственной семьёй?..
Но однажды утром после такой вечеринки в квартиру залез воришка. Эти двое впали в ступор и позволили нахалу безнаказанно разгуливать по квартире. Пока я не вышел. Два раза гавкнул, и полиция уже не понадобилась.
Люди – существа беспомощные. Они лишены главного – когтей и клыков. Вот и приходится отвечать за недоделки Творца.
Так что я всегда на своём месте – на коврике около двери.
Эксклюзив для тёщи
Давно я не гоняюсь за туманом, за блеском и нищетой дорогих курортов и не ищу грабли в собственном огороде. Потому что отпуск провожу в гостях у дочки.
От одного только «Ура! Мама-баба приехала!» мне кажется, что нахожусь по дороге в рай, а после «Мамочка, тебе пора к косметологу!» я уже выгляжу лет на десять моложе. И фраза: «Отдыхай! Только сбегай в магазин, приготовь чего-нибудь пожрать и детей из садика забери» воспринимается совершенно естественно, поскольку я впадаю в состояние полной эйфории и парю над землёй… первые пару дней.
Но как только появляются первые симптомы старости, типа посвистывания при дыхании или прихрамывания при ходьбе, дочь тут же покупает абонемент в фитнес-клуб, а внуки приглашают в бассейн. Естественно, получив утренний заряд бодрости после фитнес-процедур и размяв мышцы в бассейне, я продолжаю свои занятия спортом, но уже дома в процессе стирки, уборки и заготовки консервов на зиму.
После садика у нас по плану культурная программа. Вчера, например, внуки устроили мне поход в кафе. Кстати, после регулярных занятий спортом и фитнес-процедур я выгляжу так молодо, что ко мне постоянно пристают посторонние мужчины. Вот и вчера прямо на входе ко мне подбежал официант и сделал комплимент:
– Вау! Какие у вас маленькие дети!
– Мы не дети, а внуки, – заявило моё подрастающее поколение, – поэтому столик выберем себе сами.
Когда мы устроились и сделали заказ, к нашему столику подошёл импозантный мужчина и сделал мне ещё один комплимент:
– Оу! У вас такие большие и очаровательные внуки…
– Так у нас дедуля ещё больше, – тут же отшил его внучек.
А внучка добавила:
– И очень не любит, когда пристают к бабуле!
Мы чудесно провели вечер втроём. Ну, а дома поджидал зять с очередным сюрпризом.
И на этот раз он приготовил мне чистый эксклюзив – кресло из тропических кактусов. Я тут же вспомнила подружек со своим ширпотребом из крокодиловой кожи. Представила, как они впадают в кому от зависти… И снова поплыла над облаками.
Кстати, с зятем мы общаемся исключительно афоризмами, и любой афоризм каждый трактует в меру своей распущенности.
– Как вам презент? – спрашивает зять. – Правда, забавная вещица?
– Не то слово, – отвечаю я. – Только не думай, что в аду так же весело, как на пути к нему.
– Ну, и в раю не так скучно, как вы думаете.
Вот гадёныш! Он ещё надеется найти работу в раю. Но обдумать достойный ответ помешал внук своими криками:
– Баба! Дай денег, я хочу купить тебе дорогой подарок!
Ханан Токаревим
Ханан Токаревич с 1990 года жил с семьёй в Израиле. Член Союза писателей Израиля. В апреле 2007 года вышла в свет книга стихов Ханана «Коснуться вечности крылом…» В августе 2015 года вышла вторая книга «Слов заветных колдовство…»
В Израиле публиковался в газетах, на сайтах и в сборниках стихотворений. С 2005 года постоянный автор, а с 2006 года – член редколлегии журнала «Русское литературное эхо».
На его стихи написано более сорока песен композиторами Артуром Бродским и Эдуардом Казачковым, некоторые переведены на иврит и идиш.
Финалист 5-го юбилейного Международного поэтического турнира в Дюссельдорфе и Международного турнира поэтов в Лондоне. Призёр Первого Международного конкурса русской поэзии в Израиле (Ашдод, 2006 г.). Председатель-координатор жюри вышеназванного конкурса. Лауреат звания «Человек года-2010» в области литературы. Лауреат поэтического конкурса памяти четы Имас הי’’ד «Дорога к Третьему Храму» (2011 год).
Скончался от тяжёлой болезни 20.12.2015 года.
Блуждающие звёзды
Сквозь года я зову тебя снова Покаяньем неспешной строки. Дать прошу мне последнее слово Взглядом, вздохом, движеньем руки. На краю безнадёжного жеста, Одиночества, страха и лжи В твоём сердце найду ли я место Средь обломков разбитой души? Предсказанье прольётся судьбою. Я искал тебя тысячи лет. Две звезды высоко над землёю Неземной зажигают рассвет. Дай к ладоням прижаться щекою И от счастья на миг замереть, И сорвавшейся с неба звездою До тебя дотянувшись, сгореть.Еврейская мелодия
Деду Берко и бабушке Эстер-Лее Хейфец
У забытого порога На ничейной стороне, У забытого порога Есть и память обо мне. Не слыхать нигде в округе Слов молитвы вековой. И не скажут нам в округе, Кто там свой, а кто чужой. Что нам свадебные марши, Коль в кармане ни гроша, Что нам свадебные марши, Если выжжена душа. Дети мудрого пророка, Богом избранный народ, Дети мудрого пророка, Что молились на восход. Всех, и правых, и виновных Даже время не бранит, Всех, и правых, и виновных Сторожит немой гранит. Можно черпать здесь горстями Счастье с горем пополам, Можно черпать здесь горстями Всё, что дал нам Авраам. Чтобы в той дороге дальней Было грустно и светло, Чтобы в той дороге дальней Победить смогли мы зло. И пройти сквозь пепелище У обугленных ворот, И пройти сквозь пепелище, Зная, что никто не ждёт. Улыбнуться снова небу, Первой капельке дождя, Улыбнуться снова небу, В неизвестность уходя.Освенцим, год 2005
Как тихо. Черные бараки Людской не терпят суеты. Кровь, как бунтующие маки, Сочится вновь из пустоты. Прижавшись к проволоке колючей, Я слышу злобный лай собак. И крематорий черной тучей Висит над толпами зевак. Звенит набат колоколами, Скорбит недобрая судьба И шепчет мертвыми губами Непобежденного раба. Молитву шепчет во спасенье Огнем истерзанной души. Богов невнятное смущенье Висит в безоблачной тиши.Песни на идиш
Мне эти песни мама пела. Я помню, словно бы во сне, Как небо синее темнело, Рисуя тени на стене. Тот голос тихий, полный ласки, Сводил знакомые лады, А звуки превращались в сказки, Что чувства радости полны. И ветер, шумный у порога, Стихал над павшею листвой. Вилась волшебная дорога Над околдованной землёй. Забыты горести и муки, Мне дарит музыка тепло. Прощанья нет и нет разлуки — В душе печально и светло. Ах, эта знойная «Кузина», «Тум-балалайка» нараспев. И рэбэ в сюртуке старинном Выводит «Фрейлехса» припев. «Ле хаим», «Бубличкес», «Матунэ», «А фидлер», «Чири-бири-бом»… Мы слушаем – и снова юны, Мы детям, внукам их поём.Бабий Яр
Над Бабьим Яром стынут облака, Непоправим круговорот событий, И всё ясней видна издалека Сумятица чудовищных открытий. Кровит земля под жёлтою листвой, Роняет солнце меркнущие блики, Деревья, что стоят сплошной стеной, Хранят растерзанных немеющие крики. Обходит ветер возгласы земли, Чтоб не обжечь исторгнутые стоны, Следы, что отпечатаны в пыли, И голосов пропавших перезвоны. Здесь даже эхо старое молчит, Не передать страданий отраженье, А над оврагом горестным парит Распятых звёзд никчемное смущенье.Еврейская душа
О, дай нам, Боже, силы себя преодолеть, Надеждой одари нас, не дай нам умереть. Молитва в гулкой тишине, Свеча, горящая в окне, Печальный парус на волне — Еврейская душа. Бездонный купол голубой И звёзд сиянье над землёй, Безмолвный снег, палящий зной — Еврейская душа. Глоток желанный счастья, как горькое вино. Сжигают сердце страсти, так, видно, суждено. Клинка сверкающая сталь, Ещё не пройденная даль, Струны оборванной печаль — Еврейская душа. Обид налипшая смола, Осколки битого стекла, Метель, что путь наш замела — Еврейская душа. Хоть раз посмотрим мы судьбе в глаза. Увидим, в них горит слеза. Смешная роль, в ней наша боль И ласки добрый свет. Пустой перрон в полночный час, Любви сверкающий алмаз. Её дороже просто в мире нет. Но невозможно всё простить И всё на свете позабыть, Чтобы сердца звучали в такт, И был прекрасен путь. О Боже, путь нам озари Гармонией любви.Рене Маори
Окончил факультет журналистики ТашГУ. Работал в газете «Пионер Востока» сначала юнкором, потом корреспондентом отдела литературы. В 1984 году поступил на работу в Союз писателей Узбекистана в отдел фантастики. Посещал семинар молодых литераторов при СП Узбекистана. Первая книга вышла в 1984 году в издательстве имени Гафура Гуляма. Сборник стихотворений репрессированного поэта Бату. Переводы. С 1990 по 1995 гг. читал лекции по истории религий при обществе «Знание».
Книги:
– «Запах лепестка белой лилии» (Москва, издательство «ЭРА», 2004 г.)
– «Подземелье» (Челябинск, издательство «Селена-пресс», 2009 г.)
– Сборник стихотворений (Нижний Новгород, издательство «Виконт». 2012 г.).
– «Кто вы, барон Калманович» (Израиль, издательство «Хранитель идей», 2013 г. (пока только электронный вариант)
– «Поверх всего». Сборник рассказов (Пятигорск, издательство «Беркхаус»).
Сборники:
– «Сумерки разума»
– «Готические мистерии»
– «Городские легенды»
– «Хроники любви и ревности»
– «Мифы нового времени»
– «Год поэзии 2009–2010» Публикации в периодике: Газета «Новости недели» (Израиль), газета «Русская Америка»
(США, журнал «Луч-Керен» (организация Джойнт), газета «Секрет» (Израиль).
Творческий псевдоним – Рене Маори.
Имел блог на сайте «Эхо Москвы», закрыл его недавно в знак протеста против цензуры в Интернете. Сотрудничаю с сайтом «Атеизм. ру» под псевдонимом Аморфо.
День осеннего равноденствия
Тянет нить Малуша, да прялку свою словно и не замечает. Все милого в окошко выглядывает. А за окном лес да лес, и солнышко уже закатилось. И птицы заснули. А он все нейдет. Еще поутру вышел порыбачить и забыл о молодой жене. Добыча ли так велика, что донести никак? Али другую встретил?
Малуша смахнула слезинку и пугливо глянула за печь. Боится она темноты. Крошечный огонек лампадки едва освещает край жестяного оклада. Тени-то как сгущаются, а в тени не прячется ли кто? Затеплила свечу и запела во весь голос, чтобы отогнать сумрачные мысли. За пением и не расслышала шаги в сенях. И увидев вдруг мужа прямо перед собой, вскинулась, умолкла на полуслове и бросилась к нему.
– Где же ты ходил-бродил, Никитушка? Истосковалась я. Случилось что?
Усмехнулся Никита, обнял жену одной рукой, в другой-то мешок с добычей держал, в лоб поцеловал, как неродную. А сам все глаза отводит, молчит. Долго молчал, потом вдруг, словно разговелся, заговорил:
– А и случилось, пожалуй. Собрался идти домой уже, долго шел и понял – заблудился. Никак не могу тропинку отыскать. Плутал, плутал, а тут еще темнеть стало. Ну, думаю, придется в лесу заночевать. Ни к реке выйти не могу, ни из лесу. Словно черт водит.
– Да, темнеет нынче рано, – подтвердила Малуша. – Чего сидел до ночи?
– Не сидел, шел. Экая ты бестолковая, – грубо оборвал Никита. – Одно слово – баба.
Малуша всхлипнула и уже была готова пустить слезу, да вовремя спохватилась и принялась шарить ухватом в остывшей печи. Чай, голоден.
– Да не суетись, дай досказать-то. Любашу я видел.
– Как? – Малуша побледнела и без сил опустилась на лавку. – Два года, как схоронили.
– Я и то думал. Ан нет – жива. Меня ить чуть медведь не задрал в чащобе. Услыхал я, как ветки ломает, да и побежал, дороги не разбирая. Как бежал – не помню, вот весь о кусты ободрался. – Никита засучил рукав и показал жене исполосованную руку. – Промыть бы. Сиди! – прикрикнул он, увидев, что жена вскочила с лавки. – Доскажу сперва. Выбежал я, стало быть, на полянку. Место вроде знакомое, оглянулся, а там ваша изба стоит, в которой ты с Любашей жила до свадьбы. Вокруг ухожено, огород разбит. В окошке огонек мелькает. Ну, думаю, кто-то избу занял, да кому она нужна в такой глуши, да супротив могилы? Крестик тоже заметил, стоит. Я в дверь торкнулся – заперта. Стукнул раз, другой и вдруг открылась, а на пороге – ты стоишь. Вся как есть нарядная, сарафан пунцовый, на шее монисты.
– Я? – испугалась Малуша. – Да я из дома носа не высовывала. Тебя ждала.
– Вижу. Сам тоже подивился. А ты меня в избу приглашаешь, на лавку усадила, щей налила, и все молчком. Ты-то говорлива не в меру, а тут только глазищами зырка-ешь, плечами поводишь и молчишь. Ну, поел, попил. А ты насупротив присела, вот так вот наискосок, рукой подперлась, и только тут я заметил перстенек. Приметный. Серебряный с голубым камушком.
– Так мы же ее с этим перстеньком и похоронили, – шепотом сказала Малуша. – Сымать не стали, а вдруг он ей там… – она подняла глаза к закопченному потолку, – надобен. Нехорошо с покойника украшения сымать…
– Помню, – кивнул Никита. – Сомлел я со страху. И думать чего боялся. Твоим именем назвал, а она кивает, смеется, но ни слова… Понимаешь, ни слова. Стал собираться, а у самого зуб на зуб не попадает, веришь ли, все топтался по избе, кланялся, а ноги не идут, и все тут. Словно забыл чего… Говорю сдуру: приходи, мол, не забывай. Сестра, говорю, по тебе печалится, рада будет видеть. А она молчит, улыбается и кивает. Потом из печки пирожки али ватрушки достала и протягивает: возьми, мол, подорожники, далеко идти, проголодаешься. Так все в мешок и всыпала.
Кинулась Малуша к мешку, развязала дрожащими руками, а там только снасти и три рыбины. Совсем лицом побелела – снег и то краше. Сказала с укоризною:
– Одна сестра у меня была, в один день, в один час родились. Померла она, а ты шутки шутишь.
– Да какие забавы? Своими глазами видел.
– Ой ты горюшко! – взвыла Малуша и бросилась об пол под иконами. Крестилась, заливаясь слезами, бормотала что-то. И вдруг вскочила, выпрямилась во весь рост и вскрикнула, то ли веря себе самой, то ли нет:
– Знаю. Нынче ведь Осенины[9]. В деревне, поди, хороводы водят, а у нас ни праздника, ни радости. Вот и напомнила сестра. Только пошто ты ее в дом позвал? – вдруг спросила она. – Покойницу в дом. Конец нам теперь, никто не откажет, коли его на праздник зовут. Монисты, монисты на ней, сарафан пунцовый. – Она оглядела себя и развела руками. – А я-то… Нищие мы с тобой, Никита. Кабы я знала, что так повернется, ни в жисть бы за тебя не пошла…
И такая ее злоба захлестнула, что не описать. Она готова была голыми руками задушить мужа или хотя бы огреть его кочергой.
Почуяв приближение слез и упреков, Никита взобрался на печь и отвернулся к стене. Вскоре Малуша услышала богатырский храп. Озлилась еще больше. Но что тут поделаешь, какой скандал со спящим? Вся кипя от невыплеснутой злобы, она решила даже лечь отдельно. Кинула на лавку какую-то ветошь и, вмиг потеряв все силы, присела на край. Пригорюнилась, вперившись взглядом в темный угол за печью, и мысли одна другой страшнее закружились в ее усталой голове.
Отец вдруг лесник припомнился и ветхий домик в глуши. Сестру вспомнила, как дружны были – не разлей вода. Как по лесу бегали, аукались. А до чего похожи были, словно две матрешки в лавке. Бывало, и сам отец путал, спрашивал: «Малуша или Любаша?» Тогда-то и подарил одной перстенек, а другой серьги – чтобы различить как-то. Малуша потрогала сережку в ухе и вздохнула. Вспомнила, как сосватали сестру, как пришел в дом Никита. Черная зависть тогда охватила Малушу. Решила она извести сестру, самой за красавца замуж пойти. Привела на берег речки, а как загляделась соперница на свое отражение, так и столкнула ее в воду, и долго еще ее голову под водой держала. А потом вытащила на берег да свое колечко той на палец надела. Забрала и сережки, и имя сестры. Долго потом вздрагивала, как окликали. Но привыкла.
Она взглянула на печку, откуда несся богатырский храп, и всхлипнула – не принесло радости чужое счастье. Поедом ест душу, ничем не уймешь. Полная луна прямо в избу смотрит, выйти, ставни прикрыть. Но даже в окно выглянуть боязно. Мерещатся Малуше осторожные шаги за окном, шуршат под чьими-то сапожками опавшие листья. Вот и крыльцо скрипнуло, вот и дверь в сенях подалась. Засов, засов-то забыли заложить! Что-то заскреблось в дверь горницы, и тихий потусторонний голос прошептал:
– Здравствуй, Любаша. Пришла я, как и звали.
Мигнула и угасла лампадка, словно ветер прошел сквозь избу. Тихо звякнули монисты, и в свете луны протянулась от двери тонкая иссохшая рука с серебряным перстеньком на пальце.
Джандаль – имя камня
– Абу, солнце встает, – говорю я Наджи, едва заметив, что небо светлеет.
Моя обязанность – будить его к утреннему омовению и Фаджру[10]. Кувшин с водой уже наготове, прикрытый платком стоит на камне. Наставник что-то мычит и с трудом поднимается. В темноте спросонья он не может меня разглядеть, но, как всегда, чутье его не подводит:
– Всю ночь не спал? – спрашивает он.
– Со сном я простился вчера, – отвечаю я. – А сегодня прощался с луной и звездами.
Наджи приступает к омовению. Каплю воды на ладони – воду нужно экономить. За большим камнем есть источник, но там расположились солдаты. И подойти к ним можно только один раз. Это наши враги. За спиной в горах тоже притаился враг, но он никогда не выстрелит в спину, поэтому мы спокойны.
Наджи берет потрепанный коврик и уходит молиться на небольшую возвышенность слева от пещеры. Он всегда молится там. Я тоже расстилаю коврик, но, убедившись, что он на меня не смотрит, застываю на месте, глядя на светлеющее небо. Второй день длится пыльная буря, как специально подготовленная для меня Аллахом. Восход оранжевый, а фигура Наджи кажется совершенно черной. Я вижу, как он прикладывает раскрытые ладони к ушам и до меня доносится:
– Алла-а-а-у-у-у акбар…
Но я не молюсь, хотя и знаю, что это грех. Сегодня мне будут прощены все грехи. Я прислушиваюсь к себе, где-то там внутри зреет незнакомое для меня чувство отчаяния и возмущения.
Наджи мне как отец. За свои четырнадцать лет я ни от кого не получал так много заботы, но всегда знал, что наступит день, и я сполна отдам ему все, чем он так щедро меня одаривал. Я знаю о своем предназначении с тех пор, как начал понимать слова, и только четыре года назад это знание превратилось в тикающую бомбу, которая теперь постоянно отсчитывает минуты моей жизни. Четыре года мы ночуем в пещерах и под открытым небом, в пыли, жаре и холоде, уходя все дальше от дома. «Человек приходит на землю для мук, зато потом его ждет райское блаженство, – так всегда говорит Наджи. И добавляет: – Хвала Аллаху, господу миров».
– Эй, Джандаль[11], – Наджи касается моего плеча, я и не заметил, как он подошел. – О чем задумался? Вот, поешь лучше.
Он протягивает мне кружку воды и кусок тонкой лепешки. Вода пованивает гнилью, зато лепешка такая сухая, что есть ее можно долго. Я смотрю на серый камень. Если бы умел писать, то выцарапал бы на нем свое имя. Чтобы кто-то потом прочитал.
– Абу, покажи, как пишется мое имя.
– Зачем тебе? – угрюмо спрашивает он. Но все-таки чертит на песке несколько закорючек. – Вот так.
Но я не успеваю их как следует разглядеть, налетает горячий ветер и вмиг превращает мое имя лишь в волны пыли.
– Вот так, – смеется Наджи, – есть человек – есть имя. А нет… – он делает выразительный жест. – Только Аллах вечен.
Верещит рация, и Наджи отходит подальше, наверное, чтобы не было слышно, о чем он говорит. Какая разница – я все равно знаю. И мне почему-то не хочется об этом думать.
– Если будет на то воля Аллаха, – говорит он, вернувшись, – то выдвинешься сразу после Асра[12]. Знаком будет вертолет. К ним должен прилететь вертолет с припасами. Туда около часа ходьбы. Ты знаешь, мы сами оттуда шли. Когда придешь, будут уже сумерки. Подойдешь к лагерю, попросишь воды. Все понял? Ты ведь сделаешь все сам? А то…
– Нет, не надо. Я сам.
Время тянется медленно. И я начинаю чувствовать такую тоску, словно на сердце навалили груду камней.
– Абу, – прошу я, – давай уйдем в горы. Туда…
Он смотрит на меня удивленными глазами:
– Тебе выпала честь послужить Аллаху, а ты хочешь сбежать? Я так тебе завидую, ведь уже сегодня ты совершишь последнюю молитву в окружении ангелов. Сам Израил приведет тебя на небеса. По правую руку будет молиться сам Джибраил, по левую – Микаил. Кому еще выпадет такая честь? – Наджи ощеривается улыбкой.
Я смотрю на его рот и думаю, что когда меня не станет, он вернется в свою деревню, вместе со своей вылинявшей куфией и щербатыми зубами. Что ему тут делать одному – точно вернется домой.
«Нельзя так думать, нельзя», – говорю я себе, но ничего не могу поделать. Мысли ведь как мухи, гони их, не гони, – все равно одолеют.
Теперь мы молчим. Я печально оглядываю рыжий мир, раскинувшийся вокруг. Наджи дремлет, подложив под голову рюкзак. Потом я бужу его, и он снова с ковриком отправляется на холм, а я опять не молюсь, прекрасно сознавая, что гублю этим душу. Но не идут мне на язык слова молитвы, не могу заставить себя произнести их. А ведь, кажется, я обязан испытывать радость. Во всяком случае, мне так обещал Наджи.
Незадолго до Асра Наджи идет в пещеру и выносит оттуда пластиковый пакет. Я знаю, что в нем обновка, на которую никогда бы не смотрели мои глаза.
Он бережно вынимает тяжелый жилет, опутанный проводами, и раскладывает его на камне. Осторожно перебирает провода, подсоединяет что-то. Ласковыми движениями оглаживает плотную ткань и, кажется, даже мурлычет что-то под нос, словно разговаривает с ребенком.
– Подойди, Джандаль, я помогу тебе надеть это.
Тяжелый жилет неприятно давит на плечи. Я повторяю про себя: «Меня зовут Джандаль. Мне четырнадцать лет. Сегодня я должен умереть». Наджи суетится вокруг, застегивая многочисленные «липучки» и пряжки, поправляет разноцветные провода и, наконец, вручает мне красивую кнопку. Если бы я сейчас не думал о смерти, то непременно ею бы залюбовался. Кнопка прозрачная, как рассвет, и алая, как заря. Это правильно, чтобы в последнюю минуту своей жизни человек увидел что-то красивое. Наджи отступает назад и любуется:
– Аллах будет доволен – ты настоящий шахид.
«Сегодня я умру».
– Да что же это? – два проводка оказываются в пыли под моими ногами. Я и не заметил, как случайно их оборвал. Наджи сокрушенно качает головой и снимает с меня жилет. – Что же ты делаешь? Теперь придется чинить, – говорит он.
– Только после молитвы, – мстительно отвечаю я. – Время Асра.
Коврики постелены рядом. Наджи в этот раз не уходит молиться в одиночестве.
– Клянусь предвечерним временем, воистину – каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение в покорности Богу, удаляя себя от греха, – повторяю я за ним. Но вдруг словно перестаю его слышать. Я говорю другие слова: – О Аллах, милостивый и милосердный, мне всего четырнадцать лет. Зачем тебе моя жизнь? Клянусь, я согласен пить только гнилую воду и есть только черствый хлеб, но только не заставляй меня умирать. Ты видишь, я в отчаянии, но как мне ослушаться старшего? Он сказал, что это твоя воля. Но если это не твоя воля, то подай знак, чтобы я не оказался в убытке, даже уверовав.
Так повторяю я и в какой-то миг понимаю, что мир вокруг меня изменился. Нарастает необычайный низкий гул. Прямо над всей землей появляется огромная серебристая лепешка с толстыми боками. Она такая большая, что дальний край ее уходит за пределы горизонта, а передний закрывает горы за нашей спиной. И я не могу понять, из чего она состоит – из металла или из облаков. Меркнет свет, вибрирует земля.
– Абу! – кричу я. – Мне явился Аллах!
Но голос гаснет в нарастающем шуме. В этот же момент я замечаю вдали маленький вертолет – знак того, что мне пора отправляться. Но Аллах милостив, он посылает на землю огонь. Пламя начинает изливаться прямо на пустыню, на горы, на камни. Я вижу, что вертолет вспыхивает, как насекомое, попавшее в горящую лампу, и его остов переламывается пополам. Чувствую, как огонь касается моего лица, и падаю, ослепленный божественным светом.
Вдруг все прекращается. Я открываю глаза и чувствую боль. Мое лицо обожжено, волосы и ресницы сгорели, одежда превратилась в лохмотья. Наджи рядом. Он все еще в молитвенной позе – на коленях.
– Абу, – зову я. – Мы живы. Сам Аллах даровал нам жизнь.
Но он молчит и не двигается. Я касаюсь его плеча, и от этого прикосновения тело Наджи вдруг осыпается, превращаясь в кучку серого пепла. Он исчезает, как исчезло моя имя на песке, и только ветер вздымает серую пыль – все, что осталось от моего наставника.
Больше двух часов я добираюсь до большого камня – он пышет жаром, но уже не обжигает, как остывающая печка. Взбираюсь на него и смотрю вниз, в долину, туда, где должны быть солдаты, где разбит лагерь. И хотя почти ничего не вижу в сумерках, знаю, что там ничего нет, только выжженная земля и пепел. Не слышны и звуки взрывов, которые всегда сопровождали нас. Ничего. Только мертвая тишина. Я осторожно спускаюсь с камня – местами он скользкий, как стекло. Да это и есть стекло, в которое превратился песок. Где-то здесь был источник, из которого мы брали воду. Из расщелины вырывается пар. Он под большим давлением и свистит, как будто в скале закипел чайник. Я наклоняюсь вниз и, превозмогая боль в обожжённом теле, пытаюсь хоть что-то разглядеть. Очень хочется пить. И тут теряю последние силы, а с ними и счет времени. Приходит странное состояние забытья, когда все чувствуешь, но не можешь пошевелиться.
Очень быстро наступает ночь, за ней приходит рассвет. Я начинаю дрожать от холода – камень остыл и пар исчез, но и воды в источнике нет – она испарилась вся. Проходит еще несколько часов или дней, и однажды я слышу слабый звук – возвращается вода. Из каких-то глубин, презрев и огонь, и пепел, она возвращается ко мне, чтобы не дать умереть. Аллах снова спасает меня. Я с трудом разлепляю распухшие глаза – вокруг снова ночь. И только внизу, там, где возрождается источник, видно слабое свечение. Оно становится все сильнее, и наконец фонтан светящейся воды бьет мне прямо в лицо, разрывая волдыри и обжигая раны. Я жадно глотаю ее, зная, что пью не спасение, а смерть.
Тринадцать бабочек
Милостивый государь, Иван Иванович!
Я с большим любопытством слежу за Вашими новыми изысканиями, но, побывав на последней демонстрации, понял, что молчать больше не могу. Возможно, что мое письмо покажется Вам странным, а то и расстроит, но молчать боле недостало сил. К тому же я опасаюсь, что при сем деле существуют незваные свидетели, коих я насчитал три. Поэтому скрывать далее истинное положение вещей я не хочу, так как честное мое имя может быть запятнано всей этой историей.
Пусть мое перо не имеет легкости, свойственной словесникам, но Господь распорядился так, что я живописец.
Поэтому прошу заранее извинить за неровный слог и сумбурное изложение.
Третьего дня от празднования Рождества Христова, после непомерных излияний, я, чувствуя себя недостаточно уверенно, решил все же обратиться к работе, так как сроки заказа уже поджимали. Заказ этот был передан мне от владельца книжного магазина «Логосъ» еще в сентябре. Не подумайте, что я настолько забылся, что согласился намалевать вывеску. О нет! Картина сия должна была быть повешена внутри заведения и призвана намекнуть случайному покупателю о «вечном». Философский смысл будущего произведения должен был непременно включать в себя изображение древней книги, символизирующей вечность, и как antagonisme подобному заявлению, полотно должно было показать еще и что-то весьма легковесное, однодневное. Поразмыслив немного, я склонился к мысли, что таким предметом вполне может оказаться бабочка, ведь всем известны мотыльки-однодневки, являющиеся символом всего самого непостоянного.
В то утро, а оно было на редкость солнечным, я установил мольберт у самого окна, дабы получше разглядеть и поправить изображение книги, которая уже радовала взгляд своей законченностью. Собрав все свои душевные силы и положив рядом справочник по насекомым, я тщательно скопировал изображение Araschnia levana, а именно Пестрокрыльницы весенней, и в течение получаса самозабвенно его выписывал маслом на холсте. Ее оранжевые крылышки, испещренные черными пятнами, прекрасно гармонировали с палевыми страницами старинного фолианта и желтоватым оттенком восковых свеч, изображенных в медном трехрожковом канделябре в правой стороне холста. Этот канделябр для работы я специально приобрел у квартирной хозяйки за собственные деньги.
Закончив работу, я решил прогуляться по морозному Ст. Петербургу, но желание поправить свое здоровье привело меня в кабак. Вернулся уже в темноте и незамедлительно отправился спать.
Наутро, решив нанести последние штрихи на готовую работу и покрыть ее лаком, я подошел к мольберту, уже предвкушая вознаграждение за потраченные усилия. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил пропажу. Любовно выписанная мною бабочка – исчезла. Сначала я ужаснулся такому повороту, но потом понял, что, скорее всего, мне просто привиделось, что я дописал картину. Тогда, решив не откладывать дела, я принялся тщательно копировать Nymphalis urticae, в просторечии просто Крапивницу, и целый час потратил на отделку ее крыльев, которые прекрасно гармонировали со всем изображением. Испытывая непреодолимое желание прогуляться по улицам, я тем не менее полностью закончил работу и только тогда позволил себе небольшую прогулку, завершившуюся посещением ближайшего питейного заведения, так как мне хотелось пораньше вернуться домой.
Но когда утром я пожелал закончить свой труд, оказалось, что и эта легкокрылая гостья покинула мой дом. Кроме книги на холсте никаких мотыльков не просматривалось.
Стоит ли говорить, милостивый государь, что так и повелось. Много дней, всего числом тринадцать, я изображал чешуекрылое насекомое, а наутро не находил его. Несколько раз приходили из лавки поинтересоваться, что с заказом, но что я мог поделать? Я старался и так, и эдак. Перестал копировать бабочек из книжки и начал создавать собственные образы с дивными, невиданными доселе крыльями, пестрящими невообразимыми рисунками – от ромбов до горошка.
Однажды, на исходе второй недели, я решил не выходить из дома, так как мальчик из зеленной любезно предложил принести мне четверть водки. В тот день я создал нового мотылька, имеющего бледно-лиловые крылья с изображением лика Богородицы, выполненным в теневой технике желто-карминовыми тонами. Несомненно, это было лучшее из того, что когда-либо мне удавалось.
Отягощенный предчувствиями, я неподвижно сидел в креслах, размышляя о том, стоит ли зашивать продранные подлокотники, из которых вылезал волос. Мне нравилось вытягивать его, успокаивая таким образом воспаленные нервы. И тут боковым зрением заметил какое-то движение. С трудом повернув отекшую шею, я увидел, что по комнате кружит бабочка, бодро трепеща лиловыми крылышками. Можете ли Вы, милостивый государь, представить мое состояние при виде такой вопиющей несправедливости? Мой труд, мой шедевр был осквернен неким таинственным оживлением, попран, уничтожен. Я бросился ловить беглянку, желая насильно привязать ее к положенному месту и удержать в рамках холста, но она не давалась в руки, а я отяжелел от переживаний. Когда бабочка, осознав, что не сможет вылететь из запертой комнаты, присела на стекло, я обрадовался, но радость моя оказалась преждевременной. Не веря своим глазам, я наблюдал, как она просачивается сквозь стекло и через минуту оказывается по другую его сторону. Протянув руки вперед, я бросился к стеклу и случайно разбил его.
На звук разбитого стекла тотчас же появилась квартирная хозяйка. Не подумайте, что мой вид привел ее в замешательство, нет. Она спокойно вышла из комнаты, но вскоре появилась снова в сопровождении двух учтивых молодых людей, которые ласково говорили со мной и увезли на извозчике в некий дом, где мне подлечили расшалившиеся нервы и израненную душу.
Когда я был отпущен, то решил посвятить досуг изучению повадок мотыльков и бабочек.
Таким образом однажды я и оказался на Вашей, милостивый государь, лекции в Музее естественных наук. Стоит ли говорить, что демонстрируемый Вами «новый вид» я узнал сразу же – это была последняя из мною написанных бабочек, та самая, с ликом Богородицы. И что бы тот священник ни говорил, бабочку эту создал я, а вовсе не Господь. Поэтому слезно умоляю вернуть мне мою собственность, которая нынче покоится у Вас на парчовой подушке, намертво сколотая булавками. А также прошу компенсировать мне ее смерть в размере десяти рублей.
Всегда Ваш Андрей Петров, живописец.
Семён Гольберг
Родился в 1948 году. Место рождения – город Кишинёв. С 1991 года живу в Израиле, в Кирьят-Яме. По специальности – технолог металлообработки. Постоянный автор журнала «Русское литературное эхо». Дипломант международных литературных конкурсов. Лауреат Большого международного литературного конкурса «Серебряный стрелец-2011» (Лос-Анджелес). Член ассоциации русскоязычных сатириков и юмористов Израиля (АРСИ).
Выпущенные книги:
«Мелодия, озвученная временем» (стихи, 2001 г.)
«365 анекдотов в рифму» (альманах, 2004 г.)
«500 анекдотов в рифму» (альманах, 2006 г.)
«От Иерусалима до Одессы» (музыкальный сборник, песни, Одесса, 2008 г.)
«Избранные юморески» (2013 г.)
«Избранные юморески» (издание второе, 2014 г.)
«Израиль улыбается» («Короче говоря» – сборник юмористических миниатюр израильских авторов, 2011 г.)
Идиш
Если в детство вернувшись, увидишь Старый дом и людей близких круг, Значит, снова родительский идиш К нам идёт через время разлук… Характерные бродят словечки, Те, с чем мы родились и живём. И ушедшие в небыль местечки Проступают в наречии том. Здесь и радость, и участь народа, Старых песен пронзительный лад. И как слёзы небесного свода Поминальные свечи горят… Но сегодня на тропах привычных Угасают огни языка. И, страдая от слов безразличных, Наша горечь течёт как река. Если вдруг, оглянувшись, увидишь Старый дом и людей близких круг, Значит, вновь возвратился к нам идиш, Прорываясь сквозь время разлук!Судный день – Йом Кипур
Судный день опустился на землю, Тишину простирая вокруг. И народ, ему трепетно внемля, Шлёт молитвы за пройденный круг… Судит нас этот день повсеместно, Проходя вдоль дороги былой, Что меж нашим раскаяньем честным И бессмертной надеждою той… Просят люди грехов всепрощенье — Как ошибок житейских своих. И кружит над еврейским селеньем Покаяний молитвенный стих… И в смирении сложены руки, Умоляя невидимый суд… Вновь шофара высокие звуки Очищение людям несут!..«Над Бейт-Шаном кружат журавли…»
Над Бейт-Шаном кружат журавли, Для зимовья места выбирая, Вместе с криком своим посылая Мне привет от далёкой земли. Из широких заморских краёв Через страны, моря и границы К нам летят перелётные птицы Без гражданства и без паспортов. Прилетели сюда переждать Холода и зимы непогоду, Чтоб весною по зову природы Возвратиться за море опять. Мой народ – наподобие птиц, Мы летим сквозь миграции, сборы. Вызывает печальные взоры Наш прощальный полёт вдоль границ. И несём по просторам чужим Нашу веру, детей, чемоданы Через годы, погромы и страны, Через ненависть и рубежи. Я прошу тебя, Г-споди, вновь — Ты нас вывел, вручив нашу Тору, Книгу жизни, надежды опору, — Замени же всё зло на любовь.Еврейская свадьба
Свадьба – это плачущая скрипка На кругу пылающих свечей. И судьбы загадочной улыбка У порога разноликих дней… Свадьба – это танец вечно модный Под живой, сверкающий мотив. И кружит по залу дух народный, За жилетку пальцы заложив. Свадьба – миг поэзии средь прозы. Движется веселья караван. И видны молитвенные слёзы И ногой раскрошенный стакан!«Месяц звёзды на небе зажёг…»
Месяц звёзды на небе зажёг, И молитв благодарственных ноты Нас уводят из царства субботы На недельный завещанный срок. Из садов, где прохладный ручей, — В жаркий полдень и душные ночи, Что ещё мне судьба напророчит? Жду ответа за сменою дней. И опять будет звёзд хоровод, И суббота мне выйдет навстречу И с улыбкой кивнёт: «Добрый вечер». И в хоромы свои поведёт.Ривка Рабинович
Родилась в 1931 году в Риге в состоятельной семье. После присоединения Латвии к СССР семья была квалифицирована как «буржуйская». В июне 1941 все члены семьи были высланы в Сибирь, в маленький посёлок в Томской области, где автор прожила 18 лет как ссыльная, окончила среднюю школу, работала на разных работах, вышла замуж.
В 1954 году семью освободили от статуса ссыльных. Уехала с мужем в Томск, где училась в Томском пединституте, а несколько лет спустя вместе с мужем вернулась в Ригу. Там работала корректором в типографии.
Во время «хрущёвской оттепели» начала писать повесть о коррупции в советском обществе, но атмосфера в стране внезапно изменилась, и оттепель превратилась в «заморозки». Договор об издании книги был аннулирован.
В 1970 году уехала в Израиль. Здесь работала в русскоязычных газетах до выхода на пенсию. Параллельно с работой журналиста занималась переводами книг.
В 2013 году издала автобиографическую книгу «Сквозь три строя» – на иврите, а затем, в собственном переводе – на русском языке. Русский вариант издан параллельно в Израиле и в Москве. В московском альманахе «Муза» под редакцией В.Е. Лебединского
в продолжениях опубликованы мои публицистические очерки «Беседы об Израиле». В декабре 2015 года очерки вышли в свет отдельной книгой. Несмотря на преклонный возраст, автор продолжает активно писать и готовится вскоре издать книгу повестей рассказов.
Подвиг Ефросиньи (фрагмент из повести)
Пояснения к тексту
Действие происходит в Рязани, в 80-х годах. Туда переехала вскоре после окончания войны супружеская пара, Мария и Павел Сомовы, из села в Украине. Мария после пережитого в годы немецкой оккупации записалась русской, не хотела быть еврейкой. И дочь, Анисью, естественно, записали русской. Но дочь чувствовала в жизни семьи что-то фальшивое, что-то скрываемое. Непонятные приступы страха, от которых страдает Мария. Её школьная подруга, Гита, опознала в Марии еврейку…
И вот к ним в гости приехала Ефросинья, мать Павла. И всё взбаламутилось, все покровы слетели…
Жестокая правда
Павел, чуткий к душевным движениям других, понимал, что приезд его матери взбаламутил тихую гладь их жизни. И сам себе удивился, что доволен, даже рад этому. Он видел, что дочка, любимица, свет его очей, страдает и отдаляется. А они ведь построили эту тихую гавань ради неё, хотели вырастить её счастливой русской девушкой! Не получилось. Она явно что-то знает. Таково, видимо, свойство еврейских генов: они не дают быть «как все».
– Мирочка…
– Что, Пашенька?
– Ты, я думаю, видишь, как Аниска изменилась в последнее время?
– Конечно, ещё бы не видеть! Отдалилась, мало разговаривает, хмурится. Иногда я вижу во взгляде её что-то злое, когда она смотрит на меня…
– Её злит, что мы таим от неё прошлое. Она умная девочка, понимает, что это ради неё. Но ей надоело, она хочет знать правду.
Какое-то время оба молчали, а потом Павел сказал:
– Потеряем мы её, Маша. Окончит школу и уйдёт. Она и сейчас мало бывает дома.
– Ты считаешь, что пришло время открыть всё?
– Да. Я уверен, что теперь самое время. Потому что моя мама здесь. Моя мама – единственный человек, кто всё знает. Она главное лицо. Если бы не она, не лежать бы нам с тобой здесь рядом.
– Я знаю, Пашенька. Мне ты не должен рассказывать. – Несколько долгих минут Мария молчала. Потом еле слышно сказала: – Да.
– Что «да»?
– Это будет завтра. Всё. Теперь – спать! Чтобы сил хватило…
* * *
Завтрак прошёл без особых разговоров, все выглядели невыспавшимися. После завтрака Анисья, по своему обыкновению, намеревалась уйти к подруге, но мать удержала её.
– Не уходи, доченька, – сказала она. – Будет серьёзный разговор. Ты хотела правду? Ты её получишь. – Затем, обращаясь к остальным: – Будем говорить о жизни. О настоящей жизни. Ты, мамушка Фрося, поможешь мне. Я ведь мала была, многого не понимала. Минутку, я сейчас вернусь. Она вернулась, держа в руках потёртую шкатулку, на крышке которой ещё можно было разглядеть резьбу. Немножко порылась в шкатулке, вынула пожелтевший листок и стала читать:
– Мирьям Баруховна Блауштейн, родилась 5 января 1936 года в селе М. Бердичевского округа. Мать – Хана Моисеевна Блауштейн, еврейка. Отец – Барух Хаймович Блауштейн, еврей. Это моя подлинная метрика. Ты, Анисья, хотела видеть её. Вот она. – Она сложила листок и обратилась к Ефросинье: – А теперь, мамушка Фрося, твоя очередь. Расскажи, что знаешь о судьбе семьи Блауштейн. И о том, как спасла меня.
– Не мастерица я говорить, неучёная я, – начала Ефросинья. – Не обессудьте, коли что не так скажу.
– Ты, мама, не на речи мастерица, а на добрые дела, – сказал Павел. – Не стесняйся. Ты среди своих.
– Соседями мы были, я со своим Василием и сыночком Пашей и Блауштейны, Аннушка с Борей, так мы их называли. Ещё родителей Бори помню. Справный дом был у них, крепкое хозяйство. Старик обувщиком был; что новую обувку пошить, что старую починить, – всё умел и сына ремеслу обучил. Ещё один сапожник был в местечке, Пантелеймон, пьяница горький. Люди больше к Боре шли, он всегда имел работу. Пантелеймон этот ненавидел Борю лютой ненавистью.
А мы с Аннушкой с малолетства дружили. И во дворе вместе играли, и в школе вместе сидели. Я-то всего четыре годка проучилась, Аннушка – семь. Её потом, как грамотную, в колхозную контору взяли, секретаршей. Она жила недалеко. Когда вышла за Борю, мы соседками стали – вот радость-то была! А Мирочка, как ходить стала, больше в нашей избе время проводила. Паша мой старше Мирочки на два годка, но любил с ней играть. Как они играли, малые, бывало, глаз отвести не могу…
Ефросинья умолкла на минуту, на лице её мелькнула мечтательная улыбка. Потом потянулась к Марии и тихо сказала:
– Гляди, Анисочка сидит как неживая. Поставь-ка ей стакан воды, может, валерьянка есть, так принеси. Боюсь, плохо ей станет. Может, не стоит всё подробно, а?
Мария подумала, потом наклонилась к уху Ефросиньи и прошептала:
– Про изнасилование можно пропустить. Ты продолжай ещё немножко, до момента, когда они пришли. Потом я расскажу, что видела. Тяжело тебе?
– А тебе, Мирочка?
– Про меня что уж говорить!.. Я себя не чую, не знаю, где я и кто я, здесь или там. Но надо крепиться. Если тогда выжила…
Ефросинья отпила воды из своего стакана и продолжала:
– В аккурат за неделю до начала войны призвали наших мужиков, Васю и Борю, на учения. А тут война, понятно, что домой не отпустили. Я ещё несколько писем от Васи получила, а потом – похоронку. А от Бори совсем ничего не было.
Ну, немцы вошли в село. Проехали по улицам на мотоциклах. Не остались, только с председателем колхоза встретились, назначили его старостой. Наказ ему дали, какой порядок должен быть. Колхоз наш был имени Ленина, велели переименовать в кооператив. Ну и насчёт евреев, понятно, дали распоряжение. Аннушку сразу уволили. Потом ушли.
Два дня после этого было тихо. Только на улицах группами собирались мужики, те, кого в армию не забрали. Что-то обсуждали.
На третий день – сижу я на своём огороде, грядки полю – и вижу: по нашей улице Пантелеймон идёт, пьяный, как всегда, и ещё двое с ним. Я шмыг через ограду, Аннушку предупредить, чтобы спряталась и мальчиков спрятала…
– Каких мальчиков? – раздался голос Анисьи.
– Были у Аннушки близняшки, Сеня и Яша, моложе Мирочки. Только-только ходить начали.
Ефросинья глубоко вздохнула. Смахнула слезинку. Потом продолжала:
– Не успела я… Они уже во двор входили. Рявкнули на меня: «Цыц отседова! Будешь вмешиваться – подпустим тебе красного петуха, даром что не жидовка!» Один даже сапогом пнул. Что я могла сделать? Побежала домой, думаю: Мирочку им не отдам! Мирочку ещё можно спасти! Но как спрятать? Не от немцев – их мы почти не видели, – а от своих, соседей. Сколько гадов оказалось в нашем селе – в жисть бы не поверила! Три дня разгром у нас продолжался: убивали евреев, грабили их имущество… Целого дома не оставили! А ведь были соседями, все друг дружку знали, здоровались. Мне виду нельзя было показывать, как я ненавижу этих погромщиков, подозревать бы стали, что прячу кого-нибудь! Ради Мирочки, чтоб не искали и не подозревали, разговаривала с людьми, больше с бабами у колодца… Были такие, что жалели убитых евреев, но были и другие, что радовались: «Хорошо, что посёлок от жидовни очистили!» И хвалились награбленным добром, обновками…
Ефросинья прервала рассказ, выпила воды. Плечи её поникли, она казалась очень усталой. Мария, сидевшая рядом, обняла её:
– Отдохни, мамушка. Успокойся. Я буду продолжать.
– Ты?! Теперь, когда начинается самое страшное? Да ты и не поняла тогда, что делается! Ты не сможешь! Лучше начни с того, как мы тебя прятали.
– В то время, может, не всё поняла, теперь понимаю. Я смогу.
И она начала свой рассказ.
– Мы сидели в избе тёти Фроси, играли с Павлушкой в крестики-нолики. Вдруг раздались крики во дворе нашего дома. Не успели мы выскочить, посмотреть, что случилось, – влетает тётя Фрося, растрёпанная вся, как сумасшедшая. Хватает меня, открывает дверцу подпола и кричит: «Спускайся в подпол, живо!» Я вырвалась, кричу: «Там мама! Мне надо туда!» – «Мира, я не шучу. Они убьют тебя, если увидят!» – «Они меня не увидят! У меня убежище есть!» – «Ох, пока мы спорим, они могут сюда войти! Где твоё убежище?» – «В малиннике. Я там местечко расчистила – меня не видно, а я всё вижу!» Тётя Фрося кричит: «Не надо тебе ничего видеть!» – а я вырвалась и бегу, прячусь в зарослях малинника.
Тётя Фрося побежала за мной, пригнувшись, влезла ко мне в кусты и дала мне в руки полотенце.
– Запомни: что бы ты ни видела, нельзя издавать ни звука, если хочешь быть жива, – прошептала она. – Ты ничем не можешь помочь. Когда захочется кричать, кусай полотенце, заткни им рот. И не шевелись, чтобы кусты не шуршали. Я остаюсь с тобой. Боюсь, одна натворишь что-нибудь, не приведи Господи.
Минуту во дворе было тихо: палачи вошли в дом. Потом на пороге показался Пантелеймон; он тащил за волосы маму, а за подол маминого халата держались малыши и громко плакали. Следом вышли его пособники. Мама вырывалась, кричала: Адонай Элохейну, обрушь на них все казни ада! И на этом, и на том свете!
Пантелеймон ударил её кулаком в лицо. Из носа полилась кровь.
– Ты ещё проклинать нас будешь, жидовка проклятая? Сейчас мы вас утихомирим, тебя и твоих жиденят!
Подошёл один из пособников, спросил главаря:
– Дом подожжём, что ли?
– Дом хороший, жалко. Лучше моей хаты. И твоей тоже. Может, тебе его подарю, за помощь. И мебелишка там всякая есть, пригодится.
– Чем кончать их будем? Може, у тебя пистолет есть?
– Нету. Не спеши. Дай мне сначала с жидовочкой побаловаться!
В этом месте рассказа Ефросинья вскочила с места.
– Мирочка! Мы же договорились…
– Не могу я это пропустить. Оно горит во мне все годы, рвёт всё внутри. Может, выскажу – и потухнет огонь этот…
– Смотри, как бы ещё один огонь не разжечь, – недовольно сказала Ефросинья и кивком показала на Анисью.
– Не беспокойся за меня, бабушка Фрося, – сказала Анисья чуть слышно. – Я взрослая, я всё поняла. Но, в самом деле, подробности об этом не хочу слушать.
– Я буду рассказывать так, как я видела и понимала в мои пять с половиной лет, – сказала Мария. – Ты хотела правду. Вот она, правда.
Мама брыкалась и вырывалась и всё время кричала: «Шма Исраэль!» Мальчики ревмя ревели и хватали маму за руки. Пантелеймон встал, поднял маму, всё так же держа её за волосы, и крикнул своим пособникам:
– Кончайте уже с жиденятами, чего ждёте?
Злодеи пошептались между собой, потом каждый из них схватил одного из моих братишек за ножки и поднял головками вниз. Подошли к стене дома и, широко размахнувшись, ударили детей головами об стену. Один короткий крик они успели издать – и мозги брызнули из раздробленных детских головок… Убийцы бросили безжизненные тельца на кучу хвороста.
– Хорошая работа, – одобрил Пантелеймон. – Потом подожжём это всё. Ну, теперь твоя очередь, жидовка. Молись своему богу.
– Мне уже не о чём молиться! – кричала мама. – А вы бойтесь суда! Наш Бог не прощает. Отольётся вам наша кровь, капля за каплю…
Один из убийц нашёл в сарайчике вилы и подошёл к Пантелеймону.
– Может, этим прикончим?
– Во-во, в самый раз. Дай-ка сюда.
Я слышала каждое слово, каждый стон. Это ведь было в нескольких метрах от нашего убежища. Тётя Фрося прижала меня к себе, а я чуть ли не всё полотенце засунула в рот, чтобы не кричать. Тело онемело, но нельзя было шевелиться.
Пантелеймон ударом сапога сбил маму с ног и с размаху всадил в неё вилы – насквозь прошли, острия аж в землю вонзились. Такого нечеловеческого крика я никогда больше не слышала и, Бог даст, не услышу. Кровь залила двор. Мама сразу не умерла, она ещё двигала руками и ногами.
Убийцы сошлись вместе и стали совещаться.
– Что теперь будем делать? Куда их денем? Не похороны же устраивать!
Пантелеймон выдернул вилы из тела мамы и бросил её на ту же кучу, где лежали тела моих братиков. Я думаю, она была ещё жива.
– Подожжём всё это, – сказал он. – Грицько, ты же хочешь этот дом взять? Уберёшь потом весь пепел, почистишь двор.
– Да ещё мозги со стены отмывать надо будет, – недовольно сказал тот, кого он назвал Грицьком.
– Шлангом придётся, – сказал второй пособник. – Привезёшь бочку с водой – и шлангом, всё смоется.
– Разболтались мы, ребята, – сказал Пантелеймон, – нам ещё четыре места обойти надо. Пора здесь заканчивать.
Он смял несколько старых газет, подсунул под хворост и поджёг. И вдруг как-то обмяк весь, закрыл глаза руками. Совсем близко от нас он стоял, мы дышать боялись.
– Что с тобой, начальник? – забеспокоились дружки, когда он, пошатываясь, подошёл к ним. – С водки развезло, что ли?
– Наклонился я над кучей, на жидовочку посмотреть в последний раз. Красивая была. Смотрю – а у неё глаза открытые, смотрят на меня в упор… Жутко мне стало. Грозилась ведь, что ихний бог нас накажет… Пошли отседова поскорее!
Ушли. Костёр уже горел вовсю. И пахло горелым мясом…
Мария умолкла. Все молчали. Потом она сказала:
– Не помню, что дальше было. Может, сознание потеряла.
– Может, хватит на сегодня? – сказал Павел. – Невмоготу уже. Мы-то знали, а Аниска – каково ей в первый раз?
Ефросинья склонилась к сидевшей рядом Анисье и прижала её голову к своей груди.
– Ну, что скажешь, внученька? Дальше у нас будет длинная история, о том, как мы маму твою прятали. Будем продолжать?
– Ох, нет, бабушка. Не могу больше. Давай продолжим завтра. Я… Мне подумать надо, оплакать свою бабушку Хану.
– Поплакать полезно, полегчает тебе, и бабушка Хана заслужила, чтобы её оплакали. Не бойся, самое страшное мы уже прошли. Дальше пойдут будни.
Когда встали из-за стола, Анисья кинулась к выходным дверям.
– Куда ты? – крикнула ей вслед Мария.
– В саду побуду, не волнуйся!
Сбежав с порога, Анисья вошла в сад и упала ничком на траву под яблоней. «Что я ожидала услышать? – спрашивала она себя. – Я уже знала про Холокост и понимала, что если бабушка, в то время молодая женщина двадцати с чем-то лет, умерла в 41-м году, значит, её убили. Миллионы людей убили – и не только евреев, миллионы солдат на фронте.
Короткое слово – «убили». Даже привычное, так часто мы слышали его на уроках истории. Теперь мне показали – вот что стоит за этим словом. Все ужасные подробности. Пытаться понять, что чувствовала жертва – ведь она не в один миг перестаёт жить. Мучения и ужас перед этим…
Миллионы. Миллионы погибших. Каждый был личностью. У каждого была своя история жизни и история смерти. Я видела на фотографиях рвы в лагерях смерти, заполненные трупами-скелетами. Ещё недавно это были люди. Кто они, кем они были? Никто не знает. Если остались родные, никаких могил они не найдут. И у моей бабушки нет могилы. Шлангом, шлангом очистить…»
Любовь Знаковская
Член Союза писателей Израиля и Международного Союза писателей и журналистов.
Родом из украинского городка Олевска на Житомирщине. Получила высшее образование в Крыму, в Симферополе. Закончила историко-филологический факультет и работала в сельских и городских школах Днепропетровщины и Крыма. Стихи писала с детства, публиковаться начала со студенческих лет. Первый сборник стихов вышел в Крыму в 1970 году. Далее книги выходили в Москве, Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе. Ныне Любовь Знаковская – автор 11 книг стихов, прозы, поэзии для детей.
В Израиль репатриировалась в 1997-м году. Живёт в г. Тверия, где создала литобъединение и руководит им более 15 лет. Редактирует альманах «Тивериада».
Танцор на крыше, или «Майский день, именины сердца»
Ну вот… Как всегда… Проверяю на ощупь худенькое вымечко портмоне и, со страхом заглянув внутрь, радостно убеждаюсь, что кое-что осталось на автобус, правда, с пенсионерской скидкой!.. Ура!.. С трудом поднимаю набитые овощами-фруктами пакеты и с сожалением покидаю весёлый, орущий, доброжелательный рынок с его недружелюбными ценами…
Наискосок пересекаю полукруглую пешеходную площадь и усаживаюсь на парапет в ожидании автобуса. Доверяюсь доброте расписания – но опять шлепок невезения: мой «шеш»[13], не дождавшись меня, умчался пять минут назад, а следующий только через полчаса!.. Можно было бы воспользоваться маршруткой, если бы не моя расточительность на рынке!.. В таких случаях я сама себя утешаю:
– Где бы я ещё так посидела?.. Когда бы я ещё так отдохнула?.. Значит, опять – ура!..
Пользуясь местной свободой нравов, кладу усталые ноги на прогретый парапет и наслаждаюсь неожиданным покоем, живою тенью густого эвкалипта, ещё не знойным майским теплом, а главное – знакомой с детства мелодией, под которую тут же заплясала моя неугомонная память.
Через дорогу, напротив, у аптеки Шварца, загораживает вход в неё микроавтобус, из окошек которого разлетаются певчими птицами зажигательные еврейские «хиты» начала прошлого века – клейзмерские мелодии еврейских местечек. Вдруг на крышу этого автобуса, на лёгкий деревянный настил на ней, легко, как белка, взлетает высокий, долговязый старик с длинными развевающимися седыми кудрями, локонами-пейсами и лунной бородой. Не теряя ни минуты, с первого же прыжка он принимается так радостно и заразительно отплясывать на импровизированном подиуме, то самозабвенно кружась, то наклоняясь вперёд, то откидываясь плечами назад, что автобус в одно мгновение обрастает смеющейся приветливой толпой, в такт мелодии пританцовывающей и прихлопывающей. Широкие рукава его серебристо-серого шёлкового халата не первой свежести свободными крыльями взлетают кверху, когда он поигрывает над головой воздетыми ладонями, а следом смачно, со вкусом хлопает, чередуя ритмически лёгкие свои прыжки. И вместе с рукавами вздуваются и снисходительно опадают небрежно перехваченные в поясе фалды и полы.
– Ай-я-яй-я-яй! Ай-я-яй-я-яй! – припевает он на всех языках понятные слова беспечной вольной радости, и обновляемая толпа прохожих, покачивая плечами и бёдрами, улыбчиво вторит ему.
Люди светлеют лицами, весело кивают старику и друг другу и идут дальше, по своим делам, скукам и докукам, с сожалением оглядываясь на этот неожиданный праздник души и тела.
Откуда ни возьмись (конечно, из салона микроавтобуса) появились на крыше двое мальчишек, лет шести и восьми, и стали прыгать, как дед, высоко подбрасывая острые коленки. Но их замурзанные, с лёгким крапом веснушек круглые мордашки никаких особых эмоций не выражали и потому, наверное, не отвлекли на себя обычно щедрое к детям внимание обывателей. А дед, всё так же упираясь в небо, сам себе хлопал в ладоши и словно наслаждался собственной лёгкостью, почти невесомостью. Он будто удивлялся, что такое вытворяют без его ведома и участия эти всё ещё молодые, стройные, пружинистые ноги, обутые в раздолбанные сандалии.
Люди на ходу что-то протягивали молодому бородачу у руля открытой всем сердцам микрокабины. Может быть, пожертвование в пользу бедных, многодетных или пострадавших от аварий семей… Надо сказать, что лучшего ходатая и просителя нельзя было бы и придумать. А я устыдилась своего бесплатного присутствия на этом дивном спектакле: негоже вот так по-царски восседать, созерцая это чудо, ни гроша не заплатив и ничем не одарив его творцов…
Между тем полчаса уже пролетели. Уставшие мальчуганы давно сидели на краю крыши, свесив долу запылённые босые ножки и безучастно разглядывая прохожих. А их неутомимый дед, то ли сошедший с неба, то ли взошедший на него, всё выплёскивал наружу своё радостное приятие этого, может быть, не самого счастливого, но самого прекрасного края…
– Та-ра-ра-ра-я-я-я-ям! Та-ра-ра-ра-я-я-я-ям!
По моим щекам текли слёзы… Я плакала от счастья, сама не зная почему. Может быть, этот танцующий на крыше старик – лучшее, что я видела в Израиле за три года пребывания в нём, хотя изъездила страну от Димоны до Хермона вдоль и поперёк… А может быть, не лучшее, а главное?.. Потому что только сейчас, сидя на тёплых ласковых камнях в тени заботливого эвкалипта и наслаждаясь видением седобородого танцора, я впервые поняла очевидное: да, я дома, я в стране свободных людей, стране моих далёких предков и, даст Б-г, далёких потомков.
…И я мысленно обратилась к своим дедушкам и бабушкам, навеки успокоившимся на еврейских кладбищах полесских местечек Украины ещё до моего рождения…
…Обратилась к пеплу отца моего, сгоревшего в танке под Харьковом в 41-м – «сорок памятном году»…
…К праху молоденькой мамы, похороненной в Киеве, на Байковом кладбище сразу после войны…
…К памяти трёх моих тётушек, не отдавших меня в детдом, но по очереди растивших и обучавших меня, а нынче нашедших вечный покой на погостах Житомирщины и Крыма…
– Родные мои!.. Посмотрите оттуда, сверху, на этот праздник души, на эти «именины сердца»!.. Посмотрите и возрадуйтесь! Ведь вы так любили жизнь, так умели веселиться, несмотря на многочисленные страдания и потери… Недаром главный еврейский танец называется «Фрейлахс» – радость!
С детских лет помню, как в разгар самых весёлых свадебных плясок вдруг раздавался предостерегающий возглас раввина:
– Шат!.. Шат, идн!.. Тише!.. Тише, евреи!.. Не так громко: не дай бог, нас услышат и позавидуют нашему еврейскому счастью… Шат, идн!..
И хотя это была та самая шутка, в которой на поверхности плавала только доля правды, но даже счастливым гостеприимным хозяевам вдруг начинало казаться, что они на чужом празднике, что они в гостях…
…Когда в 1950 году, в разгар «холодной» войны, поступил во Львовский «политех» мой старший брат, я летела через весь городок, вопя от радости и спеша поделиться ею с любимой тётушкой. Она стояла на огороде среди фасолевых тычек[14] и молча слушала меня. Потом сурово оборвала:
– Ай, чему радоваться? Всё равно быть войне!..
Я подавленно умолкла, как от пощёчины. А она, поднимая с земли длинный, остро заточенный шест, неожиданно продолжила:
– Но даже если мы тут все сложим свои головы, там, далеко, будет жить наша возрождённая земля, наш Израиль! – и с силой вогнала тычку в мягкий украинский чернозём…
…Родная моя, я обращаюсь к тебе ровно через полвека после той беседы: смотри и слушай! Смотри и слушай, как танцует и поёт на земле Израиля один из её сыновей. Как он красив, как искренен, как свободен в своём еврействе! В виду всей Тверии, в виду голубого Кинерета, в виду разноликой и пока что разноязыкой толпы. И никто не скажет: «Шат, шат, идн! Ша, евреи, что это вы так развеселились?! Нас могут услышать!..»
И слава богу! Пусть нас наконец услышат!
Пусть услышат, и порадуются за нас, и подпоют нам друзья наши. А враги… Ну что ж – на то они и враги!..
Наконец примчался запыхавшийся, опоздавший минут на десять новенький красавец «Эгед»[15], но я была только благодарна нерасторопному шофёру за этот щедрый подарок – ещё десять минут вполне ощутимого счастья… Сажусь у окна и всё киваю головой в такт непрерывающихся ритмов… Наш водитель кричит в окно что-то одобрительное неутомимому танцору и оттопыривает в восторге большой палец! А тот, благодарно кивая и улыбаясь, без тени усталости продолжает испытывать на прочность деревянные подмостки на крыше весёлого микроавтобуса…
Помните поговорку: «Увидеть Париж – и умереть»? Я ещё не видела…
Да и умирать пока не хочется… Зато я видела танцующего на крыше старика-еврея – и возродилась к новой жизни! Вот этого я и вам желаю, мои соплеменники, и не только вам!..
Тверия, 2001
Вячеслав Карелин
Родился в Баку. Израильтянин с 1990 года. Автор четырёх поэтических сборников. Член Союза писателей Израиля.
«А слово билось на листе…»
А слово билось на листе, Как узкий вымпел на шесте, Как птица гордая в силках, Как детский вымысел в мелках, Как чернобурка в узкой клетке, Кленовый лист с осенней ветки, Косяк форели на стремнине, Игла запала в чреве мины, Волнодвижение на море… Я отпустил его на волю.«Шёл крестный ход. Весна прощалась…»
Шёл крестный ход. Весна прощалась. И пахло Волгой от костра. А за спиной тихонько жалась Мне не жена и не сестра. Трава звала упасть распятьем И сладко плакать от вины. А ветер хулиганил платьем Мне не сестры и не жены. Прощай, провинция, Россия, Чьи зори свежестью бодры. Я – Сатана или Мессия Для не жены и не сестры?«В июле есть какая-то трагичность…»
В июле есть какая-то трагичность. Сожжённую траву купает пыль. Всё плавится. И даже слово «личность» Напоминает горькую полынь.«Негласно подходит ненужность…»
Негласно подходит ненужность. (Был нежен, а может, груб?) Похабно алеет окружность — Зеро, очертания губ? Не весело и не горько Смотреть, как уходят года. Куда? На испанском – horca, На русском – просто дыра.«Ноябрь израильским солнцем…»
Ноябрь израильским солнцем По крышам резво скакал И красными искрами света Тепло наполнял бокал. Дымилась слегка сигарета, И дымом играл сквозняк. Оконная ручка на раме Блестела как новый медяк. Минорно плакала скрипка, Ей вторил объёмно орган… А где-то заветная шхуна Искала проход в Зурбаган.«Кузина осени – весна…»
Кузина осени – весна. Она пресна Зелёным цветом. Она – началом, не ответом Глядит на мир из-под листа. А мне милее золотая Под серым небом в лужах смерть… И книгу толстую читая, Так хочется ещё успеть.Вильям Григорьевич Богуславский
1930 года рождения, репатриировался из Украины в Израиль восемнадцать лет назад, живу в Ашкелоне. В свое время окончил Кировоградский пединститут, историко-филологический факультет. Работал учителем, библиотекарем, корреспондентом областной газеты, многие годы в системе профтехобразования заместителем директора по учебно-воспитательной работе строительного ПТУ.
Впервые напечатался в журнале «Радуга», рассказ «По заданию». Публиковался в педагогических журналах. Изданы книги: «Немец», «Бурса», роман «Мерцающее дерево», повесть «Золотое ведерко». Регулярно публикуются рассказы в израильском альманахе «Юг».
Член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Уха
Меня позвал на рыбалку директор вечерней школы Василий Степанович Ткачук, вне школы просто Степаныч.
– Возьмем на моей даче лодку, а оттуда двинем на Ятрань, сравнительно недалеко, километров шесть с гаком. Бутылку прихвати, а я пару бутылок своего винца, из еды кое-что.
В назначенный день мы доехали городским автобусом до последней остановки, дальше своим ходом. Шли налегке, у каждого короткая удочка, удобно ловить с лодки, и спиннинг с донной снастью.
У меня за спиной рюкзачок со спиртным и съестным. Степаныч совсем налегке, шагает уверенно, бодро, хоть ему под шестьдесят, он высокий, худой, только шапка седых волос выдает. И одет по-молодежному: кеды, спортивный костюм.
– Крупную рыбу вряд ли возьмем, но уклейки нахватаем. Я ее люблю ловить. И уха неплохая. Но рыбалка, ты понимаешь, может, и повезет!
Говорит он спокойно, не спеша, со знанием дела, – учитель.
Мы идем узкой проселочной дорогой, какие-то повороты и спуски. Вокруг зелень, из-за холма появляется солнце. День обещает быть жарким. Я иду молча, Степаныч рассказывает:
– Участок засадил одними яблонями. Какой урожай ни есть, я его пускаю на вино. У меня в подвале, как в магазине, на полках бутылки с этикетками. Выдержка, сроки. Выпьешь – увидишь. Кальвадос ни в какое сравнение. Не забыть бутылки.
Начинаются сады. Огороженные участки, идем узкой дорогой. Тихо и безлюдно.
– А вот и моя!
Разговоров о даче было много, но то, что предстало взгляду, могло сразить наповал. Халабуда, наполовину врытая в землю. Мы вдвоем втиснулись вовнутрь, третьему было бы тесно.
– Все есть: керогаз, кастрюля. Ложки.
– Представлялось строение! – произношу я с усмешкой.
– Если бы не работал в райкоме партии, не имел бы дачу. Ты же знаешь, как тогда относились к владельцам частной собственности, – враги социализма. Но мы потихоньку участки взяли.
– Да, – засмеялся я, – теперь размах другой. Как думаете?
– Жаль великую державу, но ты меня в дискуссии не втягивай, оставь для учительской. Я накопаю червей, а ты думай, как удобнее комплектоваться.
Вышли нагруженными, у меня за спиной резиновая двуместная лодка, килограммов двадцать пять, пара весел, ножной насос, все на шлеях, удобно, снасти в чехле. Кроме того, брезентовое складное ведерко для воды, подсак, черви, мало ли что. Степаныч несет рюкзачок с едой и спиртным, в рюкзачке еще две гантели по пять килограммов, вместо якорей, каждая аккуратно обмотана шнуром.
Мне приходилось не раз бывать в походах, и я мог примерно определять пройденные километры. Шесть было давно позади.
– Гак у вас приличный.
– Не спорю – народная мерка.
Речка, довольно широкая, показалась впереди. В берегах камыши, но куда мы спустились, была просторная поляна и открытая вода.
Ох, вода, близость рыбалки! Тут ничего не поделаешь, тебя подхватывает волна близкого охотничьего азарта, закипает адреналин, и ты уже в мандраже, даже дух перехватывает от нетерпения. Степаныч, похоже, чувствует то же самое. Стоит надо мной:
– Качай быстрее, но не переусердствуй, я сам буду следить. Перекачаешь баллон, его на солнце разогреет, может лопнуть!
– Знаю!
Наконец лодка готова, хорошая, двухместная, в уключинах весла. Мы подтягиваем ее к воде. Укладываем снасти, я на веслах, привязываю конец шнура от гантели к корме, а гантель кладу на сидение. Степаныч вторую вяжет к носу лодки. Он удобно усаживается, поставил посредине перед собой рюкзачок со спиртным и едой.
– Поснедаем и пообедаем! – весело говорит он. – Заводи!
Я туфли снял, связал шнурками и через плечо, закатал штаны и двинул лодку в воду. Когда садился, ее здорово качнуло, и у меня даже мелькнула мысль все-таки напомнить об осторожности, но где там. Мандраж нарастал! Плывем. Гребу, огибаю стену камыша и от нее беру чуть дальше.
– Вот тут и тормози, – командует Степаныч, – самый раз!
Он бросает гантель в воду, держит в руках шнур, наклоняется посмотреть, как она уходит вниз, я держу свою, на какое-то мгновение делаю совсем нерезкое движение. И этого было достаточно. Лодку качнуло, я второпях наклоняюсь в обратную сторону, но Степаныч, видно, решает лодку выровнять и резко клонится в другую. Лодка медленно поднялась набок и мгновенно захлопнулась. Мы в воде, хватаю снасти, подплываю к нему, успеваю взять и его удочку, он поднял над головой спиннинг.
– Плывите к берегу! – кричу я.
Он слушается. Я со снастями тяну перевёрнутую лодку, она, заякоренная двумя злосчастными гантелями, тянется с трудом. Степаныч уже ждет меня на берегу, помогает вытаскивать, и тут, сообразив, останавливается, со злостью выкрикивает:
– А рюкзак с едой?!
Да, рюкзачка нет, впопыхах бултыхаясь в воде, хватая
снасти и, видно, понадеявшись один на другого, мы его упустили.
Я торопливо сбрасываю прилипшую к телу рубашку, брюки и назад в воду. Плыву вдоль камышей, заворачиваю к тому месту, где мы опрокинулись. Вроде здесь. Начинаю нырять. Оказывается достаточно глубоко, метра три-четыре. Муть. Ныряю еще и еще, ощупью исследую илистое дно. Нет. Скорее всего течение, хоть и слабое, его подхватило. Возвращаюсь, у кромки камышей вижу наше брезентовое ведро. Не утонуло. В нем банка с червями! Обрадовался! Держа ведро на весу, вышел на берег.
Степаныч в одних трусах сидит на перевернутой лодке и хмуро исподлобья на меня смотрит, его худое лицо в злой гримасе.
– Ни воды, ни еды, крутил задом, пока она не перевернулась!
– Что поделаешь, – миротворчески говорю я, – такое случилось.
– Случается у неумех! – с той же злостью произносит он.
– Степаныч, в лодке мы были вдвоем!
– А перевернул один!
– Не стоит сейчас искать виноватого, – так же спокойно говорю я, – ничего страшного не произошло.
– Виноватых всегда надо искать и наказывать, мы без воды, без еды, а впереди целый день! Ничего не произошло!
Тон, с которым говорит мой директор, начинает меня раздражать, но я понимаю, что он все еще находится во власти пережитого, и мне заводить его дальше не хочется.
– Василий Степанович, – все так же, не повышая голоса, говорю я, – винить другого, искать виноватого, только не я – это точно, удел неумех! Давайте решать спокойно и разумно.
– Все заболтать, только бы не нести ответственность!
– Что вы предлагаете, – уже сердито говорю я, – оплакивать то, что произошло, или про рыбалку вспомнить?! Черви не утонули!
– Испорчена рыбалка, а все ты, я знаю, я умею! Ни черта не умеешь! Брать тебя не надо было!
– Я не напрашивался, – повышая голос, говорю я, – сам удивляюсь, какого черта я с вами связался. Искупались, ну потеряли что-то, мелочь на поверку. И какая реакция?! А если бы что-то серьезное, действительно опасное, как бы вы себя повели?! Паникер вы, Василий Степанович!
– Оскорблять меня?! Директора?! – он подскочил со своего сиденья и стал передо мной. – Щенок, ты еще об этом пожалеешь!
– Я субординацию соблюдать не стану, – со злостью выкрикиваю, – могу и послать подальше!
– Тебе надо подальше! Как это ты еще не в Израиле!
– Последний довод королей – пушки, а у антисемита – Израиль.
– Ты. Ты?! Все у вас антисемиты! Узнаешь меня! – он весь дрожал, и его ощеренный рот с торчащими зубами был прямо передо мной, я когда-то увлекался боксом и, признаюсь, у меня мелькнуло желание выбросить вперед руку, но именно в этот миг я совершенно спокойно оценил создавшуюся ситуацию. Отошел от него. Кто знает, как поведет себя этот уважаемый мной и оказавшийся вдруг таким самодуром, перепуганный обстоятельствами человек. Впрочем, зацепить его посильнее надо, я с насмешкой сказал:
– Наконец мне стало понятно, по каким критериями из коммунистов подбираются директора!
– Узнаешь, узнаешь! – он уже орал.
– Василий Степанович! Прощай, рыбалка, я сейчас легким ходом двинусь домой, а вы сидите тут и переживайте до второго пришествия перспективу поголодать.
Я действительно поднял с травы свои мокрые штаны, стал их натягивать. Хуже было с пропитавшимися водой туфлями, но я один успел зашнуровать.
Видно, мои решительные действия как-то подействовали на моего директора, что-то, вероятно, щелкнуло у него в голове.
– Жаль рыбалку! – вдруг совершенно изменившимся тоном произнес он. – Уже б ловили.
Рядом плещется вода, и я понимаю, что бросить здесь человека с этой лодкой, с его снастями я не сумею, и надетые мокрые брюки – только бравада и демонстрация, кто-то должен быть разумнее. Я расшнуровываю и снимаю туфли, стягиваю штаны и голосом, не терпящим возражений, приказываю:
– Одежду оставим на берегу, пусть сохнет, переворачивайте лодку и к воде. Коммунисты, вперед!
Да! Василий Степанович все это молча проделывает и усаживается, как и раньше, на носу лодки. Я толкаю ее, пробираюсь к веслам, и мы плывем. Ровно на том месте, где перевернулись, заякорились гантелями, и так же молча готовим снасти.
Первую рыбешку взял Степаныч. Он снял с крючка плотвичку, торжественно поднял над собой и бросил в ведро. Пошла и у меня. Одна за другой, не успевал даже поплавок дойти до воды, а вот на донную снасть ни одной поклевки! Мы ворочались, приподнимались, двигались, но лодка хоть и качалась, но держалась устойчиво.
Вполне вдвоем можно ловить с одной лодки.
Нигде так стремительно не летит время, как на рыбалке. Полведра рыбы уже набралось, но мы продолжали ловлю, а солнце клонилось к закату.
– Хватит, – все еще командовал я, – пока соберемся, стемнеет.
На берегу оделись, все подсохло, и мы распределили груз. Степанычу досталось ведро с рыбой, остальное – мне.
Идем, стало совсем темно, и луна не появляется. Молчим, Степаныч погодя говорит:
– Я всегда удивлялся описаниям подвигов великих полководцев, громадные армии, а как их обеспечивали едой – мало известно. Хану Батыю было проще, кусок конины под седло – и готовый бифштекс.
– Да, – поддерживаю разговор, – как говорил Салтыков-Щедрин, хороши еще перчатки, когда они долго ношены!
Хоть дорога показалась раза в два длиннее, а груз тяжелее, но уже глухой ночью мы к даче добрались.
– Будем варить уху! – вдруг заявил Степаныч.
– Какая уха?! У вас даже свечки нету. Сплошная темень!
– Зажжём керогаз, я поставлю кастрюлю с водой, а ты чисть рыбу, я потом помогу.
– В темноте чистить?!
– Середину выдергивай, а голову оставляй. Самый смак!
В кастрюле закипала вода, а мы бросали и бросали туда рыбу. Потом сняли кастрюлю и поставили на скамейку. Круглое пламя керогаза едва освещало тесное пространство. На каких-то табуретках мы как-то уселись.
– Жаль, утонуло вино, – сказал Степаныч.
– А мне бутылку «Московской» не жаль?!
– Ладно, еще наверстаем. Берем ложки!
Много лет прошло с тех пор, я в Израиле, Степаныч, по слухам, жив, достроил с сыновьями дачу, но такой ухи, какую мы с ним из кастрюли черпали ложками, я в жизни никогда вкуснее не ел.
Семен Цванг
Родился 10 мая 1924 года в городе Балта Одесской области.
В августе 1941 года ушел добровольцем на фронт. Воевал на Юго-Западном и 1-м Украинском фронтах. Танкист, разведчик, комсорг батальона 175-й танковой бригады 25-го танкового корпуса. Дважды ранен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя медалями «За отвагу».
После войны работал на восстановлении шахт Донбасса, потом в областной и республиканской прессе. В 1952 году в издательстве «Донбасс» вышла первая книга «Стихи». С 1956 года – член Союза журналистов СССР. Работал в редакциях газет Балты, Одессы, Донецка, Киева.
В 1966 году окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова. Автор трёх пьес. Две из них были поставлены на сцене Балтского народного театра.
В последующие годы изданы книги: «Стихи» (1952), «Память седины» (1993), «Выбор» (1998), «Листая календарь судьбы» (2006), «Здравствуй, жизнь» (2008), «Помните нас молодыми» (2010), «!שלום דיר, לעבן». Книга стихов на идише в переводе Сары Зингер (2011), «Город, в котором тепло» (2012), книга стихов «Избранное» (2014).
Почетный гражданин 2 городов – Балта (Украина) и города Нетивот (Израиль). Лауреат премии Фонда увековечения воинского героизма им. Ицхака Зандмана и Авраама Коэна за 2007 и 2012 гг. Лауреат премий имени В.П. Некрасова, учрежденной Союзом писателей Израиля, и имени классика идишской литературы поэта Якова Фихмана, учрежденная Всемирной ассоциацией евреев Бессарабии.
Живёт в Ашкелоне.
Встреча с Шагалом
Не в ярком торжественном зале, А в небе над городом грёз Я встретился с Марком Шагалом. На мой изумленный вопрос: – Откуда маэстро, откуда? — В ответ улыбнулись глаза. В руке живописца этюдник Размером с аэровокзал. И радуга вместо палитры, И кисти сияющий луч. Холст неба натянут в полмира В подрамнике розовых туч. Умиротворенно, беспечно Взирая на мир с высоты, Хасиды над бедным местечком Витают на крыльях мечты. Летят над планетой бессонной С осанкой великих персон. О, та невесомость весома, Как вещий и сбывшийся сон! А даль полосой голубою, Как луч, серебрит небосвод. Огнями сверкающий «Боинг» Летит на Израиль, на Лод. Я видел улыбку Шагала, Восторженный блеск его глаз. Над крышей аэровокзала Рассветная зорька зажглась.Труби, Шофар!
Есть звук, как стихотворный слог. В нём голос Неба, отзвук битвы. Еврей трубит в бараний рог В день самой памятной молитвы. Шофар не флейта, не свирель, Не просто рог – дух лучезарный. Звучат слова: «Шма, Исраэль![16]», Затем священный зов шофара. В нём поиск истины святой, Мечты, раскаянья, вопросы. И кажется, весь шар земной Собрался у горы Сионской. Внимают звукам юн и стар. В них жизни на земле начало. Звучи, шофар, труби, шофар, Да так, чтоб сердце трепетало!..Еврейская история
Еврейская история, – Откуда ты? – Из Торы я. Из мудрости, из древности, Из памяти без тленности, Я родилась и выжила В священном Пятикнижии. Велением Всевышнего Служить народу вышла я С его царями, храмами, Трагедиями, драмами. В погромах и страданиях, В Освенцимах, Майданеках. В галуте[17] и гонениях, В пожарах и сражениях, Воочию познала я Величие Израиля. Века, тысячелетия Живу на белом свете я, А началась из Торы я, Еврейская история.Могучее древо
Еврейское древо – двенадцать ветвей. Ствол крепче бетона. Могучие корни. Три тысячи лет наш народ-иудей Хранит это чудо, взращенное Торой. Оно на виду в самом центре Земли. Его ураганы сломить не сумели. Еврейское древо взрывали и жгли. Оно же, подобно святой цитадели, Стоит нерушимо. И вражеский вой Его не страшит. Горделиво, как прежде, Звенит на ветру серебристой листвой И радует Землю плодами надежды.Шолом-Алейхем
Шолом-Алейхем, а дословно – «Мир Вам», Его душа и жизненный девиз. Встает гигант мечты за псевдонимом, Неугасимый вечный оптимист. Смеясь, он отводил беду и грозы И верил, что за далью вековой Когда-нибудь блуждающие звезды Сойдутся под Давидовой звездой. Пусть никогда в Израиле не жил он, Но здесь его признали земляком. Ему с любовью в центре Тель-Авива Построили большой и светлый дом. А в этом доме в святости музейной Он и герои книг его живут. Ему торжественно в день юбилея Вручили паспорт – теудат-зеут. Копна волос, у глаз морщинки смеха, Взгляд мудреца вперед на сотни лет. При встрече говорим: – Шолом-Алейхем! Мы наконец-то на родной земле!Записка
Я верю в святость старины. Для нас, евреев, много значат Остатки Храмовой Стены, Что мы зовём Стеною Плача. Трепещут и душа и плоть — Ведь здесь была обитель Бога. И здесь витал, творил Господь, Руками эти камни трогал. И все, чьи помыслы чисты, Идут сюда с душой открытой. Приносят просьбы и мечты В своих записках и молитвах. Стою, как истинный еврей, К Стене Святой прижавшись близко. В расщелине седых камней Белеет и моя записка. Не ортодокс я, не фанат, Но верю в мудрость мирозданья. Прошу, Великий Адресат, Исполни и мои желанья!Владимир Левитан
Родился 10.11.1938 г. в Москве. Образование техническое. Специальность – художник-прикладник. С сентября 1990 г. живет в Израиле, в г. Беер-Шеве.
О четырех поколениях моих сограждан (новелла)
Эту женщину с копной седых, красиво уложенных волос почти ежедневно я вижу в сквере около консерватории.
Слегка отставив некогда поврежденную ногу, она сидит неизменно на одной и той же скамье лицом в сторону центрального проспекта Беер-Шевы.
Уже много лет она приходит на это место. И когда я иду на репетицию в консерваторию, мы обмениваемся с ней легкими поклонами, приветствуя этим друг друга. Иногда около нее я вижу молодого мужчину в форме майора ЦАХАЛа[18]. Он, ласково полуобняв ее и держа ее руку у своих губ, что-то говорит на иврите. Она счастливо улыбается и, отвечая ему, поглаживает его угольно-черные волосы.
И в этот раз, когда как всегда я шел к себе, я увидел ее.
– Зиночка! Сафта шели[19]! Шалом лах[20]! – раздался позади детский восторженный крик.
Обгоняя меня, к «сафте» промчалась девчушка 4–5 лет и с ходу бросилась в широко распахнутые руки женщины.
Зиночка? Какое российско-еврейское имя!
Осыпая ребенка поцелуями, женщина успевала произнести:
– Зиночка, солнышко, шемеш шели[21]!
Опять Зиночка? Кто же из них? Заинтересованный, я остановился в удивлении. Как две капли воды схожих лица повернулись ко мне. Две пары черных, блестящих от счастья глаз глянули на меня.
– Здравствуйте! Знакомьтесь – это моя правнучка Зинаида, или Злата, – произнесла женщина. Впервые за много лет относительного знакомства я услышал ее мелодичный голос. – Присаживайтесь! – пригласила она. – Сейчас подойдет ее папа, мой внук.
И действительно, к нам направлялся знакомый мне черноволосый майор. Не желая мешать счастливой семейной встрече, я извинился и, пожелав им всего хорошего, продолжил свой путь.
Прошло несколько дней. Выходя из консерватории, я вновь увидел ее. Времени у меня было много и я, поздоровавшись, присел рядом.
– Скажите, ведь вас тоже зовут Зина, как и вашу правнучку?
– Вы угадали! Мое имя тоже Зинаида.
– Простите меня за любопытство, – произнес я, – но почему вы уже много лет проводите время здесь, на этой скамье?
– Это длинная история. Если хотите, я расскажу. Сейчас уже можно. Но не здесь. Приходите ко мне. Это рядом. Вот мой телефон…
Записав номер, я попрощался и поехал домой.
В ближайшую субботу я позвонил ей и попросил о встрече. Она согласилась и назвала свой адрес. На мой звонок дверь открыла девушка.
– Проходите, Зиночка ждет вас.
Передав ей коробку с тортом и держа в другой руке хризантемы, я прошел в салон. Зинаида сидела в большом удобном кресле, отставив, как всегда, свою ногу. Поздоровавшись и преподнеся ей цветы, я получил приглашение сесть в такое же кресло напротив.
Вошла девушка с подносом в руках, на котором стояли чашечки с кофе и блюдо с уже нарезанным тортом.
– Спасибо, Танюша, ты свободна!
Отхлебнув глоток кофе, Зинаида начала свой рассказ.
– Родом я из Джанкоя, из Крыма. Мне было 16 лет, когда мой папа погиб. В те годы в Крым возвращались татары, которых после войны в 1945 году массово выслали в Сибирь. В одной из стычек с татарами (они требовали вернуть им дома и земли) папу убили. Через год умерла мама. А в мои 18 лет мы с бабушкой оказались здесь, в Израиле. Беер-Шева тогда была очень маленькая, не то что сейчас. Но нас приняли хорошо, дали жилье, бабушке работу. А я ушла в армию. Служба шла нормально, мне нравилось. Через некоторое время я познакомилась с парнем, лейтенантом Зиновием Крассом. Мы приглянулись друг другу, а по окончании моей службы повел он меня под хупу. И началась наша совместная жизнь, полная любви и счастья. И все наши друзья звали нас «Зинами». Зиновий остался служить в армии, а я пошла на курсы по агрономии. И в одном из машавов[22] Негева[23] мы начали строить свой дом. Я уже носила под сердцем ребенка, когда грянула шестидневная война 1967 года. Зиновий успел только забежать домой, обнять меня, и больше я его не видела. Потом мне сказали, что он сгорел в танке в бою на Голанах. И сын, который родился в последний день этой войны, стал носить имя отца. Он рос, учился и в армию пошел служить в спецназ. Все было хорошо. Он нашел себе красивую девушку, такую же черноволосую, тоже служащую спецназа. Сыграли свадьбу. И родился внук. А за день до Брит-Милы[24] Зиновий не вернулся с боевого задания. И внук получил имя своего отца. И все пошло по кругу. Детский сад, школа, мехлала[25], армия, семья, ожидание первенца… Я была счастлива, хотя счастье мое в жизни омрачалось потерями. Вы помните теракт с автобусом на сдерот[26] Анасим (теперь это сдерот Рагера)? В этом автобусе мы были с Зиновием. И только чудо произошло – он, получив множество осколков, успел вынести меня из горящего автобуса. В память об этом моя перебитая взрывом нога. А вскоре после этого у Зиновия родилась доченька, моя правнученька, вы ее видели. И в память обо всех погибших ей дали имя Злата-Зинаида…
Она смолкла, заново переживая рассказанное.
А я, сидя напротив, размышлял о ее полной тревог и потерь судьбе.
И о ее все же счастливой жизни.
Дмитрий Онгейберг
(лит. псевдоним Аркадин)
Родился в Белоруссии в 1955 году. В 1976 году окончил в Минске Белорусский Государственный театрально-художественный институт. По профессии – режиссёр. Работал вторым режиссёром в Ленинградском Малом драматическом театре. Репатриировался в Израиль из Ленинграда в 1990 году. Автор книг «Про себя и… вслух» (1995), «27 глав из жизни Матросика» (1999), «Открытый урок» (2003), «Москва бомжам не верит» (2007). Сборник стихов «Пирога на песке» (2010), «Не очень драматические пьесы. Повести и рассказы» (2014). Призёр различных международных литературных конкурсов. Лауреат 10-го Международного поэтического турнира в Дюссельдорфе. Член Союза русскоязычных писателей Израиля.
Дедушка Самуил
Двадцать восьмой номер автобуса проехал отрезок узкого шоссе, затем потянулась грязная желтая стена, автобус замер и водитель объявил: «Бейт-кварот[27]». Анна заторопилась на выход, шелестя целлофаном, в который были завернуты красные розы. Она открыла металлическую калитку кладбища и не торопясь пошла по асфальтированной дорожке. У папиной могилы никого не собиралась увидеть. А тут она даже приостановилась. Может быть, задумавшись, пропустила нужный ряд? Это исключено. Вот на повороте примета – дерево с треснутым стволом. У каменной скамеечки стоял пожилой человек. Высокая статная фигура. Черная шляпа лежала на скамейке, а он в кипе стоял и курил, покусывая тонкие губы. Смотрел на могильную плиту. Анна прошла по узкой дорожке и, коснувшись его локтем, остановилась рядом. Стала разворачивать цветы.
– Простите, если мой вопрос покажется вам бестактным, но кем приходится вам покойный? – вдруг повернулся к ней незнакомец.
Он даже не поздоровался, не представился. Голос был тихий и в то же время раскатистый, а потому красивый, с едва уловимым непонятным чужим акцентом, который Анна никогда не слышала раньше. Но не это поразило. Она с изумлением смотрела на незнакомого человека. Почему стоит у родной могилы? Зачем стоит? Наверно, из любопытства. Просто из любопытства интересуется, кто похоронен в ней. Роза выпала у Анны из рук. Человек быстро наклонился, поднял цветок, вложил ей в ладонь.
– Это мой отец, – прошептала она.
Дрогнули густые поседевшие брови. Рука с погасшей сигаретой задрожала, когда стал оборачиваться вокруг себя в поисках места, куда бы ее бросить.
– Михаил бен, бен, – он прищурился, наклонился к могильной плите, стараясь прочесть ивритские буквы, высеченные на белом мраморе.
– Бен Самуил. Сын Самуила, – перевела она.
– Да, – протянул старик, низко наклонив голову, – сын Самуила. – Он замер. Анна смотрела на маленькую черную кипу, на аккуратно зачесанные назад густые и белые, как снег волосы. На коротко постриженную бородку. – Вечная ему память. – Старик низко поклонился. Постояли в молчании. – А отчего он умер?
Новый вопрос вдруг не показался Анне праздным. Она поймала себя на мысли, что вопросы незнакомого человека неожиданно перестали раздражать её. Напротив, за какие-то полторы-две минуты, пока стояла рядом, почувствовала неизвестно откуда взявшуюся необходимость рассказать этому опрятному, аккуратненькому старичку что-нибудь о себе, о папе. На кладбище не было ни ветерка. Не слышно ни шума проезжающих машин, ни гудков, ни чириканья птиц. Они стояли, не проронив ни слова.
Анна подумала: какой-то звуковой штиль. Если говорят, молчание – золото, то кладбище – это золотые прииски. Наверное, кладбище – это прииски. Идеальное место, где можно высвободить душу от невысказанной боли. От невысказанной боли, от груза тяжелых мыслей. От всего того, что не всегда можешь выразить человеку близкому, родному. «Папочка, папуля», – мысленно произнесла Анна, вызывая из памяти, как из небытия, давнишние картинки прекрасного детства. Такого короткого времени, когда они были вместе – папа и она.
– У папы обнаружили заражение крови. Он заболел после работ по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Папа был не просто ликвидатор. Отец был одним из конструкторов и строителем защитной каскадной стенки, позже названной «саркофаг». Спасал Европу от облучения. Заболел сам. Ему стали колоть лекарства. Сделали несколько уколов, но они закончились. Начали колоть другое лекарство. Кончилось и оно. Тогда закончили третьим. Давайте присядем, – неожиданно предложила она старику и опустилась на нагретую солнцем скамейку. Тот обернулся, присел рядом, взял в руки шляпу и нервно стал вращать её в высохших длинных пальцах. Пальцы заметно дрожали. – С таблетками было то же самое. Может, с точки зрения медицины оно и ничего, но с точки зрения больного… Папа знал свой диагноз – лейкемия, рак крови. Потом сломался энцефалограф. Чинили его, чинили, да так и не починили. Ну, ничего. Больные, страдающие заболеваниями мозга, обходились и без энцефалограмм. Вскоре папу с такими же безнадежными больными советские власти отправили на остров Валаам умирать. Дабы они своими увечьями не мозолили глаза остальным гражданам.
– Девочка моя, ныне весь мир огромный Валаам! Огромный остров, куда отправило весьма совестливых людей неблагодарное и безумное человечество, – вздохнул старик. Глаза его, без того черные, сделались ещё темнее. – Героем был твой папа.
Старик потянул из кармана пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и снова закурил. Анне тоже вдруг очень захотелось покурить. Но сигарет с собой не было. Просить же у старика постеснялась. Точнее, не очень хотела дымить перед ним. Решила: пусть лучше дедушка думает, что она не курит. Продолжила:
– Собственно, мы в Израиль привезли больного папу с единственной целью спасти его. Но не смогли. Ничего сделать ни мы, ни доктора не смогли. Папа умер.
– Стало быть, Самуил ваш дедушка, – задумчиво повторил старик. – Вы помните его?
– Нет, я его не знала.
Человек внимательно взглянул на Анну, едва улыбнулся уголками губ. Улыбка вышла горькая.
– Я уже старый. Вот уйду, и меня тоже никто не вспомнит.
– Ну почему же! – удивилась Аня. – Вас будут помнить дети, внуки. Как же так! Вот я дедушку никогда не видела. Все, что я знаю о нем, – это из рассказов бабушки Евы. – Она замолчала. По руке пополз муравей. Откуда он взялся? Смотрела, как взбирается на большой палец. Влезал, словно покорял Эверест. – Бабушка вспоминала, что дедушка был арестован в 1936 году. На момент ареста папе было тогда лет 12–14. Он всю жизнь помнил отца. После войны бабушка и папа пытались достучаться в архивные службы Министерства внутренних дел и в другие всякие инстанции, но ничего не получили, кроме одной-единственной справки. В ней говорилось, что мой дед Самуил Басин умер от загадочной инфекционной болезни в 1939 году. Место его захоронения неизвестно. Дедушка работал врачом.
– А за что он был арестован?
– Все до идиотизма просто и безжалостно. Он получил срок за то, что был сыном революционерки! Надо сказать, в этом была доля правды. Оказывается, его мама, моя прабабушка, была среди осужденных за цареубийство Александра Второго. Она была революционеркой-народовольцем. Народовольцы боролись с самодержавием. По-моему, в этом абсурдном, не поддающемся никакой логике поводе – вся истина карательной, бесчеловечной сталинской системы. Им важно было найти причину для того, чтобы исковеркать жизнь молодого еврейского парня, мирно лечившего людей в карельском селе. Сталин и иже с ним полагали, наверное, что страсть к бомбометанию передается по наследству. Жаль, что это в действительности не так. Душегубы справедливо боялись за свою жизнь. Дед бы им отомстил за всё. Диктатор заслуживает троекратного метания бомбы в его усатую рожу.
– Значит, Самуил был сыном революционерки, – дрожащей рукой старик разгладил бороду. – Какая несусветная глупость! – прикрыл он глаза. – Знаешь, девочка моя, тогда говорили так – был бы человек, а статья всегда найдется.
Муравей спустился с пальца и бежал по ладони, маленький и рыжий.
– Дедушка не просто сидел в лагерях и тюрьмах. Он лечил заключенных. Самоотверженно испытывал на себе опасные вакцины и прочие методы лечения. Рассказывали, вёл себя так, будто искал смерть. У него кроме папы была еще больная дочь, старше папы года на три. От рождения она страдала церебральным параличом. Когда фашисты гнали евреев по дороге в концлагерь, её сбросили вместе с коляской с моста в реку. Сегодня мы живем с бабушкой в Израиле. А мама умерла незадолго до нашей репатриации.
Старик немигающими глазами посмотрел на Анну. Она почувствовала, как дрожит ладонь, которой он гладил её. Неожиданно далеко за каменным забором раздался резкий автомобильный гудок. Он беспардонно вспорол кладбищенскую тишину.
– Это за мной, – разгоняя рукой сигаретный дым, сказал старик. Посмотрел на часы, поднялся с лавочки и взял в руки шляпу. Потом подошел очень близко к фотографии на обелиске, долго вглядывался в лицо. Снова раздался автомобильный сигнал. Старик распрямился, надел на кипу шляпу. Анна увидела слезы на впалых щеках. Постояли молча. Не торопясь вышли на аллею и направились к выходу.
– Когда надели шляпу, я увидела, что вы похожи на портрет Линкольна с 5-долларовой купюры, – улыбнулась Анна. – Такая же борода, такое же волевое и суровое лицо. Вам раньше об этом не говорили?
Сказать подобную глупость ей захотелось только для того, чтобы одетый во всё черное старик чуточку приободрился, повеселел. Ей это немного удалось. Показалось, что глаза его потеплели.
– Вы находите? – он даже приостановился. – Я чаще смотрю на цифры, чем на портреты. – Сказал это с еврейским сарказмом, с известной еврейской интонацией. – Сегодня я намного богаче, чем Авраам Линкольн, – добавил старик и снова протянул руку погладить Анну.
Они вышли за ворота. За воротами старика ждал голубой микроавтобус. Прощаясь, он прижался к Анне щекой, пощекотал бородой.
– Девочка дорогая, вспоминай меня, – шепнул он. И снова были скупые слезы.
– Звоните! Вот вам номер телефона. – Она протянула вырванный листочек из записной книжки. Старик не глядя сунул его в кармашек пиджака и пообещал позвонить. Машина сорвалась с места и скрылась за поворотом шоссе.
«Я даже не спросила, как его зовут», – провожая глазами автобусу, спохватилась Анна. Сдернула с головы шелковую косынку и пошла к остановке.
Ни завтра, ни когда-нибудь потом старик не позвонил. Анна уже стала забывать эту встречу на кладбище, как вдруг спустя какое-то время ей пришло уведомление на получение заказного письма. И вот она держит белый конверт с американским штемпелем в углу. Достала розовый листок, исписанный незнакомым ровным почерком, стала читать.
«Дорогие мои Ева и Аннушка! Я ваш муж и дед Самуил Баскин. По-американски Bas. Сижу в своей kitchen[28] и пишу эти запоздалые строки. Я не умер, не сгинул в русской тайге, на лесоповале. Я выжил, потому что спрыгнул с поезда во время очередной пересылки. На каком-то полустанке счастливый случай свел меня с таким же отверженным, бежавшим, как и я, из мест заключения. Это был московский раввин. Звали его Моше Белаковер. Судьба была благосклонна к нему, а стало быть, и ко мне. Потому что в 1940 году он взял меня с собой в Америку. Это он долгие годы спустя, до самой смерти удерживал меня, переполненного невыносимой тоской и виной перед тобой, дорогая Ева, от опрометчивого, пагубного шага возвращаться в родное село Сердоболь. Теперь оно, кажется, называется Сортавала. «Энкаведешники вздернут тебя на дыбе в подвалах Лубянки», – говорил он мне. Плевать я хотел на энкаведешников! Более всего сердце удерживала твоя единственная записка, дорогая Ева. Записка, которую ты умудрилась предать мне через замначальника поезда во Владивостоке, некого Осадчего. Я до сих пор помню его фамилию. Помню твоё каждое слово в том письме. Ты заклинала меня, ради больной нашей дочери Эстер, ради сына Михаила не пытаться вернуться в родные места! Иначе жизнь их будет исковеркана и загублена. Прошло много лет. Я мог напомнить о себе и вернуться, но перед глазами всякий раз вставало твое слово, написанное жирными чернилами: «никогда». Видишь, я не ослушался тебя, дорогая Ева. Я поступил против твоей воли только в мае 1995 года.
Тогда по звонку доктора Рувина я прилетел на похороны нашего сына. Я наблюдал за вами из немногочисленной группы людей, которые пришли попрощаться с Мишей. Не смог даже бросить горсть земли. Я не приближался к тебе, дорогая моя Ева, боясь быть узнанным! Наверно, зря. Я с трудом распознал тебя. Как ты изменилась! Да и того молодого Самуила, которого ты помнишь (если помнишь), давно нет в помине. Я не сразу узнал и тебя, дорогая моя внучка Анечка! Прости меня, дорогая девочка, за то, что в свой последний приезд ни словом не обмолвился, кто я и зачем стою у могилы твоего папы и моего сына. Уже слишком поздно. Уже всё слишком поздно. Слово «никогда» имеет магическую силу.
22 года я – вдовец. У меня два прекрасных сына и четверо внуков. И теперь судьба даровала встречу с тобой, с драгоценной моей внучкой. Храни тебя Бог! В 1993 году к нам в Бостон приезжала на Международный съезд врачей-пульмонологов делегация докторов из Израиля. Он проходил у меня, в моей частной клинике. На этих встречах я познакомился с доктором Рувином. Тебе хорошо знакома эта фамилия, дорогая Ева. Доктор Рувин в больнице Тель а-Шомер наблюдал наряду с другими докторами-онкологами Мишеньку.
Как-то мы сидели с доктором в пабе, тянули виски. Я вдруг рассказал ему о своих потерянных в России детях. Представляю его изумление, когда он, вернувшись домой, взял в руки Мишину историю болезни. Его привлекла фамилия Баскин. Вместе с фамилией там всё совпадало с моим сбивчивым рассказом. И даты, и места, и сроки. И снова это слово «never»[29]. Я медлил, вспоминал слово «никогда» и никогда не прощу себя за то, что не успел обнять живого сына. Не прощу себе, что по звонку Рувина прилетел только на похороны. После его настойчивых звонков. Всю жизнь я нёс крест! Крест сына, имеющего несчастье быть сыном матери, которая была знакома с революционеркой! С ненормальной террористкой Гесей Гельфман!
Простите меня, внучка Анечка и дорогая Ева. Встреч больше не предвидится. Во всяком случае, на этой земле. Я тащу этот крест! Мне осталось несколько шагов до Голгофы. Дорогая Ева! Как бы я хотел лежать в еврейской земле, рядом с Мишенькой, чтобы уже никогда ничто не разлучило нас. На моем рабочем столе – завещание. Там немного. Я ведь всего лишь был доктором медицинских наук и имел хорошую клинику – медицинский центр пульмонологии. Это деньги тебе, дорогая внучка, на заграничное образование правнуков. Это и тебе, дорогая Ева, чтобы ты смогла прожить остаток жизни безбедно, в достатке. Не мучайся, дорогая моя, угрызениями совести – я ни в чем никого не виню. Как бы там ни было… мое вынужденное отрешение от семьи, некогда счастливой… протянувшееся через целую жизнь, никого не спасло. Ни тебя, ни наших детей…
Я очень устал… Сижу на кухне… затушил огонь газовой плиты… газ не перекрыл. Я пишу и уже плохо вижу… не вижу строчек. На что похоже это вкрадчивое… ровное шипение от конфорок… С пола к моим глазам подступает сладковато-приторный запах…»
Юрий Табачников
Родился в г. Львов. Учился в Иркутске и Владивостоке. Актёр и режиссёр. Член драмлаборатории С.Т. Д и Международной актёрской ассоциации Э.М.И. Живет в г. Ариэль, Израиль.
Творцам
Пусть с сумасшедшинкой художник Рисует душу на холстах. И верующий, и безбожник Её почувствуют в мазках. Не важны жанр и манера. Когда, рождаясь на холсте, Вдруг подсознания химера Сознанье освятит тебе. Да, ненормально. Даже жутко. Энергии живой комок. И ты, хотя бы на минутку, Застыл. Взгляд отвести не смог. Есть в этом магия, наверно. Искусства запредельный свет. Когда с души сползает скверна И слов сказать что-либо нет.Оттепель
По улицам шестидесятые идут в болоньевых плащах. Свобода робкая, лохматая, раскрепощается в твистах. Полузапретная поэзия и запах ландышей пьянит. А красок солнечных экспрессия сменяет серый колорит. И пусть болит ещё вчерашнее и груз сомнения скребёт, Но нам задание домашнее надежда наша задаёт. И небо вдруг открылось синее. И… не знаком пока застой. Свободы чувство очумелое, взлетая, кружит над страной. Стиляги пестротой вливаются и слушают воскресший джаз. Хоть тучи медленно сгущаются, недобро щуря тусклый глаз. И всё же в хиппи подражании и в вожделенных «Битлз» найдёшь Своё, ничьё, самосознание, которым дышишь и живёшь. И споры «физиков» и «лириков» ещё проходят на «ура». Ведь оттепель такая зыбкая, но превосходная пора. Шестидесятые – крылатые, основа будущих свобод. К поющим, пишущим, читающим толпой стекается народ. Конечно, многое меняется, но всё же надо осознать: Свободный дух не прогибается, его так просто не сломать. Ведь всё однажды повторяется, пусть в формах несколько иных. Когда ростки в нас пробиваются, деревья вырастут из них.Осенний блюз
Тихий шёпот листвы уходящего лета. Живописцев пора и рожденья стихов. Осень тихо зашла в приглушённости света. И всплакнул первый дождь о былом. Мы уже не спешим. Отпуска пролетели. Погружая нас вновь в суету и дела. Вот и птицы от нас на юга захотели. Улетая туда, где побольше тепла. Мы привыкли давно к переменам погоды. Приподняв воротник, редко спорим с судьбой. Птицы вновь прилетят, остаются лишь годы. Им от нас не сбежать ни зимой, ни весной. Просто старый спектакль мы играем как новый. И статистов тут нет, всем прописана роль. Но храним жёлтый лист. Тот, из детства, кленовый. Жаль лишь то, что не ждёт уже Грея Ассоль. Пусть под шорох листвы не приходят печали. Хоть они и светлы. В том сомнения нет. Мы спектакль любви нашей не отыграли. Не написан финал будет множество лет. А быть может, его, если вдуматься, – нет.Осколки
Я встретил на полустанке ангела. Впрочем, у него за спиной не было крыльев. Почему я решил, что он ангел? Не знаю. Да и вид у него был совсем не ангельский, а скорее наоборот. Какой-то помятый и, что нечасто увидишь в Израиле, хорошо похмельный. Не бомж, но и не преуспевший в этой жизни персонаж. И почему я решил, что он все-таки ангел? Или это решает что-то внутри нас? Интуиция – возможно. Казалось, что всё визуально кричало об обратном, но… (возможно), его глаза… вот в чём, видимо, заключалась та магическая сила, что влекла меня к этому человеку?.. пришельцу?.. ангелу? Такому внешне непримечательному среди немногих ожидающих электричку пассажиров на почти пустой в это время платформе. И всё же, может быть, закономерно, что ангел, пришедший вдруг к нам, принимает на себя бремя наших житейских проблем, а возможно, и сопутствующих пороков. Ответ вряд ли отыщется даже во всемирной компьютерной паутине. Это можно лишь почувствовать на уровне подсознания, нервной дрожи.
Вынув пачку сигарет, я молча протянул её незнакомцу. Он аккуратно вытянул из пачки сигарету. Так же молча, не глядя друг на друга, мы закурили. Трудно рождается первая фраза, но мой сосед взял инициативу на себя:
– Электрички, – произнёс он, – как мостик надежды. Чтобы не упустить её, иногда нужно куда-то, пусть и недалеко, уехать, чтобы вернуться к себе вновь. Вы ведь думаете об этом?
– Возможно, – признал я, – но не думаю, а скорее чувствую. Но как…
– Это неважно, – произнёс «ангел», – я и сам такой. Платформа – это ведь почти как в купе поезда, где можно быть откровенным со случайным попутчиком. Ведь возможность встретиться вновь равна нулю. Да и боимся мы не случайных свидетелей нашего отчаяния, а самих себя. Ведь от себя не сбежишь. Хотя пытаемся. Но результат предсказуем. Но ведь бывает, что вдруг не понимаешь, на какой остановке выходить, да и вообще в тот ли поезд сел. Но раз сел, – стряхнув пепел, негромко произнёс «ангел», – нужно доехать до конца. Можно поменять поезд, но не направление. Вот и я еду. Куда? Формально в Хайфу. А зачем? Формальных ответов много, а по сути… Наверное, просто бегу от себя, хотя понимаю всю тщетность своих действий. Понимаете, – он впервые посмотрел мне в глаза, – человеку свойственно определять для себя цель и двигаться к ней. И когда случается так, что в силу разных обстоятельств всё рушится, ты теряешься в действительности. Иногда находишь новое направление, но чаще… – «ангел» вынул из внутреннего кармана серебряную фляжку: – Не побрезгуете? Хороший коньяк. След «былой роскоши». Я имею в виду не финансовой, а душевной.
Мы по очереди отхлебнули из фляжки, как будто этим нехитрым действием налаживали хрупкие мостки между нами. «Ангел», которому, видимо, давно не с кем было поделиться наболевшим, тихо, с обречённым достоинством в голосе, продолжал:
– У меня всё было как и у всех. Или почти. Специальность, в которой получал удовлетворение, семья, которая, впрочем, и сейчас формально существует. Ведь трагедия начинается тогда, когда люди связывают друг с другом свои судьбы не из-за большой любви, а из-за большого одиночества, а это куда страшнее одиночества индивидуального. Но понимание приходит лишь тогда, кода из всех жанров на сцене жизни остаётся лишь один – трагедия. Личности, семьи. Разрушение, которое тормозит лишь долг и ответственность, если они есть. И тогда процесс идёт ещё медленнее, как затяжная хроническая болезнь, которую не вылечить. Остаётся отдаться течению и плыть… плыть без надежды выплыть. Но прежде я никогда не задумывался о том, что жить можно формально. Существовать, отмечая исчезающие дни. Это, должно быть, банально. Но банальность – единственная реальность, которую мы пытаемся изменить преувеличенным самообманом собственной личности. Но мы не можем иначе. Это не порок, а генетическая заложенность. Впрочем, иногда дающая положительные плоды. Как парадокс. Исключение, которое видоизменяет действительность. Ньютоны, Эйнштейны, брызги из общего потока самообмана. Этакое, иногда дающее позитив, вырвавшееся из общей массы суперэго.
– Но, – перебил я собеседника, – для этого всё же нужен поток. Ведь без него не появятся и брызги.
– Вы верно заметили – не бывают. Огорчает лишь то, что, к сожалению, мы или не понимаем это вовсе, или же самую малость, да и то лишь когда уже ничего не изменишь. Наверное, большинство из нас, подойдя к какой-то черте, хотели бы переиграть свою жизнь или хотя бы ключевые моменты, но фокус в том, что закон предопределённости путей не сильно изменит ход твоей лично истории. И всё же у нас есть выбор, подчинять или нет своё эго обстоятельствам, чтобы разрушать или нет и свою жизнь, и жизни близких тебе людей. Быт не определяет сознание, а определяет способы самоуничижения. Порой ради того, что является ложным, и ты вдруг понимаешь, что оказываешься один на один с собой, хотя формально тебя окружают якобы близкие и способные тебя понять и принять люди. И в этот момент прозрения бессмысленность овладевает тобой, нашёптывая весьма скверные советы.
– И что же тогда остаётся? – прервал я монолог «ангела». – Не может же ничего не остаться. Просто не стоит всматриваться в бездну.
– Может быть, и не стоит. Но ведь это понимаешь постфактум. А пока смотришь. Это ведь так притягательно, аномально, магнетически. А аномалия всегда ломка. Жёсткая. И чем сильнее человек, тем жёстче. И не всегда спасает запой или суицид. Это вообще не спасает. Это не слабость, просто потеря выхода в лабиринте судьбы. Некоторые пытаются что-то переосмыслить и за что-то зацепиться, но большинство так и плывёт по течению, куда вынесет рок, уже не уважая ни себя, ни всё то, что окружает их.
– Армагеддон какой-то, – не выдержал я, – духовный апокалипсис.
– Да нет, – усмехнулся «ангел». – Всё гораздо примитивней. Всё в нас самих. В нашей неспособности противостоять. Мы забыли наследие Иакова, который противостоял Богу. И что, Бог его покарал? Нет. Он дал ему имя Исраэль. Вот в чём наше предначертание – в противостоянии, не задумываясь о безнадёжности. Тогда безнадёжность становится просто абстракцией. Вот так, казалось бы, просто.
– Но не для нас, – вы это хотите сказать?
– Я сказал только то, что сказал.
– И всё же, – не удержался я. – Мы, такие как я, рефлексующее поколение, которое пытается приобрести невозможное – целостность настоящего, обретая в прошлом.
– Вот вы сами и сказали, – потушил сигарету «ангел».
– А память, – продолжил я, – не скреплённая настоящим, разрывает не связующее её сознание и подсознание в едино сущность.
– Да, – вздохнул «ангел», – такое вот раздвоение начал. Мы ни в прошлом, ни в настоящем. Мы между. Генетическая память и тысяча способов вытравления её не повлияло на наше инстинктивное стремление всеми способами цепляться за разрозненные осколки былого целого, которое, возможно, смогут собрать следующие поколения, но не вы – выкорчённые, но до конца не привитые ни к одной почве. Данность, которую если не поймёшь…
– А мы, значит, мостик, всего лишь шаткие дощечки, по которым, если следовать вашей мысли, пройдя, наши дети обретут утерянную нами целостность своего «Я»?
– Всё верно, только не следуя моей мысли. Каждый должен следовать только своей. Не приемлю понятие массы, толпы, общества. Хотя человек и часть всего этого, но всё же пусть в таком случае он просто остаётся лишь частью, не сливаясь в стаю. А в прочем… посмотрите, какой приятный день. И мы живы, если даже не вполне счастливы. А раз так, то и должны, просто обязаны трепыхаться. А вдруг из этого что-нибудь да и выйдет? – впервые улыбка проскользнула в глазах «ангела». – И не стоит с мучением думать о цели. Она сама найдёт нас в своё время. Главное, не терять веру. Ведь без неё мы лишь тени. Иллюзия, не больше. – «Ангел» положил мне на плечо ладонь: – Не теряйте себя, и вас не потеряют другие. Удачи.
Я хотел было ответить ему, но рядом никого уже не было. И по всей длине платформы не просматривалась его чуть мешковатая фигура. Что это? Не всё, что кажется, истина, и не всё истина, как может показаться. Так, наверное, сказал бы мой недавний собеседник? Попутчик? Да и был ли он вообще? А если был, то не упустил ли я что-то важное, не спросив его об этом? Возможно, самое важное в своей жизни? Или это был мой «ангел-хранитель», которого я почувствовал, но так и не смог узнать, и теперь я остался совершенно один, уязвимый для всех напастей мира? Открытый, не защищённый невидимым крылом? Или это накопленная усталость играет с моим сознанием, окуная в мистический бред? Но ведь даже если мне всё это померещилось, привиделось, приснилось, теряет свой пронизывающий душу смысл.
Нет… Нет… Нет!!! Я не говорил сам с собой. Я ведь и сейчас ощущаю прикосновение его ладони к своему плечу. И главное, его тихий, словно дуновение ветерка, голос:
– Главное, не теряй веру…
К платформе на полном ходу приближалась долгожданная электричка.
А быть может, сама Судьба распахнула двери в вагон надежды и приглашает меня в новое путешествие по дороге жизни.
Главное, не терять веру!
Хорошая квартира
Рояль стоял в комнате. Обычный, чёрного цвета. Рояль, так уж сложилось по конструкции, занимал слишком много места в стандартной квартире. Впрочем, он никому не мешал. Ни мебели, ни чему-то иному. У левой стенки стояли лишь ящики с неразобранными книгами и какие-то тюфяки и баулы. Немного. Так что рояль не мешал. Он, казалось, жил своей самодостаточной жизнью. В своём параллельном мире. Уже давно никто не обнажал его клавиши. Нежно не ласкал подушечками пальцев. Но не будем касаться эротических струн одинокого инструмента. Каждый имеет право на личное, скрытое, индивидуально-интимное.
Комната, где стоял рояль, не открывалась примерно с полгода. Хозяева уехали искать лучшей доли в далёкие страны, а в соседней комнате и прилегающем к ней пространстве проживала их дальняя родственница, но ключа от запертой комнаты у неё не было, и комната стояла запертой. Но когда смолкали уставшие за день звуки, когда солнце, окрашиваясь румяным багрянцем, зависало в зените, из незашторенного окна запертой комнаты на улицу проникал приглушённый свет и оживала каким-то невероятным образом музыка.
Она словно лилась сквозь стекло, просачиваясь сквозь стены дома на волю. Оседала на листьях деревьев, и казалось, что каждый их осторожный шорох наполнен музыкой. Негромкой, доступной лишь тем, кому дано услышать её, несмотря на усталость погасшего дня. И тогда этот случайный прохожий останавливался, недоумённо оглядываясь по сторонам, а затем каким-то запредельным чутьём устремлял свой взгляд в направлении нужного окна, за которым… Впрочем, вскоре прохожий, как бы очнувшись от наваждения, спешил по своим делам дальше, а музыка, ещё долго сопровождая, звучала в нём.
Менее чуткие, которые видели лишь свет и изредка возникающие силуэты в пустой квартире, а слухи разлетаются быстрее звука, называли эту квартиру «нехорошей». Хотя что в ней нехорошего, пожалуй, никто внятно объяснить не мог. Но такова уж природа необъяснимого и заложенного в большинстве из нас необъяснимого страха перед необъяснимым. Родственница бывших жильцов ничего вразумительного ответить на многочисленные расспросы не могла, и постепенно её оставили в покое. К тому же она была глуховата и утверждала, что не только музыку, но вообще никаких звуков из запертой комнаты не слышала.
Не знаю, сколько бы это продолжалось, но однажды сильный сердечный приступ уложил «хранительницу» на долгое время в больницу, и я, её ближайший сосед, взял на себя необременительные обязанности присмотра за квартирой и поливкой немногочисленных цветов. Пожалуй, единственного увлечения «хранительницы». Полив занимал немного времени, но неудержимая сила тянула меня к запертой двери. Ключа не было, но я вплотную подходил к ней, прислушивался, пытаясь мысленно проникнуть за деревянный заслон, скрывающий тайну, настроиться на ритм, атмосферу загадочного помещения. Казалось, такого обычного, ничем, казалось, не отличимого от тысяч подобных.
Закат уже коснулся пыльных окон, но свет зажигать не хотелось. Возможно, полумрак создавал волнующую атмосферу вокруг меня, изменяя даже ритм моего сердца. Может быть, усталость, а возможно, и что-то неведомое опеленало, заставив в непонятной слабости опереться руками о запретную дверь. И, возможно, мне это только показалось, почудилось, но через мои ладони неведомая энергия вошла в мозг, который стал считывать обрывки информации. Из каких-то неведомых сплетений космических нитей воспроизведя нечёткие образы и… я видел тех, кто тут жил раньше. Чья энергетика, видимо, ещё исходила, вопреки всем известным законам и логике.
Потом я пытался хоть что-то осмыслить из того, что со мной произошло. Безотчётный внутренний страх тогда, этого не забыть, сковывал тело и не позволял оторвать ладони от двери. Я видел, я слышал их, но отчего-то ощущал, что они не жильцы нашего мира. Как? Если бы мне это знать. Они были нереальны и в то же время отчётливы. Хотя о какой реальности может идти речь? Да, я понял, что музыканты, бывшие хозяева когда-то вполне обычной квартиры, погибли. Страшно. В авиакатастрофе. Я ощутил нечто безумно страшное, дикое в последних минутах их жизни. Их нет. Нет, – било в мозг. Но энергия космического пространства возвращала их, или, вернее, то, чему нет названия, к роялю, не давая оборваться последней ниточке из запределья.
И я оказался нечаянным разрушителем непонятного баланса каких-то высших сил. Я неосознанно вторгся туда, куда нам, живущим и не потерявшим разум, – нельзя. Ни под каким видом, но сделанного не изменить… Я бы после решил, что то, что со мной произошло, просто бред, но… когда закат совсем скрылся и всё поглотила тьма, я наконец очнулся и смог оторвать от двери руки и быстро покинул квартиру соседки. И то, что я действительно только что там был, подтверждало зеркало в прихожей, отражавшее появившийся седой клок волос в моей пока ещё буйной шевелюре. Пока в доме находилась «хранительница», какая-то сила не давала оборваться этой астральной связи. Может быть, когда она вернётся из больницы, дай Бог ей здоровья, что-то восстановится во вселенском разрыве.
А пока вот уже почти неделю редкие вечерние прохожие из тех, что СЛЫШАЛИ, останавливаются возле нашего дома.
Вглядываются в затемнённые окна, словно ожидая чего-то. Затем, как мне кажется, с грустью в глазах, а как иначе, идут дальше по своим привычным вечерним делам. И думают ли они о том, надеются ли услышать ещё хоть раз неведомо откуда возникающую музыку? Кто знает? Возможно, однажды загорится при закате тусклым светом окно, где в полупустой комнате стоит старый чёрный рояль, но об этом знает лишь жизнь, которая, конечно же, мудрее нас, живущих в своём строго очерченном мире. Но надежда…
Михаил Сипер
Родился в 1954 году в Нижнем Тагиле. Закончил Уральский политехнический институт. С 1991 года проживает в Израиле. Автор пяти поэтических сборников, стихи неоднократно публиковались в газетах, журналах и антологиях разных стран, переводились на английский, норвежский, болгарский, иврит. Дважды призёр Международного поэтического турнира «Пушкин в Британии» (Лондон), лауреат Большой Золотой медали Франца Кафки (Прага). На стихи Михаила Сипера написано более сотни песен различными бардами и профессиональными композиторами.
«Змеёй дожди ползли по окнам…»
Змеёй дожди ползли по окнам, Картинку эту я храню, И электричество промокло — Сдыхало пару раз на дню. Я думал – песенка пропета, Но тут пришли другие сны, Когда на нас напало лето Без объявления весны, Когда, сквозь кожу проникая, Из крови жар творил желе, А ты была тогда такая, Что больше нету на Земле. Как узник Беломорканала, Я был застрелен на бегу, И море медленно стирало Твои следы на берегу. Потом – опять другое время, Опять другие голоса, Моё слабеющее племя Ушло за дальние леса. Опали ясени и липы, Сгорев в нагрянувших боях. Остались мне дагерротипы, Где я и ты, где ты и я. Пусть не в алмазе, не в корунде Мой изваян печальный лик, Но наша глория, хоть мунди, Но верю я – не транзит сик.«Прости, Господь, за грубость языка…»
Прости, Господь, за грубость языка, За робость, уводящую в сомненья, За то, что не приемлю вдохновенья От взгляда Твоего сквозь облака… Прости, что я не жгу Тебе свечей И жизнь свою веду не по скрижалям, А тех, кто слепо верит – просто жаль их, Уснувших под журчание речей. Прости, Господь, за то, что не блюду Твои законы, правила, заветы, За то, что сам ищу себе ответы, Но не убью, да и не украду. Когда в уста вливает время яд, Когда ужасны и дела и речи, Я буду жить, Тобою не замечен, Не слушая, что люди говорят. Всего и надо – верить в чистоту Мелодии душевного покоя. Прости, Господь, что мне родней мирское, Доверенное белому листу. Я смерть друзей оплачу как потерю, А не счастливый в кущи переход. Я пробиваюсь к истине, как крот… Прости за то, что я в Тебя не верю.«Моя мама, в девичестве Гержой…»
Моя мама, в девичестве Гержой, Из Песчанки попавши на Урал, Не сменила тот говор на чужой, Идиш свой не покинул пьедестал. Моя мама, в девичестве Гержой, Отпускала на улицу меня. Ехал возчик на двор, тряся вожжой, На весь город бидонами звеня. Я ходил по заснеженному льду, По двору магазина «Гастроном», В этом малом озлобленном аду Пахло мерзлой помойкой и говном. Среди сверстниц и сверстников моих Я был чуждым, вот чёрт меня дери, Хоть плевал через зубы лучше них, Хоть свистел в пальцы громче раза в три, Хоть гонял я быстрее колесо, Хоть стоял на воротах всех прочней, Да и массу немыслимых высот Брал намного и легче и точней. Я не вырос занудой и ханжой, Хоть ничто не мешало ими быть — Моя мама, в девичестве Гержой, Свято чтила свой местечковый быт: «Не торчи из построенных рядов, Не носи вещи, словно попугай, Помни, кто ты, и будь всегда готов Убежать, если слышно чей-то лай…» Я кивал и опять спешил во двор, В гущу морд и паноптикум зверей. Одногодки мне ставили в укор, Что я умный, спокойный и еврей. Чтоб меня не разъело этой ржой, Я пейзаж навсегда переменил. …Мою маму, в девичестве Гержой, На кибуцном погосте схоронил.«Четыре костюма назад…»
Четыре костюма назад Я был и кудрявый и стройный, Являл собой облик достойный И радовал людям глаза. Тому уж «КамАЗ» сигарет, Как я выходил на татами И вёл смертный бой со скотами Во цвете мальчишеских лет. Цистерну портвейна назад И две очень крепких напитков Блестел я метлахскою плиткой, Сиял, как в ночи образа. Меня не страшил камнепад, Не бздел я поверхности зыбкой, Моя чаровала улыбка Зубов восемнадцать назад. Чего там скрывать – я сквозь ад Прошел бы чрез пламени блики И вышел не без Эвридики Семь тысяч оргазмов назад. А нынче сижу, как урод, Болят и спина, и ключица… И думаю: «Что же случится Со мною два вдоха вперёд?»«На чём ты хочешь написать письмо…»
На чём ты хочешь написать письмо? Ведь я простой бумаги не приемлю. Возьми-ка эту вымерзшую землю И напиши меж строчками домов. Здесь много места для идей простых, А ты спокойна и не дышишь тяжко, Когда коснётся ночи промокашка Твоих штрихов, кругов и запятых. Мне остаётся взглядом пробежать Квадраты крыш, балкон и колоннаду, И ничего другого мне не надо. Прими мой сон, железная кровать! Смотри, как бьёт по векам нервный тик, И это всё привычно и нормально, Поскольку ты нема и виртуальна, Лишь на стене твой остывает лик. Но вот опять погас в глазах укор, В коробках спят напёрстки и иголки… Синеет том стихов моих на полке, Краснеет небо и белеет двор.Владимир Волкович
Родился в последний год Великой Отечественной войны, промозглой ноябрьской ночью, посреди города Казани, на татарском кладбище «Тат мазар». В домишке, сколоченном отцом из старых фанерных ящиков, был сильный холод, который запомнился на подсознательном уровне и послужил одной из причин переезда в жаркую страну к тёплому морю. Правда, это случилось только через полвека.
Вырос на Урале, где искал самоцветы, покорял горные вершины, сплавлялся по бурным рекам, встречался с медведями. В Свердловске (Екатеринбурге) окончил Уральский политехнический институт и Уральский государственный университет. Получил две специальности – инженер-строитель и журналист. Работал всю жизнь по первой, а по второй лишь изредка писал. Участвовал в крупнейших стройках России, жил в различных городах и селениях от Забайкалья до Заполярья, от афганской границы до Курской магнитной аномалии. В конце восьмидесятых увлёкся бизнесом и создал крупное предприятие, которым руководил пятнадцать лет. Наблюдал множество чудес и необыкновенных совпадений в своей жизни, к которым самолично приложил руку. Бурное прошлое и настоящее нашего мира, судьбы встреченных на жизненном пути людей отражает в своих произведениях.
Живёт в Израиле.
Библиография:
«Хмель-злодей», роман, «Написано пером» – 2012 г.
«Со смертью наперегонки», повести, рассказы, юморески, мысли и афоризмы, «ЭРА» – 2013 г.
«Судьба на роду начертана», роман, издательство Интернационального Союза писателей – 2014 г.
Произведения малой прозы публиковались в различных бумажных и электронных изданиях, журналах и альманахах.
Деревенский праведник
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!
Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
Николай ГумилёвЭта история произошла в маленькой белорусской деревне в пятидесяти верстах от Могилёва. Поведала мне её древняя подслеповатая бабуля, что живёт одна в старой покосившейся хате.
Серый рассвет вставал над селом. Солнечные лучи едва процеживались сквозь потемневшую вату кучевых облаков, высвечивая пыльную улицу, насторожённо молчаливые дома. Подул ветер и швырнул в лицо Ефросинье пригоршню сухих листьев. «Наверное, дождь будет, – подумала, взглянув на небо, – да и пора, и так осень задержалась нынче, теплом балует. В прошлом году в это время уже снежком тянула». Ефросинья поправила сбившийся платок, подняла на плечо коромысло и заторопилась к колодцу-журавлю, издалека заметному в конце улицы.
Подняла уже второе ведро, когда её окликнули:
– Фрося, здравствуй! Давненько с тобой не виделись.
– А, Матрёна, здравствуй. Да, давненько. Так время сейчас такое – сосед на соседа с опаской поглядывает.
– Ну, мы-то с тобой небось с детства друг дружку знаем. Чего нам скрывать? Моего и твоего в армию забрали, самим детишек поднимать приходится.
– Мои-то ребята спрашивают всё время: «Мама, когда в школу пойдём?», а я говорю – не будет пока школы.
– И то верно. Кто это школу будет открывать, немцы, что ли? Не трогали бы, и то ладно. Слышала, партизаны в лесу появились? – Матрёна наклонила голову к Ефросинье. – Говорят, что немцев бьют почём зря.
– Да слышала я.
– Третьего дня Магду повстречала, вот она и рассказала.
– Соседка у нас… нынче лучше не иметь таких. Ейный, Микола, теперь в полицаях.
– Мужик у Магды давно сгинул, так она из города какого-то привечает, говорит, что у немцев работает, у самого бургомистра в помощниках. А ещё сказала, – Матрёна оглянулась по сторонам, хотя поблизости никого не было, – что евреев отовсюду сгоняют в Могилёв. Поубежало много, вот сейчас ловят.
– Так у нас в селе нет же их, – удивилась Ефросинья.
– Приказ вышел, чтобы евреев, если кто увидит, немедленно выдавать властям. За это вознаграждение хорошее. А если кто спрячет, дом сожгут, а самого и расстрелять могут.
– Ой, ужасы какие. Ну, я пойду, – заторопилась Ефросинья, – малые ждут.
За окном ветер затянул заунывную песню. Закрутил снежною крупкой, словно осень, давшая фору лету, теперь брала своё. Дети давно на печь залезли, шепчутся, Ромка всё истории свои рассказывает. Учительница ещё в прошлом году говорила: «Способный сын у вас, Ефросинья Романовна, к литературе, ему бы в городе учиться надо». – «Да вот годок ещё подрастёт, отдадим в город, там у нас родственники имеются. Четырнадцать исполнится, и повезём», – ответила тогда Ефросинья.
Теперь уже и четырнадцать, а везти куда? Война. Хорошо, что муж успел дров наколоть летом, да и сама понатаскала на тележке из лесу недалёкого. Мысли о лесе сразу напомнили Ефросинье о сторожке. Завтра с утра опять идти туда надо.
Лет десять назад построил муж в лесу сторожку. Лес – кормилец. Дрова, грибы, ягоды, растения целебные – всё он даёт. Трава на полянках лесных высокая духмяная вырастает, сено из неё хорошее получается. Скосят его и на сеновал в сторожке заложат, от чужих глаз подальше. Муж так построил её в яру, что не видна со стороны глазу постороннему, деревца ветвями своими со всех сторон закрывают. Недели две назад отвела туда Бурёнку свою, от греха подальше. Зачастили в последнее время в село то полицаи, то партизаны.
Сельчане стали прятать от них припасы да живность, а корову как спрячешь? Полицаи в открытую грабят, а партизаны тот же грабёж называют большевистским словом – «экспроприация».
Теперь ходит к Бурёнке в сторожку каждый день. Подоит, порядок наведёт, навоз уберёт. Домой молоко принесёт, детей напоит, на простоквашу киснуть поставит, масло собьёт. А недавно и кур в сторожку переселила.
Утром, чуть светать начало, взвалила Ефросинья на плечи мешок с флягой для молока и отправилась в лес. Дошла до места быстро, с полчаса всего и ходу-то. С делами справилась, присела отдохнуть на лавку, да и задремала. Очнулась, день уже вовсю разгорелся, даже солнышко, найдя меж туч расщелину, брызнуло через неё лучом ярким.
Решила пройтись по лесу, грибов осенних насобирать. Отошла вроде недалёко, видит – шалаш стоит, из веток собран. Насторожилась Ефросинья: чужие люди в лесу объявились, не к добру это. Постояла за деревом, наблюдая, не появится ли кто. Но тихо было окрест. Тогда, озираясь, подобралась к шалашу. Осторожно отодвинула ветку, заглянула внутрь. На грязной подстилке, расстеленной по сосновому лапнику, лежал мальчик, одетый в лёгкую одежонку, которая уже превратилась в лохмотья. Он посмотрел на женщину и сделал движение, чтобы закрыть собою какой-то предмет. Но Ефросинья заметила – это была скрипка. «Еврей, наверное», – сразу подумала она, прежде чем рассмотрела лицо мальчугана внимательнее. В её понятии все евреи играли на скрипке, и этот музыкальный инструмент лучше всего говорил о принадлежности его хозяина к гонимому народу.
Ровесник Ромки, определила для себя, всматриваясь в худое лицо со впалыми щеками и большими миндалевидными глазами. Мальчик дрожал от холода.
Недолго думала Ефросинья, жалостливо женское сердце. Человек же, ещё день-два, и помрёт от холода и голода. Разве можно на улице ночевать в такую пору. А одежда-то у него летняя, видать, давно из дому утёк.
Подняла она мальчика, повела с собой в сторожку. Он не упирался, видно, сразу доверие почувствовал. Только скрипку к груди прижимал. Достала одежду мужнину, которая в сторожке оставалась, надела на мальчишку, потом кружку молока поставила да краюху хлеба положила, что из дома захватила. Набросился он на еду. Знала Ефросинья, что нельзя много есть с голодухи, да отобрать рука не поднялась. Потом выворачивало его так, что думала – помрёт. Но нет, лежал на лавке обессиленный, однако живой. Когда оклемался малость, спросила:
– Как звать-то тебя?
– Авраам, – откликнулся тихим голосом.
– Ого, какое имя тебе родители дали, великое имя. А где они теперь, родители?
– Нет их – убили всех, и братика маленького, и сестрёнку. Я один убежал. – Помолчал немного, как бы раздумывая, рассказывать ли всё этой незнакомой женщине. Но, видно, тепло от неё исходило и материнское что-то, ещё не забытое. Решился. – Мы на окраине Могилёва жили, в доме двухэтажном второй этаж занимали. Моя комната в самом дальнем углу, чтобы не мешать никому, я там гаммы разучивал. Выглянул в окно, а по улице полицаи прямо к дому нашему идут. Знал я, что немцы евреев убивают, через наш город много беженцев из Польши проходило. Пока раздумывал, полицаи уж вошли и на второй этаж по лестнице подниматься начали. Больше времени не оставалось, схватил скрипку и в чём был, прямо из окна выпрыгнул. Под окном клумба, цветы, земля мягкая. Упал, вскочил и в лес побежал, он неподалёку от нас. Так и спасся. Потом несколько дней своих высматривал, задами да огородами в город пробирался. Соседа встретил, он с папой дружил. Как меня увидел, испугался, вокруг стал оглядываться, руками замахал: «Беги, беги скорей отседова, убили всех твоих, всю семью»…
Авраам замолк, вздохнул и вытянулся на лавке. Худой, синюшный, с огромными печальными глазами, в которых уже не было слёз.
Ефросинья села рядом и гладила его по голове, по отросшим, всклокоченным, давно не мытым волосам:
– Лежи, родненький, досталось тебе. Я схожу, поесть принесу, а то здесь только молоко. Ты побудь пока в сторожке, тут тебя никто не найдёт. До морозов в ней тепло будет. Никуда не выходи, всё, что нужно тебе, приносить буду. А потом посмотрим.
– Мама, ты куда собралась? – Ромка настороженно смотрел на мать, собирающую в узелок еду: краюху хлеба, шмат сала, огурчики, капусту из погреба, варёную картошку, яйца.
Ефросинья недолго раздумывала – сказать старшему сыну или не сказать. Уж очень серьёзное это дело, понимала, чем может закончиться, коль узнают, что еврея прячет. Но Ромка весь в отца – кремень. Эх, где он теперь, отец, давно уж нет вестей от него…
– Мальчишку, сынок, нашла я в лесу, твоих лет, пожалуй. Голодный, в летней одежде. В сторожку нашу отвела его.
– А что он делал в лесу, мама?
Ефросинья замолчала ненадолго, прежде чем сказать главное. Но раз уж пошла, надо идти до конца.
– Это еврей, Ромочка, от немцев убежал. Отца и мать у него убили, и младших – брата с сестрой.
Смотрела Ефросинья на сына, и удивлялась, и радовалась. Лицо его серьёзным стало, брови нахмурились, меж них складочки вертикальные появились, как у отца, когда тот что-то важное для себя думал. Словно повзрослел сразу.
– Я помогу тебе, мама.
Оставили младших на хозяйстве, что и как делать, пока их дома не будет, рассказали, и отправились к найдёнышу.
Когда были уже недалеко от сторожки, музыку услыхали. Чем ближе подходили, тем музыка громче. Остановились перед входом, не в силах войти. Музыка то вздымалась вверх высоким порогом, то падала в развёрстую пропасть. Скрипка рыдала, божественная мелодия пронзала душу и прорастала в сердце невольными слезами. Но вот смолк последний аккорд, Ефросинья уголком платка промокнула глаза и вошла. За нею Ромка.
Авраам стоял посреди сторожки, в руках его была скрипка, взгляд устремлён вдаль, словно видел он то, что иным людям видеть не дозволено. Быстро подскочила к музыканту Ефросинья и поцеловала его. Он неожиданно улыбнулся, но увидев Ромку, сразу насторожился.
– Не бойся его, Авраам, это сын мой, он тебе во всём помогать будет.
Теперь Роман каждый день с утра к сторожке спешил. Пока он из речки, что поблизости протекала, воду носил, Авраам хозяйством занимался, сена Бурёнке подкладывал, навоз убирал. Вот только доить корову никак не хотел, жаловался Роману:
– Боюсь я её.
– Эх, сразу видно, что городской, к нашей деревенской работе непривыкший.
Потом беседовали они, а о чём, так никто из них и не рассказал.
Осень незаметно перешла в зиму, морозы грянули, снег выпал, тропинки позанёс, на ветвях деревьев шапками лёг. Зима в том, первом году войны, холодная выдалась.
Ромка с матерью отгородили в подполе комнатку маленькую, сделали там лежанку, поставили стол да стул и перевели из сторожки Авраама. Днём находился внизу в подполе, а ночью спал в хате. Зима уже заканчивалась, однако перед концом своим разозлилась и морозами шарахнула. Но в доме тепло было. Мальчишка поправился, повеселел, отогрелся в семье, теперь трудно было поверить, что ещё недавно был как скелет. Только скрипку больше в руки не брал. Так бы и жили, ждали, пока батька с войны возвратится.
Да не дал Господь.
По субботам по всему селу протапливались баньки. Мужиков не осталось в домах, женщины только да дети малые, но издавна принятый обычай – мыться по субботам в бане, соблюдали. Вот и Ефросинья баньку наметила, Ромка воды натаскал, протопил. Сначала младших вымыла, потом сама, ну а в конце Роман с Авраамом. Пирогов напекла, чтобы ребятишки после парной с кваском распробовали. И надо же было такому случиться – Магда в гости нагрянула. А дверь входную на щеколду не закрыла Ефросинья. Подумала: ребятишки в бане моются, авось пронесёт, да и не заскочит никто, редко сейчас соседи друг к другу захаживают.
– Здравствуй Фросюшка, вот шла мимо, вижу – дым над банькой подымается, дай, думаю, загляну к соседушке, живём рядом, а давно не видались, – затараторила хитрая баба. И, видя недовольство на лице Ефросиньи, которое та не смогла скрыть, добавила: – Али не рада?
– Заходи, заходи, Магдушка, – пригласила Ефросинья, а у самой кошки на сердце скребут. А ну как сейчас Ромка с Авраамом выбегут из бани да прямехонько в горницу, где назойливая, любопытная соседка расселась. – Угощайся пирогами, только что из печи, а я схожу, посмотрю, не надо ли чего Ромке.
– Да посиди, поболтаем, Ромка, чай, не маленький, сам справится. – Только проговорила Магда, дверь отворилась и в клубах пара ввалился Роман, а следом Авраам. – Вот и пришёл уже.
Взглянула исподлобья взглядом цепким на мальчишек, словно из пистолета выстрелила.
– Здравствуйте, тётя Магда, – проговорил Роман и утащил Авраама, успевшего уже испугаться чужого человека, в маленькую комнату.
– Вижу, гости у тебя, Фрося.
– То Ромкин дружок.
– Что-то не припомню у нас в селе таких чернявеньких.
– Так то дружок его из города.
– А, из города? Там познакомились? – с плохо скрываемой издевкой спросила Магда.
– Отец, когда в город по делам ездил да к сродственникам, Ромку с собою брал. Там и познакомился он с Петриком. Теперь тот приехал к нам, в городе-то нынче голодно.
– Пе-етрик, говоришь, – раздумчиво протянула Магда, – что же он, так один и приехал, али ещё с ним кто?
– Один. Знакомые довезли до нас.
– Ладно, Ефросиньюшка, спасибо за угощенье. Пойду я.
Магда встала, поклонилась и вышла.
Из комнаты выглянул Ромка:
– Ушла?
– Ушла. Надо срочно переправлять Авраама в другое место, Магда всё поняла и обязательно расскажет сыну-полицаю. Деньги, говорят, хорошие платят тем, кто еврея выдаст.
– А куда его можно тут спрятать?
– У нас есть родственники на хуторе Дальнем. Место это глухое, туда никто не сунется. Мы с батькой брали тебя туда несколько лет назад, ты ещё маленький был, не помнишь, наверное.
– Помню я, но плохо, – признался Роман.
– Завтра с утра задами выведешь Авраама в лес и пойдёшь с ним на хутор. А сейчас давай собираться.
Утром встали пораньше. Ефросинья отправила Ромку в сторожку за молоком на дорогу. Авраам ждал в подполе.
Сильный стук заставил Ефросинью подскочить к окну. На крыльце стоял Микола-полицай и с ним ещё двое.
– Открывай, тётка Фрося, а то дверь сломаем!
Сердце у Ефросиньи упало. «Надо было мальчишек ещё затемно отправить, это я виновата, – укорила себя, – не подумала, что так быстро придут».
На негнущихся ногах подошла к двери, откинула щеколду.
– Показывай, где жидёнка прячешь! – приказал Микола с порога.
– Ищи, – ответила Ефросинья, хотя понимала, что найти Авраама не составит никакого труда.
Полицаи заглянули в комнаты, на печь, где дети младшие лежали, испуганно прижавшись друг к другу, под лавку, открыли шкафы.
– Подпол открывай, – приказал Микола.
Стояла в углу под образами Ефросинья, ни жива, ни мертва. Молитву шептала.
Открыли подпол. Туда спустился один из полицаев и крикнул:
– Здесь он!
Через минуту выволокли Авраама. Он испуганно втянул голову в плечи и прижимал к груди скрипку.
– Смотри, тётка Фрося. По-соседски тебя предупреждаю, на себя беру. Если узнают, что приказ не выполнил – тебя в живых оставил и хату не сжёг, плохо мне будет. – И, обращаясь к одному из полицаев: – Давай выводи его.
Полицай вырвал у Авраама скрипку и потащил его к двери.
– Ой, Микола, родненький мой, спасибо тебе, по гроб благодарна буду, – запричитала Ефросинья. – Не хочешь ли самогончика отведать, чистейший у меня, первачок. И закусочку сейчас приготовлю.
– Давай, тётка, – радостно отозвался Микола. – Эй, оставь его, – приказал он полицаю, показывая на Авраама, – никуда не денется.
Нежданные гости уселись, а Ефросинья уже хлопотала, накрывая на стол, доставая запотевшую бутыль самогона. Вскоре полицаи были пьяны. Взгляд Миколы упал на скрипку, валявшуюся на полу, потом на съёжившегося в углу Авраама.
– Эй ты, жид, сыграй нам что-нибудь, повесели перед смертью своею, – и рассмеялся бесовским смехом.
Авраам сидел не шевелясь, он, казалось, ничего не слышал.
– Ты что, не понял, щенок?! – Микола нетвёрдой рукой принялся расстёгивать кобуру с револьвером.
Ефросинья подбежала к Аврааму, подала ему скрипку и что-то тихонько сказала.
Авраам встал, взял в руки скрипку, задумался на секунду, но вдруг выпрямился, лицо изменилось, испуг исчез. Во всей его фигуре появилась какая-то злая решительность. Он провёл смычком два раза, настраиваясь, и заиграл. Мощные звуки «Интернационала» заполнили комнату. Микола вскочил:
– Замолчать! – кричал он, но Авраам продолжал играть. Тогда он выхватил из кобуры револьвер и дважды выстрелил в мальчишку. Авраам опустил скрипку и упал.
– Т-тётка, – проговорил Микола, икая, – вытащи его и закопай где-нибудь.
Он налил себе стакан самогона, выпил залпом, пошёл к выходу. Дошёл до двери и рухнул на пол. Двое полицаев уже валялись пьяные.
Тут появился Ромка с молоком. Он остановился на пороге, с ужасом глядя на распростёртых людей.
– Мама, они мёртвые? Что случилось?
– Помоги, Рома, – Ефросинья показала на Авраама. Вдвоём они вынесли тело в сени. Авраам пришёл в себя и застонал.
– Он ранен?
– Да, давай отнесём его в баню, там перевяжем.
Ромка с матерью понесли Авраама, но он произнёс:
– Я сам, – и встал на ноги.
В бане Ефросинья приложила подорожник, заготовленный с лета, перевязала неглубокую рану. Видимо, Микола один раз промазал спьяну, второй – попал в плечо.
– Рома, надо уходить сейчас.
– Он не дойдёт, мама.
– Должен дойти. Если останется – погибнет, да и мы тоже.
Ефросинья стояла на морозе, закутавшись в шаль, и долго смотрела вслед двум мальчишеским фигуркам, идущим, обнявшись, к недалёкому лесу.
Ромка вернулся через четверо суток. По ночам, его ожидаючи, Ефросинья не могла сомкнуть глаз. Если б не дети малые, свалилась бы от слабости и головокружения.
Тихонько постучал условным стуком. Открыла. Перед ней стоял сын – усталый, промёрзший, похудевший, с обмороженными щеками.
Успел сказать только:
– Мы дошли, мама, – и упал в её объятья.
И тогда она заплакала, впервые за эти долгие четверо суток.
Прошло двадцать лет.
– Фрося, открывай, чего закрылась-то, это я! – Ефросинья заспешила к двери, узнав голос соседки Матрёны. – На клубе вон объявление висит, к нам с концертом какая-то знаменитость приезжает. Пойдёшь?
– Э, Матрёнушка, что-то притомилась я от работы, никуда идти не хочется. Да по детям соскучилась.
– А как они там, пишут?
– Пишут, редко, правда. Ромка-то, как узнал, что отец погиб, пошёл в военное училище. Сейчас офицер, командир. Только далеко служит, на Тихом океане. Дочка в Москве, в научном институте работает, а младшой – за границей, в командировке.
– Смотри, дом-то Магды совсем развалился.
– Да. Помнишь, после того как Миколу расстреляли, она умом тронулась, пошла бродить по деревням да и умерла где-то, как собака. А в доме так никто и не поселился, дурная слава за ним водится.
– Ну ладно, будет настроение – приходи на спектакль, в кои-то веки в нашу деревню знаменитости приезжают!
В тот день, когда в клубе должен был состояться концерт, по единственной деревенской улице пропылил чёрный лимузин. Жители прилипли к окнам, выскакивали из домов посмотреть на машину, которую в этом месте отродясь не видывали.
Лимузин остановился около Фросиного дома. Постоял несколько минут, подождав, пока осядет пыль. Дверца отворилась, из машины вышел высокий красивый моложавый человек в белом костюме. В руках его была скрипка. Он сделал несколько шагов, встав под самыми оконцами дома. Поднял скрипку и заиграл. Никогда не слышанная здесь волшебная мелодия поплыла над улицей, над деревней, над полями, лугами и лесами.
Музыка то вздымалась вверх высоким порогом, то падала в развёрстую пропасть. Скрипка рыдала, божественная мелодия пронзала душу и прорастала в сердце невольными слезами.
Толпа деревенских, окружившая музыканта, всё прибывала. Давно не собиралось здесь столько народу. Уж больно необычным было то, что увидели и услышали сельчане.
Наконец отворилась дверь, из дому вышла Фрося и приблизилась к музыканту. Он, не переставая играть, преклонил перед ней колено.
Но вот музыка оборвалась высоким аккордом, музыкант поднялся, раскинул руки и просто сказал:
– Здравствуй, мама Фрося. – Ефросинья смотрела на него, не узнавая и не понимая. – Я Авраам. Помнишь сорок первый год?
И тогда она вспомнила – поредевший осенний лес и дрожащий от холода мальчишка в шалаше.
– Авраам, боже мой, Авраам!..
И зарыдала у него на груди.
Молча стояли люди вокруг, лишь предательски повлажневшие глаза на суровых, задубелых от тяжёлой сельской работы лицах женщин выдавали их чувства.
Мы сидели с Ефросиньей за сбитым из досок простым столом и пили душистый, настоянный на травяном отваре чай.
– Сколько же сейчас вам лет? – спросил я старушку.
– Ой, милок, я годам и счёт потеряла. Все мои подружки померли, да и дети их, что постарше были, а я всё живу. Скоро сто лет.
– А Ромка, где он? – полюбопытствовал я.
– Ромка погиб в Афганистане тридцать лет назад. Дочка попала в аварию, да и недолго прожила после этого. Один младшенький живёт за границей, всё зовёт к нему переехать, да куда уж мне. Здесь, видно, и помру.
– А внуки?
– У них своя жизнь, что им бабка старая в деревне…
– Ну, а Авраам не приезжал к вам больше?
– Нет. Наверное, большим человеком стал, знаменитым, немногие так играть способны. Вот и не пришлось в деревню вырваться.
А может, и случилось что, жизнь такая хрупкая…
Ефим (Хаим) Ардин
Поэт, член Союза писателей Израиля.
Родился и рос в небольшом Приднепровском городке Орша. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В разное время жил в Москве и Харькове. В 1990 году эмигрировал в Израиль.
В 1992 году вышел его первый поэтический сборник «Поминальные свечи» (издательство «Уман», Нагария, Израиль). Автор книг «По обе стороны Исхода» (издательство «КНИГА-IDO», Кфар-Саба, 2005), «На рубеже преображенья» (издательское содружество Э.РА. Москва – Тель-Авив, 2009), «Меж суетным и вечным. Стихи разных лет» (издательство «Бридж», Израиль, 2013), «Берега. Поэтическая дилогия» (издательство «РГ-Пресс», Москва, 2016).
Шолом-Алейхему
Певцу еврейского местечка
В память, словно свечка, Эта стопка книг — Умерло местечко Йоселей твоих! Ждет их столько злобы, Ненависти, лжи, Ужас катастрофы, Геноцид души… Редкое словечко, Лиц наперечет… Умерло местечко, Только жив народ! Зверства и интриги Не смогли убить, Значит, эти книги Тоже будут жить!«Мир дому твоему…»
Мир дому твоему, Гонимый мой народ, Мир дому твоему И тем, кто в нем живет, Кто явью сделал сны, Строитель и солдат, Чьи дочери, сыны В святой земле лежат… И страх былых невзгод, И гнев, и боль пойму, Гонимый мой народ, Мир дому твоему!Об упраздненном языке
Это часто видишь — Туго старикам, Упразднили идиш, Точно, как и там! Чей державный гонор, Предрассудок чей? — Упразднили говор Бабушки моей… Будничный, житейский Для родных сердец… Он в стране еврейской Тоже не жилец! Слышу: местечковый, Что не так велик… Не пустили в школы Этот наш язык! Прививать не стали, Словно чуждый плод, Сами обокрали Собственный народ!«Не пасмурным, чудесным днём осенним…»
Не пасмурным, чудесным днём осенним, За сладким сном и сладким пробужденьем — Чем не хорош трёхзвёздочный отель?! — Я вслух читаю «Шма… Шма Исраэль!»[30] На мне тфилин и белая накидка, Прикован взор к словам святого свитка, Хотя молитву знаю назубок, И мне внимают женщина и Бог! Явивший нам своё благоволенье, Своё неповторимое творенье — Красивейшую, видимо, из стран, Предместье Гарды, Падую, Милан! Преграды рушились, житейские препоны, Чтоб каменные «ласточки» Вероны[31] Расправили крыла над головой, Крылатый лев над башней вековой У вод Венецианского причала… Моя жена неспешно оставляла Ещё не охладевшую постель — Шма, милая моя, Шма, Исраэль, Негромкий монолог во славу Бога, Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного, Его благой исполнится обет! Глядел в окно безоблачный рассвет, Ждала дорога…«Воплощение лучших из снов…»
Адриатической любови
Моей последней —
Прости, прости!
А. Блок Воплощение лучших из снов, О тебе позабуду едва ли я — Запоздалая моя любовь, Италия! В разноцветных нарядах, роскошная, Ты – в реальном живущее прошлое, Поднебесный открытый музей — Расписные дворцы, Колизей, Неживых величин панорама — Дант суровый, чудной Галилей… Восхищаясь страной всё сильней, Я готов ей признаться: «Ti amo!»[32] Только сердце влечёт и глаза Та страна, что дарит чудеса И мечты, не застывшие в слове, В ней появится брат мой по крови, Чтобы мир от страданий спасти, От обид и вражды многолетней, Адриатической любови – моей последней — Прости, прости…Михаил Ландбург
В 1945–1972 годах жил в Вильнюсе. В 1962 году окончил филологический факультет пединститута. Преподавал русский язык и литературу. Был чемпионом Литвы в наилегчайшем весе по тяжёлой атлетике (штанга). С 1972 года – гражданин государства Израиль, где был чемпионом по тяжёлой атлетике и в дальнейшем тренером молодёжной сборной: команда несколько раз участвовала в чемпионатах Европы.
Публиковался в журналах: «Мосты» (Германия), «Стрелец» (США), «Другие берега» (Италия), «День» (Бельгия), «Kulturos barai» (Литва). Член правления Союза русскоязычных писателей Израиля.
В декабре 2010 г. удостоен премии Международной Академии просвещения, культуры и индустрии (Сан-Франциско, США) за книги «Семь месяцев саксофона», «Отруби мою тень» и «Пиво, стихи и зеленые глаза». В ноябре 2011 г. стал лауреатом Международного литературного конкурса им. Авраама Файнберга (Ашдод, Израиль) – специальный приз «За преданность литературе». В октябре 2012 г. получил учрежденную Союзом русскоязычных писателей Израиля премию имени Юрия Нагибина. Премия присуждена за роман «На последнем сеансе», объявленный лучшей русскоязычной книгой, опубликованной в Израиле в 2011 г.
Библиография:
«Такие длинные бороды» (новеллы) – Тель-Авив: «Карив», 1974.
«Упавшее небо» (роман) – Тель-Авив: «Круг», 1978.
«С тобой и без тебя» (новеллы) – Тель-Авив, 1980.
«С тобой и без тебя» / «Итах ве беладайх» (новеллы, перев. на иврит) – Тель-Авив: «Кибуц хамеухад», 1981.
«Месяцы саксофона» (роман) – Тель-Авив: «Норд», 1983.
«Лиловый стон» (новеллы) – Тель-Авив, 1995.
«За дверью» (новеллы) – Тель-Авив – Иерусалим: «Стрела», 1998.
«После полуночи» (новеллы) – Тель-Авив: «Иврус», 2002.
«Стража госпожи А.» (роман) – Тель-Авив: ВК 2000, 2003.
«Семь месяцев саксофона» (роман) – М. – Тель-Авив: «Книга-Сефер», 2004. ISBN 965-7288-07-X
«Отруби мою тень» (роман) – М. – Тель-Авив: «ЭРа», 2006. ISBN 5-98575-083-3
«Пиво, стихи и зелёные глаза» (новеллы) – М. – Тель-Авив: «Книга-Сефер», 2007. ISBN 978-5-98575-223-6
«Cui bono?» (роман) – М. – Тель-Авив: «ЭРа», 2007. ISBN 978-5-98575-351-4
«Вверх по лестнице, вниз по лестнице» (роман) – Ришон ле-Цион: MeDial, 2009.
«На последнем сеансе» (роман) – Ришон ле-Цион: MeDial, 2011. Переиздание: Тель-Авив, Издательский дом Helen Limonova, 2015.
«Ещё нет…» (новеллы) – Ришон ле-Цион: MeDial, 2012.
«Посланники» – роман. Ришон ле-Цион. MeDial. 2014.
Сыновья Давида
Давид посмотрел на тяжело опущенные веки жены, на лежащий поверх одеяла свёрток с новой жизнью и подумал: «Теперь уж всё…»
– Это ваш новый брат… – сказал Давид столпившимся в дверях своим пятерым сыновьям. – Это же…
– Томер! – в один голос прокричали сыновья.
* * *
Старший сын, восьмилетний Бен, вывел братьев на веранду, и тогда Давид скомандовал:
– Отделение, смирно!
Привычно вскинув головки, братья затаили дыхание, а Давид, потрепав по щёчке каждого в отдельности, двухлетнего Гришу поднял на руки.
– А что теперь? – спросил Лиор.
– Теперь – полный порядок! – ответил Давид и отвернулся.
* * *
…Он отвернулся и в тот день, когда после долгих месяцев, проведённых в госпитале, его подвели к большому зеркалу и стали снимать с головы бинты. Вспомнился увиденный в детстве фильм, где на весь экран показали обгоревшее лицо солдата.
– А я себя узнаю?
– Глупый! – сказала медицинская сестра.
Давид приоткрыл один глаз.
Тело обдало жаром, пальцы потрогали лицо на зеркале, а губы стали нашептывать какие-то имена.
– Это я? – спросил Давид, увидев перед собой лицо, похожее на высохшую кору.
– Глупый! – повторила сестра.
– Глупыми не бывают только мёртвые, – улыбнулся Давид и вдруг подумал, что, когда осень, с моря прорываются к его дому холодные ветры и деревья роняют с себя листья, зато весной, с первыми лучами солнца, листья возвращаются… Теперь весна…
– Пора, – проговорил Давид в зеркало, – пора и мне… Вас как зовут? – спросил он медицинскую сестру.
– Просто сестра!
– Сестра… А у меня сестры никогда не было. У меня никогда никого не было. Подкидыш я. Это потом, когда я стал сержантом, у меня появилось отделение: Бен, Коля, Лиор, Ран, Гриша и Томер. У меня вдруг появились шестеро братьев, но… Однажды наш бронетранспортёр подорвался на мине, и я, теряя сознание, успел заметить летящие в воздухе ненужные ноги, ненужные спины, ненужные глаза моих братьев… Я вновь осиротел…
– Поплачь, – сказала сестра и, уходя, добавила: – А потом живи!
Давид открыл кран и подставил голову под холодную струю. Вода стекала на шею, на госпитальную куртку, на потёртые шлёпанцы.
«Господи, – не понимал Давид, – зачем даёшь, если отбираешь? Зачем оставил меня без братьев? Зачем?»
А потом он вдруг зашептал быстро-быстро:
– Господи, кажется, я знаю, зачем Ты оставил меня…
* * *
…Кроме Давида и девушки по имени Рахель, в кафе возле моря никого не было.
– Вернуть моих братьев сможем лишь мы с тобой, – сказал Давид. – Вернуть моё отделение, если мы с тобой вместе…
– Мы с тобой?
– Если вместе…
– Всё твоё отделение?
– Всех моих бойцов, всех до единого… Поможешь?
Рахель опустила голову и вдруг сказала:
– Я бы хотела…
Давид закрыл глаза.
Облегчённо вздохнул.
Прикусил губу.
Представил себе, как в его дом входит девушка, присаживается на его кровать, и они учатся быть счастливыми.
– Ты чудо! – проговорил Давид.
Они бродили вдоль берега.
Шум моря не мешал девушке расслышать то, о чём говорил Давид…
* * *
…То, о чём говорил Давид, одновременно и радовало, и пугало, и смущало, и влекло.
– Буду тебе женой! – сказала Рахель.
– В таком случае, мы их вернём…
– Конечно, – сказала Рахель, опустив глаза, – всех до единого!
* * *
…Ночью, после рождения Томера, Давиду снился сон,
будто бродя по небу, услышал: «Командир, мы все на месте!»
Давид рассмеялся. «Всё, – подумал он, – теперь уже всё!..»
Никто не поверит
По утрам, когда воздух ещё не отравлен бензином, мы с женой выходим побродить по улицам неподалёку от нашего дома.
– Всё приготовлено, – говорит Ханна. – Уже недолго…
– А говорить он начнёт скоро? – спрашиваю я.
– Как все здоровые дети.
– Хотел бы я знать, не будет ли малышу трудно выговаривать слово «дедушка»?
Я слышу, как Ханна смеётся.
– Выговаривать «бабушка» ему будет, наверно, легче. «Господи! Мы с Ханной – бабушка и дедушка…» – думаю я.
Последний раз я видел жену в Вильнюсе. Было такое же осеннее утро тысяча девятьсот сорок первого года. Перед выходом на работу я приложил ухо к животу Ханны, чтобы послушать, как в нём возится наш младенец. Ханна улыбалась своими большими серыми глазами. Больше я никогда мою жену не видел.
Мы ходим, ходим. Тишина такая, что сжимается сердце. Скоро, совсем скоро Ханна станет бабушкой. Помню, у моей бабушки были жёлтые в глубоких морщинах щёки. У моей Ханны жёлтые щёки?
Мы останавливаемся. Нам нужно немного передохнуть. Я знаю, где мы стоим. Мы всегда останавливаемся на том месте, где были ворота гетто. На этом месте для меня весь мир окрасился в чёрный цвет.
Вечером, когда мы возвращались с работы, эсэсовец, стоявший у ворот, сказал, что на моём пиджаке жёлтая звезда пришита слишком слабо, а когда я наклонил голову, чтобы взглянуть на грудь, ударил хлыстом по моим глазам.
Были такие, кто мне завидовал. «Ты слепой и ничего, что делается вокруг, не видишь», – говорили они. Это правда. Я ничего не видел.
Жена снова берёт меня под руку.
– У нас будет внук, – говорит она.
– Хорошо, – говорю я. – Очень хорошо!
– Потом он начнёт говорить, и ты его услышишь…
«И увижу!» – так я думаю, но об этом вслух не говорю. Всё равно никто не поверит.
Сыплются, падают семена
Бесполезно, если не был, и не важно, если был.
Йонас СтрелкунасПеревод Георгия ЕфремоваНакануне она вышла на пенсию, и утром – застелив постель, умывшись, накинув на себя халатик, выпив чашку кофе, сняв халатик, примерив новую блузку и любимые брюки, походив по комнате, посмотрев в окно, – спустилась к морю, чтобы послушать, как оно дышит.
* * *
За её спиной кашлянули.
Вздрогнув, она обернулась.
У человека под кустиками седых бровей выглядывали огромные, блеклые, будто наполненные водицей, глаза.
– Я общался вон с той чайкой, – пояснил мужчина. – Появились вы…
Они помолчали.
Потом мужчина прочёл:
Островки… Островки… И на сотни осколков дробится Море летнего дня[33].– Что это? – спросила женщина.
– Хокку, – сказал мужчина. – Прелестно, да?
– Не знаю, – призналась женщина.
– Это хокку Мацуо Басё, – проговорил мужчина. – Прочесть ещё?
Женщина посмотрела туда, где по влажному песку прогуливалась одинокая чайка.
* * *
За длинной стойкой бара они сидели одни. Мужчина ни о чём не расспрашивал, ничего не предлагал. Он читал японские хокку.
Весна уходит. Плачут птицы. Глаза у рыб Полны слезами.С шумом раскрылась дверь. В дверях бара стояла девушка со ссадинами на лице и большим синяком на шее. Переминаясь с ноги на ногу, она посмотрела на пустую стойку бара и, кисло улыбнувшись, вернулась на улицу.
Мужчина продолжил:
Колокол смолк вдалеке, Но ароматом вечерних цветов Отзвук его цветёт. Будто в руки взял Молнию, когда во мраке Ты зажёг свечу.– Это всё? – прошептала женщина.
Мужчина, казалось, её не слышал.
Цветы увяли. Сыплются, падают семена, Как будто слёзы.– Я устала, – сказала женщина. – Пожалуйста, считайте, что я умерла. Я ухожу.
Мужчина посмотрел на женщину и безразличным тоном проговорил:
– Иди! Только как ты пойдёшь, если мертва?
* * *
Дома женщина постояла у окна, послушала по радио новости, походила по комнате, сняла с себя новую блузку и любимые брюки, надела халатик, выпила чашку кофе, сбросила халатик, разобрала пастель.
И уснула.
Ночь. Утро. Дождь
Я открыл глаза – в постели её не было. «Ушла посередине ночи, – решил я. – Приспичило ей…»
За окном шумел дождь, и я сказал себе, что надо жить дальше. На память пришёл рассказ Джека Лондона о замерзающем в лесу парне, который вдруг догадался, что его жизнь зависит от того, удастся ли разжечь костёр или нет.
Опустив ноги на пол, я взглянул на стол – меня дожидалась незаконченная корректура новой повести.
До стола ровно два шага.
Я сделал два шага и, оставаясь в одних трусах, принялся за работу.
Стучали в дверь.
Я подумал, что квартирная хозяйка пришла за долгом.
На пороге стоял Амос.
– Какого чёрта? – возмутился я.
За последние месяцы он не нарисовал ни одной картины, а занимался лишь тем, что искал, с кем бы выпить.
Он стоял на пороге и ждал. Было ясно, чего он ждёт.
– Какого чёрта? – повторил я.
– Глотнём? – сказал он, доставая из куртки бутылку с цветной наклейкой.
Я натянул на себя брюки, переложил рукопись моей повести на кровать, а на стол поставил два стакана.
Мы глотнули.
Помолчали.
Взгляд Амоса задержался на моей кровати, а потом остановился на мне. В его глазах читалось: «Ничего рассказать не хочешь?» Мои глаза ответили: «Никакого желания».
Дождь за окном лил не переставая.
Мы глотнули ещё.
– Знаешь, – сказал Амос, – она ушла из моей жизни.
Я не стал спрашивать, кто ушёл из его жизни. Я отлично знал, кто ушёл из его жизни.
– Я её отпустил к другому, – добавил Амос.
Я не стал спрашивать, к кому он её отпустил. Я прекрасно знал, к кому он её отпустил.
Мы глотнули ещё.
Амос кивнул на мою рукопись:
– Работаешь?
Я не ответил. Какого чёрта отвечать, если все и так знают, что по утрам я работаю.
Мы глотнули ещё.
– На душе гадко! – сказал Амос.
Он мог бы этого и не говорить. Я знал, каково ему на душе.
Я лишь сказал, что этому дождю конца не будет.
Амос рассмеялся. Он рассмеялся каким-то дробным, жутковатым смехом.
Я не стал расспрашивать, что его рассмешило. Мы оба знали, что конец приходит всему.
Я молча наполнил стаканы, и Амос, заглянув в свой стакан, сказал:
– Она считает, что в этой жизни я веду себя недостаточно расторопно. Ты тоже так считаешь?
Я пожал плечами.
Мы глотали из стаканов, поглядывая то на залитое дождём окно, то друг на друга.
– Думаешь, она ко мне вернётся? – спросил Амос потом.
Я снова пожал плечами.
Амос поднялся, бросил короткий взгляд на мою кровать и ушёл.
Мне подумалось, что, наверно, я тоже веду себя недостаточно расторопно, если женщина ушла от меня ночью.
Пустую бутылку я отнёс во двор, где стоял ящик, предназначенный для стеклянной тары.
Семён Эпштейн
Родился и жил в Ленинграде до 1990 года. Образование высшее, преподаватель математики. Лектор общества «Знание», руководил детским поэтическим клубом «Северяне» при заводе им. Кирова. В Израиле с 1990 года. Был директором школы «Мофет» в Тверии. Публикуется в «Новостях недели», «Новой панораме», «Секрете», альманахах «Резонанс», «Тивери ада» и местной периодике.
Разведка боем
Берке Эпштейну – моему отцу
Мой отец отмечал Каждый год в феврале Этот день как рожденье на свет… И за тех выпивал, Кто остался в земле — И кого на земле уже нет… А когда двести грамм Его брали на понт И тоска разжимала кулак — Вспоминал Ленинградский Заснеженный фронт И идущих в разведку «салаг». Званье: политбоец… Доброволец… Еврей. Год с морозом трещат: «Сорок два!» Беркой звался отец. Был он беркута злей, Но холодной была голова… И когда с «языком» Шёл по минным полям, А вдогонку косила шрапнель, Побежал прямиком По горящим следам Детской памяти – «Шма Исраэль…» Всё поставил на кон: – Где жена? Где семья? – В ночь бегу и под пули молюсь… Не вернулся бы ОН — Не родился бы я… А про внуков и думать боюсь… 05.2013Душа в шабатней паутине…
И. Бродскому
По радио слышны едва «Новые стансы к Августине», Точней к «Августе», но слова На землю пролились дождём И хлюпают в болотной жиже Сапог резиновых и ниже Холодным русским сентябрём. Глаз отмечает их полёт На юг летящих птиц свободы. Но той любви запретный плод Плодит безрадостные всходы… Промок овраг, стволы берёз, Скользящий мох и ветки ивы… Души прекрасные порывы, Как ватник, мокрые от слёз… И громче слышатся слова — Уже не стансы, а стенанья… Рыжа поэта голова И хрипл голос в час закланья… И в двадцать ватт горит свеча, И душат чувства пятернёю… И завершают паранойю Мои соседи, что кричат — Бранятся смесью языков, Как стая шавок на картине… Галиль… Аврам, Ицхак, Яков — Душа в шабатней паутине… 04–05.12Страсти по страсти
И если что-то держит на плаву, И если в чём-то смысл ощущаю, Так это – твой цветок, что я сорву, И твой капризный взгляд, что я прощаю… Мне из седла не выпасть и не пасть, Пока владею женщиной любимой. Мне нипочём ни годы, ни напасть, Пока я тешусь молодостью мнимой… Пока могу любить и обладать, Пока от страсти вновь теряю ум я, Я буду жить: смеяться и страдать И не внимать словам благоразумья, Что у костра любви короткий век, Что пыл угаснет и придёт прозренье… И сил растраченных мне не вернуть вовек. И мир упрётся в память и смиренье… И потеряет краски бытие… И бег азартный марта и апреля Прервётся осенью, и явятся тебе Улыбка матери и свет в конце тоннеля… Да, я погряз в желаниях мирских… Одна надежда на тебя, Создатель, Что не оставишь грешников своих Без сил и женщин на пустой кровати… 06.2011Горькое вино
Еврейство – горькое вино…
Вл. Добин Мы – Богом избранный народ, Но лишь для тех, кто верит в Бога… Что избранность? – Запретный плод И травли горькая дорога. За маленький Израиль мой Заплачено еврейской кровью… И мы приехали домой, Чтоб защитить его любовью. И если мы – народам свет, То виновато ли еврейство, Что мир безумен, глух и слеп И не кончается злодейство?.. И нам навеки суждено Еврейство – горькое вино… 13.11.10Туман над озером
Туман над озером, туман… По водной глади, Презрев телесный свой обман, Я путь наладил… Тивериадские холмы, Хоть и не спали, Молчали стражами зимы На пьедестале. Шагал я вдоль и поперёк, Себе пророча, Не замочив летящих ног В кромешной ночи: «Тысячелетнюю суму Нести – не гнуться…» Но выходило по всему — Сюда вернуться… И, разогнав озёрный пар Лучей руками, Я брёл под утро в Гиноссар За рыбаками… 16.01.16Михаэль Юрис
Родился в октябре 1941 года в концлагере «Транснистрия» в Бессарабии.
Выходец из литературной семьи. (Леон Юрис – автор знаменитого «Эксодуса» – родственные корни).
Советский Союз оставил в 1956 году. Репатриировался в Израиль из Польши в 1960 году. Кибуцник, служба в Армии обороны Израиля, спецразведка, участник пяти войн с арабскими странами. В войне «Судного дня», зимой 1973 года, на сирийском фронте, был контужен. Участвовал в многочисленных военных спецоперациях против террористических баз в Газе, Ливане, Иудеи и Самарии.
В гражданской жизни – экономист, журналист. Автор многочисленных рассказов, повестей и философских очерков.
Первый сборник рассказов «Правдивые истории» вышел в свет на Украине в 2004 году. Второй сборник – «Герой в силу обстоятельств» – более обширный, был издан в Израиле в 2006 году. Двухтомный роман «Да смоет дождь пыль пустыни» вышел в Израиле в 2012 году и сразу стал бестселлером в Израиле и за рубежом. В 2014 году были опубликованы две повести в книге «Человек в пучине событий». В январе 2015 было опубликовано «Третье измерение», а совсем недавно вышла в свет очередная книга «Взгляд за занавес». Готовятся к печати сборники рассказов «Меч Гидеона» и «Со слезами на глазах». Рассказы и повести печатаются в СМИ. Книга «Человек в пучине событий» вышла и в электронном виде.
Член СРПИ и член правления Союза русскоязычных писателей Израиля. Член Международной гильдии писателей. Лауреат премии имени Виктора Некрасова. Принимал участие в международных книжных ярмарках Москвы, Лейпцига и Иерусалима.
Капризная Фортуна, или Богиня богатства (фантазия)
Прислушайся к мудрости предков
1
Я всегда сплю крепко. Особенно на рассвете в субботу.
У входной двери неожиданно раздался звонок, безжалостно вытащивший меня из небытия, в пять утра, обрушивая в одно мгновение пирамиду моих сновидений.
«Проклятье!» – просипел я пересохшими губами и повернулся на другой бок, с наслаждением погружаясь в пучину забвения. И тут же звонок пронзительно зазвенел снова, отозвавшись в моей несчастной голове кошмарным грохотом.
С трудом нашарив под кроватью свои домашние туфли, я с остервенением швырнул их в дверь. Тишина, а затем новый звонок.
Интересно, кого несёт в такую рань? Ничего! Позвонит и уйдёт…
Но нет! Неведомый визитер, оказывается, был до наглости настойчив. А жене хоть бы что! Мурлыкает себе во сне…
Пришлось вставать. Чертыхаясь и отыскивая домашние туфли, я, отчаявшись, поплелся босяком в прихожую.
– Кто там в такую рань? Да ещё в субботу… – просипел я, заглядывая в дверной глазок.
Но там – никого… Что за черт?
Я в ярости распахнул дверь и удивленно огляделся.
Ни одной живой души, если не считать облезлого серого кота без хвоста, с напряжением наблюдавшего за мной у входа в коридор.
Сам не зная почему, внезапно расхохотался.
– А ты-то что не спишь, дурачок? – пожалел я кота и снова засмеялся. – У кошек вроде бы не бывает бессонницы? Ах да, они же хищники, ночью бодрствуют. Да ну его!
И тут мой взгляд упал на конверт.
Обычный конверт, лежащий у самого порога квартиры. Хотя нет, обычным его не назовёшь. Весь помятый и пожелтевший от времени. Ну, старинный такой. В прошлом году подобный я видел в музее, кажется, в румынском портовом городе Констанца.
И почему конверт у порога, а не в почтовом ящике?
Протерев сонные глаза, я некоторое время изумленно таращился на конверт, покрытый затейливыми завитушками. Наконец, очнувшись, поднял его с пола.
Каллиграфическая вязь на бумаге сложилась в четкую надпись: «Михаэлю от дедушки».
Но ведь этого не может быть! Мне что, снится?
Я ущипнул себя за щеку. Больно. Значит, не сплю…
Мне было известно, что мой овеянный легендами дед умер, когда моей матери было менее четырнадцати лет.
В памяти отчетливо зазвучал чуть грассирующий голос матери, повествующий историю жизни деда засыпающему сыночку:
– А под конец своей странной жизни дед до безумия увлекся азартными играми, особенно лотереей. В один прекрасный день он вдруг заявил, что открыл секрет Удачи! И действительно, вскоре он неожиданно выиграл десять тысяч лей[34]. Этих денег ему бы вполне хватило, чтобы погасить долги и жить в достатке. Но, – голос матери дрогнул, – вместо этого он разорвал счастливый билет в клочья на глазах у онемевшей семьи. «Тот, кто, сидя на шее у дракона, хватает его за хвост, не годится даже в ученики!» – бросил тогда он загадочно и твердыми шагами удалился в комнату. Через час он отправил с курьером какое-то письмо, а на следующий день его схватил паралич. Вот и все, сын мой. Вскоре мой отец вознесся на небо в облаке греха и тайны, а мы – моя мать, три сестры и брат – продолжали влачить жизнь в бедноте…
А вдруг это – то самое предсмертное письмо?
Меня бросило в жар. Мое сердце оглушительно забилось, а похолодевшие пальцы стали лихорадочно рвать конверт.
Белой птицей выскользнул узкий листок бумаги.
Боль в висках навалилась с новой силой, но глаза уже впились в вылинявшие от времени, отдающие бронзой строчки:
Внук мой!
Не имея чести знать тебя лично, я все же льщу себя надеждой, что помимо чьей-то фамилии ты унаследовал мое имя.
Я, на повороте лет, имел тягу к немыслимым экспериментам.
Один из таких экспериментов – это богиня богатства, подарившая мне свое сердце.
Не надеясь более на свою анемичную жену и полагаясь на младшую красивую дочь, я хочу завещать тебе результат этого эксперимента.
Тебя ещё нет! Но я знаю, ты будешь существовать и имя моё получишь! Почему? Так у нас принято, да и дочка обещала. Поэтому я хочу раскрыть тебе рецепт Удачи.
Пытаясь найти счастье в игре, я перепробовал десятки всевозможных способов. Я подсчитывал шансы сторон и различных ставок в казино и за карточным столом, составлял таблицы выигрышных номеров различных лотерей и т. д.
Все эти методы, давая иногда небольшой выигрыш, были чересчур рациональны, ненадежны и доступны многим.
А я мечтал о максимальном, ослепительном выигрыше.
И в конце концов однажды, отбросив в сторону математику и расчет, решил действовать совсем иначе.
Возможно, ты знаешь, что в свое время я был изрядным ухажером, а списку моих любовных побед могли позавидовать многие.
Так вот, я решил использовать свой богатый амурный опыт на новом поприще.
Если эту капризную даму, Фортуну, подумал я, не удается покорить планомерной и скучной осадой, то почему бы не попробовать любовный подход? Вспомнил заветы Казановы, Дон-Жуана и Валентино в отношении к женщинам. Вспомнил и свой студенческий «кодекс»: будь смелым, щедрым и разнообразным.
Отсюда я и вывел иррациональный устав игрока, который в приложении, например, к лотерее выглядит так:
1. Доверься вдохновению. Никогда не покупай билеты с заранее обдуманным намерением – делай это, подчиняясь случайному импульсу, внезапному озарению.
2. Победи жадность. Первый взнос – Удаче. Купленный билет без сожалений, не проверяя, выбрось. А второй выигрыш раздели в семье на три части.
3. Исключи сомнения. Будь уверен в успехе, и по вере воздастся тебе. Просматривай таблицу выпавших номеров лишь для того, чтобы уточнить сумму выигрыша, а не сам его факт.
Эти три правила обеспечат тебе выигрыш в первое время. Особенно надо обратить внимание на чистоту их исполнения. Малейшие проявления расчета, неуверенности или жадности погубят дело.
Но не менее важно последнее, четвертое правило, поначалу, впрочем, не используемое.
Сущность его знакома любому мало-мальски искушенному бабнику: не задерживайся подолгу у одной женщины, иначе ее объятья станут удушливыми. И потому последний завет!
4. Уходи вовремя…
На этом месте я, весь взволнованный, с нетерпением перевернул исписанный лист бумаги. Но, к моему ужасу, продолжения не последовало. На обратной стороне безобразным черным осьминогом раскинулось чернильное пятно. Только в самом верху сквозь его зловещие щупальца проступали остатки фразы, расшифровывающей последнее правило:
Никогда … рай боль… х… …з.
Да в левом нижнем углу сохранился наспех приписанный постскриптум:
Внук мой непарнокопытный! Будь на страже! Фортуна прекрасна и жестока! Но я молился ей слишком долго…
Так-так. Я бережно сложил листок бумаги. Мысли в голове скакали с места на место и путались. Но одно я знал точно: письмо подлинное. Почему-то именно последняя безумная приписка убедила меня больше всего. Но, самое главное, – я поверил в иррациональную систему деда.
Была какая-то неосознанная прелесть, какая-то манящая сила в этом бесшабашном молодецком натиске на Фортуну, и поэтому я сразу сказал себе: «Верю!»
Мне не надо было специально запоминать эти четыре правила, они тут же и навсегда отпечатались в моей памяти подобно заповедям Бога на Моисеевых скрижалях.
Правда, смысл последнего правила остался неясен. Я еще раз повторил про себя остатки его фразы:
«Никогда … рай боль… х… …з».
Чепуха какая-то! Но ведь эта заповедь понадобится лишь позже, а для начала хватит и первых трех.
На душе у меня сразу стало светло и радостно.
Я принимаю эти правила и буду играть!
С усмешкой вспомнив загадочные обрывки фразы «Никогда, рай, боль…», я запел фальшивым баритоном памятные еще с польской гимназии слова:
«О, фортуна, фортуна моя!
Где ты, откликнись, подружка моя…»
Беспечно поигрывая конвертом, я вернулся в спальню.
Жена спокойно сопела во сне, не подозревая о буре в моей душе. Прекрасная Фортуна манила меня…
Эх! Надежда! Надежда! А говорят, Надежда – мать глупых… Это глупые так говорят!
Спасибо тебе, Бог мой! Ты лучше всех знаешь, что еще нужно поутру мужчине, проведшему ночь в объятьях любимой женщины!
2
Вечером того же дня, свежевыбритый и подтянутый, я с женой вышел прогуляться.
Утреннее происшествие как-то само собой выветрилось из головы, и поэтому я не сразу понял, что же именно внезапно остановило меня около афишной доски.
Прервав на полуслове смачный анекдот, я внимательно перечитывал набранное аршинными буквами объявление:
ЛОТО!
ПЕРВЫЙ ВЫИГРЫШ – ДВА МИЛЛИОНА!
ДУБЛЬ-ЛОТО – ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА!
И тут меня осенило: да вот же он, тот самый случай!
– Дорогая! – отчеканивая каждое слово, повернулся я к супруге. – Сегодня мы играем в лото!
– Да ты что, обкурился? – выдохнула в изумлении жена. – У нас до конца месяца осталось не более двухсот шекелей…
– Это больше, чем нам надо! – загадочно проговорил я и, удовлетворенно потирая ладони, решительно направился к ближайшей лотерейной будке.
– Ну что ж, – добродушно усмехнулась жена. – Может, ты и прав. Попытаем счастья.
Она поспешно пустилась за мной.
Через пять минут мы оба стояли у кассы. Взяв бланк «дубль-лото» я беспечно, почти не глядя, обозначил шесть цифр и, рассеянно глядя по сторонам, отдал продавщице.
Та нажала на кнопку, и билет, показавшись в щели, тут же выскочил из аппарата.
– Шестьдесят четыре шекеля, господин!
Уплатив их, я сунул билет в карман и, держа жену за руку, весело посвистывая, мы продолжили нашу прогулку. К вечеру, уставшие, вернулись домой.
На следующий день я, представ у лотерейной будки, протянул свой билет. Кассирша уверенным движением вложила его в аппарат.
– О, поздравляю тебя, – с широкой улыбкой проговорила она. – Ты выиграл…
– Верните мне его немедленно! – перебивая её, тут же потребовал я.
Она, недоуменно пожимая плечами, протянула выигранный билет. Я тут же порвал его на мелкие кусочки…
– Но господин!.. – кассирша в волнении выскочила из-за стола. – Вы даже не услышали, каков ваш выигрыш!
– Неважно, – засмеялся я. – У меня в запасе еще одна попытка. Прошу новый бланк.
– Ну уж нет! Вы что, издеваетесь надо мной?
– Успокойтесь, мадам! Я проверяю систему!
Кассирша внимательно глянула на меня, а я тем временем, закрыв глаза и затаив дыхание, осторожно стал проводить рукой над цифрами, слегка касаясь их кончиками пальцев.
«Доверься вдохновению, – стучало у меня в голове, – доверься эмоции».
И тут мой палец замер. Повинуясь внезапному толчку, еле заметному импульсу, я остановился и открыл глаза.
– Номер семь, – прошептал я и опять закрыл глаза.
– Номер двадцать семь… тринадцать… три… тридцать один… двадцать шесть… и добавочный номер один…
Я тут же, резко повернувшись к кассирше, проговорил:
– Вот ваши шестьдесят четыре шекеля!
Кассирша молча приняла деньги и, проведя новый билет через аппарат, вернула его мне.
– Не знаю, что вам сказать или пожелать, господин…
– Лишь одного, мадам! Фортуны, мадам!
Через два дня я как часы уже стоял у лотерейной будки.
– Скорее проверьте мой выигрыш!
Кассирша тут же провела билет через аппарат.
Её глаза вдруг изумленно округлились. Сверившись с официальным списком, кассирша пробормотала:
– Вы покорили удачу! У вас главный выигрыш – четыре миллиона шекелей. Но, не хочу вас огорчить, вы не единственный, и ваша доля составляет лишь… один миллион шекелей с чем-то… Поздравляю!
– Везет же дуракам! – услышал я чей-то знакомый голос. Обернулся. Это был мой сосед. – Прими мои поздравления, – пожимая мне руку, проговорил он. – С тебя угощение!
Потрясенный привалившим счастьем, я кивнул головой. Последние сомнения исчезли. Система деда была верна. Только сейчас я понял, что выиграл гораздо больше, чем жалкий один миллион. Я выиграл сердце богини Удачи!
Через час, получив в центральном банке выигрышные деньги, я разделил их на три равные части. Две части для детей, а третью – отдал счастливой жене.
Теперь я мог сорить деньгами, не заботясь о последствиях.
Удача была у меня в кармане.
3
В течение последующих недель я еще дважды добился благосклонности Фортуны.
В мгновение ока я превратился из обыкновенного, вечно в долгах, мужчины в популярную богатую личность города…
Вмиг разбогатев, я затмил своим состоянием даже местных богачей.
Слава о моей баснословной удаче разнеслась по городу.
За мной стаей увивались всякие благотворительные организации, «бизнесмены», просители пожертвований и всплывшие из ниоткуда так называемые друзья…
Голова пошла кругом. Уверовав в непогрешимость иррационального кодекса деда, я уже не хотел довольствоваться лишь подачками от Фортуны.
Я решил стать мультимиллионером. Моя азартная душа требовала большего…
Я стал терпеливо дожидаться, когда первый приз в лото дойдет до пятидесяти миллионов шекелей.
И этот день вскоре наступил. Я, красиво одевшись, поспешил к лотерейной будке.
На ней висел большой плакат:
ЛОТО!
ПЕРВЫЙ ПРИЗ – 25000000 – НОВЫХ ШЕКЕЛЕЙ.
ДУБЛЬ-ЛОТО – 50000000 – НОВЫХ ШЕКЕЛЕЙ.
Кассирши не было. Вместо неё за кассой сидел какой-то незнакомый мужчина.
Он встретил меня безразличным видом, будто говоря:
«Тоже мне, невидальщина. Ещё один фраер пришел…»
Сдерживая неожиданное волнение, я огляделся.
Никого рядом не было.
Момент был подходящий.
– Слушай меня внимательно! Я иду играть на крупную сумму… в лотомат.
Мужчина уставился на меня.
– Ну и что? – буркнул он. – Играй хоть на миллион…
– Вот на эту сумму я и сыграю…
Кассир пожал плечами и начал строчить в лотерейный аппарат горку билетов. Молва получила крылья, и вскоре возле будки выстроилась толпа зевак.
Через несколько часов кассир тяжело вздохнул:
– Всё! К сожалению, у меня впервые кончились все бланки. Да и домой мне пора! Плати 899 тысяч пятьсот шекелей…
Я, улыбаясь во весь рот, с готовностью вручил ему мою кредитную карточку.
– Ты не боишься? – спросил меня кто-то из зевак.
Я бросил на него пренебрежительный взгляд и буркнул в ответ:
– Не забывай, кто я! Я – любимчик Фортуны и ничем не рискую…
Последние слова гипнотически подействовали на зрителей. Вокруг повисла напряженная тишина.
За мгновение до того, как кассир вложил кредитную карточку в аппарат, мой блуждающий взгляд невольно остановился на покосившейся табличке над стойкой кассира «Уплата в кредит не больше трех раз».
«Не больше трех раз», – рассеянно повторил я про себя.
И тут в моей разгоряченной голове блеснула догадка. Перед моими глазами вдруг разом высветилась из кляксы последняя фраза завещания моего деда:
«Уходи вовремя! Никогда не играй больше трех раз».
«Вот оно что», – мелькнула мысль, но прежде чем до разума дошел зловещий смысл этого правила, кредитка была проведена.
– Нет! – взволнованно бросил я.
– Поздно, – прохрипел кассир. Выдав мне мешок билетов, он тут же закрыл за собой будку…
Публика медленно разошлась, оставляя меня с мешком уже почти ненужной макулатуры.
На следующий день мой «выигрыш» в общем счете не перешагнул пяти тысяч шекелей…
Эх, дедушка, дедушка! Как некстати твоя клякса! Из-за неё я не понял, о чем ты хотел меня предупредить… Но теперь мне всё понятно! Ты попал в точку!
Ох! Фортуна, Фортуна! Оказывается, ты можешь быть и прекрасной, и капризной, и даже очень жестокой!
А ты, мой дедушка, и судьбу мою предугадал! Похожа на твою…
Хорошо, что я хоть жив остался!
Марк Луцкий
Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Автор нескольких десятков книг и сотен публикаций в периодике 20 стран. Лауреат и призёр многих международных литературных конкурсов в Ашдоде, Берлине, Брюсселе, Вене, Дюссельдорфе, Екатеринбурге, Иерусалиме, Лондоне, Лос-Анджелесе, Москве, Назарете, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Сиднее, Хайфе, Штутгарте и др.
Трижды золотой лауреат конкурсов «Золотое перо Руси». Награжден Золотой есенинской медалью, медалью «Н.В. Гоголь», медалью «Лермонтов». Член Союза российских писателей, Союза русскоязычных писателей Израиля, Союза писателей стран Северной Америки, Международного Союза писателей «Новый Современник», почётный член Союза русскоязычных писателей Болгарии.
Проживает в Хайфе.
Волшебник из местечка (венок сонетов)
1 Касриловка, Егупец, Городок, Не скроет вас безжалостная Лета. Местечки Украины – вот исток Всех вдохновений нашего поэта. Воспел, воссоздал и навек сберег Он старый мир для будущего света. Теплом любви душа его согрета, Душа – начало всех его дорог. И грусть, и юмор сочетались в нем. Слеза с улыбкой мир соединили И стылой ночью, и палящим днём, Как мост, связали берега реки. Его герои доле вопреки Шумели, улыбались и грустили. 2 Шумели, улыбались и грустили. Что наша жизнь? С вопросами вопрос! И стаи дум в селениях кружили, И в каждом доме свой философ рос. По жизненным волнам отважно плыли, Любой из них – просоленный матрос, В морях житейских – словно альбатрос, Привычны бури и нередки штили. Порою налетал корабль на риф, Лишь щепки выносило на песок. И жизни несложившийся мотив Топила океанская волна. Судеб людских душа была полна. О ней поведал автор дивных строк. 3 О них поведал автор дивных строк, Хранитель дум и всяческих секретов, Перешагнув заветный тот порог Портных, раввинов, возчиков, поэтов. Завет отцов скрижалями пролёг. «Заветный» – происходит от заветов, Молитв, обрядов, праздников, обетов: Зачатие, рожденье, эпилог. Всё отразило мудрое перо, Они живыми со страниц сходили, И пусть порой торжествовало зло И горе продолжало посещать, Но начиналась новая тетрадь — Любовь и нежность книги сохранили. 4 Любовь и нежность книги сохранили На том живом, народном языке — На идише, которым говорили, Сверкает он в брильянтовой строке. Собрались в нём истории и стили, Как ручейки в раздавшейся реке, От храма Соломона вдалеке Они его лелеяли, любили. Он мудрым был, чудесный тот язык, Он выжить и развиться им помог, И вот настал тот вожделенный миг, Когда их знавший беды хорошо В дома евреев дружески вошёл Он, приподняв согбенный потолок. 5 Он, приподняв согбенный потолок, – Шолом алейхем! Мир вам! – возвестил, И это имя, доброты итог, Он до конца с достоинством носил. Пусть снова нависал нещадный рок, Пусть снова не хватало больше сил, Но будто легендарный Самуил, Свершал он всё, что только сделать мог. Здесь песни вырывались изо рта, Здесь их когда-то предки породили, Тут пролегла «оседлости черта», Тут молодой безусый человек Волшебно и чарующе навек Местечек осветил мечты и были. 6 Местечек осветил мечты и были, Да так, что и в далёкой стороне Над книгами читатели застыли, Смеясь и плача в яви и во сне. Года и грозы прототипы смыли, Но звук доносит явственно вполне На дорогой писательской волне Остатки полюбившихся фамилий. Вот Сендер Бланк, вот Шмелькис, Стемпеню, Здесь Вевиков с Менахем-Мендл были. Свой взор опять в твои листы клоню, Которыми всё ёмко описал. Зачем так рано ты себя отдал Американской горестной могиле? 7 Американской горестной могиле Который год собой принадлежишь. Тебя твои герои пережили, С грустинкой нежной ты на них глядишь. Твои края перед тобой застыли, Стрелой взмывает к небу юркий стриж, Над целым морем местечковых крыш Дожди до блеска улочки умыли. И воцарилась в мире доброта, Как будто наступил желанный срок, И мальчик Мотл, известный сирота, Гоняет по родимому двору. Ему сейчас, буквально поутру, Людскую память передал Пророк. 8 Людскую память передал Пророк, В той памяти подчас такое было, В ней столько слёз, гонений и тревог, Что всей земле бы за глаза хватило. К пришельцам мир и грозен, и жесток, И у пришельцев вечно что-то ныло, Со всех сторон – от флангов, фронта, тыла Взирал такой непостижимый Бог. Пускай пройдёт ещё немало лет, Не прорастёт забвения трава. На книгах твой знакомый силуэт Меня волнует. Сколько лет тому! Я чувствую – народу моему Едва ль нужнее сыщутся слова. 9 Едва ль нужнее сыщутся слова, Когда они – надежда и опора, Когда у Тевье каждая глава — Всё сразу вместе – и Талмуд, и Тора. Когда полна восторгом голова, Когда читаешь и легко, и споро, Когда сама пророчица Дебора Идёт местечком, как всегда права. Когда молочник старым летним днём, Лошадку запрягая близ поляны, Любил соседу рассказать о том, Как он годами в Бойберике жил, И, чтобы дом подолгу не тужил, Йод-юмор лил на стонущие раны. 10 Йод-юмор лил на стонущие раны. Еврейский юмор, кто тебя создал? И кто в какие веки неустанно Твои шедевры отливал в металл? Тебе подвластны и века, и страны, Какую свежесть Ты в себя вобрал! Твой мощный и высокий пьедестал Тесали Авраамы и Натаны. И пополняли юморной запас Тевье и Рохи – это их молва. Касриловских острот высокий класс Горел алмазом в будни и в шабат, И этих хохм клокочущий каскад Хозяйски принимала голова. 11 Хозяйски принимала голова Плоды его писательских исканий, Когда пускала бедная вдова Детей на путь опаснейших блужданий. Они искали счастья острова В огромном и пустынном океане, Предметы неудавшихся мечтаний — История нова и не нова. Как рассудить? У всех свои года, Порой они суровы, как свинец, И всё же это горе – не беда, И над нелёгкой авторской тропой Вставали книги плотной чередой — Его трудов заслуженный венец. 12 Его трудов заслуженный венец Не украшал изысканных салонов, Светил в лачуге тускло каганец Для пары глаз, в роман его влюблённых. И бедный Хаим, что и швец, и жнец, Читал тебя настолько отрешённо, Торжественно и даже упоённо, Что восклицал: «Ах, Шолом! Молодец!» «Ах, молодец!» Другой награды нет, Не может быть для пишущего клана! И пусть пройдут ещё десятки лет, Твоих произведений славных нить И дальше будет факелом светить Могуче, ярко, сочно, неустанно! 13 Могуче, ярко, сочно, неустанно… Легко сказать. А кто не устаёт? А тут в нужде и муках постоянно И в полурабстве жил его народ. Черта, черта… Нависла окаянно, Кто испытал – тот знает тяжкий гнёт, И днём, и ночью горести несёт И губернатор, и урядник пьяный. А впереди – погромная гроза, Пожарный дым над тысячью крылец, Предвидели пророчески глаза, И он, всегда боровшийся со злом Достойным и талантливым пером, Умело передал огонь сердец. 14 Умело передал огонь сердец, О том была всегдашняя забота. Своих детей прозорливый отец Их взглядом проводил до горизонта. Ввысь улететь пытается птенец, Познать стремясь мгновение полёта, Страсть виража и резкость разворота, И ощущенье жизни, наконец! Что ж, оказался в дальней стороне, Но для меня он сделал всё, что мог, Доступный для читателя вполне От шумных городов и до глуши. Ему воздвигли памятник души Касриловка, Егупец, Городок.Магистрал (акростих)
Касриловка, Егупец, Городок Шумели, улыбались и грустили. О них поведал автор дивных строк, Любовь и нежность книги сохранили. Он, приподняв согбенный потолок, Местечек осветил мечты и были. Американской горестной могиле Людскую память передал Пророк. Едва ль нужнее сыщутся слова, Йод-юмор лил на стонущие раны. Хозяйски принимала голова Его трудов заслуженный венец. Могуче, ярко, сочно, неустанно, Умело передал огонь сердец. 1996Игорь Бель (Бельфер)
Окончил технический университет в г. Алма-Ате и затем, после службы офицером в Туркмении, занялся наукой. Поступил в аспирантуру Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта (Москва). Защитил диссертацию. Публиковался в центральных геофизических сборниках.
В 1993 году репатриировался в Израиль, где был принят в Геофизический институт Израиля и проработал в нем 8 лет. После этого перешел в фирму хай-тека, разрабатывающую уникальный медицинский прибор на основе нанотехнологий. Через 5 лет снова вернулся в геофизику. Печатался в известных в мире геофизических журналах Geophysics, Geophysical Prospecting, Applied Geophysics и др.
Параллельно печатался в литературных сборниках России («Золотая строфа»), Израиля («Год поэзии») и США (журнал «Побережье»). В США (Денвер) выпущен диск песен на русском языке фирмой POWGAN. В России и Израиле опубликовал четыре книги прозы под названиями «Серая птица», «Сигналы памяти», «Двухгодичник» и «Тромсё», в Канаде – книгу стихов «Моё средилунное» и прозы «Изракеш». Печатался под псевдонимами Игорь Бель и Гарри Ферр.
Малыш
Родители купили небольшой саманный домик почти на окраине поселка. Домик включал участок земли (степи) примерно десять соток, обнесенный глиняным дувалом. Поначалу на участке ничего не было – только ковыль, мышиные норы да муравьиные кучи, которые исследовал каждый день Малыш. Но через месяц после покупки дома отец с друзьями вырыли глубокий колодец, укрепив его бревенчатым срубом.
Чуть позже все вместе приступили к строительству сарая и подвала под крышей. Строительным материалом служили глина и кизяк (высохшие коровьи лепешки). Специальную форму, похожую на носилки с бортами без дна, устанавливали на дощатый настил и наваливали в нее смесь кизяка с глиной, заранее разбавленную водой и перемешанную в специальной яме. Выравнивали руками поверхность этой пахучей смеси и вываливали полученный мягкий кирпич на плоскую поверхность двора. В течение недели он высыхал и был готов к употреблению. За один день потом были построены и сарайчики и погреб.
Соседом справа был мальчик-татарин – одногодок Малыша, а справа девочка-китаянка, которая была старше на один год, но выглядела совершенной малюткой. Малыш сразу же с ними подружился. Отец мальчика был машинистом паровоза и приносил домой уплотнительные металлические кольца, которые почти все пацаны поселка гоняли с помощью специального металлического прута с крючком на конце. «Технология» эта в настоящее время утеряна, но в то время дети не были избалованы игрушками и поэтому Малыш и соседский мальчик с упоением носились по пыльной улице, пугая лязгающими звуками бродячих собак. Для девочки Малыш строил дворцы из глины и песка и однажды даже удостоился приглашения на чай. Во дворе у родителей девочки был настоящий Китай: ворот колодца, украшенный головой дракона, яркие гобелены на стенах, изображающие героев китайского эпоса, китайская посуда и недорогие вазы. Малыша накормили неизвестными ему сладостями и напоили душистым чаем, который сильно отличался от плиточного, продаваемого в магазинах в то время. После чая Малыш долго гулял с девочкой, а вечером каким-то невообразимым образом они оказались на дне глубокого котлована, прорытого у одного из ближайших домов. Может быть, их привел Великий Инстинкт. Они сняли трусики и стали изучать то, что отличает девочек и мальчиков. Удовлетворенные увиденным, они вылезли на поверхность и разошлись по домам.
Однажды Малыш, мальчик и девочка играли на ближайшем пустыре. Они строили «Китайскую стену». Работа так увлекла их, что они не заметили, как в природе произошли кардинальные изменения: во-первых, солнце исчезло и заметно потемнело, а во-вторых, стало очень тихо. Девчонка-китаянка вдруг бросила «работу», вскочила и понеслась что было мочи к своему дому. Малыш проследил за ней, ничего не понимая, и вознамерился было продолжить игру, но случайно бросил взгляд на мальчика-соседа. Тот стоял раскрыв рот и показывал пальцем на что-то позади Малыша. Тот обернулся и остолбенел – сзади была черная стена, и всё… Вдруг стало трудно дышать. Мальчики инстинктивно раскрыли рты и стали жадно хватать жалкие остатки кислорода, образовавшиеся во фронтальной зоне урагана, а это был он…
Также инстинктивно Малыш бухнулся животом на «Китайскую стену», развалив ее, и закрыл голову руками. Мальчишка же в страхе побежал к своему дому. В этот момент ураган накрыл их, и Малыш на некоторое время потерял сознание.
Ураган, ураган – на земле света нет. Словно черный наган у виска и кастет. Я не слышу щелчка, я не вижу огня — Помутнело в глазах и в мозгу у меня…Малыш очнулся без посторонней помощи, покачиваясь, вылез из котлованчика и огляделся вокруг. Ему открылась грустная картина: на земле валялись сорванные провода, столбы, сломанные стулья, деревья, какие-то предметы неизвестного предназначения. Крыши у двух ближайших домов были сорваны. Мальчишка-сосед оказался в пяти шагах – он сидел совершенно неестественно, согнув голову и расставив в стороны руки, прижатый к столбу большим стволом дерева. Изо рта по краям губ у него стекала кровь. В этот момент дунул небольшой ветерок, и Малыш стал судорожно глотать воздух и задыхаться…
Мальчишку через два дня похоронили с соблюдением мусульманских законов, а Малыш серьезно заболел. Болезнь требовала врача-психиатра, но в то время такой должности, а тем более в провинции, не было в помине. И Малыша стали таскать к терапевтам, пичкать лекарствами, делать уколы, но все это, естественно, не помогало. Прошел год, и состояние его стало ухудшаться, скорее всего, от лекарств. И тут, на его счастье, погостить приехала прабабушка Сарра Иосифовна, отличающаяся крепким характером и неимоверной коммуникабельностью. Через неделю она перезнакомилась со всеми соседями, расширяя круг знакомств с невероятной скоростью. Через неделю она заявила матери:
– Так, ребенка надо показать Балябихе.
– Какой Балябихе, что ты, бабуля, разве можно верить всяким шарлатанам!
– Балябиха – не шарлатан, она уже полгорода вылечила, и я ее видела – очень внушающая женщина.
– Ну ладно, делайте как знаете, – махнула рукой мать и заплакала.
На второй день появилась Балябиха – черноволосая женщина лет сорока-пятидесяти (как показалось Малышу), полная и очень спокойная. Села напротив и пристально посмотрела на него. Малышу вдруг сильно захотелось спать, и он зевнул.
– Ну что, милый, ветра боишься?
– Ага.
– А чего его бояться – он же добрый, – сказала Балябиха, погладила Малыша по голове обеими руками, затем ее ладони скользнули по голове вниз, и она легонько надавила большими пальцами на его глаза. Ему стало приятно и уже просто мучительно захотелось спать.
– Ветер – он славный, он игрун, веет себе где хочет, снизу вверх, сверху вниз, справа налево, слева направо, сильно – слабо, на мальчика – мимо мальчика, злится порой, да не со зла, а от характера, воет порой, да не с голоду, а от тоски-кручины, как подует, так и пролетает мимо, пролетает мимо, мимо, мимо, мимо…
Балябиха стала сильно дуть на Малыша, но ему было не страшно – он уже твердо знал, что ветра никогда не будет бояться. Так оно и случилось.
По-видимому, из-за того, что по двору ходили разные животные, Малыш заразился конъюнктивитом. Глаза гноились, а утром их нельзя было раскрыть. Мать применяла народное средство – заставляла Малыша помочиться, а потом намачивала ватку и промывала глаза. По утрам стоял неприятный запах мочи. Стала подниматься температура. Мать из-за предубеждения против врачей сбивала температуру тоже народными средствами – чаем с малиновым вареньем. Но температура держалась. Все звуки казались Малышу нарочито громкими и нервными. Бабушка выводила его поздно вечером во двор оправиться. Малыш сидел и меланхолично глядел перед собой. У него начались галлюцинации. Он видел большие мертвые горы, за спиной бабушки стоял человек в светло-серой накидке. Большой берет был надет на голову и скрывал глаза. Человек силился что-то сказать Малышу, но у него не получалось. Наконец он сжал губы и выдавил из себя:
– П-п-похож…
На кого похож, не было понятно. Человек махнул рукой, повернулся и пошел в горы. Дальнейшее Малыш не помнил, так как потерял сознание. На крик бабушки выскочил отец, поднял его на руки. Следом вышла мать и замотала его одеялом.
– Все, я понесу его в больницу. Из-за твоих предрассудков мы потеряем сына, – сказал отец.
Больница располагалась около железнодорожной станции, а это было далеко. Отец понес Малыша, а рядом шла мать. Малыш очнулся, понял, что его несет отец, и ему стало хорошо.
– Мне уже хорошо, – сказал он
– Ну вот, ему уже хорошо, давай вернемся, – сказала мать.
Но отец упорно нес. Больница была закрыта, а свет в ней горел только в одном окошке на втором этаже. Сторож сказал, что принимают только утром с 9 часов.
– Что же нам делать? Ребенку плохо.
У главврача во дворе была большая овчарка, которая подняла свирепый лай. Заспанный хозяин вышел, привязал собаку и пригласил всех в дом. При свете керосиновой лампы он осмотрел Малыша и сказал, что у него свинка в тяжелой форме.
– Сейчас я оденусь, и пойдем в больницу. Я помещу его в детскую палату.
Вместе с главврачом дошли до больницы и поднялись на второй этаж. Врач сделал Малышу укол.
– Ложись вот на эту кровать, – сказал он после этого, – в палате находятся еще три мальчика старше тебя на несколько лет, но, я думаю, все будет нормально. Горшок – под кроватью. Если что, зови через окно сторожа.
Мать и отец поцеловали Малыша и ушли вместе с врачом, потушив свет. Стало темно и жутко. Соседей по палате не было слышно. Опять поднялась температура, и начались те же галлюцинации: горы и человек в длинных одеждах и берете.
– Малыш, тебе плохо, я вижу, но завтра утром температура спадет и больше не поднимется, – сказал он. – Не забывай, что ты должен сделать это.
– Что? – сквозь сон спросил Малыш.
– Найти амулет – он в реке.
– Что такое амулет?
– Амулет – это такая металлическая вещица, которая соединяет человека с высшей сущностью. Мой амулет был освящен в соборе Святого Марко.
– Почему я должен его найти?
– Так предначертано.
– Но почему именно я? – уже засыпая, спросил Малыш.
– Потому что ты похож на Марко… Моего Марко! Я так редко видел его! Я назвал его в честь святого Марко, потому что мы жили недалеко от базилики Сан-Марко. Мы с братом Маттео виноваты, что заразили его этой страстью к путешествиям. Когда мы вернулись первый раз от Великого Хана, Марко было уже 15 лет. Я не был рядом с моим сыном, когда он был в твоем возрасте, Малыш, и очень сожалею об этом. Он отвык от меня и стал относиться ко мне так же, как и к своему дяде Маттео – просто как к родственнику.
Последние слова Малыш уже не слышал, так как крепко спал. Когда он проснулся утром, то увидел три пары глаз, уставившихся на него с трех соседних кроватей. На одной лежал толстый пацан с наглыми блестящими глазами, на другой – белобрысый и худой, а на третьей – странное создание с немного перекошенным лицом и крупным лишаем на правой щеке.
– Ты что, с неба упал? – спросил наглый.
– Нет, меня ночью принесли, – ответил Малыш.
– Как маленького – на ручках, – заключил белобрысый ехидным голосом, – маменькин сынок, что ли?
– Я не мог идти, – сказал Малыш и отвернулся к стенке.
Поняв, что разговор окончен, эти двое переключились на
того, с лишаем.
– Мать твоя сегодня не придет, – сказал наглый.
– Ее машина сбила, – добавил белобрысый.
Послышался сначала тонкий вой, который стал усиливаться и усиливаться и завершился почти звериным рыком. Малыш повернулся и увидел, что лицо у жертвы издевательств перекосилось еще сильней, и он смотрел безумными глазами. Малыш понял, что с этим мальчиком что-то неладно. В это время зашла нянечка и начала ругать обидчиков:
– Я вам сколько раз говорила, идиоты малолетние, что он немного больной психически – его нельзя злить, а вы что делаете? Совсем совесть потеряли! Вот я главврачу да родителям вашим расскажу, как вы тут болеете. Лучше бы книжку вон почитали. Сказку о царе Салтане или, к примеру, про войну.
Нянечка вышла, но обиженный продолжал подвывать.
– Вчера, когда она наклонялась к тебе, я видел, что она без трусов, – сказал наглый белобрысому.
– Ну и что ты увидел? – спросил белобрысый.
– Как будто не знаешь, что.
– Ну что, что?
Обиженный перестал выть и только хрюкал время от времени.
В десять часов пришли красивая врачиха с нянечкой для обхода. У всех измерили температуру и сделали уколы. Обиженный не давался, но нянечка неожиданно быстро скрутила его и стянула штаны. Он легонько подергивался и скулил. Пацаны хихикали. Обед принесли только Малышу, поскольку только у него была повышенная температура. Остальные пошли в столовую самостоятельно. Перед самым выходом белобрысый пнул по лодыжке обиженного, и тот поднял страшный визг. Наглый и белобрысый убежали, а обиженный свалился на пол и стал вопить так громко, что у Малыша заложило уши. Прибежала нянечка, и вместо того чтобы успокаивать, надавала обиженному подзатыльников. Тот неожиданно успокоился и пошел в столовую смирно. После обеда полагался «мертвый час», который на самом деле длился три часа – до полдника. Обидчики продолжали донимать обиженного самыми изощренными методами.
– Отстаньте от него, а то я вас ночью конъюнктивитом заражу, – сказал Малыш.
– Как это ты нас заразишь, интересно? – спросил наглый.
– Возьму и гноем вам намажу глаза.
К вечеру температура поднялась еще больше. Ночью Малыш несколько раз просыпался. Уже под самое утро появился человек. Он стоял и ласковым взглядом глядел на Малыша.
– Я Николо, если ты помнишь, Малыш.
– Я помню.
– Пытаюсь помочь тебе, но у меня ничего не получается. Как видно, предначертано, что ты должен переболеть этой «свинской» болезнью. Зато Небо будет милостивым к тебе потом и пошлет тебе интересную жизнь. У нас с Маттео и Марко жизнь была очень интересной. Говорят, что нами двигала нажива. Да, готов признать, что сначала так и было. Когда мы продали все, что нажили в Константинополе, и отправились в Сарай на реке Тигри[35], то там у западного правителя Берке нам удалось удвоить свое состояние. Потом же, путешествуя по Великой Степи, мы почувствовали жажду познания. Даже если бы мы потеряли все или нас ограбили кочевники, мы бы продолжали свое движение на Восток. Жажда познания опьяняет и окрыляет одновременно. Поверь, Малыш, нет на земле ничего более важного, чем жажда познания. Те, к кому она приходит, становятся одержимыми и в конце концов продвигают человечество на новую ступень развития. Одна беда, Малыш, что природа человека почти не меняется. Он так же жесток, коварен, жаден, добр, простодушен и щедр одновременно. Он завистлив, труслив, коварен, беззлобен, храбр и прямодушен по нескольку раз на день.
Малыш не все понимал, но голос Николо завораживал и успокаивал. Стали слипаться глаза. Голос стал слышаться откуда-то издалека и постепенно затихать. Малыш уснул. Ему снилась Италия, в которой он никогда не был. Какой-то человек плыл на лодке между домов и громко пел песню на непонятном, но красивом языке. Лодка подплыла к одному из домов, с балкона которого Великий Хан показывал пальцем в сторону и говорил:
– А мать твоя не придет больше на свидание…
Раздался громкий визг, и Малыш проснулся. Визжал обиженный. Он бился головой в стенку, находящуюся возле кровати, и уже разбил свой лоб в кровь.
– Ну все, – сказал Малыш, – я обещал вас свинкой заразить, теперь держитесь.
– Мы главврачу расскажем, – сказал белобрысый.
– И нянечке тоже, – добавил наглый.
Нянечка ворвалась в палату как фурия. Она схватила за шиворот сначала наглого, подняв его рывком с кровати, а потом тем же приемом подняла белобрысого.
Объяснение у главврача, по-видимому, было серьезным, поскольку виновники вернулись хмурые, легли на свои койки и молчали.
– Хотите, я вам сказку про маленького утенка расскажу? – спросил Малыш.
– Ты что, думаешь, что мы совсем идиоты и не знаем эту сказку? – сказал наглый.
– Нет, это другая сказка.
– Ну, давай.
– Утка с селезнем свили гнездо недалеко от берега. Они вывели трех утят – двух больших и одного маленького и хилого. Когда родители улетали на поиски еды, большие утята вытолкнули маленького и продолжали спать, а тот плавал и плавал вокруг гнезда. Голодная лиса подошла к берегу, потрогала лапкой воду и отдернула ее – вода была холодной. Но ей страшно хотелось есть. Лиса пошла к гнезду. Маленький утенок увидел ее и громко закрякал. Братья его проснулись и тоже увидели лису. Они выпрыгнули из гнезда и поплыли подальше от берега. За ними поплыл маленький утенок. Лиса сделала еще несколько шагов, но потом развернулась и пошла в обратную сторону…
– Да пошел ты со своей сказкой для яслей!
Малыш обиделся и перестал рассказывать.
«Почему люди бывают такими злыми? – думал он. —
Видно, дома у них не все в порядке или в голове. Наверно, в голове… Собаки, например, тоже бывают разные. Шарик у соседей, что живут напротив, добрый – он все время крутит хвостом и ластится, а у соседей слева Рекс злой как черт – все время пытается сорваться с цепи и разорвать в клочья…»
С этими мыслями Малыш заснул, и тут же появился Николо.
– Я начал беречь тебя начиная с твоего деда, – продолжал он прерванный предыдущей ночью рассказ.
– Как это?
– Я проследил весь его путь от холодного севера до жаркого юга и не давал Случаю вмешаться в ход событий, предусмотренный свыше. Твоя мать должна была без помех добраться до места, где ты родился. Случай – вот великая сила. Никому до сих пор неизвестно, какие силы управляют им: верхний или нижний мир, Дьявол или Бог, силы зла или добра. Бороться с ним можно, но не всегда. До твоего рождения я прослеживал всех в твоей семье, но деда на Большой войне я уберечь не смог. Я не смог даже сделать так, чтобы родственники нашли его и похоронили. Он погиб под Ржевом, а похоронку отправили из Калинина. Я сделал так, что почтовый самолет совершил вынужденную посадку и почту перегрузили на другой самолет, а при перегрузке один ящик развалился, и письма упали в снег и намокли. Их подсушили, затолкали в другие пакеты и поставили штамп города Ржев. Но это не помогло. Слова «пропал без вести» сразу же отбили у семьи желание попытаться найти его. Я бы помог, но мне не дали шанс. До 1952 года твой дед лежал в лесу. Его останки нашли пионеры. В подкладке почти истлевшего сапога был чудом сохранившийся воинский билет. С почестями перезахоронили его в деревне Дубровка недалеко от Ржева. Фамилия и имя его на мемориальном камне. Я надеюсь, когда ты подрастешь, поедешь туда и увидишь, что я говорю тебе правду. И отца твоего я хранил как мог…
Евгений Браверман
1948 года рождения, уроженец небольшого шахтерского городка Красный Луч Луганской обл., что на окраине Донбасса. Детские и юношеские годы прошли на Украине, в армии служил на Дальнем Востоке, жил и работал на севере Ханты-Мансийского автономного округа в нефтегазоперерабатывающем комплексе на Самотлоре, инженер-электрик.
С 1999 года проживает в Израиле. Член Союза писателей Израиля, член Международной Гильдии писателей. Автор пяти поэтических сборников, два из которых – «На крыльях памяти моей» и «Лимон в миноре» – вышли уже в Израиле. Литературная направленность – любовная и гражданская лирика, литературные пародии. Есть пробы в поэтических переводах с идиш, иврита, немецкого, татарского и башкирского языков.
Кроме прочего печатался в коллективных сборниках, выходящих в Тюмени, Екатеринбурге, Нижневартовске. Один из авторов литературного альманаха «Без границ» (МГП – Израиль, 2015 г.) и «Крестовый перевал» (МГП – Грузия, 2016 г.). В Тель-Авиве печатается в литературном альманахе «Хронометр».
Стена плача
Зачем я здесь, в чужом краю, Где нет воспоминаний детства? Где каждый день я, как в бою, В кругу враждебного соседства. Где каждый нищий бедуин Богаче нашего олима[36], А новый, в масле, карабин Дешевле, чем билет до Рима. Но что-то держит здесь меня (И не привычка виновата), Наверно, пятая графа, Что так смущала нас когда-то? Наверное, в моей крови Есть что-то, что я не приемлю, Ведь невозможно без любви Врасти корнями в эту землю. И хоть я детства здесь не знал, Не рос средь этого бедлама — Я каждым камнем прорастал В стене разрушенного Храма.Сказка сказок
В. Ланцбергу
Вон лодка на море вдали от причала, Вот море у берега, домик на нем, И цепь на собаке, что злобно рычала, Как будто она во дворе мажордом. Вот детки на лавках, внизу тараканы, Сверчки за иконой притихли в углу, А взрослые в доме все сыты и пьяны И просят рассол огуречный к утру… Вон лодка угрюмо стоит на приколе, Вот волки снуют по тамбовским лесам, Корова в хлеву и петух на заборе, И детки растут по песочным часам. С той славной поры промелькнули две тучки, Сменилось столетие, море ушло, Покрылись морщинками белые ручки, И сперли соседи от лодки весло. …Еще двести лет за окном промелькнули, У деток все внуки уже старики, Они не жалели ни сабли, ни пули, Всем божьим законам, увы, вопреки. Давно это было, и жизнь пролетела, Рассохся от времени старый буфет, Собаки все сдохли и цепь проржавела, И лодка прогнила, свалившись в кювет… И лодка прогнила, Свалившись в кювет.Сибирь
О, матушка моя, Сибирь, Что треть страны в себя вобрала, Неописуемая ширь За гребнем древнего Урала. Рек нескончаемый поток, Деревьев сумрачные тени, И затерявшийся цветок Среди болотных испарений. Но нет прекраснее поры, Когда зимой метут метели, Когда у школьной детворы Заброшены под стол портфели, Когда упавшие снега Искрятся нежным белым светом, И неприступная тайга Еще прекраснее, чем летом. Тогда к сторожке я бегу, Издалека приметив крышу, Где у порога на снегу Следы знакомые я вижу, Где ночью юная манси Меня ласкала до рассвета И, утомившись от любви, Уснула на груди поэта.Пейзажное
И. Грановской
Весна проснулась и поет, И моль гоняется за молью, То валенки под ванной жрет, То шубу пробует соболью. И тараканы у ведра Вчерашний мусор доедают, Что жить осталось до утра, Они еще, увы, не знают. А комары! А комары! Как «мессершмитты» разлетались, Без всякой ложной суеты Их самки истово кусались. Сосед, законченный дебил, «Жигуль» свой завести пытался, А двор дыханье затаил — Все ждал и радостно смеялся. Подъезд – пещерная дыра, Что извергал то хлад, то пламень, Где Жора, мой сосед, с утра Искал свой философский камень. И жизнь полночная кипит В лохмотьях сорванной шпалеры… Ну, а поэт? Поэт не спит, Прикованный к веслу галеры.Осенняя грусть
Листья желтые в саду В неге солнечной купались, У прохожих на виду С ветром северным шептались. Но недолог бабий век — Все хорошее проходит, Замерзают устья рек И листва с деревьев сходит. Лишь любовь всегда права — Вновь она ко мне вернулась, В этом парке, у пруда, Божьим даром обернулась. Отчего же на душе Словно кошка когти точит? Кто жалеет обо мне, Кто судьбу мою пророчит? А вокруг, как век назад, Ивы в пруд макают косы, Журавли на юг летят, И шумят, шумят березы…Отчего же?
Я по жизни пессимист, Ты – с душою оптимиста. Я люблю осенний лист, Ты же – «завтраки туриста». Мы по-разному глядим На еду и на диету, Потому несовместим Наш с тобой вояж по свету, Отчего же по ночам Я все зримей ощущаю, Что я счастлив только там, Где твой путь пересекаю?..Переводы
Арон Вергелис
В тылу врага
Ни колоска, ни радости в поле осеннем, И редким прохожим стоит березняк, Вон вражеский скачет солдат из деревни, А вот из земли выползает червяк. Он видит себя исполином, наверно, Что шарик земной продырявил насквозь, Он так извивался красиво, манерно, Как будто он сам та вселенская ось. А в поле осеннем лишь ветер гуляет — Ничто не укроется в нем от меня: Под локтем раздавленный червь затихает, Да всадник свалился от пули с коня. Перевод с идиш Иосиф ПаперниковПосторонний
Кто меняет дома, как сменяют сорочку — всюду тот одиночка. От отцовской земли кто отрезан межой, как росток – он чужой. Он на почве созреть и взрасти не сумеет — чужеземное солнце не греет. Ведь цветок, что взращен на чужбине дале умирает до срока. Человек очень быстро доходит до точки, если начал менять очаги, как сорочки! Перевод с идиш Шакир Галин Надень старье чужое, Коль нечего носить. И в дом вселись чужой ты, Коль негде больше жить. Но, друг мой, не пиши стихов, Коль нет своих ни чувств, ни слов. Перевод с башкирскогоЛюдмила Чеботарёва (Люче)
Поэт, прозаик, переводчик с иврита, английского и испанского языков.
Автор и исполнитель песен.
Член
– Союза русскоязычных писателей Израиля (СРПИ),
– Международной Гильдии Писателей (МГП),
– Международного Союза писателей «Новый Современник»,
– Международного Творческого Объединения Детских Авторов (МТО ДА)
– Объединения Детских Авторов Русскоязычного Израиля (ОДАРИ).
Закончила с отличием факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета по специальности преподаватель английского языка, филолог, переводчик.
Жила в России, Украине и Белоруссии.
С 1993 года живет в Израиле в городе Нацрат Иллит.
Организатор, лауреат, призёр, финалист и член жюри многих поэтических фестивалей в России, Украине, Германии, Великобритании и Израиле, а также сетевых литературных конкурсов.
Соредактор электронного литературного журнала для детей «Удодик».
Учредитель и Президент Международного Фестиваля русской поэзии и культуры в Израиле «Арфа Давида».
Автор шести стихотворных сборников, мистической повести для подростков и взрослых, более двадцати детских книг и пяти пьес на русском, английском и иврите.
Дед и внучка
Посвящается памяти жертв Холокоста
Мир везде и всюду одинаков.
Александр Межиров «Мир везде и всюду одинаков»[37], — Поучает внучку мудрый Мойше. – Жаль, но больше нет родимой Полыни, Мы должны покинуть милый Краков. – Не кручинься, будет всё в порядке, Ты и там найдёшь себе подружку. Не забудь любимую игрушку, Карандаш, учебник и тетрадки. Всё стучат усталые колеса… Внучка деда теребит упрямо: «Что за звёздочку пришила мама К распашонке маленького Йоса?» – Мы зовём её звездой Давида… — Дед заводит долгую беседу. – Сядь-ка смирно – эка непоседа! — Мойше даже сердится – для вида. – Боже мой, какие заусенцы! Грызла ногти? Плохо мыла руки? … А в глазах – полынь вселенской муки. Вот и всё. Приехали. Освенцим.«Ливень» Вивальди
На землю обрушился ливень Вивальди, Стращая трещотками «грозного» грома. Выкидывал дождь антраша на асфальте, Как юнга, впервые отведавший рома. Под стоны простуженной виолончели, Дрожать заставляя озябшие гнёзда, Раскачивал в парке промозглом качели И вновь возносился под самые звёзды… Ах, как он мечтал отогреться под крышей! Под вдрызг прохудившимися облаками, Под ветром, надувшим ветрило афиши, В неистовой пляске дробил каблуками На гребне девятого шквального вала… Вдруг угомонился послушным ребёнком, Отправленным спать посреди карнавала И лишь на прощание всхлипнувшим тонко. …………………………………………………………….. Мир утром проснулся в своей колыбели И землю увидел не сирой и блёклой — Разбуженной трелью апрельской капели И светом, струящимся в чистые стёкла.Последних трамваев стаи
По улице моей который год[38] Не пролетают певчие трамваи, Они в депо забытом сбились в стаи, Чтоб совершить последний перелёт В далёкую страну разбитых грёз, В печальный край несбыточных желаний, Нечаянных чужих воспоминаний, К несчастью, не воспринятых всерьёз. Бесповоротен путь. Уже пора Трамваям стать бесформенною грудой. Прощальный клич вожак их красногрудый Издал, перебудив народ с утра. Услышав этот, полный боли крик, Апофеоз мучительных агоний, Смахнул слезу натруженной ладонью Измученный бессонницей старик. Трамвайный клин взлетает в облака. Щекочет ноздри едкий запах дыма. И тает бледный свет неотвратимо. И падает безжизненно рука.Старая фотография
Фотографом обещанная птичка Из детства всё никак не долетит. На фото – я, девчонка-невеличка, И у меня слегка надутый вид. Фотограф мне рассказывал про птицу, И я ждала, дыханье затаив. Но вот уже, готовая скатиться, Дрожит слеза. И уничтожен миф. Поник порхавший бабочкою бантик, Мгновенно потеряв свою красу. Ах, объяснять не надо, перестаньте! Я знаю: птички – в поле и в лесу. Им тесно в рамке фотоаппарата, Они привыкли к высоте небес. И я порой персоною non grata Вдруг чувствую себя в стране чудес. Но и сегодня жду, как в детстве, чуда. И чудеса случаются – во сне… А птички – нет, и никогда не будет, Её напрасно обещали мне. Лежит воротничок матроски косо, И галстук отклонился от прямой. Устали быть приглаженными косы, И я устала. Я хочу домой! А где тот дом? И где родные лица? Но – стоит на мгновение заснуть — Ко мне из детства вылетают птицы — Надеюсь, долетят когда-нибудь!Чертополох
А может, это вовсе и неплохо, Что, пережив сто жизней и смертей, На поле я взойду чертополохом И буду там распугивать чертей, Чтоб не приблизилась лихая сила, Бежала от тебя, как от огня. Я ничего у Бога не просила, Но вот прошу – чтоб ты любил меня, Такой, как есть: то сдержанной и чинной, То ветреною и дразнящей плоть, А иногда – сердитой беспричинно И потому готовой уколоть. …Расцветят небо яркие сполохи, Короткую рассеивая ночь. Задев случайно лист чертополоха, Ты тотчас же отдёрнешь руку прочь, Того не зная, что провидец-случай Тебя нарочно вывел за порог, Что это я взошла звездой колючей На перекрёстке всех твоих дорог.Солнце
В подвальной комнате в три на три коек провисшие сетки шаркали по полу, истерически повизгивая, будто боялись боли тех, кто на них лежал. Это были мы, девять родильниц.
Тошнотворно пахло потом, клопами и кровью. Тараканы внаглую шуршали по землистому линолеуму при полном свете.
В голове постоянно тикал будильник, чтобы не проспать утреннее кормление: если б ровно в пять тридцать мы не поднялись наверх, на третий этаж, детей бы накормили донорским стафилококковым молоком.
Раз в день приходила старая усатая санитарка. Лениво бранилась: «Разлеглися тута, кор-ровы!» Она с порога высмаркивала ведро воды с хлоркой прямо под кровати. Эту воду мы выгоняли по очереди.
– Каждой бабе в жизни, девки, забрюхатить нужно: от мужика свово и от хахаля хучь разок. И енто… поскребстися… – свято дело. Чай однова живем, – короткий басовитый хохоток.
Под аккомпанемент возни тряпки по зашарканному полу бормотание санитарки становилось все более злобным.
– Как хохлатки под петушков подставлять, небося, не кукожилися. А нонеча стонают тута, чисто цацы великие. Прости меня, Господи!
Размашисто перекрестившись, она хватала ведро и царственно удалялась.
«Девки», одуревшие от боли, матюгались по-сапожному и доились в банки. Иногда вдруг падала цвиркающая в ушах тишина, нарушаемая лишь журчанием сцеживаемого молока по стеклянным донышкам пол-литровых подойников.
Два раза в день нас вызывали наверх. К детям.
Это был выход в «свет», и из карманов линялых халатов, зашпиленных английскими булавками, извлекалась губная помада. Ни одна из нас не выходила из палаты с синюшными, искусанными, побитыми послеродовой лихорадкой губами. Улыбки клеились ко рту модным в тот год темно-кирпичным перламутром.
Наверху нас ставили к козлам гладильных досок – утюжить серое, застиранное больничное белье.
В больнице царили перманентный карантин и великий шмон.
Передачи приходили, как недоноски – с катастрофической потерей веса в пути.
Еда – в рот не взять. Повар, видно, находился в хроническом состоянии повышенной влюбленности: соль выкристаллизовывалась на всем, кроме хлеба, тяжелого, непропеченного, из которого можно было лепить смешные фигурки, а есть было нельзя. Из компотных сухофруктов массово лезли бледные червячки, мечтая отдышаться после плавания в мутной жидкости цвета передержанной мочи.
Солнце лежала прямо у входа. При каждом громком звуке кровать начинала покачиваться, и это напоминало ей поездку в плацкартном вагоне, в последнем купе возле туалета, где каждые три минуты дверь бьет по ногам, а громко щелкающий замок – по ушам, будто пассажиры сговорились разом принять мочегонное или слабительное.
Солнцем назвал ее муж, после того как она отвергла «зайку, золотце и звездочку».
– В твоем репертуаре есть хоть что-то… менее зуммерное? – расстроилась она.
– Ну, не знаю… Может, «Солнышко»? – робко предложил он.
Нет, «Солнышко» ей тоже не нравилось, и, упрямо поджав пухлые губы, она вынесла приговор:
– Будешь называть меня Солнце.
– Солнце? Пускай будет Солнце! – пожал плечами он. Ему, по большому счету, было все равно.
Наверху – поближе к небу – сопела в две певучие сопилочки ее малышка: три кг, пятьдесят см, розовая «фамильная» клееночка на тоненькой, без «перевязочек» ручонке.
В те мгновенья, когда старушечий ротик влажными губами жевал измученный сосок, изо всех силенок пытаясь вытянуть из него густо-белую, сладковато пахнущую жидкость, Солнце вспоминала детскую сказку про молочные реки с кисельными берегами. Кисельные берега пока мало ее интересовали, а вот молочными реками она мечтала заполнить свои тугие груди так, чтобы молоко само струилось в ротик ее лучезарной девочке с круглым лунным личиком, на котором уже рассосались родовые синяки, разгладились морщинки, и стали вырисовываться крышей домика темные бровки, придававшие ей слегка удивленный вид. Послеродовая желтизна, наконец, отступила.
– Сами вы макаки, тупицы! – думала Солнце, выслушивая нудные лекции о резус-конфликте. – Плюс на плюс всегда дает плюс, а не минус. Математику надо было учить, кретины!
И она одними губами беззвучно пела своей ясной девочке незатейливую баюльную песню на старый мамин лад:
Баю-баюшки, баю, Не ложися на краю: Придет серенький волчок И ухватит за бочок.Светлую девочку звали Ангелиной.
Так решила Солнце, потому что незадолго до родов ей приснился сон: она склонилась над малышкой с ямочками не на щеках, как обычно, а под глазами – под левым больше, под правым чуть меньше – и, целуя их, шептала: «Ангел мой, Ангелина».
– А давай дочку назовем Ангелиной, – предложила она.
– Чего это вдруг дочку? – набычился муж. – Я сына хочу.
Но Солнце знала точно: у нее будет дочь.
Когда акушерка с тридцатилетним стажем, отставив трубку фонендоскопа, безапелляционно заявила: «Футболиста рОдишь», Солнце побелевшими губами прошептала: «У меня будет дочь».
У ее лучистой девочки было ангельское имя.
И был диагноз: наличие добавочной третьей хромосомы к паре гомологов. И не доведи бог, тому, кто не знает, что это значит, когда-либо узнать!
Неизбалованная бытовыми удобствами пожилая Айболитша в морщинистом, как ее лицо, застиранном, бывшем белом халате, знала. Она знала вообще все на свете. И усталым бесцветным голосом пыталась объяснить Солнцу:
– Вы не понимаете, деточка, какие сложности вас ожидают в выращивании (она так и сказала, будто речь шла о какой-то зверюшке) ребенка-дауна.
– Вы будете навеки прикованы к нему. От вас отвернутся друзья. Вас возненавидит собственный муж, деточка. Мне больно говорить об этом, но мой многолетний опыт показывает, что я права. Об этом ребенке позаботится государство. За ним, поверьте, будет должный уход. Вам лишь нужно расписаться здесь, а вашему мужу – вот тут.
Сломанный толстый ноготь указательного пальца («Обточила бы, что ли», – думает Солнце) чиркнул в нужные клеточки стандартного бланка.
Солнце на негнущихся ногах медленно спускалась в подвал.
Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. … И одно только слово твердит Айболит: Лим-по-по… (этаж) Лим-по-по… (еще один) Лим-по-по… (еще)Подвал в три на три коек.
Кровать у двери.
3 кг
50 см
Плюс на плюс – плюс.
Третья хромосома к паре гомологов.
Светлая девочка с ангельским именем Ангелина.
Третьи сутки пыток у очкастой усталой Айболитши.
Сломанный толстый ноготь указательного пальца («Обточила бы, что ли», – все так же равнодушно думает Солнце) снова чиркает в нужную клеточку на бланке.
Во второй клеточке уже стоит решительно-размашистая подпись мужа.
Солнце никак не может удержать в дрожащей как в лихорадке правой руке наган шариковой ручки и, поддерживая ее левой, спускает курок.
И вперед поскакал Айболит И одно только слово твердит: Лим-по-по… (ступенька) Лим-по-по… (еще одна) Лим-по-по… (еще)Жизнь в турборежиме.
Протуберанцы.
Ранцы детишек, бегущих в школу со звездами астр в руках.
Раны на крыльях у ее ангела.
Рано?
– Пора! – решает Солнце.
Взмах раскрывшихся парашютом крыльев.
И сел на орла Айболит И одно только слово твердит: Лим-по-по… (лестничный пролет) Лим-по-по… (еще) Лим-по-о-о-о…Чей-то истошный крик.
Ночь.
Холодно.
Солнце зашло.
Мендель Вайцман
Новая сказка о поистине золотом петушке
Жил некогда в славном штетеле Бэлц ювелир по имени Исаак. По всеобщему мнению, ювелиром он был никудышным. Притом настолько, что те из клиентов, что изредка попадали к нему, потом шутили: если бы однажды принялись расстреливать ювелиров, то его пропустили бы, потому что даже ювелиром не посчитали бы. А занимался Исаак скупкой ювелирных изделий, золотых монет, цепочек. Всё это он переплавлял, за исключением предметов религиозного назначения. Такой у него был пунктик, и он даже говорил, что не хочет брать грех на душу – бережёного и Б-г бережёт.
Естественно, его однажды «заложили» недоброжелатели, а в достославные застойные времена с такими вещами было очень строго. Явились к нему с внезапным обыском три милиционера во главе с капитаном, и для порядка привели с собой двух понятых – гражданских.
Обыскали милиционеры все его три комнаты, но ничего похожего на золотые изделия так и не нашли. Пора приниматься за кухню и коридор.
И надо же было такому случиться, что в это самое время вернулась с базара жена Исаака Фирочка. Там она купила петушка с курочкой и тут же с испуга спрятала их в стенной шкаф в прихожей. Конечно, она знала и раньше, что могут прийти с обыском, но мало ли что заинтересует милицию, кроме ювелирных изделий? Жалко всё-таки, если конфискуют ещё и живность.
Все мы помним пушкинскую «Сказку о Золотом Петушке» и её финал, когда на голову незадачливого царя Додона прыгнул Золотой Петушок и клюнул в самое темечко. Нечто подобное произошло и в квартире Исаака.
Оказавшись в тёмном шкафу и прикинув, что погружение в кипящий бульон пока откладывается, петушок с курочкой приступили к хорошо всем известному занятию.
В это самое время милицейский капитан, закончив осмотр комнат, перешёл в коридор и, ничего не подозревая, распахнул дверцы стенного шкафа.
Если вы помните, пушкинский Золотой Петушок клюнул царя Додона только после того, как основательно разозлился на него. Наш же петушок оказался достойным наследником своего золотого собрата. А как бы вы поступили на его месте, если вас отрывает от занятия интимным делом пусть даже самое что ни на есть грозное милицейское вторжение?
Недолго думая, петушок выскочил из шкафа, ястребом взлетел на плечо капитана и со всей силы клюнул того в темечко. От неожиданности капитан мешком повалился на пол, но потом, когда пришёл в себя, не только не разозлился, а даже ещё и посмеялся:
– Что же вы не предупредили меня, что у вас в шкафу целый курятник? Ох, уж эти евреи!..
После его слов комиссия сразу удалилась, прекратив дальнейшие поиски. Вот какой оказался капитан – видимо, был поклонником Пушкина или, по крайней мере, слышал сказку…
А Исаак, который сказки наверняка не читал, рассудил по-своему: причина их ухода совсем в другом – его, бедного еврея, уберегли от беды предметы религиозного культа, которые он никогда не переплавлял, и припрятаны они были в надёжном месте, до которого милиция пока не добралась, но уже была близка к цели…
Пушкинский костюм
Однажды в парке я случайно подслушал разговор двух старушек, которые беседовали ни много ни мало как о великом поэте Пушкине.
– Знаешь, что я скажу тебе, дорогая, – говорила одна из старушек, – Пушкин, конечно, был гением, но не только в поэзии. Он был ещё великим бабником и впридачу картёжником. Знала бы, сколько он детишек настрогал по пути в ссылку! А если бы его, например, в Сибирь отправили? Туда и дорога подальше, и народу побольше… Теперь же повсюду, где он когда-то проезжал, ему памятники устанавливают – не иначе как его потомки беспокоятся о памяти предка!
Разговор старушек напомнил мне историю моего соседа, самым прямым образом связанную с памятником Пушкину. Но расскажу всё по порядку.
Звали моего соседа Нюмой, и он каждое лето отдыхал на своей прежней родине – в селе Ольгополе Винницкой области. Там до сих пор живёт его тётя по имени Хаюня, единственная еврейка на всё село, а раньше в нём жило почти четыре тысячи евреев – столько же, сколько сегодня населения всего.
И вот в этом году решили в Ольгополе открыть памятник великому поэту. И изобразили его держащим в одной руке колесо от телеги, а в другой – колоду карт. Говорят, якобы во Франции найдено неизвестное стихотворение Пушкина, в котором сказано:
Ай, да Ольгополь, чёрт бы тебя драл! Запомнится мне этот городишко — Здесь ось в повозке я сломал Да сто рублей спустил в картишки…Памятник, вероятно, должен был послужить наглядной иллюстрацией этому стихотворению.
На открытии памятника, естественно, присутствовало всё население села от мала до велика. Ещё бы, такие события случаются раз в сто лет, а то и реже. Само собой, пришли и Нюма с тётей Хаюней. Они долго разглядывали бронзового поэта, и вдруг в голову тёти Хаюни пришла неожиданная идея.
– Нюмочка, посмотри, какой Пушкин элегантный в своём сюртуке, – сказала она, – давай купим тебе тоже красивый костюм, чтобы на тебя девушки смотрели и глаз не могли отвести. Это будет мой тебе подарок.
– Что вы, тётя, – запротестовал Нюма, – у нас в Израиле очень жарко, и в костюмах никто не ходит. Разве что министры от арабских партий в Кнессете да футбольные тренеры, когда их команды проигрывают в международных матчах. Так что давайте оставим этот бесполезный разговор!
Но семя уже упало в плодородную почву, и оставаться этот разговор без последствий просто не имел права. На следующий день, когда Нюма пошёл куда-то, его остановила на улице незнакомая девочка лет шести и спросила на украинском языке:
– Нюмко, чого ти не хочеш, щоб титка Бетя тоби купила костюм?
И пошло-поехало. Всё село теперь только и говорило о костюме для израильтянина Нюмы, который не хочет одеваться как арабский министр или как футбольный тренер. Забыли даже про недавно открытый памятник Пушкину. Где бы Нюма ни появлялся, везде его преследовал один и тот же надоевший вопрос: почему он, такой-сякой, не хочет, чтобы тётка купила ему костюм?
Ясное дело, деваться Нюме было некуда, а до отъезда оставалось ещё больше недели. Наконец, он сдался. Счастливая тётя Хаюня обняла племянника и пропела:
– Я знала, что ты примешь правильное решение. Завтра едем в Чечельник – это в одиннадцати километрах отсюда, – и там купим красивый костюм. Я уже заприметила один такой в магазине…
Даже в Чечельнике Нюму спрашивали, почему он прежде отказывался от тёткиного предложения, но теперь, когда он дал согласие, все этому очень рады. По возвращению в Ольгополь, Нюму встречали как героя или как того же самого Пушкина, который единственный, наверное, не поздравлял Нюму с покупкой и невозмутимо стоял на постаменте, сжимая в руках колесо и карты. Сегодня Фортуна была не на его стороне.
По возвращении в Израиль Нюма, конечно же, повесил костюм в шкаф и тотчас забыл про него. Ни арабские министры, ни футбольные тренеры были для него не указ.
Прошло несколько лет, и Нюме как-то на глаза попались две девушки, сидевшие в кафе в одном из торговых центров. Одна из девушек сразу приглянулась ему, и он понял – вот она, девушка его мечты. Но парнем он был стеснительным и, в отличие от Пушкина, не умел по-кавалерийски налетать на свою жертву и тут же её завоёвывать. Он долго разглядывал избранницу, раздумывая, как же привлечь её внимание, но, так ничего и не придумав, отправился восвояси. На следующий день его снова потянуло в это кафе, и – о, чудо! – девушки опять сидели на прежнем месте, видно, это был их излюбленный уголок для отдыха.
Нюма присел за соседний столик и стал вслушиваться в разговор.
– Знаешь, – сказала одна из девушек, – мне нравятся парни, которые носят модные джинсы и цветные майки.
– А мне, – ответила его избранница, – больше нравится строгий европейский стиль, когда мужчина одет в костюм и галстук. Это более торжественно, красиво и элегантно…
И тут Нюму как молнией пронзило. Он теперь понял, для чего тётя Хаюня, сама о том не подозревая, так уговаривала его купить новый костюм. В костюме он способен был стать совсем другим – смелым, решительным, не знающим отказа. Конечно, его костюм – не пушкинский сюртук, но, тем не менее… Он теперь знал, как завоевать сердце девушки своей мечты, и был абсолютно уверен, что с этим бесполезным, на первый взгляд, костюмом, жизнь его изменится в лучшую сторону.
Угощайтесь, ваше высочество!
Кто из нас не слышал о Казанове, этом итальянском авантюристе и соблазнителе, чьё имя в веках связано с образом идеального любовника, перед которым не устоит ни одно женское сердце? Каждый мужчина втайне желает хоть капельку быть похожим на него, а женщина, даже самая добродетельная, хоть одним глазком глянуть ему в лицо, ну, и, конечно, чтобы он тоже обратил на неё внимание…
Но не только Италия славится покорителями женских сердец, бывают таковые и у нас. С одним мне даже повезло познакомиться в нашем знаменитом штетэле Бэлц. И был он ничем не хуже своего именитого собрата, правда, ни путешественником, ни писателем не был, но по части любовных похождений, думаю, мог дать фору многим. А познакомился с ним я при следующих обстоятельствах.
Когда на экранах кинотеатров впервые показали легендарный фильм Феллини «Амаркорд», попасть на него было невозможно. Фильм о босоногом детстве, пробуждении желаний и мечтах о чём-то светлом и несбыточном, который не оставлял сердца зрителей равнодушными. Это было так не похоже на стандартные советские фильмы, которые шли в кинотеатрах в то время, и одновременно так похоже на ту жизнь, которая была вокруг нас… Поэтому, где бы фильм ни шёл, в зале никогда не было свободного места.
Вот и мне удалось, правда, с переплатой достать билет на один из сеансов в самый большой в Бельцах кинотеатр имени Котовского. Зал был, естественно, переполнен, люди сидели даже на ступеньках. Это был настоящий праздник, и на многих были праздничные костюмы, а по залу разносился запах безумно модного в то время мужского одеколона «Быть может» и соответствующих ему женских духов «Не может быть». Названия, конечно, глупые, но какая-то изюминка в них была…
Свет начал гаснуть, занавес медленно раздвинулся, и пошла «Иностранная кинохроника», без которой не обходился ни один киносеанс. Словно предваряя чувственно-эротическую атмосферу будущего фильма, на экране почти десять минут незабвенный Леонид Ильич Брежнев обнимал и горячо целовал государственных деятелей братских социалистических и небратских африканских стран, но это не вызывало в зрителях никаких чувств, кроме нетерпеливого ёрзанья в креслах.
Наконец, фильм начался. И тут я обратил внимание на сидящего рядом со мной мужчину лет сорока, довольно приятной наружности, опрятно одетого, с лицом, выражающим явное удовольствие от фильма, который ещё только начинался. Первые кадры он просмотрел спокойно, но когда на экране появилась героиня фильма по прозвищу Градиска, – а это в переводе на русский язык означает «Угощайтесь», – мой сосед насторожился, как гончий пёс, почуявший цель.
Героиня поражала всех мужчин в фильме, да и не только в фильме, но и в зале, своими роскошными формами и чувственной улыбкой, к тому же на ней было обтягивающее красное платье, и шествовала она невообразимо сексуально и раскованно, как ни одна из наших бельцских женщин ходить не умела. Мой сосед заволновался, стал елозить в своём кресле – его явно лихорадило. Вот тут-то я и вспомнил про Казанову, и стал про себя называть его этим именем.
Когда предмет его вожделения исчезал из кадра, он успокаивался и следил за экранным действом спокойно и даже равнодушно, но стоило ей появиться снова, он оживал. Лицо его пылало, пальцы впивались в подлокотники, а сам он даже подавался вперёд к экрану.
И вот наступил один из самых волнующих моментов картины. По сюжету соблазнительную Градиску привозят в отель, чтобы она ублажила остановившегося там богатого князя, а тот за это пожертвовал бы денег в бедную городскую казну. Градиска пробирается в номер и залезает в постель, но в волнении забывает снять берет. Князь удивлённо разглядывает девушку, а она смущённо произносит:
– Ваше высочество, угощайтесь!..
Это прозвучало настолько необычно и томяще, что с нашим Казановой произошло невероятное – он вскочил с кресла и рванулся к экрану, будто это приглашение было обращено только к нему и ни к кому другому. Задние ряды закричали, чтобы он не загораживал, и тут он опомнился, рухнул в кресло, тяжело дыша и не отрывая горящего взгляда от экрана.
Если бы вы его только видели в этот момент! Наш Казанова был по-настоящему влюблён в эту итальянскую девушку со смешным прозвищем Угощайтесь. Он был влюблён безумно и неистово, и никаких других женщин для него больше не существовало!
А фильм тем временем подходил к концу. Градиска выходила замуж за заезжего солдатика, и нашему Казанове казалось, что на этой свадьбе женихом является именно он, а всё остальное – дешёвая бутафория. Фильм и его героиня становились для него самой настоящей реальностью, а Бельцы с кинотеатром Котовского, приторные запахи одеколона в зале и похабные смешки в самые напряжённые моменты – всё это уходило куда-то в небытие…
Я, может быть, уже и позабыл бы об этом небольшом эпизоде, если бы он не напомнил о себе совершенно неожиданно некоторое время спустя.
Однажды один из моих друзей позвал меня на халтуру. Нужно было переставить газовую плиту в квартире какого-то его знакомого. Но едва мы подошли к дому этого знакомого, из подъезда вышла женщина пышных форм, в красном обтягивающем платье и таком же красном берете. Всё это неуловимо напоминало мне что-то очень знакомое, и вдруг меня осенило – эта незнакомая дама очень похожа на героиню фильма «Амаркорд»! Ещё больший сюрприз ожидал меня дальше. Владельцем газовой плиты оказался не кто иной, как мой сосед по креслу в кинотеатре – Казанова. На нём был длинный махровый халат, волосы зачёсаны назад и набриолинены… Ну, точь-в-точь князь из фильма, к которому в номер привели девушку с прозвищем Угощайтесь!
После того, как мы закончили работу, он пригласил нас с приятелем выпить по рюмке коньяка за успешную перестановку плиты, и за рюмкой мы разговорились. Я рассказал, что помню его, потому что мы сидели рядом в кинотеатре на фильме «Амаркорд», и тогда же я прозвал его Казановой. Он возражать не стал и, немного помолчав, сказал:
– По собственному опыту знаю, что женщина пышных форм не может не заниматься любовью. Для нас, мужчин, такая женщина – сущая находка… А, что касается настоящего Казановы, так он никогда не ухлёстывал за первой попавшейся юбкой, а искал одиноких женщин, потерявших веру в любовь, и возвращал им счастье. У меня задачи попроще – никаких целей я не ставлю, а кручу любовь со всеми, кто на меня клюнет. Даже с замужними дамами…
Он выпил ещё рюмку, и у него развязался язык:
– Зовут меня Готлиб Гольдштейн. В переводе с идиша моё имя означает «Б-г любит», а фамилия – «Золотой камень». Дамам я всегда представляюсь как Геннадий Золотокаменев – любят они такие красивые штучки! Я местный, родился здесь в Бельцах и работаю на заводе снабженцем. Работа, конечно, не ахти какая престижная, но с деньгами у меня всё в порядке, потому что немного подхалтуриваю – шью пыжиковые шапки и отвожу продавать в Одессу на Привоз, где за них дают двести двадцать рублей. У нас здесь максимум сотню срубишь, не больше… Но самое любимое занятие у меня отдыхать в санаториях, куда я выезжаю по нескольку раз в год. А что – средства позволяют! Вот там-то я уже разворачиваюсь во всю ивановскую – отыскиваю из отдыхающих даму попышнее и, ради спортивного интереса, обязательно приехавшую с мужем. Выбираю моменты, когда муж занят на процедурах, подкатываю к ней и представляюсь научным работником. Для достоверности демонстрирую пачку сторублёвых купюр – и всё, дама поплыла. Если интересуется, чем занимаюсь конкретно, то говорю, что это военная тайна, но проектирую я кое-что летающее и глубокомысленно указываю пальцем в небо. Можете мне поверить, против такого не устоит даже статуя девушки с веслом… А потом уже наступает черёд хитрить самой дамочке – она сообщает ничего не подозревающему супругу, что ей назначили дополнительные лечебные процедуры и прямиком несётся лечиться в мои объятия. День-два бурлят между нами африканские страсти, а потом я нахожу какой-нибудь предлог, чтобы расстаться. И всё это потому, что на горизонте непременно появляется очередная аппетитная толстушка, которая не возражает пообщаться с великим учёным из секретной лаборатории…
Мы с приятелем слушали «Казанову» и восхищались той лёгкостью, с которой он, по его словам, одерживал победы. Ведь и в самом-то деле, есть, наверное, на свете такой сорт людей, для которых не существует безвыходных ситуаций, и то, что другим даётся потом и кровью, для них не представляет никакой трудности.
– Расскажи какие-нибудь занимательные случаи из своей богатой биографии, – усмехнулся я, – поделись, так сказать, опытом с начинающими ловеласами.
«Казанова» неторопливо выпил ещё рюмку коньяка и торжественно начал:
– Так и быть, расскажу пару историй – одну весёлую, а другую не очень, но обе поучительные. Первую из них я называю про себя «Тридцать копеек», а вторую – «Не всё коту масленица». Так вот, история первая. На одном из предприятий в Бельцах, где я частенько бывал по долгу службы, приглянулась мне дамочка. Всё при ней, всё такое, как я люблю, – ну, просто глаз не оторвёшь. Я вьюсь вокруг да около, как муха над мёдом, а она в мою сторону и смотреть не хочет. Говорит, что у неё муж и трое детей и такими глупостями она сроду не занималась. Чувствую, что и я ей приглянулся, но не идёт она на контакт, хоть ты тресни. Как же быть, ведь отступать от задуманного я не привык. И тут у меня в голове созрел план, как добиться своей цели. Купил я в ближайшем ларьке лотерейный билет за тридцать копеек и стал дожидаться ближайшего розыгрыша. А перед этим попросил своего родственника, который работал в типографии, изготовить экземпляр газеты с результатами розыгрыша, где было указано, что билет с именно моим номером выиграл «Запорожец». В настоящих-то газетах была другая таблица, но ведь я и не собирался никому рассказывать о своём подлоге! Потом торжественно вручил дамочке билет, газету с выигрышем и с надрывом в голосе сообщил, что для тебя, дорогая, мне ничего не жалко – даже выигранного «Запорожца»! Ну, какая дама против такого устоит? Мало того, что я добился всего, чего хотел, так и огласки этот обман не получил: разве же станет трубить во всеуслышание женщина о том, как её провел этот местный Казанова? Притом за несчастные тридцать копеек…
– Ну, а вторая история? – напомнил я ему.
– А вторая история не такая успешная, как первая. Встретилась мне как-то на улице одна дама, ну, точь-в-точь Градиска из «Амаркорда», наверное, самая лучшая изо всех женщин, которых я когда-либо встречал в наших Бельцах. Походка, фигура, взгляд, манеры – сам маэстро Феллини не устоял бы! Ну, думаю, Гена Золотокаменев, такая девица тебе наверняка не по зубам. Настоящий Казанова руками бы развёл. Однако, чем чёрт не шутит? Подкатываю я к ней со своими стандартными приёмчиками и чувствую, что дама совсем не прочь провести время в приятной компании. В глазах у меня потемнело от радости, и я предлагаю продолжить знакомство в более интимной обстановке, а она отвечает, что с удовольствием, но не у меня дома, а у неё. Ай, как складывается замечательно, обрадовался я и поскорее помчался в магазин закупать коньячок, икру, шоколад. По дороге к её дому я даже принялся рассказывать о фильме с девушкой по имени Угощайтесь, которая стала для меня идеалом женской красоты. А она слушает и только поддакивает: будет тебе дама по имени Угощайтесь, не сомневайся, дружок. Пришли мы к ней домой, накрыли стол и присели по рюмочке выпить. Я сгораю от нетерпения, а она, мол, не торопись, всё ещё впереди. И дождался я приключений на свою голову: ввалился в квартиру какой-то бугай и заявляет, что время моё кончилось. Как кончилось, недоумеваю я, ведь ни о каком времени разговора не было. А у бугая аж рожа покраснела и кулаки сжались. Наши девочки, говорит, за час двести долларов берут, и мне глубоко наплевать, успел ли ты что-нибудь сделать за этот час или нет, деньги на бочку! И тут-то до меня дошло, кем была эта девица, и каким способом она зарабатывала на жизнь. Она такая же Градиска из «Амаркорда», как я – итальянский Казанова…
– Ну, и заплатил ты деньги бугаю? – спросил мой напарник.
– А как же, – вздохнул несчастный Готлиб, – попробуй не заплати… И всё равно я не разлюбил этот замечательный фильм. Мне даже сон иногда снится, будто стою я на балконе в каком-то старом итальянском городишке, и подо мной площадь запружена дамами с пышными формами. Все они раздеты догола, и на головах у них красные береты. Дамы призывно машут мне руками и кричат на разные голоса: Угощайтесь, Ваше высочество! Угощайтесь, Ваше высочество!.. А я стою, и из глаз у меня капают счастливые слёзы…
Пора освежиться
Как-то вернувшись домой, я ещё не успел переступить порог, как уже получил от жены нагоняй.
– Ты же обещал, – закричала она, – что мы обязательно поедем в ближайшее время на море! Неужели нельзя ни одному твоему слову верить?! Сколько можно обещать? Нам давно уже… пора освежиться!
Последнюю фразу она повторяла то и дело, а подхватила она её из своего любимого кинофильма «Бриллиантовая рука».
– Так и быть, – вздохнул я, – собирайся, завтра утром и поедем… освежаться…
И вот мы уже на центральном пляже Тель-Авива. Освежаемся.
Рядом с нами примостился на песочке старичок, с которым мы через некоторое время разговорились. Оказалось, что он совсем недавно приехал в Израиль, и всё для него здесь пока ново.
Неподалеку от нас присели на песке два высоких мускулистых негра и принялись оживлённо беседовать между собой. Сразу чувствовалось, что это не израильтяне, а беженцы из Судана или Эритреи, которые мощным потоком в последнее время нелегально пересекают границы Израиля. Их, конечно, сразу задерживают, но назад не отправляют, потому что там их ждёт смерть. Здесь же их лечат, кормят и дают крышу над головой. Еврейское гостеприимство и желание угодить чужаку дали свой негативный результат: хоть нас и терпеть не могут наши ближневосточные соседи, тем не менее, за дармовую кормёжку и крышу над головой готовы поступиться принципами. Правда, сколько это будет тянуться, никто не ведает…
Некоторое время Леонид – так звали нашего нового знакомого – разглядывал негров, потом подозвал их и вручил каждому по десять шекелей. Те, естественно, взяли деньги и принялись его благодарить. Правда, мы ни слова из этого не поняли, потому что говорили они на арабском.
– Зачем вы это сделали? – возмутился я. – Разве вы не слышали, как они ведут себя здесь?! Поначалу смирные, а потом начинают безобразничать… Отнимают, так сказать, у наших израильских бандитов хлеб: грабят, развратничают, торгуют наркотиками. Я не расист, но жить по каким-то замшелым африканским понятиям не хочу! И кормить их не хочу…
– Успокойтесь, – усмехнулся Леонид, – лучше я расскажу вам историю, которая произошла со мной в Москве в далёкие перестроечные времена. Приехал я однажды в столицу в командировку и, естественно, захотел купить своим родным подарки в центральном универмаге. А там везде очереди, и в них оказалось довольно много негров. Ну, я и давай возмущаться вслух, мол, откуда их столько набралось, и нашему человеку прохода от них нет. Понаехали тут всякие… Ко мне сразу же подошёл мужчина в строгом чёрном
костюмчике, подхватил под локоть и оттащил в сторонку. Хоть он и показал мне своё красное удостоверение, но я уже до того понял, из какой он конторы, и, конечно же, струхнул. Пообещав, что больше такого никогда не повторится, я поскорее удрал из универмага. Ясное дело, мне уже было не до подарков. Побродив по улицам, я немного успокоился и решил, что самое время пообедать для успокоения нервов. В ближайшей столовой я поставил свою сумку рядом с пустым столиком и отправился на раздачу за обедом. Вернувшись с подносом, я вдруг вспомнил, что забыл взять хлеба. Поставив поднос на стол, я отправился опять на раздачу, а когда вернулся, неожиданно обнаружил здоровенного негра, который с аппетитом уплетал мой суп с клёцками! Ну, что я ему скажу? Ругаться и скандалить? Ни слова не говоря, я сел напротив и поскорее придвинул к себе тарелку с котлетой и макаронами, до которых негр ещё не добрался. Краем глаза я заметил, как тот с жалостью следит за мной, а потом сходил за пустым стаканом и аккуратно отлил в него полстакана компота. Выпив свою половину, он молча встал, положил на стол передо мной бумажный рубль и ушёл… Если бы вы только знали, как я был зол на этого негодяя, сожравшего мой обед и бросившего мне жалкую подачку! И после этого кто-то смеет меня упрекать в том, что я их терпеть не могу?! И вдруг я наткнулся взглядом на соседний стол, где стоял нетронутый обед – суп с клёцками, макароны с котлетой и стакан компота, а рядом на полу была моя сумка. Оказывается, я по ошибке уселся за чужой столик! Не знаю, что подумал обо мне негр, у которого я отнял котлету с макаронами и половину компота, но уж наверняка ничего хорошего. Рубль за просто так не жертвуют. Но поступил он всё-таки благородно, если пожалел голодного человека. Откуда он знает, что я не бич, а вполне приличный командированный?.. С тех пор я к нашим чернокожим братьям отношусь нормально и стараюсь при случае вернуть им подаренный мне когда-то рубль…
– Но это же единичный случай, – упрямо парировал я, – чаще всего от них одни неприятности! Они у себя дома не могут жить в мире – убивают друг друга, а потом бегут к нам якобы спасать свою жизнь и приносят с собой свои проблемы. Нам мало своих арабов?
– Ну, не все же они одинаковые, – развёл руками Леонид. – Нам давно пора пересмотреть свои взгляды. Так сказать, освежить их…
– И в самом-то деле, – вмешалась в разговор моя жена, услышав своё любимое слово, – пошли лучше купаться. Нам давно пора освежить свои взгляды и… самим освежиться!
Рыбак – рыбака…
– Басенька, дорогая, ты не представляешь, как я рад, что наша ссора позади. Я счастлив, что ты меня простила. Эти несколько дней разлуки показались мне вечностью…
– Для меня тоже, дорогой, – нежно улыбнувшись, ответила она мужу. – Но ты, Наум, заставил меня поволноваться. Я и сейчас не могу придти в себя. Господи, как я в тебя верила! Когда ты хотел, ты всегда уезжал ночью на рыбалку, и я думала, ты ловишь рыбу, а ты проводил ночи с любовницами!
– Басенька, пожалуйста, не волнуйся! Я по-прежнему тебя люблю больше всех на свете… Но скажи, любовь моя, как тебе всё-таки удалось меня вычислить?
– Очень просто! Ты каждый раз привозил столько рыбы, что моё женское чутьё стало подсказывать: здесь что-то не так. А потом я как-то взяла и обрезала крючки на твоих удочках, но ты этого не заметил, а утром привёз рыбы даже больше, чем всегда. Между прочим, наш сосед Изя тоже рыбак, но ходит ловить рыбу только днём, а с женой спит каждую ночь. Не то, что некоторые…
Басенька так разволновалась, высказывая мужу всё, что накипело на душе, что даже раскашлялась. Наум тотчас помчался на кухню за стаканом воды, но случайно задел дверку морозилки, и та распахнулась. Наум глянул внутрь и обомлел: холодильная камера была плотно забита курами, и у каждой из клюва торчал крючок с леской.
– Откуда у нас эти куры?! – яростно закричал Наум.
– Я их… купила… – жалобно пролепетала Басенька, выглядывая из-за его плеча.
Моментально позабыв о перемирии, Наум продолжал допрос:
– Не верю! Тут что-то не так. Лучше честно признайся, не доводи до греха!
Тяжело вздохнув, Басенька проговорила:
– Извини, дорогой, но я тебя тоже обманывала. Этих кур мне постоянно дарит наш сосед Изя.
– Ага, теперь я всё понял! – осенило Наума. – Когда я уезжаю на рыбалку, он приходит к тебе! А я тебе так верил… Но объясни мне, почему у кур леска в клювах?
– А ты думаешь, на какую рыбалку Изя ходит? – отмахнулась Басенька. – Это он кур на кукурузу ловит… Ты же ведь так любишь жареную курочку и холодец из петушка. Ведь любишь, скажи!
Но Наум ошарашено молчал. В голове у него был полный кавардак: кукуруза, леска, куры в морозилке, холодец из петушка…
Тишину нарушил звонок в дверь. Это пришли гости – родители Баси и Наума. Удивлённые Бася и Наум даже не сразу поняли, почему те принялись их сразу же обнимать и целовать.
– У вас же сегодня день свадьбы. Неужели вы забыли или просто решили зажать праздник?! – хором восклицали родственники.
– Ой, как я могла забыть такой день?! – всплеснула руками Бася. – Я же ничего не приготовила к столу.
– Не волнуйтесь, дети, всё, что нужно, мы принесли с собой, – успокоила мама Баси. – Вот, возьмите, тут в сумке ваши любимые блюда – жареная курочка и фаршированная рыбка…
Наум с опаской покосился на принесённую жареную курочку, но с ней было всё в порядке: лески из клюва не торчало. У жареной курочки вообще не было головы…
Броня крепка…
Самым радостным днём 2014 года наверняка стало для всех нас 26 августа, потому что в этот день закончилась операция «Несокрушимая скала». Продолжалась она пятьдесят дней, и только после её окончания появилась возможность выходить на улицу, не опасаясь сирен и ракетных атак.
На улицах появились гуляющие люди, послышались крики и смех играющих детей, заработали магазины и учреждения.
Одной из первых, кого я повстречал на улице, оказалась наша соседка Бронечка. Я знал, что она работает сиделкой у одной старушки, и проводит с ней довольно много времени, так что мы и в мирное время встречались нечасто.
Однако сегодня, несмотря на всеобщий радостный подъём, вид у Бронечки был мрачный.
– Что с тобой? – поинтересовался я. – Ты не рада тому, что всё наконец закончилось?
– Конечно, рада. И тому, что закончились обстрелы, и тому, что подписали соглашение о прекращении огня. Хоть отдышусь немного… А вообще, я тебе скажу вот что… – И тут она пошла поливать на идише наших врагов в таких выражениях, что перевести их на русский у меня язык не поворачивается.
– Короче, мне было всё это время очень тяжело, – закончила свой монолог Бронечка.
– Но ведь всем было плохо – и старикам, и детям. Не только тебе одной, – возразил я.
– Нет! Мне было хуже, чем всем! – покачала головой Бронечка. – Я тебе сейчас объясню, почему. Ты же знаешь, сосед, что я целыми днями пропадаю у моей подопечной, 85-летней старушки-румынки. Живёт она в старом доме без лифта да ещё на третьем этаже. И представляешь, что она придумала? Все свои богатства она сгрузила в большую сумку на колёсиках, и каждый раз, когда звучит сирена, я должна с этой сумкой бежать вниз в убежище, а потом возвращаться назад на третий этаж. А сколько сирен было днём и ночью? То-то и оно.
– Что же у неё в сумке за богатства такие?
– Сбережения, документы, ювелирные украшения, а самое главное, все платёжки за коммунальные услуги за последние три года. И, кроме того, двухлитровая бутылка из-под кока-колы, которую она набила шекелевыми монетами, тщательно упакованный старинный чайный сервиз, противогаз и коробка с лекарствами. Представляешь, она каждый раз следит за мной, когда я спускаю эту сумку с лестницы! Потому мне и было во время этой войны хуже, чем всем.
– Не понимаю, Бронечка, зачем ей надо было таскать туда-сюда платёжки и чайный сервиз?
– Бабуля уверена, что в Израиле ей могут в любой момент позвонить и сказать, что у неё долг по платежам за какой-нибудь месяц несколько лет назад, а она им раз – и документик предъявляет. Чайный же сервиз – это память о её покойной мамаше, и им она очень дорожит. А пуще всего опасается, что пока она сидит во время тревоги в убежище, кто-то залезет в её квартиру и всё это стащит… Так это ещё не всё. Есть у бабули кот, которого она назвала Маней. И вот, когда звучит сирена, кот бежит вместе с нами в убежище и путается под ногами…
– А зачем она кота так странно назвала?
– Оказывается, у бабули в молодости был соратник и кумир по компартии, бывший премьер-министр Румынии Маня Мэнэску. При том, что бабка не помнит, что ела сегодня на завтрак, биографии своих однопартийцев помнит до мельчайших подробностей. Она мне ими все уши прожужжала, так что я теперь знаю про них лучше, чем про своих родственников…
Я смотрел на соседку и думал, как хорошо всё-таки, что обстрелы прекратились, и ей станет жить на свете немного легче хотя бы потому, что не нужно больше таскать чужие сумки по лестницам и спотыкаться об котов.
А совсем недавно я встретил на базаре Бронечку со своей подопечной. Одной рукой Бронечка тянула пресловутую тележку на колёсиках, доверху наполненную покупками, а второй придерживала бывшую румынскую коммунистку.
– Как это вы решились пойти на базар, – усмехнулся я, – ведь дома, кроме Мани, никого нет, и воры могут запросто залезть в квартиру и стащить драгоценные платёжки и сервиз!
– Мой муж согласился остаться в её квартире на несколько часов, пока мы не вернёмся, – вздохнула Бронечка и смахнула пот со лба.
Я подошёл поближе и решил сделать приятное старушке – произнести старую румынскую здравицу, которую помнил:
– Traiasca Ceausescu, Mane Manescu si Elena! (Да здравствует Чаушеску, Маня Манеску и Елена (жена Чаушеску).
Старушка просто остолбенела. По её щеке покатилась слеза умиления. Но потом, видимо, приняв меня за единомышленника, она крепко обняла меня и произнесла срывающимся голосом:
– Multimesc frate! (Спасибо, брат!)
А я почему-то подумал, что никакая «Несокрушимая скала» нам не страшна, когда у нас есть такие крепкие, как броня, старушки и заботливые безотказные бронечки, за которыми ты всегда будешь, как за каменной стеной…
Эльвира Мухвалеева
Родилась в России, на Урале. Окончила Туркменский Государственный институт мировых языков и литературы имени Д.А-зади. Работала по специальности, учителем в средней школе.
С 2010 года проживаю в Израиле. Являюсь членом литературного объединения в городе Нацрат-Илит.
Мои публикации в периодической печати: газете «Индекс», журнале «Секрет-2», на сайте СРПИ (Союз русскоязычных писателей Израиля), российском сайте «Проза. ру», электронном журнале «Исрагео».
Автор статей, юморесок и рассказов о детях, миниатюр, баек и анекдотов, лимериков и стихотворений, фэнтези, ужасов и мемуаров.
Народ-предшественник
Во многих районах Земли существуют легенды о карликах, как о первых жителях этих мест, которые с появлением людей навсегда бесследно исчезли в лабиринтах пещер, ушли по сооружённым маленьким ступенькам под землю, канули на дне водоёмов.
Предания об этих загадочных существах распространены среди народов Северной и Западной Европы.
В разных странах их называют по-разному. Это норвежские альфары (снежные эльфы – «дети льда») и зетте, ирландские сиды, лапландские чакли, датские и шведские эльвы, англосаксонские гномы и эльфы, германские альбы, скандинавские тролли, мексиканские икалы («чёрные существа»).
В России о них знают на Севере, Кавказе, Урале, в Западной и Восточной Сибири, Алтае и Карелии.
Именуют их, отталкиваясь от своего родного языка, кавказцы – биценами, башкиры – кортами, манси – сыбырами, алтайцы – бурутами, ненцы – сихиртя, а татары – сыртами.
Слово «сихиртя» в переводе с древних местных наречий «схрт» – название крупной длинной насыпи вытянутой формы. Стог сена вытянутой формы так и называется «скирда». Может, поэтому древний народ называли «сикиртя» за их жизнь в «насыпных холмах» – домах, построенных из мха, веток и камней.
Русские же эту загадочную расу прозвали чудью: «чудь заволоцкая» – название финно-угорского населения Заволочья, «чудь белоглазая» (имея ввиду слабую пигментацию глаз и принадлежность к чуждому, иному миру, «иному зрению»).
Возможно, в народной традиции представление о поедании сырого мяса с кровью и воинственность этого народца послужила нареканиям их «чудью краснокожей», «сыроядцами», «лихими» (злобными) и «опасными людьми».
За особенности внешности в разных районах прозвали их людьми «мелкими», «крупными» (указание на рост), «мохнатыми» (обильный волосяной покров с ног до головы), «чёрными» (цвет кожи).
Кроме того, маленьких человечков на Руси называли «дикой чудью», «нехристью» за иную веру и непонятный язык, на котором они разговаривали. Например, на ингушском этноним «чудь» делится на 2 слога: «чу»-своё внутри, а «дь» – вера, то есть вместе означает «своя вера».
В те времена «чудь», как и «чужой», «чужак» были не только одного корня, но и имели одинаковое значение: то есть, «враг, грабитель, преследователь».
Также «чудью» в некоторых финно-угорских языках называли мифологических персонажей – великанов и колдунов.
А в сочетании «такая (этакая) чудь», как и в поговорке «грязный, как чуди» подразумеваются «темные, некультурные люди».
А вот «чудинка» на северном диалекте уже имеет значение «домовой».
Заметим, что «чудь» на русском языке имеет ту же самую основу, как и слова: «чудо», «чудак», «чудной». Тоже можно сказать о «дивьих людях» («диво» – чудо). Хотя бы поэтому можно причислить этот загадочный народ к чудесному, дивному племени.
Но скорее всего, чудь – это общее понятие для всех аборигенов-инородцев, обобщенное название для самых разных этнических групп.
Русский народ не скупился и на бранные слова, называя их «чучками» (чумазыми) и «чухной» (означающим «свинья»). В сибирских говорах «чухонь» в выражении «чухонь чухонью» обозначает «бестолковый человек». Общий смысл упоминаний о них, как о «диких, бестолковых, грязных людях».
За занятие плавкой руды величали их «рудокопами», а за наличие несметных богатств – «богатыми людьми» и монгольским словом «баргут», в том же значении «быть богатым».
Легенды, связанные с полумифическим народом и местами их обитания – курганами и городищами, подземными пещерами и ходами – возникли на северо-западе Руси, продвигались вслед за русскими переселенцами сначала на Урал, а затем и на Алтай. Эта полоса пересекает Урал, главным образом, через Пермскую, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области.
Основные сходства преданий разных этносов таковы: народ этот обитает под землей, водой, высокими сопками, в пещерах, боится солнечного света, на поверхность выходит только по ночам, иногда оказывает людям помощь – заблудившемуся указывает дорогу, голодному находит пищу, помогает на охоте и рыбалке.
Вдобавок к вышесказанному – это мудрецы, чародеи, обладающие огромной колдовской силой, величайшие мастера по обработке металлов и изготовители магических предметов…
Главное, что до сих пор хранит в памяти наша земля – это древний дух исконных своих обитателей, мифического народа, жившего в унисон с природой и в полной гармонии со Вселенной.
Какие-то древние знания на генетическом уровне имеются у каждого человека и отдельного этноса. Отсюда и вера в потусторонние силы, в привидения, а у многих жителей Севера – в народ-предшественник.
Бесценный кладезь
Своё дошкольное детство я провела у бабушки в небольшой уральской деревушке. Нам, многочисленным внукам, в наследство от неё достался бесценный кладезь неисчерпаемой народной мудрости, первое знакомство с традициями, обычаями и культурой своего народа.
Мы называли её «картинэ». Это слово состоит из двух корней: «карт» – старый (-ая) и «инэ» – мама, что в дословном переводе с языка уральских татар на русский означает «старая мама». Только с годами я открыла для себя его истинную суть.
«Старая» для меня в данном значении не возрастная категория, а накопленное духовное богатство, все знания, умения и навыки, бережно передаваемые из поколения в поколение по звеньям цепочки своего рода. Это и выстраданный жизненный опыт, понимание законов мироздания, и гуманное отношение ко всему окружающему. Это желание всех понять, простить, принять. А в слове «мама» выражена вся безграничная любовь матери к своему ребёнку с неиссякаемой потребностью делиться с ним всем, что имеется в жизненном багаже.
Рождённая в большой зажиточной семье, до Октябрьской революции она вместе с родными пережила в 20-30-х гг. прошлого столетия тяжёлый период «раскулачивания» и последовавшей за ним всеобщей коллективизации. Бабушка с детства познала настоящий «вкус» сельской жизни.
Родители в домашних условиях обучали детей грамоте, знакомили с татарской культурой, воспитывали в них уважительное отношение к традициям и обычаям своего народа, прививали любовь к родному языку.
Изумительная память, артистизм и выразительность речи, вкупе с превосходным знанием устного татарского эпоса, справедливо создали ей репутацию народной сказительницы.
Помню, как в детстве, зимними вечерами, мы со старшей сестрой садились у печки и зачарованно следили за разгорающимся пламенем. Бабушка заранее настругивала лучинки, подкладывала их под поленья и подносила к ним зажжённую спичку. Горящая куча дров постепенно набирала силу и вот, весело потрескивая, уже начинала полыхать.
Огненная стихия издавна притягивала человека. Даже сегодня, в эпоху неона и лазерных шоу, большинство из нас завораживает живое пламя, будь это горящая свеча, камин в современном доме или костёр, разожжённый на природе.
Я до сих пор люблю слушать, как потрескивает костерок, будто хочет чем-то поделиться со мной, а может, и предупредить о каких-то грядущих событиях.
Для кочевников огонь имеет особый смысл. Это не только источник тепла, у которого можно согреться, просушить одежду, приготовить пищу и вскипятить воду, но и живое существо. Отсюда и трепетное отношение к нему, заключающему в себя образ рода, племени, имени, фамилии и славных дел.
Огонь – это знак глубокой памяти о предках, о тех, кто ушёл из жизни безвременно…Именно поэтому кочевой народ не разведёт костра на случайных местах, а только там, где есть в нём жизненная потребность: в доме или, трудясь в открытом поле, для отпугивания москитов и хищных животных. Такое почитание огня подсказано и бережным отношением к природе.
Глядишь порой на пламя – и в причудливой пляске огненных язычков вновь оживают рассказанные нашей бабушкой старинные образы сказок и легенд, былей и небылиц, историй про соседей и родственников.
Соседи-невидимки
Моя бабушка со стороны отца хорошо знала историю уральской деревушки Юрты, где она родилась, выросла, вышла замуж, родила четверых детей, воспитала их и нас, своих многочисленных внуков.
Все мы очень любили слушать её удивительные истории. В памяти часто всплывает самый яркий из них – это образ странного полумифического народа, жившего когда – то бок о бок с обычными людьми.
Зимними вечерами бабушка разжигала огонёк в печи, садилась поблизости на низкий табурет, прикрывала железную дверцу, чтобы искры не выпорхнули огненными феями наружу, и начинала нараспев своё повествование, уносившее нас за пределы скромной, деревенской избы.
– По сложившейся традиции татары в старину селились по берегам рек. Вот и наши предки облюбовали правый приток Туры – речку Ницу.
Идёт человек, бывало, по берегу и вдруг видит – из земли торчит бивень мамонта. Дёргает за этот бивень, дверь отворяется, и он попадает в другой, не земной мир, где до нас тоже люди жили, тоже по земле ходили, тоже рыбачили и охотились.
Очевидцы говорят, что имели они необычную внешность. Были бледнолицы, низкорослы, коренасты и крепки.
Вели дикий образ жизни. Домашний скот не держали, охотились на зверей, одевались, как дикари: носили распашную одежду из шкур выдры или оленей, называемой ягушек. Когда мы были детьми, взрослые всякое сказывали о них. Родители даже иногда попугивали нас. Моя мама говорила: «Если не будешь меня слушаться и ночами не спать, то сыроядцы тебя обязательно заберут и съедят».
– А ты видела их близко? – заинтересовалась моя двоюродная сестра Насира.
– Близко-то нет. Они появлялись на поверхности только ночью, и видеть их можно было лишь издали, а подойдешь поближе – они тут же скроются, а куда – никто не знает. Мне было очень интересно наблюдать с нашего берега за этими чудными людьми.
Вот и просилась я на ночную рыбалку со старшими братьями и отцом.
– Картинэ, а почему ты называешь их чудными? – спросила пытливая Розалия.
– Потому что они во всём отличались от нас. Не ведали, что такое хлеб, чай, а питались только сырой рыбой, рыбьим жиром и пили свежую воду. Да и ели не так, как мы с вами. Совсем не умели пользоваться домашней утварью, даже ложками.
– Чем же они ели тогда? – удивилась я.
– А руками. Старожилы сказывали, что питались они сырым мясом с кровью. Вырыли себе какие-то траншеи и ходили за водой на речку по узенькой тропочке.
– А где жили? – осведомилась моя старшая сестра Альфия.
– Вообще-то, говорят, что они раньше обитали вблизи нашей Ницы, там, где сопка с семью отверстиями. Бывало, деревенские жители ловят рыбу на одном берегу, а они– на другом. Их не видно, но слышно.
Которые из них в земле жили, а которые юрты травяные держали. В сухих местах, на холмах, строили себе домишки из рыбьих костей. Проконопачивали их мхом и обкладывали вокруг дёрном так хорошо, что вовнутрь не проникали ни ветер, ни снег, ни дождь. Двери напоминали печное устье. В крыше виднелось маленькое окошко, скорее, отверстие, сквозь которое еле просачивался вовнутрь лучик солнца.
Вначале-то они все обитали на поверхности, в земляных домах, а потом решили разом уйти под землю. На склонах сопок выкопали проход, внутри сделали большое пространство и стали его обживать.
– Если мы, татары, – настоящие люди, то кто они такие? – допытывалась я.
– Старые люди – это не русские и не татары, – поясняла бабушка, – а первопредки, коренные обитатели этих мест. Сыртами у нас зовутся. То ли это народ неизвестного нам роду-племени, то ли и не люди совсем.
Вообще, сейчас очень сложно разобраться, кто истинный хозяин этих мест, а кто пришелец.
Когда-то, говорят, люди переселились с Сибири на Урал и считали себя хозяевами, а оказывается, что эти-то, которые траншеи себе рыли, пришли ещё раньше. Получается, что они и есть настоящие аборигены.
Лет тридцать назад наши сельчане ещё встречали этих подземных жителей, а некоторым посчастливилось даже перенять у них крупицы знаний.
Когда-то мой дедушка сказывал о загадочном случае, произошедшем с ним в молодые годы. Пас он тогда лошадей у реки. Солнце было на закате, вот-вот сумерки наступят. Кони далече разбрелись, пришлось их собирать и вести в сторону селения. Обозревая просторы, глаз-то молодой, зоркий, замечает он двух мужчин на том берегу. По всему видно: собираются рыбачить. Вот и сети из судёнышка тянут, чтобы раскинуть их на речке.
«А не поговорить ли с ними, – подумалось пареньку, – может, и рыбой разживусь, не пустой домой вернусь. Уху мамка сварит. Ужин всем будет». Семья-то большая, мал мала меньше, а он старшенький, думать надо, как отцу с матерью подсобить.
Запрыгнул на лошадь и поскакал через мост к месту, где суетились рыбаки. Но, к своему удивлению, ни одной живой души там уже не застал. Только нашёл кусочек невода с тремя или четырьмя цепкими грузилами, имеющими шесть выпуклых медных шариков в виде кабаньих голов. Повертел в руках и подивился их необычности. Сроду таких не видывал у местных рыболовов. Да тяжёлые такие! Наверно, чтобы могли удержаться при любых условиях на дне водоёма. Речка-то у нас с бурным течением.
Когда явился домой с найденным богатством, отец ему сходу заявил: «Вернись, сынок, на то место и положи кусочек мяса с хлебом. Эти вещи принадлежат сыртам.
Они дали знать тебе, что это их место рыбалки. Потому свои рыболовные снасти и оставили на берегу. Они же подземные жители. Если не сделать так, могут у человека и душу забрать».
Сын не на шутку испугался и поступил в точь так, как велел отец. А на долгую память о сыртах остались у него грузики, сгодившиеся не только для удачной рыбалки, но и для упряжи. Мне в детстве даже довелось с ними поиграть.
Вообще, татары очень осторожно относятся к таким вещам.
Рыбачили-то сырты исключительно в сумерках. Если в реке мало рыбы, то народ считал: ночью промышляли соседи-невидимки.
– Картинэ, расскажи что-нибудь ещё об этом странном народе! – просили в голос мы.
– Чтобы такого интересного вам, детоньки, ещё про них рассказать… Ну, пожалуй, историю о двух сестрах-старушках из нашей деревни. Как-то рыбачили они на речке. Подмечают: рыба из сетки пропадает. В других местах у рыбаков ловится, а на их месте пусто, только слизь и чешуя в ячеях. Решили бабки заступить в ночной дозор и непременно выловить вора.
Долго ли ждали, коротко ли – слышат, хнычет кто-то. Тоненько так, как дитя плачет. Одна сестра испугалась и хотела домой бежать, а другая не боится: «Нет, – говорит, – поглядим». Посидели ещё сколько-то, подождали и, наконец, дождались. Видят: словно снег с сопки помело. А ведь лето стояло, какой там снег, а облачко к речке всё ближе и ближе. Потом по воде пошло, над сетью остановилось. Пригляделись старые и обмерли. Не облако это, а мужик в белой малице. Маленький, как ребёнок, волосы тоже белые; руками всё перебирает, перебирает, а рыба сама к нему из сетки в мешок запрыгивает.
Сидят старухи в кустах, ни живы ни мертвы, шелохнуться боятся, а мужичок им пальцем грозит: вот так, мол, моя река, и рыба моя. И пропал… А над тем местом, между водой и небом, долго стоял столб из света, будто фонарь кто включил. Опомнились бабки, и быстрей с того места, пока целы. Напугались сильно, не ходили более туда.
– Бабушка Рабига, а кто такие сырты? – спросила любознательная внучка сестры нашей картинэ.
«Сырты – это такие белые, как известь, люди. Как тени ходят. На солнце смотреть не могут, только на темноту. Кто их увидит, тот счастливый будет».
И мне представлялось: вот мы, татары, кареглазые, со смуглыми лицами, а сырты живут в земле, потому-то у них светлые глаза и бледные лица.
Мы с двоюродной сестрёнкой Любой, впечатлённые рассказами бабушки, просиживали до темноты на берегу и жадно всматривались вдаль, ожидая появления над водой маленьких человечков, играющих с нами в прятки. Грустные и разочарованные возвращались домой и задавали бабушке волнующие нас вопросы:
– Картинэ, а куда же подевались сырты? Почему мы их сейчас не видим?
– И скорее всего, уже не увидите, деточки. Они внутрь вон того кургана ушли, – указывала бабушка в сторону речки, где мы часто играли днём.
Примечания
1
Зол мир зан фар им (идиш) – дословно: «Чтоб мне было за него», т. е. мать готова взять на себя все горести сына.
(обратно)2
Библейское племя в еврейской традиции олицетворяет тех кто стремится уничтожить еврейский народ.
(обратно)3
В ноябре 1918 года автор поэмы пережил погром, устроенный польскими легионерами во Львове.
(обратно)4
Понтий Пилат.
(обратно)5
Молитвенное покрывало.
(обратно)6
Бараний рог для ритуального трубления.
(обратно)7
Во время советско-польской войны 1920 г. политотдел Красной армии выпускал пропагандистские листовки на идиш.
(обратно)8
Осенний месяц еврейского календаря.
(обратно)9
Осенины – славянский Новый Год. Новолетие.
(обратно)10
Фаджр – сура зари.
(обратно)11
Джандаль – большой камень.
(обратно)12
Аср – предвечерняя молитва.
(обратно)13
Шеш (иврит) – «шесть», в данном случае номер автобуса.
(обратно)14
Тычка (укр.) – длинный тонкий деревянный шест, по которому плющом обвивается фасоль.
(обратно)15
«Эгед» – автобусная фирма в Израиле.
(обратно)16
«Шма Исраэль!» – «Слушай, Израиль!»
(обратно)17
Галут (иврит) – «в изгнании».
(обратно)18
ЦАХАЛ (аббревиатура) – армия обороны Израиля.
(обратно)19
Сафта шели – «бабушка моя».
(обратно)20
Шалом лах» – «привет тебе».
(обратно)21
Шемеш шели – «солнышко мое».
(обратно)22
Машав – сельхозпоселение.
(обратно)23
Негев – южная часть Израиля.
(обратно)24
Брит-Мила – еврейский обряд обрезания.
(обратно)25
Мехлала – техникум.
(обратно)26
Сдерот – проспект, бульвар.
(обратно)27
Кладбище (иврит).
(обратно)28
Кухня (англ.).
(обратно)29
Никогда (англ.).
(обратно)30
«Шма Исраэль!» – молитва «Слушай, Израиль!»
(обратно)31
…каменные «ласточки» Вероны – предшественницы знаменитых «ласточек» на древних стенах Московского Кремля.
(обратно)32
«Ti amo!» (итал.) – «Я тебя люблю!»
(обратно)33
Мацуо Басё. Пер. В Марковой.
(обратно)34
Лей – это румынская денежная единица.
(обратно)35
Название Волги во времена Золотой Орды.
(обратно)36
Оле (мн. число – олим) – новый репатриант (иврит).
(обратно)37
Строка из стихотворения Александра Межирова.
(обратно)38
Строка из стихотворения Беллы Ахмадулиной.
(обратно)



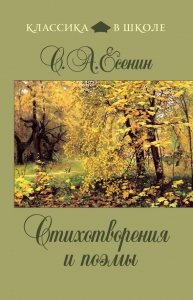



Комментарии к книге ««Если нельзя, но очень хочется, то можно». Выпуск №2», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев