Мое лучшее стихотворение Стихи московских поэтов
Аделина Адалис Диалектика сыну
«Отделенному скажи…»
Свой устав не перепутай, Сгоряча не забывай: Горло шарфиком укутай, Ножки в боты обувай. Летом в речке, под заставой, Близко бережка поплавай, Пятки галькой не обрежь! Не плутай кривой дорогой, Лошадей, собак не трогай, Терпкой ягоды не ешь! Берегись автомобилей, Чтоб тебя не задавили, Слушай загодя гудок; Опасайся дифтерита, Обходи в сенях корыто, Коль в корыте кипяток! Бойся слякоти худой, Гололедицы седой, Отливающей слюдою; Фрукты мой перед едою Кипяченою водой! Почитанье этих строчек Я вдолблю в тебя, сыночек, Сожалея, что давно Драть ребят запрещено! Потеплей, сынок, укройся… Одного, сынок, не бойся — Днем и ночью быть в бою. Отвечай: «На том стою!» Проходи в походе смелом Не в тылу, но под обстрелом, В облаках и под водой! Проходи, упрям и стоек, По лесам прозрачных строек, В душной шахте за рудой, В тундре, тусклой и студеной, В голубой степи буденной — С кавалерией ли той, С той ли тракторной колонной, Серым солнцем залитой, В даль пустыни полуденной!.. Если в зной твоя дорожка, — Тамариск, а не морошка, Африканский белый путь, — И найдешь воды немножко — Только шлемом зачерпнуть: Отхлебни — и не тужи, Раздели, засыпав соду, Меж товарищами воду. Отделенному скажи: «На таких началах мать Разрешает погулять!» Можешь вдоволь шум послушать, Всякой ягоды покушать, Из соленой лужи пить — Я тебя не буду бить! Укорять не стану взглядом, Я пойду с тобою рядом. Хорошо на свете жить! Будем жизнью дорожить! Глаз, ушей, костей и кожи, Головы она дороже! Ни за что, но за нее же Стоит голову сложить! Вот удача, — если взвесить, — Каждый год продать за десять Небывало новых лет! Прибыль — матери награда: Непрерывной жизни рада. А бессмертья нам не надо Потому, что смерти — нет!1934
Маргарита Алигер Человеку в пути
(Из цикла)
Я хочу быть твоею милой, я хочу быть твоею силой, свежим ветром, насущным хлебом, над тобою летящим небом. Если ты собьешься с дороги, брошусь тропкой тебе под ноги — без оглядки иди по ней. Если ты устанешь от жажды, я ручьем обернусь однажды — подойди, наклонись, испей. Если ты отдохнуть захочешь посредине кромешной ночи, все равно — в горах ли, в лесах ли, — встану дымом над кровлей сакли, вспыхну теплым цветком огня, чтобы ты увидал меня. Всем, что любо тебе на свете, обернуться готова я. Подойди к окну на рассвете и во всем угадай меня. Это я, вступив в поединок с целым войском сухих травинок, встала лютиком у плетня, чтобы ты пожалел меня. Это я обернулась птицей, переливчатою синицей, и пою у истока дня, чтобы ты услыхал меня. Это я в оборотном свисте соловья. Распустились листья, в лепестках роса. Это — я. Это — я. Облака над садом… Хорошо тебе? Значит, рядом, над тобою — любовь моя! Я узнала тебя из многих, нераздельны наши дороги, понимаешь, мой человек? Где б ты ни был, меня ты встретишь, все равно ты меня заметишь и полюбишь меня навек.1939
Павел Антокольский На рождение младенца
Модели, учебники, глобусы, звездные карты, и кости, И ржавая бронза курганов, и будущих летчиков бой… Будь смелым и добрым. Ты входишь, как в дом, во вселенную в гости. Она ворохами сокровищ сверкает для встречи с тобой. Но тьма за окном подымалась, не время над временем стлалось, — Но жадно растущее тельце несли пеленать в паруса. Твоя колыбель — целый город и вся городская усталость, Твоя колыбель развалилась, — подымем тебя на леса. Рожденный в годину расплаты, о тех, кто платил, не печалься. Расчет платежами был красен: недаром на вышку ты влез. Недаром от Волги до Рейна, под легкую музыку вальсов, Под гром императорских гимнов, под огненный марш марсельез. Матросы, ткачи, инженеры, шахтеры, застрельщики, вестники, Рабочие люди вселенной друг друга зовут из-за гор, В содружестве бурь всенародных и в жизни и в смерти ровесники, Недаром, недаром меж вами навек заключен договор. Так слушай смиренно все правды, вещанные в том договоре. Тебя обступили три века шкафами нечитанных книг. Ты маленький их барабанщик, векам выбивающий зорю, Гремящий по щебню и шлаку и свежий, как песня, родник.1919
Павел Арский Красное знамя
Царь-самодержец на троне сидел, Он на Россию в окошко глядел. Плачет Россия! Все люди простые Стонут от горя — тюрьма да расстрел. Эх ты, Россия, Россия моя! Где же свобода и воля твоя? Надо подняться, С царем рассчитаться, Надо скорее по шапке царя! Красное знамя взвилось над землей, Партии слышится голос родной: Встанем все люди, Рабами не будем, Встань на борьбу, весь народ трудовой! Партии слышится голос родной: Встанем все люди, Рабами не будем, Встань на борьбу, весь народ трудовой! Царь испугался, издал манифест: «Мертвым свобода! Живых под арест!» Тюрьмы и пули Народу вернули… Так над свободой поставили крест!1905
Эдуард Асадов Госпиталь
Ты помнишь: стекла дребезжали тонко Кругом рвалось. Шофер к рулю приник, Машина мчалась по сплошным воронкам, По рытвинам, по ямам напрямик! Когда упрямо голова пригнута, Когда вся воля собрана в комок, Сергей, о чем ты думал в ту минуту? Что чувствовал? И что предвидеть мог? Зачем скрывать? Стучало гулко сердце. Но вот конец. Доставлен, цел товар! Ты улыбнулся, ты откинул дверцу… И вдруг слепящий, режущий удар!.. Вдруг разлетелась на куски планета! Ты не успел подумать: «Почему?» Увидел только брызги, брызги света! И повалился в бархатную тьму… Здесь госпиталь. А тьма еще чернее… — Где няня? — Как он глухо говорит! — Иди, зови кого-нибудь скорее Да свет зажги! — Сынок, а свет горит… Горит? Да что ж тогда перед глазами?! Довольно, хватит этой темноты! Лицо ощупать, осмотреть руками! Но где лицо? Бинты, бинты, бинты… Ослабли руки, холодок по телу… Закрыто все. И даже щелки нет. Его перевязали неумело. Долой бинты! Он хочет видеть свет! Наверное, качались все дома И наземь осыпались кирпичами, Качался сам Сергей, качалась тьма, И коридор качался под ногами… Ведь он сейчас надежду потерял! Попал в тюрьму железную, глухую! — Профессор, я прошу вас, — он сказал, — Одну лишь правду… Горькую… любую… Молчит профессор, тяжело вздыхает, По комнате прошелся раз и два. И вдруг петлею затянул слова: — Чудес, товарищ, в мире не бывает… Наверное, качались все дома И наземь осыпались кирпичами, Качался сам Сергей, качалась тьма, И даже пол качался под ногами. «Чудес, браток, на свете не бывает.» Так, значит, здесь ничем нельзя помочь?! Комок тяжелый к горлу подступает. Так, значит, до могилы ночь и ночь? Полночный сумрак… Тишина в палате, В окно рогатый месяц заглянул! Весь госпиталь давным-давно уснул. А он сидел, недвижный, на кровати. «Как можно жить, шагать в рабочем гуле, Шагать, не замечая темноты?» Больные думы голову стянули Гораздо крепче, туже, чем бинты. «Жить бесполезно в темноте до гроба — Кончай скорей, души не теребя!» И вдруг волною захлестнула злоба Не на судьбу — на самого себя. «Все оборвать, все кончить я успею. Но я мечтал! Мечтал писать стихи! Ты врешь, судьба, дела не так плохи, Сквозь ночь я видеть все-таки сумею. Все, что смогу, ощупаю руками, В бой с мраком память вступит, как боец, Я подновлю ее друзей глазами, Я буду видеть сердцем, наконец! И что бы ни случилось — да, я знаю! — Ты не оставишь в трудный час меня, — Отважная, упрямая, живая, Родная комсомолия моя! Друзья зовут, друзей повсюду много, И, душной ночи разорвав кольцо, Я выйду к ним на светлую дорогу. — Давай, хирург, заштопывай лицо».1949
Николай Асеев Синие гусары
1
Раненым медведем мороз дерет. Санки по Фонтанке летят вперед. Полоз остер — полосатит снег. Чьи это там голоса и смех? «Руку на сердце свое положа, я тебе скажу: — Ты не тронь палаша! Силе такой становясь поперек, ты б хоть других — не себя — поберег!»2
Белыми копытами лед колотя, тени по Литейному дальше летят. «Я тебе отвечу: — Друг дорогой, гибель не страшная в петле тугой! Позорней и гибельней в рабстве таком, голову выбелив, стать стариком. Пора нам состукнуть клинок о клинок; в свободу сердце мое влюблено».3
Розовые губы, витой чубук, синие гусары — пытай ==судьбу! Вот они, не сгинув, не умирав, снова собираются ==в номерах. Скинуты ментики, ночь глубока; «Ну-ка, вспеньте-ка полный бокал! Нальем и осушим и станем трезвей: — За Южное братство, за юных друзей».4
Глухие гитары, высокая речь… Кого им бояться и что им беречь? В них страсть закипает, как в пене стакан: впервые читаются строфы «Цыган». Тени по Литейному летят назад. Брови из-под кивера дворцам грозят. Кончена беседа, гони коней. Утро вечера — мудреней.5
Что ж это, что ж это, что ж это за песнь? Голову на руки белые свесь. Тихие гитары, стыньте, дрожа: синие гусары под снегом лежат!1927
Иван Бауков «Это я придумал соловья…»
Это я придумал соловья, Чтоб вздохнула милая моя; Чтоб когда ей станет тяжело, — Пусть она пройдет через село, Где так часто мы встречались с ней, Где поет веселый соловей, Где шумит высокая трава, Где всегда живут мои слова. Соловей их знает наизусть… И спадет с лица любимой грусть, И вздохнет любимая легко, Станет близким слово «далеко», Потому что в роще соловей Ей напомнит о любви моей. Это я придумал соловья, Чтоб вздохнула милая моя.1945
Александр Безыменский Партбилет № 224332
Весь мир грабастают рабочие ручищи, Всю землю щупают, — в руках чего-то нет… — Скажи мне, Партия, скажи мне, что ты ищешь? — И голос скорбный мне ответил: — Партбилет… Один лишь маленький… а сердце задрожало. Такой беды большой еще никто не знал! Вчера, вчера лишь я в руках его держала, Но смерть ударила — и партбилет упал… Эй, пролетарии! Во все стучите двери! Неужли нет его и смерть уж так права? Один лишь маленький, один билет потерян, А в боевых рядах — зияющий провал… Я слушал Партию и боль ее почуял. Но сталью мускулов наполнилась рука: — Ты слышишь, Партия? Тебе, тебе кричу я! Тебя приветствует рабочий от станка. Я в Партию иду. Я — сын Страны Советов. Ты слышишь, Партия? Даю тебе обет: Пройдут лишь месяцы — сто тысяч партбилетов Заменят ленинский утраченный билет.1924
Яков Белинский Стихи расстрелянных поэтов
Стихи расстрелянных поэтов во тьме гестапо или гетто еще не собраны томами, они гвоздями и ногтями на штукатурке смертных камер вкось нацарапаны коряво и растекаются кроваво. Поэтов записные книжки, что сохранили запах гари, тираж завышен был не слишком — в одном бессмертном экземпляре… Но, как трава меж плит бетонных иль разрывая их поверхность, в мир прорастают ваши стоны, ваш гнев и ярость, долг и верность. Сквозь в рты затиснутые кляпы, сквозь двери плотные гестапо, сквозь толстый камень моабитов — вы к нам дошли, вы не забыты, поэтов праведные судьбы. Всему свои приходят сроки. Давно истлели ваши судьи. Живут бессмертных песен строки.1960
Валентин Берестов Сердцевина
Как-то в летний полдень на корчевье Повстречал я племя пней лесных. Автобиографии деревьев Кольцами написаны на них. Кольца, что росли из лета в лето, Сосчитал я все до одного: Это — зрелость дерева, вот это — Юность тонкоствольная его. Ну, а детство где же? В середину, В самое заветное кольцо, Спряталось и стало сердцевиной Тонкое смешное деревцо. Ты — отец. Так пусть же детство сына Не пройдет перед тобой, как сон. Это детство станет сердцевиной Человека будущих времен.1954
Виктор Боков «Отыми соловья от зарослей…»
Отыми соловья от зарослей, От родного ручья с родником — И искусство покажется замыслом, Неоконченным черновиком. Будет песня тогда соловьиная Будто долька луны половинная, Будто колос, налитый не всклень. А всего и немного потеряно — Родничок да ольховое дерево, Дикий хмель да прохлада и тень!1954
Константин Ваншенкин Сердце
Я заболел. И сразу канитель: Известный врач, живущий по соседству, Сказал, что нужно срочно лечь в постель, Что у меня весьма больное сердце. А я не знал об этом ничего. Какое мне до сердца было дело? Я попросту не чувствовал его, Оно ни разу в жизни не болело. Оно жило невидимо во мне, Послушное и точное на диво. Но все, что с нами было на войне, Все сквозь него когда-то проходило. Любовь, и гнев, и ненависть оно, Вобрав в себя, забыло про усталость. И все, что стерлось в памяти давно, Все это в нем отчетливым осталось. Но я не знал об этом ничего. Какое мне до сердца было дело? Ведь я совсем не чувствовал его, Оно ни разу даже не болело. И, словно пробудившись наконец, Вдруг застучало трепетно и тяжко, Забилось, будто пойманный птенец, Засунутый, как в детстве, под рубашку. Он рвался, теплый маленький комок, Настойчиво и вместе с тем печально, И я боялся лечь на левый бок, Чтобы его не придавить случайно… Светало… За окошком, через двор, Где было все по-раннему пустынно, Легли лучи. Потом прошел шофер И резко просигналила машина. И стекла в окнах дрогнули, звеня, И я привстал, отбросив одеяло, Хоть это ждали вовсе не меня И не меня сирена вызывала. Открылась даль в распахнутом окне, И очень тихо сделалось в квартире. И только сердце билось в тишине, Чтоб на него вниманье обратили. Но гул метро, и дальний паровоз, И стук буксира в Химках у причала — Все это зазвучало, и слилось, И все удары сердца заглушало. Верней, не заглушало, а в него, В певучий шум проснувшейся столицы, Влились удары сердца моего, Что вдруг опять ровнее стало биться. Дымки тянулись медленно в зенит, А небо все светлело и светлело, И мне казалось — сердце не болит, И сердце в самом деле не болело… …Ты слышишь, сердце? Поезда идут. На новых стройках начаты работы, И нас с тобой сегодня тоже ждут, Как тот шофер в машине ждет кого-то. Прости меня, что, радуясь, скорбя, Переживая горести, удачи, Я не щадил, как следует, тебя… Но ты бы сердцем не было иначе.1952
Сергей Васильев Голубь моего детства
Прямо с лёта, прямо с хода, поражая опереньем, словно вестник от восхода, он летит в стихотворенье. Он такой, что не обидит, он такой, что видит место, — он находит для насеста самый лучший мой эпитет. И ворчит, и колобродит, и хвостом широким водит, и сверкает до озноба всеми радугами зоба. Мне бы надо затвориться, не пускать балунью-птицу, но я так скажу: ни разу птицам не было отказу! С милым гостем по соседству любо сердцу и перу!.. Встань, далекий образ детства, белый голубь на ветру. …Было за полдень. В ограду на саврасом жеребце въехал всадник с мутным взглядом на обветренном лице. Всадник спешился. Оставил у поленницы коня и усталый шаг направил сразу прямо на меня. И, оправя лопотину[1], он такую начал речь: «Понимаешь, парень, в спину угодила мне картечь. Понимаешь… мне того… Плоховато малость. Понимаешь… жить всего ерунду осталось. Воевал я не за этим!..» Он придвинулся ко мне, и я в ужасе заметил кровь на раненой спине. Я — от страха в палисадник, пал в крыжовник и реву… Только вижу: бледный всадник опустился на траву. Только вижу, как баранья шапка валится на чуб, только слышу, как страданья улетают тихо с губ. Мне, конечно, стало горько, стало тягостно до слез — я к нему из-за пригорка, побеждая страх, пополз. «Понимаю, — говорю,— понимаю дюже… Может, спину, — говорю,— затянуть потуже? Понимаю, — говорю, — но куда ж деваться?» (Говорю, а сам горю — не могу сдержаться.) Теребя траву руками, всадник веки опустил и, тяжелую, как камень, чуя смерть, заговорил: «Ты челдон, и я челдон. Оба мы челдоны… Положи свою ладонь на мои ладони. Слышишь, сполохи гудут по всему заречью — беляки по нашим бьют рассыпной картечью. На семнадцать верст окрест белые в селеньях, так что, кроме этих мест, нашим нет спасенья. Я, родной мой, прискакал на заимку эту, чтобы дать своим сигнал, если белых нету. Мы бы стали по врагу бить из-за прикрытья… Понимаешь, не могу дальше говорить я». Было душно. К придорожью медом веяло с гречих. Всадник вздрогнул страшной дрожью, отвернулся — и затих. Я, конечно, понял сразу то, что он не досказал. И решил, как по приказу: надо выбросить сигнал! Я — домой. Комод у входа. Открываю я комод! Вижу: в ящиках комода — свалка, черт не разберет! В верхнем пусто. В среднем тесно. В нижнем? В ворохе тряпья теткин шелковый воскресный полушалок вижу я! Мне не жалко полушалка — разрываю пополам! Полушалка мне не жалко… На чердак бегу. А там со своей подругой вместе, боевой и злой на вид, на березовом насесте голубь мраморный сидит! «Что ж! — кричу, — послужим, дядя! Повоюем на лету!» И, багровый клок приладя к голубиному хвосту, я свищу: «Вали на волю!» И пошел винтить трубач по воздушному по полю, по кривой рывками вскачь! То петлями, то кругами, то в разлете холостом! И багровый шелк, как пламя, За его густым хвостом. То на выпад, то на спинку, то как ястреб от ворон!.. Вихрем прибыл на заимку партизанский эскадрон. Солнце падало. Смеркалось. Скрылись белые за мыс. Восемь раз разбить пытались — восемь раз стекали вниз. Над заимкой тучи плыли. У заката на виду люди всадника зарыли под калиною в саду. И поставили подсолнух у него над головой. И не дрогнул тот подсолнух, и стоял, как часовой. А когда дневное лихо заступили тьма и тишь, эскадрон ушел по тихой дальним бродом за Иртыш. И не мог я наглядеться На подсолнух ввечеру. О далекий образ детства белый голубь на ветру!1934
Евгений Винокуров Синева
Меня в Полесье занесло. За реками и за лесами Есть белорусское село — Все с ясно-синими глазами. С ведром, босую, у реки Девчонку встретите на склоне. Как голубые угольки, Глаза ожгут из-под ладони. В шинельке — видно, был солдат! — Мужчина возится в овине. Окликни, он поднимет взгляд, Исполненный глубокой сини. Бредет старуха через льны С грибной корзинкой и с клюкою, И очи древние полны Голубоватого покоя. Пять, у забора, молодух — Судачат, ахают, вздыхают. Глаза — захватывает дух! — Так синевой и полыхают. Девчата? Скромен их наряд, Застенчивые чаровницы, Зардевшись, синеву дарят, Как драгоценность, сквозь ресницы.1955
Андрей Вознесенский Параболическая баллада
Судьба, как ракета, летит по параболе Обычно — во мраке, и реже — по радуге. Жил огненно-рыжий художник Гоген. Богема, а в прошлом торговый агент. Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра, Он дал кругаля через Яву с Суматрой! Унесся, забыв сумасшествие денег, Кудахтанье жен, духоту академий. Он преодолел тяготенье земное. Жрецы гоготали за кружкой пивною: «Прямая — короче, парабола — круче. Не лучше ль скопировать райские кущи?» А он уносился ракетой ревущей Сквозь ветер, срывающий фалды и уши, И в Лувр он попал не сквозь главный порог — Параболой гневно пробив потолок! Идут к своим правдам, по-разному храбро, Червяк — через щель, человек — по параболе. Жила-была девочка рядом в квартале. Мы с нею учились, зачеты сдавали. Куда ж я уехал! И черт меня нес Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд! Прости мне дурацкую эту параболу. Простывшие плечики в черном парадном… О, как ты звенела во мраке вселенной Упруго и прямо — как прутик антенны! А я все лечу, приземляясь по ним — Земным и озябшим твоим позывным, Как трудно дается нам эта парабола!.. Сметая каноны, прогнозы, параграфы, Несутся искусство, любовь и история — По параболической траектории! В сибирской весне утопают калоши… А может быть, все же прямая — короче?1959
Александр Гатов Встреча
Хотя миновало полвека, Я помню ту встречу, тот поезд, В котором восставших матросов Судить из Одессы везли. Я с мамой в толпе на перроне, На харьковском душном вокзале. В руках у нас красные астры, И боль и тревога в сердцах. Товарных вагонов оконца В железных решетках; за ними Простые крестьянские лица, Усталы, небриты они… И золотом на бескозырках — «…Потемкин Таврический». Люди, Поднявшие красное знамя! «Герои», — я слышу вокруг. И вот через головы стражи Цветы полетели в оконца. И жесткие руки в оковах Обратно бросают цветы. И радость в глазах у матросов: — Спасибо! Товарищи! Братья! — А стражники курят спокойно: Цветы, мол. Не бомбы. Пускай… Гудок паровоза. Вагоны Осями скрипят, шевелятся. На север, где будет расправа! — Прощайте! Мужайтесь, друзья! — Держу я ту астру, что бросил Потемкинец через решетку — Усатый, с бровями ржаными, С огнем и смешинкой в глазах. И долго хранил я подарок. И, в бурях Октябрьских встречая Матросов с оружьем, в бушлатах, В их грозные лица смотрел. Казалось, что встречу я друга, Который ребенку когда-то, Мне бросил ту красную астру — Дар сердца и мужества зов.1955
Михаил Годенко Лучшее имя
Ты ножками сучишь кривыми, Лепечешь что-то иногда… Как назову, Какое имя Тебе вручу на все года? Есть много их — Хороших, разных. Какое выбрать? Помоги. Одни веселые, как праздник, Другие — буднично строги. Одни всем миром володеют, Другие, что ручей, скромны. Одни тускнеют и бледнеют, Уйдя в глубины старины. Другие, вырвавшись оттуда, Опять сверкают, как родник. Есть имя — песня, имя — чудо, — Какое выбрать мне из них? Новейших есть имен немало, Есть выходцы из дальних стран… Я одарю тебя, пожалуй, Коротким именем Иван. Оно всех ближе, Всех роднее. В нем сила русская и ум, В нем сказки деда-чародея, Колосьев звон, Дубравы шум. В нем океана гул, В нем сеча И пахаря нелегкий шаг, Большое сердце человечье И правде верная душа. В нем Пресня стойкая, И Зимний, И волжский взнузданный поток… Достойное я выбрал имя, Не урони его, сынок!1957
Виктор Гончаров Раздумье
Мне кажется, я в сотый раз рожден, А вспомнить не могу Те, прежние свои существованья, Но что-то все же знаю я, И это «что-то» здесь, в моей груди, Живет, ворочается, тяжело вздыхает. Припомнить что-нибудь? Нет, это безнадежно, Вот разве только сны. Они меня измучили — Одно и то же снится каждый раз. Одно и то же… Будто на скале я высек мамонта. И сотни две людей, одетых в шкуры, Гортанным криком славили меня. Предела их восторгу не было. И то, что я не смог изобразить На каменном холсте, Воображение людей дорисовало. Царапина художника на камне Для них была открытием вселенной, И люди видели, Как билось солнце на бивне мамонта, Как кровь течет из мамонтовых ран И как из глаз затравленной чудовищной горы Стекают каменные слезы мамонта, Беспомощности слезы… Я славил человека. Он стал сильнее зверя. Далекий сон, он радует меня. И люди в шкурах, Люди в рваных шкурах… Я жил когда-то, жил когда-то я! Припомнить что-нибудь?.. Вот разве только сны… Сикстинская капелла. Дивный свет, Расписан мною потолок и стены. Художник я. Старик уже, старик… Шесть лет последних Отдал я этой росписи. И суд господний, Страшный суд идет. Все жизненно До ощущенья боли — И ад и рай, И божья неподкупность. А то, что я не смел изобразить, Воображение людей дорисовало, И славила толпа Мой многолетний труд Художника, Увидевшего в боге человека! Я жил когда-то, жил когда-то я! Что будет сниться мне из этой жизни? Что? Скала… самой природой, Дождями, солнцем, холодом, ветрами Изображен встающий человек. Я как художник Освободил его от злых нагромождений, Все сдержанно, Все грубо, Ощутимо, В намеке все, Предельно скупо все! А то, что я не стал изображать, Воображение людей дорисовало. Величием своим испуган человек. Он поднимается. Он удивлен собой. Из рук его летят ночные звезды — Росинки светлые, В безвременье! В бесчисленность светил! За много, очень много километров Он видится таким богатырем, Перед которым бог — ничтожество, Перед которым — бога нет. А люди дорисовывают сами Свое величие. И гордость за собственное «я» Горит в глазах людей. И каждый понимает, что он велик И прост, И неподкупен И горд собой, И мир в его руках! Победа человека над собой Мне будет сниться, Когда в сто первый раз Я появлюсь на свет И вновь возьму резец или палитру, Чтобы из гор, из рек, из звезд ночных Воссоздавать черты сынов земли, Чтобы резцом и светом Славить человека! …Мне кажется, я снова буду жить.1961
Владимир Гордиенко Атака
Помню только о том, как в солдатской цепи разноликой я горланил «ура!» и сорвал себе голос от крика. О, когда б не оно — громовое российское слово, нам бы лечь и молчать перед силой огня ножевого. Жаль, что так и не смог проследить я за каждой деталью, устремившись вперед через поле, побитое сталью. Но в горелой деревне, которую мы штурмовали, востроглазый мальчишка скрывался в каком-то подвале. И сквозь толщу стены из удачно отысканной щели мальчуган рассмотрел то, что мы различить не успели. Желваки он приметил на вражеских лицах смятенных, нервный тик офицера и бледность его подчиненных. Нашу злость разглядел и увидел, как слева и справа люди падали, вздрогнув, на быстро буревшие травы. Я же мчался вперед, поглощенный движеньем всецело. Помню только «ура!», что гремело, гремело, гремело. Помню только «ура!». Вы меня извините за это. Однотонность такая, увы, не заслуга поэта. Не большая беда, если крик тот забудется даже, стал мальчишка мужчиной и все подетальней расскажет. Впрочем, не было б слов, да и сам бы он выжил едва ли, если б мы в свое время натужно «ура!» не кричали.1959
Юрий Гордиенко Рикша
Трубил, трубил, трубил рожок, двоились уличные дали, дымясь, асфальт подошвы жег, мелькали стертые сандальи, холодным потом рикша мок и целый день, в тоске ли, в злобе ль, бежал… и убежать не мог из полированных оглобель.1946
Сергей Городецкий Горюшко
Без призора ходит Горе От одной избы к другой, И стучит в окно к Федоре, Старой сватье дорогой: — Отвори, Федорушка, Отвори скорей! Это я тут, Горюшко, Плачу у дверей. — Нет с Федорой разговора, Ты мне, Горе, не родня! Хлеба горы, денег ворох Получила с трудодня. Горе шасть в другую хату, Где в окошках шум и свет, И стучится в двери к свату, Другу прежних, горьких лет: — Приюти, Егорушка, Сватьюшку свою! Это я тут, Горюшко, У дверей стою! У Егора с Горем ссора: — Уходи от хаты прочь! За колхозного шофера Выдаю я замуж дочь. Горе плачет, пот струится По костлявому лицу, И в окно оно стучится К многодетному отцу: — Отвори, Сидорушка, Пропусти в жилье! Ты ведь помнишь Горюшко Вечное свое! — В Красной Армии три сына. В школу отдал дочек трех. Тут седьмые октябрины! Не марай ты мой порог! — Что с народом приключилось? Не видало отродясь!..— Горе лужицей расплылось, Солнце высушило грязь.1937
Николай Грибачев Своему сердцу
Сердце мне сказало: я устало, Не кори меня и не суди, Вспомни, как нас в жизни помотало, Глянь, какие дали позади. Пусть тебя не соблазняют схватки, Не влекут бессонные дела — Знаешь сам, что нервы не в порядке, Что в крови убавилось тепла. Что хотел бы к тем, кто помоложе, Да не можешь дотянуться в ряд. Сдал, видать, отяжелел, похоже, В землю стал расти, как говорят… Сердце, ты напрасно разболталось, Хоть и нету дыма без огня; Подожди, повремени-ка малость, Помолчи и выслушай меня. Не святой глупец и не ханжа я, И какая б ни была она, Жизнь моя мне вовсе не чужая, А своя, и позарез нужна. Только как ты ни кричи об этом И в какой ни уличай вине, Не хочу тащиться за кюветом, От большой дороги в стороне. Не могу стоять затылком к бою, Перед новым делом быть в долгу, С ненавистью давней и любовью — Плачь не плачь — проститься не могу. На усталость жалобой моею, Выходом из строя хоть на миг Огорчить друзей моих не смею И врагов порадовать моих. Значит, бейся, сколько можешь биться, А когда почувствуешь беду, Не проси меня остановиться — Можешь разрываться на ходу!..1943–1955
Евгений Долматовский
Дело о поджоге рейхстага Ты помнишь это дело о поджоге Рейхстага? Давний тридцать третий год… Огромный Геринг, как кабан двуногий, На прокурорской кафедре встает. Еще не взят историей к ответу, Он хочет доказать неправду свету: «Рейхстаг большевиками подожжен!» Но вот пред всеми — смуглый, чернобровый — Встал подсудимый. Чистый и суровый, Он в кандалах, но обвиняет — он! Он держит речь, неистовый болгарин. Его слова секут врагов, как жгут. А воздух так удушлив, так угарен — На площадях, должно быть, книги жгут. …В тот грозный год я только кончил школу. Вихрастые посланцы комсомола Вели метро под утренней Москвой. Мы никогда не видели рейхстага. Нас восхищала львиная отвага Болгарина с могучей головой. Прошло немало лет. А в сорок пятом Тем самым, только выросшим, ребятам Пришлось в далеких побывать местах. Пришлось ползти берлинским зоосадом… «Ударим зажигательным снарядом!» «Горит рейхстаг! Смотри, горит рейхстаг!» Прекрасный день — тридцатое апреля. Тяжелый дым валит из-за колонн. Теперь — не выдумка — на самом деле Рейхстаг большевиками подожжен!1947
Николай Доризо Баллада о смеющемся мальчике
Косы, заплетенные короною, Ни морщинки на высоком лбу… Принесли ей с фронта похоронную — Вдовью, безысходную судьбу. Ахнула, потом заголосила, Тяжело осела на кровать, Все его, убитого, просила Пожалеть детей, не умирать. Люди виновато подходили, Будто им в укор ее беда. Лишь один жилец во всей квартире Утром встал веселый, как всегда. Улыбнулся сын ее в кровати, Просто так, не зная отчего. И была до ужаса некстати Радость несмышленая его. То ли в окнах сладко пахла мята, То ли кот понравился ему, — Только он доверчиво и свято Улыбался горю своему… Летнее ромашковое утро. В доме плачет мать до немоты. Он смеялся, значит, это мудро, Это как на трауре цветы!.. И на фронте, средь ночей кромешных, Он таким вставал передо мной — Краснощекий, крохотный, безгрешный, Бог всесильной радости земной. Приходил он в тюрьмы без боязни На забавных ноженьках своих, Осенял улыбкой перед казнью Лица краснодонцев молодых. Он во всем: в частушке, в поговорке, В лихости народа моего. Насреддин и наш Василий Теркин — Ангелы-хранители его!..1957
Иван Доронин Весенняя любовь
Ой, цвети, Цвети, кудрявая рябина, Наливайтесь, грозди, Соком вешним. Я на днях, На днях у дальнего овина Целовалась С миленьким нездешним! Все было хорошо, Так хорошо — И блузы синий цвет, И запах тополей. Он из города, Ко мне пришел, Я — с полей! Он сказал: «Вернулся я к покосу, Будем травы На лугах косить…» И все гладил, Гладил мою косу, На руках По ржам меня носил! Ой вы, ржи, Зеленые вы ржи, Мне бы с вами жить, Озелениться мне бы! Я люблю смотреть, Как ваша ширь дрожит Под солнечною гладью Неба. Жаворонок, Выше, Громче, Громче, Выше надо мной! Сердце просит, Сердце хочет Захлебнуться Майскою волной! Знаю, Скоро На широкой ниве Будут косы В золоте звенеть. На деревне Нет меня красивей, На деревне Нет меня дельней! Ой, цвети, Цвети, кудрявая рябина, Наливайтесь, грозди, Соком вешним. Я намедни, Я намедни у овина Целовалась С миленьким нездешним!1921
Андрей Досталь Ты меня сделай красивой
Я пришел Из озерного края, Эту землю Всем сердцем любя. А земля, Она словно живая, Просит И молит тебя: — Человек! Ты одень Меня парками, Легкой, Шумящей листвой. — Человек! От пустынь Мне жарко, Ты наполни их Светлой водой. — Человек, Я затерта льдами, Поднимись, Растопи их вокруг. Чтобы льды Зацвели садами, Зашумели На талом ветру… — Человек! Я отдам тебе силу Своих гор, Своих недр, Своих рек. Только ты меня Сделай красивой, Только ты меня Сделай счастливой. Ведь на то Ты и есть Человек!1957
Павел Дружинин Про луну
Слыхал я всякие слова О том, что будет и что было, И что луна давно мертва, И что она давно остыла. Пусть так. Но я люблю луну, И чувство к ней мое добреет. И я не ставлю ей в вину, Что нас луна совсем не греет. Светла, кругла. И я про то Одно могу сказать — ответить: Спасибо ей уж и за то, Что иногда ночами светит. И как становится свежо, Когда, катясь с небесной кручи, Луна серебряным ножом Разрежет сумрачные тучи. Люблю меж каменных громад По тихим переулкам шляться И за углами невпопад С луной наедине встречаться. Смотря на этот яркий круг Невозмутимым детским оком, Я иногда припомню вдруг О невозвратном и далеком. О нежном лепете весны, О том, что в юности случалось, Когда в сиянии луны Со мною милая встречалась. Была любовь, была весна, И кто бы мог поверить в это, Что чародейница-луна — Давно остывшая планета!1935
Юлия Друнина Зинка
1
Мы легли у разбитой ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее На продрогшей, гнилой земле. — Знаешь, Юлька, я — против грусти, Но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, Мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый, У меня — лишь она одна. Пахнет в хате квашней и дымом, За порогом бурлит весна. Старой кажется: каждый кустик Беспокойную дочку ждет… Знаешь, Юлька, я — против грусти, Но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг приказ: «Выступать вперед!» Снова рядом, в сырой шинели Светлокосый солдат идет.2
С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окруженье попал под Оршей Наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи, По воронкам и буеракам Через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы — Мы хотели со славой жить. …Почему же в бинтах кровавых Светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью Укрывала я, зубы сжав… Белорусские ветры пели О рязанских глухих садах.3
— Знаешь, Зинка, я — против грусти, Но сегодня она не в счет. Где-то, в яблочном захолустье, Мама, мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый, У нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом, За порогом стоит весна. И старушка в цветастом платье У иконы свечу зажгла. …Я не знаю, как написать ей, Чтоб тебя она не ждала?!1944
Евгений Евтушенко Свадьбы
О свадьбы в дни военные! Обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют… Дорогой зимней, снежною сквозь ветер, бьющий зло, лечу на свадьбу спешную в соседнее село. Походочкой расслабленной, с челочкой на лбу вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу. Наряженный, взволнованный, среди друзей, родных сидит мобилизованный растерянный жених. Сидит с невестой Верою, а через пару дней шинель наденет серую, на фронт поедет в ней. Землей чужой, не местною, с винтовкою пойдет, под пулею немецкою, быть может, упадет… В стакане брага пенная, но пить ему невмочь. Быть может, ночь их первая — последняя их ночь. Глядит он опечаленно и — болью всей души — мне через стол отчаянно: «А ну давай пляши!» Забыли все о выпитом, все смотрят на меня, И вот иду я с вывертом, подковками звеня. То выдам дробь, то по полу носки проволоку. Свищу, в ладоши хлопаю, взлетаю к потолку. Висят на стенках лозунги, что Гитлеру — капут, а у невесты — слезоньки горючие текут. Уже я измочаленный, Уже едва дышу… «Пляши!» — кричат отчаянно, и я опять пляшу… Ступни как деревянные, когда вернусь домой, но с новой свадьбы пьяные являются за мной. Отпущен еле матерью, на свадьбы вновь гляжу и вновь у самой скатерти вприсядочку хожу. Невесте горько плачется. Стоят в слезах друзья. Мне страшно. Мне не пляшется. Но не плясать нельзя…1955
Александр Жаров Заветный камень
Холодные волны вздымает лавиной Широкое Черное море. Последний матрос Севастополь покинул, Уходит он, с волнами споря… И грозный соленый бушующий вал О шлюпку волну за волной разбивал… В туманной дали Не видно земли. Ушли далеко корабли. Друзья-моряки подобрали героя. Кипела вода штормовая… Он камень сжимал посиневшей рукою И тихо сказал, умирая: «Когда покидал я родимый утес, С собою кусочек гранита унес — Затем, чтоб вдали От крымской земли О ней мы забыть не могли. Кто камень возьмет, тот пускай поклянется, Что с честью носить его будет. Он первым в любимую бухту вернется И клятвы своей не забудет. Тот камень заветный и ночью и днем Матросское сердце сжигает огнем… Пусть свято хранит Мой камень гранит — Он русскою кровью омыт». Сквозь бури и штормы прошел этот камень, И стал он на место достойно… Знакомая чайка взмахнула крылами, И сердце забилось спокойно. Взошел на утес черноморский матрос, Кто родине новую славу принес. И в мирной дали Идут корабли Под солнцем родимой земли.1943–1945
Павел Железнов Учитель
Тот, кто с ним говорил хоть недолго, помнит волжский его говорок. Человек этот был, словно Волга, вдохновенно могуч и широк. Я лицо его знал по портретам, наизусть заучил все черты. В кабинет его, залитый светом, привели меня детства мечты… Помню, как у дверей его дома, на ступенях стоял, сам не свой, задыхаясь, как после подъема на вершину горы снеговой… Помню, как обжигающей искрой промелькнула в сознании мысль: «Неужели он рядам, так близко и мечты наконец-то сбылись?» Вот басит с удареньем на «о» он, кто Чехова знал и Толстого. Я понять не могу ничего и ответить не в силах ни слова. Вот сидит он, чью руку не раз пожимал с уважением Ленин… Я боюсь, что проснусь я сейчас где-нибудь на вокзальной ступени… Вдруг, смотрю — он усы распушил молодою улыбкой сердечной и, спросив меня: — Куришь, конечно? — папиросой большой угостил. Незаметно волненье мое с папиросным рассеялось дымом. И, как будто не с Горьким Максимом, а с товарищем старшим, любимым, говорю про житье, про бытье. О скитаньях своих рассказал, о работе в порту, в Ленинграде, и стихи — ожидая похвал — прочитал нараспев по тетради. Думал — скажет сейчас: «Хорошо!» — по плечу с одобреньем похлопав. Но, как мастер подручному: — Плохо! — он сказал, нажимая на «о». Показал, как расставить слова, чтоб строка зазвенела струною. Но не просто секрет мастерства — смысл работы раскрыл предо мною: — Поэт говорил во время óно с друзьями, со своей семьей. Сегодня он, стóя у микрофона, со всей говорит Землей! Врывается голос во все квартиры, сразу во все этажи. Поэт должен быть эхом мира, а не нянькой своей души! Поэт должен работать, так сердце свое настроив, чтоб в дни трудовых и военных атак людей превращать в героев!.. (.) Тот, кто с ним говорил хоть недолго, выходил полный сил на порог. Человек этот был, словно Волга, вдохновенно могуч и широк!1951
Василий Журавлев Старый карагач
Повсюду степь! Степь без конца и края шумит, волной пшеничною играя да табуны ветров пуская вскачь. И вдруг над марью поля золотого, над изобилием зерна литого раскинул руки старый карагач. Он, как колхозник, посреди пшеницы встал, чтоб целинной нивой подивиться да поразмыслить в поле кой о чем. И ничего, что в пыльном он наряде и что сухие ветви, словно пряди седых волос, застыли над плечом. Все ничего! Да только вот в просторы врываются ревущие моторы. И карагач уже в кольцо зажат. А под его полою карагачата — смешные, несмышленые внучата — стоят да каждым листиком дрожат. И старый карагач, почти неистов, вдруг застонал, заслышав трактористов: — Ребята! А нельзя ли стороной пообойти мои владенья эти?! Сердечные, хоть совесть поимейте, ведь я здесь все же житель коренной!.. И трактористы, утопая в гуле, свои машины в сторону свернули, оставив за собой одно жнивье. И карагач, опять поля лаская, куражится, на волю выпуская потомство плодовитое свое.1956
Вера Звягинцева К портрету матери
Вот предо мною портрет твой с лицом исхудалым, Мальчик сидит на руках у тебя годовалый. Сумрак предгрозья. Восьмидесятые годы. Первые поиски правды, добра и свободы. В комнатах низких до света дымят папиросы. Слухи о стачках. Студенткою русоволосой, Глядя задумчиво на облака заревые, Имя Ульянова ты услыхала впервые. Машенькой звали тебя. Называла б я мамой, Да не успела — потух огонек неупрямый. Мне рассказали, как ты, озоруя, бывало, Так же вот с крыш леденцы голубые сбивала, Как ты читала стихи детворе на деревне, Как рисовала ты небо, пруды и деревья. Короток был твой часок небогатый девичий, Дальше — заботы, да горе, да чинный обычай. …Сколько могил на елецких, на курских кладбищах! Прыгают птицы по плитам, чирикают, свищут. Сколько осталось в шкатулках отчаянных писем! Что это здесь, на подчаснике, — слезы иль бисер? Розы из бисера — бедная женская слава; Дальше — январские проруби, петли, отрава… Часто, когда по асфальту я звонко шагаю, Память, как слезы, мне на душу вдруг набегает. Я вспоминаю товарищей — женщин погибших, Нашего воздуха ртом пересохшим не пивших, Душные спальни-бараки и труд непосильный. Свод каземата мне видится, сумрак могильный, Синие губы закушены… Окрик жандармов… Сестры! Земной вам поклон от сестер благодарных! Ты умирала, заброшена, в горнице темной, Не в каземате, но в мира темнице огромной. …В заросли трав я могилы твоей не нашла, Только метелку душицы к губам поднесла, Думая: если бы, если бы ты поглядела, Как нас волной подхватило высокое дело, Как, просыпаясь, я счастлива дружбой, работой, Как я волнуюсь одною с отчизной заботой. Небо над нами качается деревом звездным, Вместе б идти нам с тобой по равнинам морозным! Мы бы с тобою, наверно, товарками стали, Вместе бы мы «По военной дороге» певали. …Ты мне оставила старый некрасовский том. Слышу твой голос в напеве угрюмом, простом, Вот раздвигаются губы твои на портрете. Верно, ты знала на память «Крестьянские дети». Тени тихонько ложатся на впалые щеки, Спи, — я дышу за двоих нашим ветром высоким.1940
Михаил Зенкевич Найденыш
Пришел солдат домой с войны, Глядит: в печи огонь горит, Стол чистой скатертью накрыт, Чрез край квашни текут блины, Да нет хозяйки, нет жены! Он скинул вещевой мешок, Взял для прикурки уголек. Под печкой, там, где темнота, Глаза блеснули… Чьи? Кота? Мышиный шорох, тихий вздох… Нагнулся: девочка лет трех. — Ты что сидишь тут? Вылезай. — Молчит, глядит во все глаза Пугливее зверенышка. Светлей кудели волоса, На васильках — роса — слеза. — Как звать тебя? — Аленушка. — А дочь ты чья?— Молчит… — Ничья. Нашла маманька у ручья За дальнею полосонькой, Под белою березонькой. — А мамка где? — Укрылась в рожь, Боится, что ты нас убьешь… — Солдат воткнул в хлеб острый нож, Оперся кулаком о стол, Кулак свинцом налит, тяжел. Молчит солдат, в окно глядит, Туда, где тропка вьется вдаль. Найденыш рядом с ним сидит, Над сердцем теребит медаль. Как быть? В тумане голова. Проходит час, а может, два. Солдат глядит в окно и ждет: Придет жена иль не придет? Как тут поладишь, жди не жди… А девочка к его груди Прижалась бледным личиком, Дешевым блеклым ситчиком… Взглянул: у притолки жена Стоит, потупившись, бледна… — Входи, жена! Пеки блины. Вернулся целым муж с войны. Былое порастет быльем, Как дальняя сторонушка. По-новому мы заживем, Вот наша дочь — Аленушка!1955
Вера Инбер Пять ночей и дней
На смерть Ленина
И прежде чем укрыть в могиле Навеки от живых людей, В Колонном зале положили Его на пять ночей и дней… И потекли людские толпы, Неся знамена впереди, Чтобы взглянуть на профиль желтый И красный орден на груди. Текли. А стужа над землею Такая лютая была, Как будто он унес с собою Частицу нашего тепла. И пять ночей в Москве не спали Из-за того, что он уснул. И был торжественно-печален Луны почетный караул.1924
Михаил Исаковский Враги сожгли родную хату…
Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог, Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок. Стоит солдат — и словно комья Застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, Героя — мужа своего. Готовь для гостя угощенье, Накрой в избе широкий стол — Свой день, свой праздник возвращенья К тебе я праздновать пришел…» Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, И только теплый летний ветер Траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой. «Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой: Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, Но не сойтись вовеки нам…» И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам. Он пил — солдат, слуга народа, И с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе четыре года, Я три державы покорил…» Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт.1945
Василий Казин «Привычка к спичке — искорка привычки…»
Привычка к спичке — искорка привычки К светилам истинным. Но спичка мне люба Не менее — и потому люба, Что чую я обличий переклички, Что чую: в маленьком обличье спички Таится мира пестрая судьба. Чирк! — и зарумянится Скрытница огня, Солнышка племянница, Солнышка родня. Деревянным запахом Полыхнет лесам, Улыбнется фабрикам, Дальним корпусам. Случается: бреду в ночном тумане. Бреду в тумане грустно одинок. И, как ребенок, вспомнивший о маме, Я просияю и взлучусь лесами, Лесами, корпусами, небесами, А небеса и сами Взлучатся дальними мирами, Когда нечаянно в кармане Чуть громыхнет неполный коробок.1926
Василий Каменский Песня о Каме
Эй, чайки снежнокрылые, На лодках рыбаки, Друзья, матросы милые Раздольницы-реки. Гулять, кататься велено, Кто молодостью сыт, Кругом под небом зелено От солнечной красы. Мать, Кама синеокая, Как вороная сталь, Блестит, зовет, широкая, На пароходы вдаль. И я, послушный сын реки, Призывностью горя, Изведал с легкой той руки Все суши и моря. И вот вернулся снова я, Скитаньями обвит, А Кама та же новая — Дороженька любви. Те же чайки снежные, Та же в волнах взмыль. Лишь моя мятежная Затихла в бурях быль. Но не затихли песни ярости, Рожденные на Каме, Не будет, знаю, старости На лодках с рыбаками. Костер, как меч, Огнист, остер. Костром я жизнь простер, И мой огонь, и мой шатер, Мой мир и мой простор. А у шатра сетей набор — Рыбацкое шитье. Топор. Собака. И ружье — Охотничье житье. Эх, Кама, Кама, Камушка. Крутые берега, Спасибо тебе, мамушка. Сердечная река.1933
Владимир Карпеко Стихи о костре
Сухие сучья накрест сложат, Бересты сунут вниз клочок, И вот, несмел и осторожен, Ты кажешь красный язычок. И снова прячешь на мгновенье, Испуган дерзостью своей, Успев, однако, одобренье Прочесть на лицах у людей. И, тем вниманьем ободренный, Уже смелей из-под коры Высовываешь восхищенно Задорно-рыжие вихры. Ты приобвык уже немножко, Набрал порядком высоты, И вот уж в синеньких сапожках В веселый пляс пустился ты. Но, как ни прыгаешь, играя, Свою доказывая прыть, — Тебе еще не доверяют Тяжелый чайник кипятить. Еще ты молод и не крепок, Трещишь без умолку за зря (Среди сухих смолистых щепок Немало было и сырья). Еще дымишь!.. Но время будет, Когда ты жарко и светло Начнешь пылать уже, и люди Твое почувствуют тепло. И будут встречи и разлуки. Перебывает сколько тут! Иные лишь погреют руки И, равнодушные, уйдут. Другие дров тебе подбавят И помянут тебя добром, И, если надобно, поправят, Чтоб ровным, цельным был костром. Пусть пепла сединой одеться Придет когда-нибудь пора — Все так же жарко будет сердце У отгоревшего костра. Но и дотлев наполовину, Он доживет до той поры, Когда придут и сердце вынут, И на других привалах кинут… И вспыхнут новые костры!1955
Семен Кирсанов Творчество
Принесли к врачу солдата только что из боя, но уже в груди не бьется сердце молодое. В нем застрял стальной осколок, обожженный, грубый. И глаза бойца мутнеют, и синеют губы. Врач разрезал гимнастерку, разорвал рубашку, врач увидел злую рану — сердце нараспашку! Сердце скользкое, живое, сине-кровяное, а ему мешает биться острие стальное… Вынул врач живое сердце из груди солдатской, и глаза устлали слезы от печали братской. Это было невозможно, было — безнадежно… Врач держать его старался бесконечно нежно. Вынул он стальной осколок нежною рукою и зашил иглою рану, тонкою такою… И в ответ на нежность эту под рукой забилось, заходило в ребрах сердце, оказало милость. Посвежели губы брата, очи пояснели, и задвигались живые руки на шинели. Но когда товарищ лекарь кончил это дело, у него глаза закрылись, сердце онемело. И врача не оказалось рядом, по соседству, чтоб вернуть сердцебиенье и второму сердцу. И когда рассказ об этом я услышал позже, и мое в груди забилось от великой дрожи. Понял я, что нет на свете выше, чем такое, чем держать другое сердце нежною рукою. И пускай мое от боли сердце разорвется — это в жизни, это в песне творчеством зовется.1943
Игорь Кобзев После кино
Девушка с каштановой косою Горько плачет у дверей кино: Жалостью к погибшему герою Ее сердце юное полно. Долго-долго слез унять не может И стоит с заплаканным лицом. А подружки, совестясь прохожих, Обступили бедную кольцом. — Что ты плачешь? Это ж все — неправда. Кто бы мог стерпеть такую боль? Все слова в кино придумал автор, И актер исполнил только роль. Стыдно! Как могла ты разреветься, Если всем известно наперед, Что актер, пуская пулю в сердце, Настоящей смертью не умрет. — Просто не пришлось тебе, наверно, Видеть, как снимается кино: Все подстроено, все из фанеры — Вспомнишь — и становится смешно… …Я случайно слышал эти речи. И хоть я в поступках не горяч, Подошел к ней, взял ее за плечи И сказал: — Не смей им верить. Плачь!1955
Дмитрий Ковалев А думал я…
А думал я, Что как увижу мать, Так упаду к ногам ее. Но вот, Где жгла роса, В ботве стою опять. Вязанку хвороста межой она несет, Такая старая, невзрачная на вид. Меня еще не замечая, Вслух Сама с собой о чем-то говорит. Окликнуть? Нет, Так испугаю вдруг. …Но вот сама заметила. Уже, Забыв и ношу бросить на меже, Не видя ничего перед собой, Летит ко мне: — Ах, боже, гость какой! А я, Как сердце чуяло, В лесу Еще с утра спешила все домой… — Давай, мамуся, хворост понесу. — И мать заплакала, шепча: — Сыночек мой. — С охапкой невесомою в руках, Близ почерневших пятнами бобов, Расспрашиваю я О пустяках: — Есть ли орехи? — Много ли грибов? — А думал, — Там, В пристрелянных снегах, — Что, если жив останусь и приду, Слез не стыдясь, При людях, На виду, На улице пред нею упаду.1958
Александр Коваленков Снегирь
Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый Снегирь?
Г. Р. Державин, «Снегирь». (Стихи памяти Суворова) Клубы дыма, танки, самолеты, Сломанные надвое мосты, Конские хвосты, штыки пехоты, Взрывов желто-красные кусты. Людоед бежит во все лопатки, Снайпер с елки целится в него, Войско чужестранцев в беспорядке, Солнце видит наше торжество… Вот что нарисовано в тетрадке У мальчишки — сына моего. Говорю: — Рисунок сделан смело. Только что ж бумагу тратить зря? Кончен бой, сраженье отгремело. Ты изобразил бы снегиря. Или, скажем, лодку, рыболова, Разные деревья и цветы… Мало ли хорошего, такого, Что видал и что запомнил ты. Но художник явно не согласен; Смотрит вбок, вздыхает тяжело: — Что там рисовать скворца иль ясень, То ли дело сабля наголо. Лодку, — говорит, — я нарисую. С парусом, чтоб плыть в далекий край, С пушками зенитными, такую, На которой спасся бы Чапай. Я пойду гулять. — Ну что ж, ступай… Наперед известно по программе, Что наследник явится домой Весь в песке, с известкой под ногтями, С круглою медалью жестяной. Тут пойдет обычная беседа: — Кто пустил стрелу в окно соседа? — Кем и чем губа рассечена? — Почему опять была война? Вымоют мальчишку. Спать уложат. Скажут, улыбаясь: «Вот беда, Каждый вечер все одно и то же, С девочкой спокойнее куда…» И возникнет дальней песни эхо: «Нас не трогай». И приснится ширь, Где сидит на придорожной вехе Зоревой суворовский снегирь.1946
Яков Козловский «Мы часто о времени судим не точно…»
Мы часто о времени судим не точно, С поправками сердца считаться пора. Историей кажется мальчикам то, что Случилось, по-моему, только вчера. Мальчики спорят со мною запальчиво, А я говорю им, что с давних времен Все имена оперившихся мальчиков Звучат с приложеньем отцовских имен. По лестнице путь — то быстрее, то тише. Ступеньки — минувший и нынешний день, Чтоб ногу поставить ступенькою выше, На нижнюю я опираюсь ступень. Бывает, что море давно за спиною, А мы на губах своих чувствуем соль. Недавняя радость, еще ты со мною, Еще ты со мной, неутихшая боль. Я мальчиков вижу, довольных собою, У друга пустой замечаю рукав. Душе моей слышатся отзвуки боя И шелест еще не родившихся трав.1960
Осип Колычев Гамма
Л. И. Бродской
Светлая зелень — на зелени темной. Косы березок в густом дубняке. Признак весны в этой прелести тона, В первом воздушном зеленом дымке… Встань под весенним сквозным небосклоном, Сколько, взгляни, переливов кругом! Сколько оттенков зеленых в зеленом, Сколько тонов голубых в голубом! Сколько оттенков — зима их не знала,— Что ни минута, меняется свет… В сердце их тоже должно быть немало, Это беда, если в сердце их нет…1954
Лев Кондырев Стекольщик
Меж корпусов, промасленной травой По новостройке проходя под осень, В стекле, подернутом рассветной синевой, Все отраженье мира он проносит. Звенит стекло, скользят в нем облака, Над дальним лесом вьются легкой стружкой. В стеклянной дымке катится река, Песок узоря галькой и ракушкой. Мост над рекою выгнулся крутой. Два поезда летят там на сближенье. Мелькнул огонь в пролете золотой, Дрожит стекло — и меркнет отраженье… За дамбой дом кончают мастера, Где окна на стекольщика в обиде, Ресницы ставен вскинув, ждут — пора Нас остеклить, мы ничего не видим. Не всплески зорь, не листопада медь — В глазах у нас пеньковые волокна. — Добро, — сказал стекольщик, — вам прозреть Я помогу. — И свет ударил в окна.1950
Анисим Кронгауз Минута
Вот сейчас повисла минута На часовом волоске, И упала. И сгладилась, будто След на сухом песке. Ей обратно не возвратиться. Ей песчинкой в веках кружить. Это жизни моей частица, Я ее не оставил жить. Я убил ее зимним полднем, Избалован обильем дней. Я ничем ее не наполнил, Не оставил память по ней. Века маленький промежуток! Я тебя сохранить не смог. Строят памятники минутам — Кто из камня, а кто из строк, На станках из дерева точат, Ищут в нитях таежных троп, В облака — поднимает летчик, На земле — растит хлебороб. Да и сам я пришел маршрутом, Где мгновенья равны годам. Вот еще повисла минута… Я ее не отдам!1946
Анатолий Кудрейко Запасный полк
Расквартированный на лето, где ели сшиблись в тесноте, полк поднимался до рассвета, а спать ложился в темноте. Свое он помнил назначенье — фронт управлял его судьбой. Поход, на местности ученье чередовал он со стрельбой… Но это — дела половина! Нужны траншеи в полный рост, — берешь кирку: земля не глина, а камень, брат, не так-то прост! Скалистый пласт искрит под ломом, рубашка сохнет на траве, удар наносишь по изломам, — он отдается в голове… Но это — дела половина! На лесопилке склад пустой, берешь пилу, а лес — махина, кондовый спелый древостой! Такое дерево повалишь, что обнимаешь ствол вдвоем, но ты ругаешь, а не хвалишь его в усердии своем… Но это — дела половина! Хлеб осыпается в полях, — берешь косу, покос — лавина и на тебя идет впотьмах! Росой унизанный шиповник шумит у леса под луной, — не отличил бы и полковник овса от пыли водяной… Косить все горше без рубахи — свет блещет резко, как стекло… А хлеб такой, что только взмахи видны идущему в село. На горизонте гаснут скалы, стекает с них последний блеск, и косы на плечах усталых уносит полк в еловый лес. И та дорожка полевая, которой в сумерки брести, стремится в сердце, как живая, навеки место обрести. Ты самой долгою любовью преисполняешься к земле, где камень ставишь в изголовье и спишь под елями в тепле. Не высыхает пот соленый в той академии наук, куда, под твой шатер зеленый, не залетает с фронта звук… Но это — дела половина! Другая в тыщи раз трудней — дойти до самого Берлина с пехотной выкладкой своей!1956
Василий Кулемин «Опять знакомая опушка…»
Опять знакомая опушка. И вечер тих, и даль светла. В свои степные колотушки Во ржи стучат перепела. Мне ветер веткой липы машет И что-то хочет рассказать. И свеж, как прежде, снег ромашек, И мир глядит во все глаза. И вдруг припомнилось былое: Сюда, подальше от села, Украдкой мы ушли с тобою, А мать звала тебя, звала… К ней плыли тучки ветровые, Ей откликался лес ночной, Но ты в тот дальний час впервые Не подала ей голос свой.1955
Юрий Левитанский Синяя лампочка
Это дело давнее. Не моя вина. Увезла товарищей финская война. Галочкой отметила тех, что в строю. — Рано! — ответила на просьбу мою. Я остался дома. По утрам в Сокольники почта приносила письма-треугольники. О своих раненьях и обмороженьях товарищи писали в кратких выраженьях. Ждать их наказывали. Нас мучила совесть. Мы на хлеб намазывали яблочный соус. Зимняя нас лавочка у ворот сводила, синяя лампочка у ворот светила — письма читали синими глазами, девушки плакали синими слезами… Это дело давнее. Не моя вина. Выпала мне дальняя долгая война. В рамах оконных стекла дрожали. В ямах окопных сверстники лежали. Мины подносили руками усталыми, глину месили сапогами старыми и домой вернулись старыми бойцами в мятых гимнастерках, с чистыми сердцами… Это дело давнее, не моя вина. Под холмом могильным зарыта война. Зарыта, забыта, но, душу леденя, синяя лампочка смотрит на меня. Синяя лампочка стоит перед глазами: девушки плачут синими слезами, синие отсветы лежат на снегу, — выключить лампочку никак не могу.1956
Марк Лисянский Моя Москва
Я по свету немало хаживал, Жил в землянках, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, Знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться, И везде повторяю слова: Дорогая моя столица, Золотая моя Москва! Я люблю подмосковные рощи И мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь И кремлевских курантов бой. В городах и далеких станицах О тебе не умолкнет молва, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва! Мы запомним суровую осень, Скрежет танков и отблеск штыков, И в сердцах будут жить двадцать восемь Самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, Чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!1941
Владимир Лифшиц Баллада о черством куске
(Ленинград. Зима 1941–1942 г.)
По безлюдным проспектам Оглушительно звонко Громыхала На дьявольской смеси Трехтонка. Леденистый брезент Прикрывал ее кузов — Драгоценные тонны Замечательных грузов. Молчаливый водитель, Примерзший к баранке, Вез на фронт концентраты, Хлеба вез он буханки, Вез он сало и масло, Вез консервы и водку, И махорку он вез, Проклиная погодку. Рядом с ним лейтенант Прятал нос в рукавицу. Был он худ. Был похож на голодную птицу. И казалось ему, Что водителя нету, Что забрел грузовик На другую планету. Вдруг навстречу лучам — Синим, трепетным фарам — Дом из мрака шагнул, Покорежен пожаром. А сквозь эти лучи Снег летел, как сквозь сито, Снег летел, как мука,— Плавно, медленно, сыто… — Стоп! — сказал лейтенант. — Погодите, водитель. Я, — сказал лейтенант,— Здешний все-таки житель.— И шофер осадил Перед домом машину, И пронзительный ветер Ворвался в кабину. И взбежал лейтенант По знакомым ступеням. И вошел… И сынишка прижался к коленям. Воробьиные ребрышки… Бледные губки… Старичок семилетний В потрепанной шубке. — Как живешь, мальчуган? Отвечай без обмана!..— И достал лейтенант Свой паек из кармана. Хлеба черствый кусок Дал он сыну: — Пожуй-ка, — И шагнул он туда, Где дымила буржуйка. Там, поверх одеяла, — Распухшие руки. Там жену он увидел После долгой разлуки. Там, боясь разрыдаться, Взял за бедные плечи И в глаза заглянул, Что мерцали, как свечи. Но не знал лейтенант Семилетнего сына: Был мальчишка в отца — Настоящий мужчина! И когда замигал Догоревший огарок, Маме в руку вложил он Отцовский подарок. А когда лейтенант Вновь садился в трехтонку, — Приезжай!! — Закричал ему мальчик вдогонку. И опять сквозь лучи Снег летел, как сквозь сито, Снег летел, как мука,— Плавно, медленно, сыто… Грузовик отмахал уже Многие версты. Освещали ракеты Неба черного купол. Тот же самый кусок — Ненадкушенный, Черствый — Лейтенант В том же самом кармане Нащупал. Потому что жена Не могла быть иною И кусок этот снова Ему подложила. Потому что была Настоящей женою, Потому что ждала, Потому что любила. Грузовик по мостам Проносился горбатым, И внимал лейтенант Орудийным раскатам, И ворчал, что глаза Снегом застит слепящим, — Потому что солдатом Он был настоящим.1942
Михаил Луконин Мои друзья
Госпиталь. Все в белом. Стены пахнут сыроватым мелом. Запеленав нас туго в одеяла И подтрунив над тем, как мы малы, Нагнувшись, воду по полу гоняла Сестра. А мы глядели на полы, И нам в глаза влетала синева, Вода, полы… Кружилась голова. Слова кружились: — Друг, какое нынче? — Суббота? — Вот, не вижу двадцать дней…— Пол голубой в воде, а воздух дымчат. — Послушай, друг…— И все о ней, о ней. Несли обед. Их с ложек всех кормили, А я уже сидел спиной к стене. И капли щей на одеяле стыли. Завидует танкист ослепший мне, И говорит про то, как двадцать дней Не видит. И — о ней, о ней, о ней… — А вот сестра, ты письма продиктуй ей! — Она не сможет, друг, тут сложность есть. — Какая сложность, ты о ней не думай… — Вот ты бы взялся! — Я? — Ведь руки есть?! — Я не могу. — Ты сможешь! — Слов не знаю! — Я дам слова! — Я не любил… — Люби! Я научу тебя, припоминая… Я взял перо. А он сказал: — «Родная».— Я записал. Он: — «Я, считай, убит». — «Живу!» — я записал. Он: — «Ждать не надо…» — А я, у правды всей на поводу, Водил пером: «Дождись, моя награда…» Он: — «Не вернусь»,— А я: «Приду! Приду!» Шли письма от нее. Он пел и плакал, Держал письмо у отворенных глаз. Теперь меня просила вся палата: — Пиши! — Их мог обидеть мой отказ. — Пиши! — Но ты же сам сумеешь, левой! — — Пиши! — Но ты же видишь сам! — Пиши!.. Все в белом. Стены пахнут сыроватым мелом. Где это все? Ни звука. Ни души. Друзья, где вы?.. Светает у причала. Вот мой сосед дежурит у руля. Все в памяти переберу сначала. Друзей моих ведет ко мне земля. Один — мотор заводит на заставе, Другой с утра пускает жернова. А я? А я молчать уже не вправе, Порученные мне, горят слова. — Пиши! — диктуют мне они. Сквозная Летит строка. — Пиши о нас! Труби!.. — Я не могу! — Ты сможешь! — Слов не знаю… — Я дам слова! Ты только жизнь люби!1947
Михаил Львов «Мы стольких в землю положили…»
Мы стольких в землю положили, Мы столько стойких пережили, Мы столько видели всего — Уже не страшно ничего… И если все-таки про войны Я думать не могу спокойно И если против войн борюсь — Не потому, что войн боюсь. А если даже и боюсь,— Не за себя боюсь — за тех, Кто нам теперь дороже всех, Кого пока что век наш нежил И кто пока еще и нé жил, Кто ни слезы не уронил, Кто никого не хоронил.1956
Марк Максимов Мать
Жен вспоминали на привале, друзей — в бою. И только мать не то и вправду забывали, не то стеснялись вспоминать. Но было, что пред смертью самой видавший не один поход седой рубака крикнет: — Мама! …И под копыта упадет.1945
Алексей Марков Уборщица
Метро. Воскреснувшие в бронзе, Стоят солдаты Октября, И электрическое солнце Сияет, в мраморе горя. Среди бойцов моряк с гранатой. Упрямый взгляд, широкий шаг… Вот так в сражении когда-то Был встречен краснофлотцем враг. Сюда уборщица приходит, Лишь только загорится свет, Порядок ревностно наводит Уж сколько зим, уж сколько лет! На плечи краснофлотцу ляжет Рука в прожилках голубых. Уборщица ему расскажет О новостях, делах своих, Как было раньше каждым летом, Когда моряк — родной сынок, В простую форменку одетый, К ней приезжал на краткий срок. Бывало, теплые ладони Лежали долго на плечах. Он для нее не похоронен В холодных мурманских ночах.1951
Сергей Марков Рябинин-город
Цветет в Рябинине герань, И на столе вздыхает ткань Камчатой скатертью с кистями… Смеются алые уста, Когда — нарядна и проста — Ты пьешь рябиновку с гостями. В ковригу воткнут синий нож, И чарка алою слезою Блестит… Я знаю — ты живешь За малой речкой Бирюзою. К тебе за Бирюзу пойду, Щеколду у дверей найду, Сдержу — чтоб не раздалось звона… Ушли ли гости? Все ли спят? Не спишь ли ты? Считает сад Хладеющие листья клена… Рябинин-город! Явь иль сон? — И смех, и волосы что лен, И рассудительные речи. В светлице — шитые холсты, И вздохи теплой темноты, И в полотне прохладном плечи! Не зря в Рябинине подряд Семь дней сверкает листопад, Не быть ли заморозку ныне? И не сочтешь ли ясным сном Ты утром иней за окном И снег туманный на рябине?..1940
Леонид Мартынов След
А ты? Входя в дома любые — И в серые, И в голубые, Всходя на лестницы крутые, В квартиры, светом залитые, Прислушиваясь к звону клавиш И на вопрос даря ответ, Скажи: Какой ты след оставишь? След, Чтобы вытерли паркет И посмотрели косо вслед, Или Незримый прочный след В чужой душе на много лет?1946
Самуил Маршак Словарь
Усердней с каждым днем гляжу в словарь. В его столбцах мерцают искры чувства. В подвалы слов не раз сойдет искусство, Держа в руке свой потайной фонарь. На всех словах — события печать. Они дались недаром человеку. Читаю: «Век. От века. Вековать. Век доживать. Бог сыну не дал веку. Век заедать. Век заживать чужой»… В словах звучат укор, и гнев, и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, А древняя рассыпанная повесть.1946
Михаил Матусовский Мальчикам
Пусть достанутся мальчикам самые лучшие книги — Описания неба, строений и горных пород, Трудовых инструментов — от камня до первой мотыги, Незнакомых народов и климатов разных широт. Мы об этом и сами когда-то тревожно мечтали — Пусть на стол им положат усталых моторов сердца, Механизмы часов и машин потайные детали — И они их сломают, но смогут понять до конца. Дважды два — не четыре, и дважды четыре — не восемь. Мир еще не устроен, как это ему надлежит. Бьют железом о камень, и воздух грозовый несносен. И война, как чума, по Европе еще пробежит. Пусть достанется мальчикам столик с чертежным прибором, Шкаф для верхнего платья и этот особый уют, Создаваемый жесткими полками в поезде скором И летящими шторами узких военных кают. Пусть достанутся мальчикам двери, открытые настежь, Путеводные звезды, зажженные нами во мгле, И мечта о всеобщем, большом человеческом счастье На еще неуютной, еще предрассветной земле.1939
Александр Межиров Коммунисты, вперед!
Есть в военном приказе Такие слова, На которые только в тяжелом бою (Да и то не всегда) Получает права Командир, подымающий роту свою. Я давно понимаю Военный устав И под выкладкой полной Не горблюсь давно. Но, страницы устава до дыр залистав, Этих слов До сих пор Не нашел Все равно. Год двадцатый. Коней одичавших галоп. Перекоп. Эшелоны. Тифозная мгла. Интервентская пуля, летящая в лоб, — И не встать под огнем у шестого кола. Полк Шинели На проволоку побросал,— Но стучит над шинельным сукном пулемет, И тогда еле слышно сказал комиссар: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед! Есть в военном приказе Такие слова! Но они не подвластны Уставам войны. Есть — Превыше устава — Такие права, Что не всем, Получившим оружье, Даны… Сосчитали штандарты побитых держав, Тыщи тысяч плотин Возвели на реках. Целину подымали, Штурвалы зажав В заскорузлых Тяжелых Рабочих Руках. И пробило однажды плотину одну На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре. И прошли головные бригады Ко дну, Под волну, На морозной заре В декабре. И когда не хватало «…Предложенных мер…» И шкафы с чертежами грузили на плот, Еле слышно сказал молодой инженер: — Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, вперед! Летним утром Граната упала в траву, Возле Львова Застава во рву залегла. «Мессершмитты» плеснули бензин в синеву, — И не встать под огнем у шестого кола. Жгли мосты На дорогах от Бреста к Москве. Шли солдаты, От беженцев взгляд отводя. И на башнях Закопанных в пашни «КВ» Высыхали тяжелые капли дождя. И без кожуха Из сталинградских квартир Бил «максим», И Родимцев ощупывал лед. И тогда еле слышно сказал =командир: — Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, вперед! Мы сорвали штандарты Фашистских держав, Целовали гвардейских дивизий шелка И, древко Узловатыми пальцами сжав, Возле Ленина В мае Прошли у древка… Под февральскими тучами — Ветер и снег, Но железом нестынущим пахнет земля. Приближается день. Продолжается век. Индевеют штыки в караулах Кремля… Повсеместно, Где скрещены трассы свинца, Или там, где кипенье великих работ, Сквозь века, на века, навсегда, до конца: — Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!1947
Сергей Михалков Заяц во хмелю
(Басня)
В день именин, а может быть, рожденья, Был Заяц приглашен к Ежу на угощенье. В кругу друзей, за шумною беседой, Вино лилось рекой. Сосед поил соседа. И Заяц наш, как сел, Так, с места не сходя, настолько окосел, Что, отвалившись от стола с трудом, Сказал: «Пшли домой!» — «Да ты найдешь ли =дом? — Спросил радушный Еж.— Поди, как ты хорош? Уж лег бы лучше спать, пока не протрезвился! В лесу один ты пропадешь: Все говорят, что Лев в округе объявился!» Что Зайца убеждать? Зайчишка захмелел. «Да что мне Лев! — кричит. — Да мне ль его ==бояться? Я как бы сам его не съел! Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться! Да я семь шкур с него спущу И голым в Африку пущу!..» Покинув шумный дом, шатаясь меж стволов, Как меж столов, Идет Косой, шумит по лесу темной ночью: «Видали мы в лесах зверей почище Львов, От них и то летели клочья!..» Проснулся Лев, услышав пьяный крик, — Наш Заяц в этот миг сквозь чащу продирался. Лев — цап его за воротник! «Так вот кто в лапы мне попался! Так это ты шумел, болван? Постой, да ты, я вижу, пьян — Какой-то дряни нализался!» Весь хмель из головы у Зайца вышел вон! «Да я… Да вы… Да мы… Позвольте объясниться! Помилуйте меня! Я был в гостях сейчас. Там лишнего хватил. Но все за Вас! За Ваших Львят! За Вашу Львицу! — Ну, как тут было не напиться?!» И, когти подобрав, Лев отпустил Косого. Спасен был хвастунишка наш!* * *
Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного, Но обожал… подхалимаж.1945
Иван Молчанов Песнь о солдате
«Здесь похоронен солдат из Таганрога,
красноармеец Майборода. Прощай, наш дружок!»
(Солдатская надпись на могиле советского воина, павшего в дальнем краю.) По тем полям, по тем дорогам, Где друг потерян не один, Шагал солдат из Таганрога Через Румынию в Берлин. Он видел Прут, он брал Карпаты, Входил в чужие города: Он шел до Гитлера с расплатой, Лихой солдат Майборода. На штык проверенный надеясь, Он перед боем говорил: — Иди вперед, красноармеец, Как встарь суворовец ходил! А минет бой — твердил, бывало, В окопе, в хате, где-нибудь: — Та ще одной версты не стало, Та ще верстой короче путь! Была весна. Цвела калина. Теплела в заводях вода. Не дошагал он до Берлина, Безвестный друг — Майборода. Уж, видно, так — в снарядном гуле Судьба не всем сестрой была: В чужом краю шальная пуля Солдатский путь оборвала. Солдат упал. Но, как бывало, Сказал, рукой держась за грудь: — От ще одной версты не стало, От ще верстой короче путь!.. Цветы росинки уронили, Застыла дума на лице… Друзья его похоронили В далеком городе Сенце. И в этот вечер тихо было У той акации в саду, И, словно мать, она закрыла Листвой бойца Майбороду. Никто его теперь не спросит: «Далек ли путь? Здоров ли ты?» Славяне вольные приносят Ему прощальные цветы. И скажет благородный житель: — За далью всех лесов и рек Ты умер — как освободитель, Советский храбрый человек… Да, время боем нас пытало! Но в коммунизм — и в этом суть — Еще одной версты не стало, Еще верстой короче путь! Пылит, пылит, пылит дорога, Домой ушли все поезда… Прощай, солдат из Таганрога, Прощай, дружок Майборода!1948
Константин Мурзиди Письмо
Письмо его написано в пути. Оно сквозит любовью неподкупной. То мелко, неразборчиво почти, То чересчур размашисто и крупно Ложились на листочке небольшом Строка к строке, и все с наклоном разным… Две первых строчки написал он красным, Другие две — простым карандашом. Последние — чернилами, с нажимом, Не сбившись, запятой не пропустив, Как пишут на предмете недвижимом, На возвышенье локоть утвердив. Что было тем устойчивым предметом: Дорожный камень, ящик иль седло? За столько миль письмо меня нашло, И понял я по всем его приметам, Как иногда в походах тяжело, Хотя в письме не сказано об этом.1940
Сергей Наровчатов Костер
Прошло с тех пор немало дней, С тех стародавних пор, Когда мы встретились с тобой Вблизи Саксонских гор, Когда над Эльбой полыхал Солдатский наш костер. Хватало хвороста в ту ночь, Сухой травы и дров, Дрова мы вместе разожгли, Солдаты двух полков, Полков разноименных стран И разных языков. Неплохо было нам с тобой Встречать тогда рассвет И рассуждать под треск ветвей, Что мы на сотни лет, На сотни лет весь белый свет Избавили от бед. И наш костер светил в ночи Светлей ночных светил, Со всех пяти материков Он людям виден был, Его и дождь тогда не брал И ветер не гасил. И тьма ночная, отступив, Не смела спорить с ним, И верил я, и верил ты, Что он неугасим. И это было, Джонни Смит, Понятно нам двоим! Но вот через столбцы газет Косая тень скользит, И снова застит белый свет, И свету тьмой грозит. Я рассекаю эту тень: — Где ты, Джонни Смит! В уэльской шахте ли гремит Гром твоей кирки, Иль слышит сонный Бирмингам Глухие каблуки, Когда ты ночью без жилья Бродишь вдоль реки. Но уж в одном ручаюсь я, Ручаюсь головой, Что ни в одной из двух палат Не слышен голос твой, И что в Париж тебя министр Не захватил с собой. Но я спрошу тебя в упор, Как можешь ты молчать, Как можешь верить в тишь, да гладь, Да божью благодать, Когда грозятся наш костер Смести и растоптать. Костер, что никогда не гас В сердцах простых людей, Не погасить, не разметать Штыками патрулей С полос подкупленных газет, С парламентских скамей! Мы скажем это, Джонни Смит, Товарищ давний мой, От имени простых людей Большой семьи земной Всем тем, кто смеет нам грозить Войной! Мы скажем это, чтоб умолк Вой продажных свор, Чтоб ярче, чем в далекий день, Вблизи Саксонских гор Над целым миром полыхал Бессмертный наш костер!1946
Александр Николаев Моя рука
Я слышал одного юнца, что, не придав словам значенья, сказал для красного словца: — Я б руку дал на отсеченье! Послушай, друг! Когда война кончалась в Западной Европе, моя рука погребена была в засыпанном окопе. С тех пор прошло немало лет, давно зарубцевалась рана, но руку, ту, которой нет, я ощущаю непрестанно. То пробежит по ней огонь, то у запястья нерв забьется, то вдруг зачешется ладонь, а то в тугой кулак сожмется. Пусть на приветствие в ответ могу и левую подать я, сама рука, которой нет, рванется для рукопожатья. Не знаешь ты наверняка, что упадут, к примеру, спички, и сразу дернется рука, чтоб подхватить их по привычке. А это тоже не секрет, не доведись такое сроду, я по руке, которой нет, могу предсказывать погоду. Скажи, ты слышал, наконец, как малыши хохочут звонко, когда смеющийся отец подбрасывает вверх ребенка? …И я смотрю спокойно вдаль, постигнув гордых слов значенье. Смотря за что, а то не жаль и две руки на отсеченье!1955
Лев Озеров Северная гравюра
Ветвистый лось стоял на косогоре, Прислушиваясь к шелестам лесным. Тропа в кустах вилась, как узкий дым, И тучи шли, И ветер, с ними споря, Деревья пригибал к земле. И лось Стоял внимательный И думал: что стряслось? Он весь напрягся: Леса шелестенье Дразнило зверя чуткое терпенье. Но он стоял. И спорили с кустом Его рога. И в воздухе пустом Раздался гром, Пространством повторенный. Залепетали листьями кусты, И на мгновенье вековые кроны Явились, просияв, из темноты. А лось стоял, Раскинув гордо ноги. Он видел молний горные дороги, Он ждал, он видел небо над собой И всматривался, будто он впервые Глядел на мир, И забирал губой На свежих листьях капли дождевые. Мне часто вспоминался этот лось, Внимательный, стоял он на дороге. В нем так могуче и законченно сплелось Спокойствие с готовностью к тревоге.1938
Александр Ойслендер Вечер на базе
Оттого, что не бывает тихо Ни зимой, ни летом, никогда, Город называется Гремиха — Ты видал такие города: Их кружком не отмечают карты, Снег их заметает с головой — И олени, впряженные в нарты, Пробегают улочкой кривой. Тральщик затихает у причала — И, на пристань твердую сойдя, Люди разминаются сначала После качки, ветра и дождя. Клуб набит, толпа стоит у входа — И под нескончаемый мотив Тяжело танцуют мореходы, Девушек румяных подхватив. Может быть, корабль уйдет с рассветом В океан суровый… но пока Девушка не думает об этом, Прижимаясь к локтю моряка… Снова ходит вьюга за саамом, Но и здесь, где только снег и лед, Мы живем и дышим тем же самым, Чем живет и дышит весь народ. Кто сказал, что здесь задворки мира? Это край, где любят до конца, Как в седых трагедиях Шекспира — Сильные и нежные сердца!1944
Булат Окуджава «Надежда, я вернусь тогда…»
Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел: не для меня земля сырая, а для меня — твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если целый век пройдет и ты надеяться устанешь, Надежда, если надо мною смерть развернет свои крыла, ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной, я все равно паду на той, на той далекой, на Гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.1959
Сергей Островой Январь
И всё, как в фельетонах Эренбурга… Угрюмые аллеи Бишофсбурга, На вывесках, у маленькой лавчонки, Два ангела присели на бочонки, Им холодно. Их некому жалеть. Но ангелы не могут улететь. А снег летит… Он забивает окна. Январь прядёт колючие волокна. И медленно окутывает тьма Безлюдные кварталы и дома. Войдем с тобой в пустынные квартиры. Навытяжку в шкафах стоят мундиры. Огромные, невиданной породы, Стоят благополучные комоды. И пухлые, багровые перины Грозят тебе, как горные лавины. Хозяев нет. Хозяева в дороге. Потерян чей-то перстень на пороге. Стоит в шкафу бордоское вино, О Франции задумалось оно. А на столе норвежские сардины, Голландский сыр, из Греции маслины, И белый холст из милой мне Полтавы, Где так грустны осенние дубравы. Все здесь сошлось. Все встало на виду В том роковом для Пруссии году. Она горит и мечется в огне. Вот рухнул дом. Вот копоть на стене. И страхового общества медали — Зачем-то врут, что дом застраховали!1945
Лев Ошанин Зоя Павловна
Все уже в конторе этой новой Знают, что над ней шутить нельзя, Что у Зои Павловны Стрельцовой Тихие и грустные глаза. Серенькое платье в полдень летний, Серенькая кофточка зимой… Все старается понезаметней, Все молчком, сутулясь, стороной. Словно все, что в жизни ей осталось, — Тоненько поскрипывать пером. Словно села здесь и попрощалась С тем, что в жизни радостью зовем. А сегодня… Нет, на самом деле, Что случилось? Плавен взмах руки. Щеки у нее порозовели И в глазах мелькнули огоньки. Что случилось? Просто к ним в контору, На плечах неся веселый снег, По пути зашел Иван Егорыч — Мало ей знакомый человек. Оказалось, что улыбкой можно В женском сердце вдруг разрушить мир. Для чего же так неосторожно Ты ей улыбнулся, бригадир? Угадал в ней что-нибудь такое, Что закрыто для других людей? Или, полный радостью другою, Невзначай ты подшутил над ней? А она могла бы быть красивой, Только надо посмелей глядеть, Не бежать от радости пугливо, Понарядней кофточку надеть. И была-то Зоя не такой. Вспомним юность над родной рекой. Зоя, зайка, заинька, зайчонок! Был ли кто звончей среди девчонок! Счастье пело над лесистой Камой В сочных травах, в блеске снеговом, Закружило и помчало замуж В солнечном году сороковом. Как ловил он каждый взгляд невесты, Как хмелел от робких ласк жены. Вася, Вася… Он погиб под Брестом Хмурым летом в первый год войны. Девочка еще наполовину, Вся любовью полная живой, В девятнадцать, в час рожденья сына, Матерью ты стала и вдовой. Так сломалась песня с полуслова. Сколько вас — огнем обожжена — Чуть не сразу из невест во вдовы Записала горькая война! В комнате, где все о нем шептало, Сколько Зоя плакала сначала, Недоцеловав, недолюбив. Сколько лет, по-прежнему влюбленной, Все ждала, не веря почтальону, Все хранила думку, что он жив. А когда однажды на закате Поняла, что больше ждать нельзя, — Смастерила серенькое платье, Потушила карие глаза. А сынок растет, как ясень. Можно В материнстве обрести свой мир. Для чего же так неосторожно Ты ей улыбнулся, бригадир? А быть может, угадаешь ты, Что не встретишь сердца ты заветней. До ее высокой красоты Далеко иной двадцатилетней.1954
Николай Панов Князь Хабибулла
Повсюду его называли «князь». Так звали торговцы его на рынке. Хозяйки, в оконный пролет склонясь, Его окликали так по старинке. Когда обходил он с мешком дворы В кургузой шинели зимой и летом, Веселые полчища детворы За ним, насмехаясь, бежали следом. Ребята дразнили: — Шурум-бурум! — Но петь продолжал низкорослый Будда: — Одежду берум, барахло берум…— Среди городского густого гуда. Встает над плитой Маслянистый чад… Купаются в мыльных корытах руки… Пять женщин под примусный гуд кричат… И вынесены на продажу брюки. Презреньем присутствующих облит (Презрение вписано в цифру платы!), Он нюхает пятна, сукно скоблит, На свет он рассматривает заплаты. Униженно ласков, нахально груб, Глухой и к насмешкам и к оскорбленьям, Часами торгуется он за рубль — Со страстью, с отчаяньем, с озлобленьем. И снова, на плечи взвалив мешок, За месяцем однообразный месяц Он нес нищету азиатских щек По дебрям толкучек и черных лестниц. С рассвета до вечера, В дождь и в грязь, На лестницах тощий татарин брезжил, Но в окнах всё реже кричали: «Князь!», Старье выносили ему всё реже. Под грузом мешка, узкоплеч и мал, С голодными, сумрачными глазами, Он жизни жестокой не понимал — Татарский подросток из-под Казани. Что видел он в жизни? Отец и дед Работу одну ему завещали: — Ты хочешь быть сыт, хочешь быть одет — Ходи по квартирам, торгуй вещами… — Он был все костлявей и голодней, Он плакал, он стягивал туже пояс. И бросил мешок свой в один из дней И сел без билета в уральский поезд. А плыл над Союзом тридцатый год, И шла в перековку за местностью местность. Снимался с насиженных гнезд народ С вещами и с семьями — в неизвестность. Корзины, ребята, с едой кульки, Махорочный запах, крутой и стойкий… Спасают имущество кулаки, Колхозники едут на новостройки… Из дымного мрака летят огни, На полках трясутся тела тугие. От прежнего счастья бегут одни, За будущим счастьем спешат другие. На поиски счастья, отчизны второй Они завербованы ехать скопом… И «князь» нанялся на Магнитострой В бригаду татарскую землекопом. Представьте огромный степной простор — Ветристый простор без травы и леса. Три облачных конуса рыжих гор, Природой сработанных из железа. Бесцветное пламя прямых лучей, Которые летом невыносимы… По высохшим глинам — реки ручей… И полные вьюг Ледяные зимы. Какая суровая жизнь была! Как, бросив лопату, кидался наземь Жарой оглушенный Хабибулла, Которого люди прозвали «князем»! Какой замороженный ветер дул! Как двое одним полушубком грелись, Когда под строительный звон и гул На шпалы ложился за рельсом рельс. Как их агитировал хитрый враг Словами змеиного жала тоньше, Когда заливало дождем барак, В котором он спал — молодой бетонщик. Но как ликовал он, как был он горд, Забыв про нехватки и неполадки, Когда удалось им побить рекорд — Труднейший рекорд по бетонной кладке! Как он про геройство узнал, про честь, Как сел за букварь в керосинном свете… И как он сумел по складам прочесть Фамилию собственную В газете! И встали в пустыне за домом дом, И вырос мартеновский цех — огромен — Над рельсами, над заводским прудом, Под башнями трех исполинских домен. Погодка за окнами хороша! Сегодня металл выдавали рано. Громаду пылающего ковша Хватают два согнутых пальца крана. Внизу поездов бесконечных бег, Солнцеподобные блещут печи. Спокойный, уверенный человек Над цехом стоит, напрягая плечи. Косоворотка на нем бела… Прорезали лоб две крутых морщины… Металл разливает Хабибулла Огромной и цепкой рукой машины. И ярок коричневых скул оскал, Сутулость исчезла его былая. — Я книжки читал, я цемент таскал. Магнитогорец — Хабибулла я! — Но сменит улыбку стыда смешок, И тускло зардеются оба уха. Тогда вспоминает он свой мешок, Свои путешествия в дебрях кухонь, Тогда вспоминает он те года, Которые липли, как комья грязи… Теперь никогда, никогда, никогда Его обозвать не посмеют «князем»! Его, кто попал в переплав к труду И выплавлен грамотным и здоровым. За цехом мартеновским рвут руду, И домны ревут океанским ревом.1932
Сергей Поделков «Алмаз шлифуется алмазом…»
Алмаз шлифуется алмазом, строка диктуется строкой — и камень станет живоглазым, и нашу речь наполнит разум магнитной силой колдовской. Пусть атом разбивает атом; и все ж не надобно шутить — не сможет скальпелем анатом, ни электронным аппаратом вселенную души раскрыть. Когда печаль в нас въестся ржою, иль душит мысль несчастья жом, душа ни медом, ни вожжою, душа врачуется душою — и в малом горе, и в большом. Знать, и в природе тот же высчет: с одним крылом невмочь взлететь, реке подспорьем речек тыщи, лист у листа опоры ищет, и ветвь поддерживает ветвь. А нам все кажется и мнится — мы сами по себе живем: мол, свой талан в своей деснице, мол, наша суть — самосветиться, а остальное ни при чем. Мы возвеличиваем дар свой, запамятав, что наяву не ради прихоти и барства питают корни государства нас, нас — шумящую листву. И ствол с могучими суками нас держит до осенних дней, чтоб пили солнечное пламя для тех, кто вслед растет за нами для обновления ветвей. Но в грозах длится жизни лето, на голос — голос, отзовись! И в черном космосе ракета не просто времени примета, не индивидуума высь — в ней чувств и мыслей сопряженье, мощь молота и дань серпа — колосья в мирном озаренье светил, и наш державный гений в единстве нашего герба. Пока в лад сердцу блещет разум и государства ствол живой нас поднимает к солнцу разом — алмаз шлифуется алмазом, строка диктуется строкой.1960
Григорий Поженян Есть у моря свои законы
Есть у моря свои законы, есть у моря свои повадки. Море может быть то зеленым с белым гребнем на резкой складке, то без гребня — свинцово-сизым с мелкой рябью волны гусиной, то задумчивым, светло-синим, просто светлым и просто синим, чуть колышимым легким бризом. Море может быть в час заката то лиловым, то красноватым, то молчащим, то говорливым, с гордой гривой в часы прилива. Море может быть голубое, и порою в дневном дозоре глянешь за борт, и под тобою то ли небо, а то ли море. Но бывает оно и черным, черным, мечущимся, покатым, неумолчным и непокорным, поднимающимся, горбатым, в белых ямах, в ползучих кручах, переливчатых, неминучих, распадающихся на глыбы, в светлых полосах мертвой рыбы. А какое бывает море, если взор застилает горе? А бывает ли голубое море в самом разгаре боя — в час, когда, накренившись косо, мачты низко гудят над ухом и натянутой ниткой тросы перескрипываются глухо; в час, когда у наклонных палуб ломит кости стальных распорок и, уже догорев, запалы поджигают зарядный порох? Кто из нас в этот час рассвета смел бы спутать два главных цвета?! И пока просыпались горны утром пасмурным и суровым, море виделось мне то черным, то — от красных огней — багровым.1951
Виктор Полторацкий Суздаль
Мороз идет по городу, Подняв седую бороду, Сухой поземкой стелется Февральская метелица. Заснеженная улица Сугробами сутулится. А на базарной площади Заиндевели лошади. Засиженные галками Старинные обители Глядят глазами жалкими, Как будто их обидели. Так что же здесь? Морозная Зима Ивана Грозного? Иль праздник ветра дикого Времен Петра Великого?.. Нет, и покров и троица Отбыли век свой с дедами, А здесь иное строится, Дела иные ведомы. И суздальские жители — До новостей любители — Сидят у телевизоров, Экраны ярко вызорив. И не тропинка узкая С соломенными вёшками, А вся равнина русская Лежит за их окошками. Растут мальчишки в Суздале, Покамест незаметные, Но им достанет удали Рвануться в межпланетное. Измерить Марс с Венерою Своей, земною, мерою. И, оглянувшись издали, Припомнить Зиму в Суздале.1960
Александр Поморский Весна на Волге
Черемуха над Волгой так душиста!
Закончился недавно ледоход. Помятый шлем убитого фашиста Под сталинградским берегом плывет. Вот шлем волною увлекает в омут, Вот, захлебнувшись, он ко дну идет. А над великой Волгой по-родному, По-прежнему черемуха цветет!1945
Антон Пришелец Руки
Руки свои по-барски не холил, Бриллиантами, золотом не украшал. Я ими долго работал в поле, Землю копал И камни таскал. Я ими деревья в лесу рубил, Строил дороги, мостил мосты. Но очень следил я И очень любил, Чтоб были руки мои чисты. Я уставал, Но не звал покоя: Любил, что в жизни Берется с бою! И как бы достаток мой ни был мал, Я никогда не просил подачек. Я рук не тянул за чужой удачей И чужого счастья Не отнимал. Не всякий в трудностях устоит, А я стоял, не жалея сил, И руки, такие же, как мои, При встрече крепко пожать любил. Я знаю, мне жить еще много дней, Много работать среди друзей. Но если, товарищ, придет беда Иль встретится недруг тебе и мне — На эти руки мои всегда, Как на свои, Положись вполне!1939
Роберт Рождественский Рыбаки
Что вы ловите, рыбаки? Что ловите?.. Как всегда, неприступны и застенчивы, над гудящею рекой вы расставили локти, будто не удочки у вас в руках, а уздечки. Будто это не река, а конь взнузданный, будто слышится вам топот копыт частый, будто в жизни вам только это и нужно: вечно мчаться за своим рыбацким счастьем. Пригибаясь к холке коня, тихо охаете… А к высоким сапогам глина прилипла. А в ведерках сплошняком ерши да окуни… А где же она, где, золотая ваша рыбка? Мимо вас по реке — лодки, лодки… А за моим окном глухо шумит улочка. Я сижу, расставив широко локти, У меня в руках не карандаш — тоже удочка. Я, как вы, рыбаки, пробую разное. Мне ленивую плотву ловить не хочется. Я в поток ревущий удочку забрасываю, по бумажному листу круги расходятся. Расходятся круги, разбегаются… А улов мой вяло иглами ершится. Над усталой головой солнце катится, в каждой капле отражаясь, в каждой жизни… Может, скажут: «Ты ловить не умеешь!.. Не всегда тебе терпенья хватает!..» Нет, поймите: надоела мне мелочь, мелочь… А где она? Где моя рыбка золотая? Где она, неповторимая, хоронится? На какой такой глубине опасной?.. Как вам ловится, рыбаки? Как ловится?.. Я желаю вам удачи, удачи рыбацкой.1961
Михаил Рудерман Песня о тачанке
Ты лети с дороги, птица, Зверь, с дороги уходи! Видишь, облако клубится, Кони мчатся впереди. И с налета, с поворота, По цепи врагов густой Застрочит из пулемета Пулеметчик молодой. Эх, тачанка-ростовчанка, Наша гордость и краса, Приазовская тачанка, Все четыре колеса! Эх, за Волгой и за Доном Мчался степью золотой Загорелый, запыленный Пулеметчик молодой. И неслась неудержимо С гривой рыжего коня Грива ветра, грива дыма, Грива бури и огня. Эх, тачанка-киевлянка, Наша гордость и краса, Украинская тачанка, Все четыре колеса! По земле грохочут танки, Самолеты петли вьют, О буденновской тачанке В небе летчики поют. И врагу поныне снится Дождь свинцовый и густой, Боевая колесница, Пулеметчик молодой. Эх, тачанка-полтавчанка, Наша гордость и краса, Пулеметная тачанка, Все четыре колеса!1935
Давид Самойлов Его слово
Не легенда, не обожествленье — Просто жил нужнейший людям человек. …Вижу снова — на трибуне Ленин Смелым жестом осеняет век. И не смыт тревожным отдаленьем Этот облик, четкий, как гранит. …Вижу снова — на трибуне Ленин Перед съездом слово говорит. И молчит расчетливая робость, И пустая гордость смущена. В этом слове сила и суровость Революции воплощена. Он внушает право и законность Баррикадам — биться до конца. В этом слове — целеустремленность Революции. И все сердца, Ощущая времени огромность, Начинают биться, как одно. В этом слове простота и скромность Революции. Ему дано Обнимать событья четкой мыслью, Несогласных логикой круша. В этом слове — страсть и бескорыстье Революции. Ее душа Здесь встает, чтоб до конца бороться, Зная цель и не жалея сил. В этом слове — честь и благородство Революции. Он возносил Главное. На место ставил частность. Разделял случайность и закон. В этом слове — доброта и ясность Революции. Ладонью он Разрубал всех доводов негодность, Звал вперед, в иные времена. В этом слове — воля и народность Революции…1950
Григорий Санников Прощание с керосиновой лампой
Пожилую, неприветную, Закоптелую, в пыли, Мне вчера подругу медную Из чулана принесли. За окном соборов зодчество Без крестов и без огней. Я затеплил в одиночестве Лампу юности моей. Сразу все былое вспомнилось: Ночи, зори, петухи. Золотое пламя «молнии» На мои лилось стихи. А я в пылких юных чаяньях, Дерзок, прыток и упрям, Навсегда бросался в плаванья По развернутым морям. Я по странам неисхоженным С караванами шагал, Над стихами невозможными И смеялся и рыдал. Помнишь, лампа, время зимнее. Ночь. Беспамятство снегов. Девушке с глазами синими Говорил я про любовь. Ты всему была свидетелем. Но однажды в час ночной Догорела, не заметила — Я покинул дом родной. Тишину твою уездную, Сад с оркестром в полумгле И свою каморку тесную С кипой книжек на столе — Все, что сердцу было дорого, Все оставил, разлюбил И в огнях большого города В революцию вступил. Годы шли крутые, быстрые, Буреломные года. По стране рассветной выстрелы Грохотали… А когда Вслед за песнею победною Вспыхнул свет электроламп, Керосиновую, медную, Отнесли тебя в чулан. Под портретом государевым, Возле сваленных икон Отсияло твое зарево, Схоронился медный звон. Отошла в былое бедная Дней уездных тишина. Керосиновая, медная, Никому ты не нужна. Нынче всюду электричество, Край наш вятский знаменит, Но тот пламень твой лирический До сих пор во мне звенит. Попрощаемся, ровесница, Лампа юности моей. Передам тебя я с песнею В краеведческий музей. Будешь ты под черным номером Мало места занимать, Обо всем, что было, померло, Будешь ты напоминать. Может, кто-нибудь, задумавшись, Вспомнит ночи при огне И мечты мужавших юношей Там, в уездной тишине.1928
Михаил Светлов Гренада
Мы ехали шагом, Мы мчались в боях, И «Яблочко» песню Держали в зубах. Ах, песенку эту Доныне хранит Трава молодая — Степной малахит. Но песню иную О дальней земле Возил мой приятель С собою в седле. Он пел, озирая Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Он песенку эту Твердил наизусть… Откуда у хлопца Испанская грусть? Ответь, Александровск, И Харьков, ответь: — Давно ль по-испански Вы начали петь? Скажи мне, Украйна, Не в этой ли ржи Тараса Шевченко Папаха лежит? Откуда ж, приятель, Песня твоя: «Гренада, Гренада, Гренада моя»? Он медлит с ответом — Мечтатель-хохол: — Братишка! Гренаду Я в книге нашел. Красивое имя, Высокая честь — Гренадская волость В Испании есть! Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать. Прощайте, родные! Прощайте, семья! «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Мы мчались, мечтая Постичь поскорей Грамматику боя — Язык батарей. Восход поднимался И падал опять, И лошадь устала Степями скакать. Но «Яблочко» песню Играл эскадрон Смычками страданий На скрипках времен… Где же, приятель, Песня твоя: «Гренада, Гренада, Гренада моя»? Пробитое тело Наземь сползло, Товарищ впервые Оставил седло. Я видел: над трупом Склонилась луна, И мертвые губы Шепнули: «Грена…» Да! В дальнюю область, В заоблачный плес Ушел мой приятель И песню унес. С тех пор не слыхали Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Отряд не заметил Потери бойца И «Яблочко» песню Допел до конца. Лишь по небу тихо Сползла погодя На бархат заката Слезинка дождя… Новые песни Придумала жизнь… Не надо, ребята, О песне тужить. Не надо, не надо, Не надо, друзья… Гренада, Гренада, Гренада моя!1926
Илья Сельвинский Охота на тигра
1
В рыжем лесу олений рёв: Изюбрь окликает коров, Другой с коронованной головой Отзывается воем на вой — И вот сквозь кусты и через ручьи На поединок летят рогачи.2
Важенка робко стоит бочком За венценосным быком. Его плечи и грудь покрывает грязь, Измазав чалый окрас, И он, оскорбляя соперника басом, Дует в ноздри и водит глазом.3
И тот выходит огромный, как лось, Шею вдвое напруживая. До третьих сучьёв поразрослось Каменное оружие, Он грезит о ней, о единственной, той! Глаза залиты кровавой мечтой.4
В такие дни, не чуя ног, Иди в росе по колени. В такие дни бери манок, Таящий голос оленя, И лад его добросовестно зубря, Воинственной песнью мани изюбря.5
Так и было. Костром начадив, Засели в кустарнике на ночь Охотник из гольдов, я и начдив, Некто Игорь Иваныч. Мы слушали тьму. Но брезжит рассвет, А почему-то изюбрей нет.6
Охотник дунул. (Эс[2]). Тишина. Дунул еще. Тишина. Без отзыва по лесам неслась Искусственная страсть. Что ж он оглох, этот каверзный лес-то? Думали — уж не менять ли место.7
И вдруг вдалеке отозвался рёв. (В уши ударила кровь…) Мы снова — он ближе. Он там. Он тут — Прямо на наш редут. Нет сомненья: на дудошный зык Шел великолепный бык.8
Небо уже голубело вовсю. Было светло в лесу. Трубя по тропам звериных аллей, Сейчас на нас =налетит олень… Сидим — не дышим. На изготовке Три винтовки.9
И вдруг меж корней — в травяном горизонтце — Вспыхнула призраком вихря Золотая. Закатная. Усатая, как солнце, Жаркая морда тигра! Полный балдёж во блаженном успенье — Даже… выстрелить не успели.10–11
Олени для нас потускнели вмиг. Мы шли по следам напрямик. Пройдя километр, осели в кустах. Час оставались так. Когда ж тишком уползали в ров, Снова слышим изюбревый рёв — И мы увидали нашего тигра! В оранжевый за лето выгоря, Расписанный чернью, по золотому сед, Драконом, покинувшим храм, Хребтом повторяя горный хребет, Спускался он по горам.12
Порой остановится, взглянет грустно, Раздраженно дернет хвостом, И снова его невесомая грузность Движется сопками в небе пустом. Рябясь от ветра, ленивый, как знамя, Он медленно шел на сближение с нами.13
Это ему от жителей мирных Красные тряпочки меж ветвей, Это его в буддийских кумирнях Славят, как бога: Шан Жен — Мет — Вэй![3] Это он, по преданью, огнем дымящий, Был полководцем китайских династий.14
Громкие галки над ним летали, Как черные ноты рычанья его. Он был пожилым, но не стар летами — Ужель ему падать уже не стерво? Увы — все живое швыряет взапуск Пороховой тигриный запах.15
Он шел по склону военным шагом, Все плечо выдвигая вперед; Он шел, высматривая по оврагам, Где какой олений народ — И в голубые струны усов Ловко цедил… изюбревый зов.16
Милый! Умница! Он был охотник: Он применял, как мы, «манок». Рогатые дурни в десятках и сотнях Летели скрестить клинок о клинок, А он, подвывая с картавостью слабой, Целился пятизарядной лапой.17
Как ему, бедному, было тяжко! Как он, должно быть, страдал, рыча: Иметь. Во рту. Призыв. Рогача — И не иметь в клыках его ляжки. Пожалуй, издавши изюбревый зык, Он первое время хватал свой язык.18
Так, вероятно, китайский монах, Косу свою лаская, как девичью, Стонет… Но гольд вынимает манок. Теперь он суровей, чем давеча, Гольд выдувает возглас оленя, Тигр глянул — и нет умиленья.19
С минуту насквозь прожигали меня Два золотых огня… Но вскинул винтовку товарищ Игорь, Вот уже мушка села под глаз, Ахнуло эхо! — секунда — и тигр Нехотя повалился в грязь.20
Но миг — и он снова пред нами, как миф, Раскатом нас огромив, И вслед за октавой глубокой, как Гендель, Харкнув на нас горячо. Он ушел в туман. Величавой легендой. С красной лентой. Через плечо.1932
Петр Семынин Гроза
В начале тополь кинулся к окну, Прося пустить его, как деда, в кухню, Когда, в три неба молнию загнув, Косматый гром над самым домом ухнул. Потом и небо, и земля, и день, И все, что мчалось мглы и воя комом, Вдруг захлебнулось в яростной воде, Ударившей из медных трещин грома. И только старый тополь за окном, Один, как Ной, оставшись во вселенной, Едва прикрыт бобыльим зипуном, Просился в кухню, кланяясь смятенно. Оттуда пахло хлебной тишиной, И небоглазый — лет пяти — мальчонка, Бесштанный, перепачканный золой, На подоконнике сидел тихонько. Он улыбался смутно, как во сне. Потом привстал и тоненькой рукою Отдернул вниз задвижку на окне И распахнул его навстречу вою. Вот это было весело, когда Совсем-совсем озябший старый тополь Ввалился в кухню, испугав кота, И — весь в дожде — залопотал, захлопал. Но мальчика, промокшего до пят, Уже в постель тащила мать, ругая. А буря здесь, что хлещет невпопад, Над кухней грохотала, не смолкая.1946
Николай Сидоренко Белым-бело
Твержу задание свое: На карте есть деревня Эн, И нужно отыскать ее, Не угодить ни в смерть, ни в плен… Закат пургою замело — И тьма, и ни звезды взамен! Белым-бело, белым-бело… Все снег да снег, все снег да снег. Захлебываюсь, но иду. Я шел бы даже и в бреду — И целый час, и день, и век, Назло пурге, себе назло, — Так скроен русский человек. Белым-бело, белым-бело… Прошел заставу вражью я, И кто-то громко закричал, И в ногу мне свинец попал, И ногу мне насквозь прожгло. Спасла пурга-ворожея. Идти мне, братцы, тяжело. Белым-бело, белым-бело… Мороз и ветер. Я продрог. По горло снег, все снег да снег! Нет сил моих и нет дорог — Кружусь, наверно, целый век. Ползти мне, братцы, тяжело, Не вижу неба и земли. Ворчат орудия вдали. Белым-бело, белым-бело… Хочу, чтоб знал мой генерал, Что не попал солдат впросак, Что я не умер просто так — Что много раз я умирал, Что много раз я воскресал, Что я искал, искал, искал, Что вправду было тяжело… Белым-бело, белым-бело…1945
Вадим Сикорский «Как я люблю людей родной России!..»
Как я люблю людей родной России! Они тверды. Их вспять не повернешь! Они своею кровью оросили Те нивы, где сегодня всходит рожь. Их не согнули никакие беды. И славить вечно вся земля должна Простых людей, которым за победы Я б звезды перелил на ордена.1945
Константин Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
А. Суркову
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные злые дожди, Как кринки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их к груди. Как слезы они вытирали украдкою, Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, Как встарь повелось на великой Руси… Слезами измеренный чаще, чем верстами, Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждою русской околицей, Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в бога не верящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина — Не дом городской, где я празднично жил, А эти поселки, что дедами пройдены, С простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскою Дорожной тоской от села до села, Со вдовьей слезою и песнею женскою Впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, По мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салопчике плисовом, Весь в белом, как на смерть одетый, старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но, горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, Покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем!» — говорили нам пажити. «Мы вас подождем!» — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям, только пожарища На русской земле раскидав позади, На наших глазах умирают товарищи, По-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют. Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За русскую землю, где я родился. За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла.1941
Борис Слуцкий Баня
Вы не были в районной бане В периферийном городке? Там шайки с профилем кабаньим И плеск, как летом на реке. Там ордена сдают вахтерам, Зато приносят в мыльный зал Рубцы и шрамы — те, которым Я лично больше б доверял. Там двое одноруких спины Один другому бодро трут. Там тело всякого мужчины Отметили война и труд. Там на груди своей широкой Из дальных плаваний матрос Лиловые татуировки В наш сухопутный край занес. Там я, волнуясь и ликуя, Читал, забыв о кипятке: «Мы не оставим мать родную!» — У партизана на руке. Там чувство острого блаженства Переживается в парной. Там слышен визг и хохот женский За деревянною стеной. Там рассуждают о футболе, Там, с поднятою головой, Несет портной свои мозоли, Свои ожоги горновой. Там всяческих удобств — немножко И много всяческой воды. Там не с довольства — а с картошки Иным раздуло животы. Но бедствий и сражений годы Согнуть и сгорбить не смогли Ширококостную породу Сынов моей большой земли. Вы не были в раю районном, Что меж кино и стадионом? В райбане были вы иль нет? Там два рубля любой билет.1947
Ярослав Смеляков Земля
Тихо прожил я жизнь человечью, ни бурана, ни шторма не знал, по волнам океана не плавал, в облаках и во сне не летал. Но зато, словно юность вторую, полюбил я в просторном краю эту черную землю сырую, эту милую землю мою. Для нее, ничего не жалея, я лишался покоя и сна, стали руки большие темнее, но зато посветлела она. Чтоб ее не кручинились кручи и глядела она веселей, я возил ее в тачке скрипучей так, как женщины возят детей. Я себя признаю виноватым, но прощенья не требую в том, что ее подымал я лопатой и валил на колени кайлом. Ведь и сам я, от счастья бледнея, зажимая гранату свою, в полный рост поднимался над нею и, простреленный, падал в бою. Ты дала мне вершину и бездну, подарила свою широту. Стал я сильным, как терн, и железным, словно окиси привкус во рту. Даже жесткие эти морщины, что по лбу и по щекам прошли, как отцовские руки у сына — по наследству я взял у земли. Человек с голубыми глазами, не стыжусь и не радуюсь я, что осталась земля под ногтями и под сердцем осталась земля. Ты мне небом и волнами стала, колыбель и последний приют… Видно, значишь ты в жизни немало, если жизнь за тебя отдают.1945
Сергей Смирнов В теплушке
Дорога та уже неповторима. Примерно суток около семи Отец да я — мы ехали из Крыма С небритыми военными людьми. В теплушке с нами ехали матросы, Растягивая песню на версту, Про девушку, про пепельные косы, Про гибель кочегара на посту. На станциях мешочники галдели, В вагоны с треском втискивали жен. Ругались. Умоляюще глядели. Но поезд был и так перегружен. Он, отходя, кричал одноголосо И мчался вдаль на всех своих парах, И кто-то падал прямо под колеса, Окоченев на ржавых буферах. Но как-то раз, Когда стояли снова, При свете станционного огня, С пудовыми запасами съестного Уселась тетка около меня. Она неторопливо раскромсала Ковригу хлеба ножиком своим. Она жевала резаное сало И никого не потчевала им. А я сидел и ожидал сначала, Что тетка скажет: мол, Покушай, на! Она ж меня совсем не замечала И продолжала действовать одна. Тогда матрос Рванул ее поклажу За хвост из сыромятного ремня, Немое любопытство будоража, В нутро мешка нырнула пятерня. И мне матрос вручил кусище сала, Ковригу хлеба дал и пробасил: — Держи, сынок, чтоб вошь не так кусала! — И каблуком цигарку погасил. Я по другим дорогам ездил много — Уже заметно тронут сединой, — Но иногда проходит та дорога, Как слышанная песня, предо мной! И кажется, что вновь гремят колеса, Что мчимся мы под пенье непогод. И в правоте товарища матроса Я вижу девятьсот двадцатый год.1938
Марк Соболь Академик из Москвы
Над землею небо чистое, путь не близок, не далек, и трусил рысцой небыстрою пожилой гнедой конек. А вокруг поля зеленые, птичий гомон, звон травы… Ехал к нам в село районное академик из Москвы. Захмелев от ветра свежего, тихо радуясь весне, ехал гость в костюме бежевом, в шляпе фетровой, в пенсне. Эй, гнедой, стучи копытами!.. За рекой пойдут сады, где на практике испытаны академика труды. Как в ладонь, сбирает лучики ранним утром каждый лист… Надо ж было, чтоб в попутчики попросился гармонист. Молча гостя поприветствовал, сел в телегу, хмурит бровь… Ах, какое это бедствие — без взаимности любовь! И гармонь выводит тоненько про разлуку, про беду, да к тому ж еще гармоника с гармонистом не в ладу. Часто пальцы ошибаются, звук срывается шальной… и сидит ученый, мается, как от боли от зубной. А вокруг — поля зеленые, птичий гомон, звон травы… Тронул за руку влюбленного академик из Москвы. Шляпу снял, пригладил волосы, помолчал один момент и сказал суровым голосом: — Разрешите инструмент! Быстро сдернул с переносицы золоченое пенсне. …Ах, какой мотив разносится по округе, по весне, над проселками и селами, по угодьям и садам! Пальцы быстрые, веселые, так и пляшут по ладам. Зреют в поле зерна тучные, вдалеке скрипят воза, и глядят на мир научные, очень добрые глаза. А гармонь выводит ласково свой напев издалека. …Было так: пошли подпасками ребятишки батрака. В кабалу белоголовые уходили неспроста: позади кусты репьевые на погосте у креста. Впереди — года… И вскорости парень в бедах пообвык, больше всех изведал горести и назвался — большевик. И уже поет гармоника голосисто и светло про буденновского конника: «Хлопцы, сабли наголо!» И опять услышать хочется на привалах у дорог тихий голос пулеметчицы, украинский говорок. Дым над степью, речку синюю — все запомнила она — дорогой профессор химии, академика жена. Как живой, остался в памяти комиссар Иван Быстров, научивший первой грамоте будущих профессоров. И, богатые победами, чередой пошли года. …Вот о чем они поведали, белых клавиш три ряда. Песня, песня!.. Над просторами пролегли пути ее. Глянь на все четыре стороны: все родное, все твое! И глазами восхищенными оглядевши даль дорог, улыбается ученому тот влюбленный паренек. А вокруг — поля зеленые, птичий гомон, звон травы… Ехал к нам в село районное академик из Москвы.1949
Владимир Соколов Первый снег
Хоть глазами памяти Вновь тебя увижу, Хоть во сне непрошено Подойду поближе. В переулке узеньком Повстречаю снова, Да опять, как некогда, Не скажу ни слова. Были беды школьные, Детские печали, Были танцы бальные В физкультурном зале. Были сборы, лагери, И серьез, и шалость. Много снегом стаяло, Много и осталось. С первой парты девочка, Как тебя забуду? Что бы ты ни делала — Становилось чудом. Станешь перед картою — Не урок, а сказка. Мне волшебной палочкой Кажется указка. Ты бежишь, и лестница Отвечает пеньем, Будто мчишь по клавишам, А не по ступеням. Я копил слова твои, Собирал улыбки, И на русском письменном Допускал ошибки. Я молчал на чтении В роковой печали, И моих родителей В школу вызывали. Я решал забыть тебя, Принимал решенье, Полное великого Самоотреченья. Я его затверживал, Взгляд косил на стены, Только не выдерживал С третьей перемены. Помнишь детский утренник Для четвертых классов? Как на нем от ревности Не было мне спасу. Как сидела в сумраке От меня налево На последнем действии «Снежной королевы». Как потом на улице Снег летит, робея, Смелый от отчаянья, Подхожу к тебе я. Снег морозный сыплется, Руки обжигает, Но, коснувшись щек моих, Моментально тает. Искорками инея Вспыхивают косы. Очи удивляются, Задают вопросы. Только что отвечу им, Как все расскажу я? Снег сгребаю валенком, Слов не нахожу я. Ах, не мог бы, чувствую, Сочинить ответ свой, Если б и оставили На второе детство. Если б и заставили, — Объяснить не в силе, Ничего подобного Мы не проходили. В переулке кажется Под пургой взметенной Шубка горностаевой, А берет — короной. И бежишь ты в прошлое, Не простясь со мною, Королевна снежная, Сердце ледяное…1950
Владимир Солоухин Колодец
Колодец вырыт был давно. Все камнем выложено дно. А по бокам, пахуч и груб, Сработан плотниками сруб. Он сажен на семь в глубину И Уже видится ко дну. А там, у дна, вода видна, Как смоль густа, как смоль черна. Но опускаю я бадью, И слышен всплеск едва-едва, И ключевую воду пьют Со мной и солнце и трава. Вода нисколько не густа, Она, как стеклышко, чиста, Она нисколько не черна Ни здесь, в бадье, ни там, у дна. Я думал, как мне быть с душой С моей, не так уж и большой. Закрыть ли душу на замок, Чтоб я потом разумно мог За каплей каплю влагу брать Из темных кладезных глубин И скупо влагу отдавать Чуть-чуть стихам, чуть-чуть любви? И чтоб меня такой секрет Сберег на сотню долгих лет. Колодец вырыт был давно, Все камнем выложено дно, Но сруб осыпался и сгнил И дно подернул вязкий ил. Крапива выросла вокруг, И самый вход заткал паук. Сломав жилище паука, Трухлявый сруб задев слегка, Я опустил бадью туда, Где тускло брезжила вода, И зачерпнул — и был не рад: Какой-то тлен, какой-то смрад. У старожила я спросил: «Зачем такой колодец сгнил?» «А как не сгнить ему, сынок, Хоть он и к месту и глубок, Да из него который год Уже не черпает народ. Он доброй влагою налит, Но жив, пока народ поит». И понял я, что верен он, Колодца сгнившего закон: Кто доброй влагою налит, Тот жив, пока народ поит. И если светел твой родник, Пусть он не так уж и велик, Ты у истоков родника Не вешай от людей замка, Душевной влаги не таи, Но глубже черпай и пои! И, сберегая жизни дни, Ты от себя не прогони Ни вдохновенья, ни любви, Но глубже черпай и живи!1949
Светлана Сомова Чернильница
Чернильница теперь ушла из быта, При авторучках стала не нужна, Но хочется, чтоб не была забыта Старинная чернильница одна. Тюремной тесной камеры потемки, Стол, табурет, в железе дверь с «глазком». И Ленин пишет тайнописи строки, По старой книге пишет молоком. А сквозь решетку с пасмурного неба Звезда бросает тонкий луч в тюрьму. И в этот час чернильница из хлеба Была в труде помощницей ему. И меж строками справочных изданий, Где взгляд жандармский нечему привлечь, Таился пламень ленинских воззваний, Жила в подполье ленинская речь. Друзья держали над огнем страницы, И проступали в смутной белизне Летящих букв и строчек вереницы, Как стаи птиц, стремящихся к весне. И слово Ленина летело в небо, Навстречу солнцу будущего дня… Оно рождалось из ржаного хлеба, Оно являлось людям из огня.1960
Анатолий Софронов Бессмертник
Спустился на степь предвечерний покой, Багряное солнце за тучами меркнет… Растет на кургане над Доном-рекой Суровый цветок — бессмертник. Как будто из меди его лепестки, И стебель свинцового цвета… Стоит на кургане у самой реки Цветок, не сгибаемый ветром. С ним рядом на гребне кургана лежит Казак молодой, белозубый, И кровь его темною струйкой бежит Со лба на холодные губы. Хотел ухватиться за сизый ковыль Казак перед самою смертью, Да все было смято, развеяно в пыль. Один лишь остался бессмертник. С ним рядом казак на полоске земли С разбитым лежит пулеметом; И он не ушел, и они не ушли — Полроты фашистской пехоты. Чтоб смерть мог казак молодой пережить И в памяти вечной был светел, Остался бессмертник его сторожить — Суровой победы свидетель. Как будто из меди его лепестки, И стебель свинцового цвета… Стоит на кургане у самой реки Цветок, не сгибаемый ветром.1942
Николай Старшинов Матери
Никаких гимназий не кончала, Бога от попа не отличала. Лишь детей рожала да качала, Но жила, одну мечту тая: Вырастут, и в этой жизни серой Будут мерить самой строгой мерой, Будут верить самой светлой верой Дочери твои и сыновья. Чтобы каждый был из нас умытым, Сытым, С головы до ног обшитым. Ты всю жизнь склонялась над корытом, Над машинкой швейной и плитой. Всех ты удивляла добротою, Самой беспросветной темнотою, Самой ослепительной мечтою… Нет святых. Но ты была святой!1958
Игорь Строганов Шторм
Лишь повеет ветрами суровыми, — Подчиняясь закону морскому, Ненадежное все найтовами Закрепляем По-штормовому. Боцман сам встает у штурвала, Штурмана в трюмах и на юте Проверяют — готовы ль к авралу, Все ль в порядке: машины и люди? Знают — стоит морю нахмуриться, Грохнуть в палубу Лапой тяжкой, Как становится мокрою курицей Волк иной, облеченный в тельняшку. Шторм тряхнет, Обнажая начисто, Оставляя голым такого, Без шевронов И прочих всяческих Украшений места пустого. А другой — начальничьей миною На последнее место оттертый, Над разгневанною пучиною Возвышается твердо и гордо, — Против шторма Стоит Молодчиною, Молодчиною И мужчиною, Морячиною Первого сорта! Вот в такое-то Время грозное, Время грозное, Штормовое Отлетает за борт все наносное, Остается одно основное…1955
Василий Субботин Бранденбургские ворота
Не гремит колесница войны. Что же вы не ушли от погони, Наверху бранденбургской стены Боевые немецкие кони? Вот и арка. Проходим под ней, Суд свершив справедливый и строгий. У надменных державных коней Перебиты железные ноги.1945–1946
Алексей Сурков Слово будущему
Сталь кромсает ночную тьму, Человечью жизнь карауля. И никто не скажет, кому Завтра в поле встретится пуля. Беспокойный мы все народ. С нами всякое может статься. И желаем мы наперед Перед будущим отчитаться. И свою судьбу и мечту Огрубелыми голосами Мы потомкам начистоту, Без утайки, расскажем сами. Нам сулили в спину ножи Проклинающие кликуши, Не жалели яда ханжи, Чтобы ранить больнее души, — Все за то, что в годину бед Мы уверовали в человека И пошли за Лениным вслед Против ветра старого века; Что дорогу в кромешной мгле Мы нащупать сами сумели; Что о рае здесь, на земле, Мы всерьез помыслить посмели; Что от всех обуз и помех Мы сердца свои расковали; Что для общего счастья всех Личной радостью рисковали. Коммунизм — наша жизнь и честь. Нам не жить при иных режимах. Принимай нас таких, как есть, Неуживчивых, одержимых. Мы в бою познали себя, Продираясь сквозь холод смерти, Эту жизнь земную любя, За нее деремся как черти. С гордо поднятой головой Мы любой ураган встречаем И за каждый поступок свой На земном суде отвечаем. Тот не прячет стыдливо глаз, Кто для жизни презрел химеры. Ведь такой, какая у нас, Нет прочнее и чище веры.1942
Александр Твардовский Я убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом, В безыменном болоте, В пятой роте, На левом, При жестоком налете. Я не слышал разрыва, Я не видел той вспышки, — Точно в пропасть с обрыва — И ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире, До конца его дней, Ни петлички, ни лычки С гимнастерки моей. Я — где корни слепые Ищут корма во тьме; Я — где с облачком пыли Ходит рожь на холме; Я — где крик петушиный На заре по росе; Я — где ваши машины Воздух рвут на шоссе; Где травинку к травинке Речка травы прядет… Там, куда на поминки Даже мать не придет. Подсчитайте, живые, Сколько сроку назад Был на фронте впервые Назван вдруг Сталинград. Фронт горел, не стихая, Как на теле рубец. Я убит и не знаю: Наш ли Ржев наконец? Удержались ли наши Там, на Среднем Дону?.. Этот месяц был страшен, Было все на кону. Неужели до осени Был за ним уже Дон, И хотя бы колесами К Волге вырвался он? Нет, неправда. Задачи Той не выиграл враг! Нет же, нет! А иначе Даже мертвому — как? И у мертвых, безгласных, Есть отрада одна: Мы за Родину пали, Но она — спасена. Наши очи померкли, Пламень сердца погас, На земле на поверке Выкликают не нас. Нам свои боевые Не носить ордена. Вам — все это, живые, Нам — отрада одна: Что недаром боролись Мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, — Вы должны его знать. Вы должны были, братья, Устоять, как стена, Ибо мертвых проклятье — Эта кара страшна. Это грозное слово Нам навеки дано, — И за нами оно — Это горькое право. Летом в сорок втором Я зарыт без могилы. Всем, что было потом, Смерть меня обделила. Всем, что, может, давно Вам привычно и ясно, Но да будет оно С нашей верой согласно. Братья, может быть, вы И не Дон потеряли, И в тылу у Москвы За нее умирали. И в заволжской дали Спешно рыли окопы, И с боями дошли До предела Европы. Нам достаточно знать, Что была, несомненно, Там последняя пядь На дороге военной. Та последняя пядь, Что уж если оставить, То шагнувшую вспять Ногу некуда ставить. Та черта глубины, За которой вставало Из-за нашей спины Пламя кузниц Урала. И врага обратили Вы на запад, назад. Может быть, побратимы, И Смоленск уже взят? И врага вы громите На ином рубеже, Может быть, вы к границе Подступили уже! Может быть… Да исполнится Слово клятвы святой! — Ведь Берлин, если помните, Назван был под Москвой. Братья, ныне поправшие Крепость вражьей земли, Если б мертвые, павшие, Хоть бы плакать могли! Если б залпы победные Нас, немых и глухих, Нас, что вечности преданы, Воскрешали на миг. О товарищи верные, Лишь тогда б на войне Ваше счастье безмерное Вы постигли вполне. В нем, том счастье, бесспорная Наша кровная часть, Наша, смертью оборванная, Вера, ненависть, страсть. Наше все! Не слукавили Мы в суровой борьбе, Все отдав, не оставили Ничего при себе. Все на вас перечислено Навсегда, не на срок. И живым не в упрек Этот голос наш мыслимый. Братья, в этой войне Мы различья не знали: Те, что живы, что пали, — Были мы наравне. И никто перед нами Из живых не в долгу, Кто из рук наших знамя Подхватил на бегу. Я убит подо Ржевом, Тот — еще под Москвой. Где-то, воины, где вы, Кто остался живой? В городах миллионных, В селах, дома в семье? В боевых гарнизонах Не на нашей земле? Ах, своя ли, чужая, Вся в цветах иль в снегу… Я вам жить завещаю, — Что я больше могу? Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть И родимой отчизне С честью дальше служить. Горевать — горделиво, Не клонясь головой, Ликовать — не хвастливо В час победы самой. И беречь ее свято, Братья, счастье свое, — В память воина-брата, Что погиб за нее.1945–1946
Николай Тихонов Перекоп
Катятся звезды, к алмазу алмаз, В кипарисовых рощах ветер затих. Винтовка, подсумок, противогаз И хлеба — фунт на троих. Тонким кружевом голубым Туман обвил виноградный сад. Четвертый год мы ночей не спим, Нас голод глодал, и огонь, и дым, Но приказу верен солдат. «Красным полкам — За капканом капкан». …Захлебнулся штык, приклад пополам, На шее свищет аркан. За море, за горы, за звезды спор, Каждый шаг — наш и не наш, Волкодавы крылатые бросились с гор, Живыми мостами мостят Сиваш! Но мертвые, прежде чем упасть, Делают шаг вперед — Не гранате, не пуле сегодня власть, И не нам отступать черед. За нами ведь дети без глаз, без ног, Дети большой беды, За нами — города на обломках дорог, Где ни хлеба, ни огня, ни воды. За горами же солнце, и отдых, и рай. Пусть это мираж — все равно! Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» — Урагана сильней оно. И когда луна за облака Покатилась, как рыбий глаз, По сломанным, рыжим от крови штыкам Солнце сошло на нас. Дельфины играли вдали, Чаек качал простор, И длинные серые корабли Поворачивали на Босфор. Мы легли под деревья, под камни, в траву, Мы ждали, что сон придет, Первый раз не в крови и не наяву, Первый раз на четвертый год… Нам снилось, если сто лет прожить — Того не увидят глаза, Но об этом нельзя ни песен сложить, Ни просто так рассказать!1922
Николай Тряпкип Снег
Вчера наконец замолчало гумно, И зимнюю раму я вставил в окно, А облако стужей пахнуло — и вот Затмился на речке мерцающий лед. Возили машиной тугие мешки, Басили, на небо смотря, мужики, Что к вечеру белых вот мух ожидай, Что впору прибрали к рукам урожай. Ледок суховато хрустел под стопой. По крышам ледовой стучало крупой. И в ночь Зимогор на село прискакал, И первым из первых то сторож видал. — В санях, — говорит, — сам под тысячу лет, Метель-бородища — во весь сельсовет. — Поутру хозяйки пошли за водой, Глядь — берег сугробы сровняли с рекой! Что ж, в нашем краю, где сугробам простор, Худого двора не завел Зимогор: В сусеки обочин, в лари котловин Он сыплет пшено первосортных снежин, Промял первопуток в районный совет И пса запускает на заячий след… Белеет дорога чрез маленький мост. По ней из села выезжает обоз, — В нагольных тулупах, раздув чубуки, Поехали в лес на сезон мужики. А в нашей деревне по этой поре Хозяюшки треплют кудель во дворе, И белые букли махров костряных, Как снежные хлопья, ложатся на них.1948
Вероника Тушнова «Людские души — души разные…»
Людские души — души разные, не перечислить их, не счесть. Есть злые, добрые и праздные, и грозовые души есть. Иная в силе не нуждается, ее дыханием коснись — и в ней чистейший звук рождается, распространяясь вдаль и ввысь. Другая хмуро-неотзывчива, другая каменно-глуха для света звезд, для пенья птичьего, для музыки и для стиха. Она почти недосягаема, пока не вторгнутся в нее любви надежда и отчаянье, сердечной боли острие. Смятенная и беззащитная, она очнется, и тогда сама по-птичьи закричит она и засияет, как звезда.1960
Василий Федоров Скульптор
Он так говорил: — Что хочу — облюбую, А что не хочу — не достойно погони, — Казалось, не глину он мнет голубую, А душу живую берет он в ладони. Ваятель, Влюбленный в свой труд до предела, Подобен слепому: Он пальцами ищет Для светлой души совершенное тело, Чтоб дать ей навеки живое жилище. Не сразу, Не сразу почувствовать смог он, Не сразу увидеть пришедшие властно: И девичий профиль, И девичий локон, Капризную грудь, Задышавшую часто… Но тщетно! И, верен привычке старинной, Он поднял над нею дробительный молот За то, что в душе ее — глина и глина… За то, что в лице ее — холод и холод… Нам жизнь благодарна Не славой охранной, А мукой исканий, открытьем секрета… Однажды, На мрамор взглянув многогранный, Ваятель увидел в нем девушку эту. Невольно тиха И невольно послушна, Она, полоненная, крикнуть хотела: «Скорее, скорее! Мне больно, мне душно, Мне страшно! И мрамор сковал мое тело». — Не будешь, Не будешь, Не будешь томиться: Ты видишь, как рад твоему я приходу! — Схватил он резец, Словно ключ от темницы, И к ней поспешил, Чтобы дать ей свободу. Заспорил он с камнем, Как с недругом ярым… И, споря с тем камнем, Боялся невольно, Чтоб пряди не спутать, Чтоб резким ударом Лицо не задеть И не сделать ей больно. Из белого камня она вырывалась, Уже ободренная первым успехом, С таким нетерпеньем, что мрамор, казалось, Спадал с ее плеч горностаевым мехом… С тех пор, Равнодушная к пестрым нарядам, Легко отряхнувшись От мраморных стружек, Глядит она тихим, Задумчивым взглядом На мимо идущих веселых подружек. На жизнь трудовую, Чтоб здесь не стоять ей, Она променяла бы долю такую. Стоит и не знает она, что ваятель, Блуждая по городу, Ищет другую.1948
Александр Филатов Рассказ о часах
Прославленный знаток кузнечных дел Давненько что-то хмурился сурово: Он за других бы постоять сумел, Но за себя не мог сказать ни слова. Обида, может, и не велика, Притом уже давно все это было: Премировали в цехе старика За славную работу у горнила. Кузьмич, согретый почестью людской, Растроганный стоял перед друзьями: Как ветеран, за давний опыт свой Отмечен был костюмом и часами. Костюм пришелся, видно, по плечу, Сам оценил, что хороша обнова. Но вот часов не дали Кузьмичу, Сказали: монограмма не готова. Не знали, кто в задержке виноват, Но поняли, что дело в монограмме: — Вот на часы бумажка, говорят, По ней, Кузьмич, часы получишь днями. Кузнец наутро снова у горнил, И снова молот паровой на взлете. Кузьмич бумажку ревностно хранил, Но о часах ни слова на работе. Казалось, что истек бумажке срок, Казалось, что Кузьмич уже с часами. А он: — Я за подарком не ходок, Премировали, так напомнят сами. Но в цехе нет покоя от ребят, Тут о подарке и забыть бы впору. Они ж при каждой встрече норовят С улыбкой вставить шпильку к разговору. Ведь знают же, что я в досаде сам, Так надо же — придумали затею: Сверять приходят время по часам, Которых я пока что не имею. Кузнец-сосед и тот бородкой тряс, Подшучивал над другом не впервые: — А ну, Кузьмич, взгляни, который час? — А ну, Кузьмич, кажи-ка именные? Расстроился знаток кузнечных дел, Не раз в бумажку заглянул сурово. И за других он постоять умел, И за себя сказать хотелось слово. Пошел, железной палочкой стуча, Со смены тороплив и озабочен… А к нам в цеха Заставы Ильича В тот день Калинин заглянул к рабочим. Он издавна был запросто знаком С прославленными мастерами стали. Ведь у горнил, да и в Кремле самом Не раз пред ним лицом к лицу стояли. …Шумят цеха, печей вскипает зной. Многоголоса площадь заводская. А он, доступный, близкий и родной, Стоит, бородку в кулаке сжимая. Взгляд ясных глаз лучист и деловит, Жмет руки встречным, ласков и приветлив: — Ну, как вы тут живете, — говорит, — Помех каких, друзья, в работе нет ли? Очки сверкают в солнечных лучах. Народ, народ теснится полукругом. Тут и свела забота Кузьмича Со всесоюзным старостой, как с другом. Пошел к нему Кузьмич через народ. По сторонам ребят знакомых лица. Глядит, Калинин знак рукой дает: — Кузнец идет, прошу, мол, расступиться. Раздался тут народ на взмах руки. Идет кузнец, как по прямой аллее, И ноги стали молоды, легки, И мысль ясней, и разговор смелее: — Есть, — говорит, — бумажка у меня, На грех ее вручили мне когда-то. Ведь не проходит у горнила дня, Чтобы о ней не вспомнили ребята. Я обхожу теперь их стороной. А встретят, улыбаются лукаво. Смеются, озорные, надо мной, — Ведь про часы узнала вся Застава. Давно уже все сроки позади, Что делать мне теперь с бумажкой этой? Вот, Михаил Иваныч, рассуди, Вот, Михаил Иваныч, посоветуй!.. Поднес Калинин документ к глазам И долго что-то не дает ответа; Читает, улыбается, а сам… Часы вдруг вынимает из жилета. Блеснула крышка жаром золотым, И вспомнились кремлевской башни звоны: Ведь он по ним, по верным, по своим, Для всей страны подписывал законы! — Возьми-ка, — говорит он Кузьмичу, — А документ оставь, мне будет нужен: По нем, Кузьмич, часы я получу, И получу такие же, не хуже… Я по бумажке этой их найду. В приемную часы доставят сами. И будешь ты с друзьями жить в ладу, И будем оба — ты и я — с часами… Кузьмич заходит часто к кузнецам И у горнил, в кипящих искрах зноя, С Кремлем сверяет время заводское По золотым калининским часам.1950
Владимир Фирсов
Сенокос Пахнет вечер теплым сеном. По реке цветы плывут. Солнце гаснет. Солнце село. Коростели спать зовут. Все ребята и девчата — Все ушли, Лишь ты одна В теплом зареве заката Остаешься допоздна. Легкий ветер треплет косы. Ты размеренно идешь И все косишь, косишь, косишь, Косишь и не устаешь. Косишь празднично и чисто Вновь намокшую траву, Вспоминаешь тракториста, Что уехал жить в Москву. А роса дрожит, смеется На некошеной траве. — Как-то милому живется В той исхоженной Москве… — Под росой травинки гнутся, Вдалеке дрожит звезда. — Обещал домой вернуться К сенокосу. Навсегда… — На селе поют девчата. Песня издали слышна. В теплом зареве заката Ты идешь совсем одна. Вспоминаешь тракториста. Снова веришь И, любя, Косишь празднично и чисто За него И за себя.1960
Николай Флёров Баллада о матросской матери
Матери моей
Надежде Дмитриевне
Флёровой
Пришла печальная и строгая. Не день, не два ее сюда Везли железною дорогою На Крайний Север поезда. И наконец, дойдя до палубы, Так сильно утомилась мать, Что, кажется, сейчас упала бы, Когда б ее не поддержать. Закатное густело зарево, Окутав скалы и залив. И тихо, тихо разговаривал С матросской матерью комдив. «Вот так же, Марфа Никаноровна, Закат пылал и в том бою, Когда с товарищами поровну Делил ваш сын судьбу свою. Он, может быть, всю жизнь вынашивал Мечту о подвиге своем. Награду — орден сына вашего — Мы вам сегодня отдаем». Нет, слез у матери не видели, Наверно, выплакала их Давно, в лесной своей обители, Средь гор уральских снеговых. И, снова рану сердца трогая, Переживая вновь беду, Она спросила: «Как дорогу я К могиле Ваниной найду?» Комдив смотрел на мать растерянно, Ей не решаясь объяснить, Что нам обычаями велено Матроса в море хоронить. Сосной и травами душистыми Пахнуло к нам из темноты, — Держала мать живые, чистые, Слегка увядшие цветы. И сердце будто бы застыло вдруг, И словно рухнула скала… Ведь мать к могиле сына милого За много верст Цветы везла. …Наперекор порядкам принятым, С матросской матерью в поход Эсминец шел к зыбям раскинутым, Встречая солнечный восход. Надолго, с небывалой силою Тот день и час запечатлен, Как над сыновнею могилою Мать отдала Земной поклон. И там, где был давно отмеренным Известный градус широты, — По океанским гребням вспененным Поплыли яркие цветы. Над необъятными просторами Перед прозрачной кромкой льда Они венками и узорами У корабля легли тогда. Казалось, не цветы разбросаны За темным бортом корабля, А это — Утренними росами Омыты русские поля. И каждая росинка близкая, Сверкающая бирюза — Ее, казалось, материнская, Сейчас пролитая слеза… Шли в базу, Завтра ли, сегодня ли — Все знали: вновь дружить с волной. И мы наутро якорь подняли, Прощаясь с бухтою родной. А у причала невысокого Стояла, выйдя провожать, Уже теперь не одинокая И всех нас любящая мать. И, глядя на море с тревогою И боль и радость затая, Сказала нам перед дорогою: «Счастливый путь вам, Сыновья». Мы вышли в даль необозримую, Где смелых бурям не сломать, И каждый вспоминал родимую, Свою, Единственную мать; И знал, что сколько миль ни пройдено — Она с ним шла одним путем. И не случайно Нашу Родину Мы тоже Матерью зовем.1945
Герман Флоров Голубика
Голубика, голубица, Ягода таежная, Для чего тебе родиться В этом бездорожии? Для чего в краю лосином Ты красуешься, растешь И над пагубной трясиной Гордо ягодки несешь? Созреваешь втихомолку, Чтоб попасть медведю в пасть, Ты б к рабочему поселку, Голубика, подалась. Подоткнув шелка и ситцы, Вольный промысел любя, Сибирячки-молодицы Собирают там тебя. И руками, И совками Сыпят с бойким говорком… Тонут кони под вьюками, По трясине мы идем. Сбил с пути нас дождь угрюмый, Стала тропка дном речным. И бредет отрядом дума: «Может, карты не точны?» И глядит, глядит нам в лица Синяя, тревожная Голубика, голубица, Ягода таежная! Каплет с неба, каплет с веток; Только мокрый бурелом, Только слышно — в сопках где-то По-медвежьи ухнул гром. Только дальше углубиться Нам мешает топкий мох. Почему же, голубица, Не растешь ты у дорог? Есть дороги — загляденье! Кто не хаживал по ним? Где-то рядом с днем весенним Мы их в памяти храним. Там холодными ночами Не теснятся у костров. Там мы, ягодка, встречали Нашу первую любовь. И теперь она искрится И теперь поет, маня. Сто веснушек да ресницы — Вот и вся любовь моя! …Тонут кони, вязнут кони, Над трясиной синий свет… Как кедровка по-вороньи Прокричала нам вослед, Как сумели мы пробиться, Злые, осторожные, Знаешь ты лишь, голубица, Ягода таежная!1955
Федор Фоломин «Паек суровый, кипяток в баклаге…»
Паек суровый, кипяток в баклаге да труд посильный — первые права… На желтой, на оберточной бумаге прочел я в детстве жаркие слова. В тумане запоздалого рассвета работал я, расклейщик, муравей. Прямая речь советского декрета на битву с гидрой слала сыновей. Зимой, в пару картофельного пира, открыл я робко грузные тома. Но побледнели хроники Шекспира, — борьба за жизнь — трагедия сама! Ни сон, ни сказка нас не приголубят; все выросли, к чему теперь покой! Стоял декабрь, горели свечи в клубе, и пели мы: «Воспрянет род людской!» И, вспоминая пройденные годы — войну, разруху, долгий труд, войну, не проклинаю вас, мои невзгоды, о радостях нездешних не вздохну! Я замерзал, я падал, голодая, но вытер слезы кулаком с лица, — Республика Советов молодая согрела в стужу нищего мальца. Дала подростку ленинское слово и приколола звездочку на грудь… Земля моя! Как прежде, мы готовы пройти с тобой нелегкий дальний путь!1955
Илья Френкель Давай закурим!
Теплый ветер дует. Развезло дороги, И на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге — Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за то, Что дал мне закурить… Давай закурим По одной! Давай закурим, Товарищ мой!.. Снова нас Одесса встретит как хозяев, Звезды Черноморья будут нам сиять. Славную Каховку, город Николаев,— Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за то, Что дал мне закурить… Давай закурим По одной! Давай закурим, Товарищ мой!.. А когда врагов не будет и в помине И к своим любимым мы придем опять, Вспомним, как на запад шли по Украине, — Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях-пожарищах, О друзьях-товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить. Вспомню я пехоту, И родную роту, И тебя — за то, Что дал мне закурить… Давай закурим По одной! Давай закурим, Товарищ мой!..1941
Яков Хелемский Звезда
Осенней ночью падает звезда. В холодном небе света борозда. Примета есть: звезды падучей свет — Тревожный признак, чьей-то смерти след. Примета есть. Но как поверить ей? Мы пережили тысячи смертей. Беззвездной ночью в окруженье тьмы Друзей в походе хоронили мы. И дальше шли в снегу, в чаду, в пыли… Ах, если б звезды скорбный счет вели И падали под тяжестью утрат, Какой бы разразился звездопад! О, сколько б звезд низринулось в ночи Над теми, что расстреляны в Керчи, Над павшими у Вязьмы и в Орле, Над школьницей, что умерла в петле, Над Бабьим Яром, где в золе подряд Мои друзья и земляки лежат, Над теми, что от отчих мест вдали Укрыты горсткой неродной земли, Над теми, что в Берлине сражены За две минуты до конца войны,— Весь Млечный Путь в безмолвии ночном Осыпался бы горестным дождем. …Но с вышины студеной, чуть видна, Срывается звезда. Всего одна. Подсказывает мне падучий свет Иное толкование примет: Слетает равнодушная звезда — Кого-то позабыли навсегда. Но тот, кто вечен в памяти у нас, — Тот меж светил вселенной не угас. Взгляну в зенит полночный и найду Матросова солдатскую звезду И, потянувшись к чистому лучу, Звезду Космодемьянской отыщу. И, озарив осенний небосклон, Взойдут созвездья — Брест и Краснодон.1946
Владимир Цыбин Ярмарка
В Опочках на ярмарке продаются яблоки, в красном лаке — на каждом прилавке! А дыни сини, что твои гусыни, на всякой — плешь, режь — ешь! В Опочках на базаре арбузы возами, звонки, колки, унесешь волоком; ударишь по корке — как будто в колокол!.. Зазывала грузен, весел, юн — на галстуке узел с добрый кавун! — Арбуз-туз, семь кило груз, без ножа режется, на полосках держится! Не полосы — драночки, берите, гражданочки!.. Глаза у невест бегают, как зайцы, увидят отрез — поскользаются. А бабы густо стоят в лотках, деньги капустой хрустят в платках иль в узлах на шее: им бы подешевле, им то, что носко, пускай и в полоску. А мужья — не ахают, ждут кивка, а мужья вздыхают: — Эх, пивка! — У локтей стоят, за локоть держатся. А вокруг-то в лад гармони тешатся… Поют, как глаза потерял сапер, а у баб слеза застелила взор… Топырят уши вовсю капусты, и густо, густо медовеют груши — целыми сутками томятся под липами. Желтыми урюками возы пересыпаны: Виноград — сосульки. — Покупайте — просим! — В Опочках третьи сутки продается осень.1959
Яков Шведов Орленок
Орленок, орленок, Взлети выше солнца И степи с высот огляди, Навеки умолкли веселые хлопцы, В живых я остался один. Орленок, орленок, Сверкни опереньем, Собою затми белый свет, Не хочется думать о смерти, поверь мне, В шестнадцать мальчишеских лет. Орленок, орленок, От сопочной кромки Гранатой врагов отмело, Меня называли в отряде орленком, Враги называют орлом. Орленок, орленок, Мой верный товарищ, Ты видишь, что я уцелел, Лети на станицу, родимой расскажешь, Как сына вели на расстрел. Орленок, орленок, Товарищ крылатый, Ковыльные степи в огне, На помощь спешат комсомольцы-орлята, И жизнь возвратится ко мне. Орленок, орленок, Пришли эшелоны, Победа борьбой решена — У власти орлиной орлят миллионы, И ими гордится страна.1936
Екатерина Шевелева Девочка из Гонконга
Рекламы точно веер павлиньего хвоста. Рекламы — до созвездия Южного Креста. Наверно, нет реклам пестрее, чем в Гонконге! Взбесившаяся радуга на Фуква-стрит. Спиной к витрине радужной девочка стоит: Юбка материнская. Босые ноги. А под витриной — доски и тряпье, Чудовищное нищее жилье. Подходит женщина к ребенку. Две косы От молодости сохранились. Наверно, мать… Она твердит: «Проси! Проси и кланяйся. Благодари за милость. Проси!.. (Для младших нету молока!) Проси!.. (В кастрюльке риса нет ни грамма!)» Но худенькая детская рука Опущена по-прежнему упрямо. В изгибе губ, в крылатости бровей У девочки — достоинство и сила, — Все то, что в душу мать вложила ей, Все то, что мать сама уже забыла!1955
Марк Шехтер Сердце
Три года сердце у меня болит, По пенсионной книжке — инвалид. Дух замирает, будто я — над бездной, А говорили: «Человек железный!» Рубцы на сердце запеклись, как след Стихов, смертей, событий грозных лет, Бессонницы, любви на зорьке ранней, Очарований, разочарований. А ведь ходил, бывало, по фронтам, И наклонялся к полевым цветам, И не страшился пули и скорбута, И песни пел, и пил вино как будто; По тридцать верст за сутки проходил, И слез не лил у дорогих могил, — Все сердце раскаленное терпело, Оно металось по ночам и пело… Я рад, что есть чем вспомнить жизнь свою, Что песни пел, что действовал в бою, Что сердцем сердце утешал людское. Я не искал уюта и покоя! Уже и шагу сделать не дают, Уже на грудь горчичники кладут, И медсестра глядит куда-то косо… Но до сих пор меня волнуют косы! Невеста? Может, чья-нибудь жена? А за прямоугольником окна — Оркестра гром и цвета вишен флаги: Уходят пионеры в летний лагерь. Нет у меня претензий ни к кому: Ни к доктору, ни к другу моему, Ни к дочери, которая, бывало, Меня непослушаньем волновала… Пусть в грудь мою опять стучится боль, Товарищ сердце, песню спеть позволь!1950
Степан Щипачев «Пускай умру, пускай летят года…»
Пускай умру, пускай летят года, Пускай я прахом стану навсегда. Полями девушка пойдет босая. Я встрепенусь, превозмогая тлен, Горячей пылью ног ее касаясь, Ромашкою пропахших до колен.1940
Илья Эренбург «„Разведка боем“ — два коротких слова…»
«Разведка боем» — два коротких слова. Роптали орудийные басы. И командир поглядывал сурово На крохотные дамские часы. Сквозь заградительный огонь прорвались, Кричали и кололи на лету. А в полдень подчеркнул штабного палец Захваченную утром высоту. Штыком вскрывали пресные консервы, Убитых хоронили, как во сне, Молчали. Командир очнулся первый. В холодной предрассветной тишине, Когда дышали мертвые покоем, Очистить высоту пришел приказ, И, повторив слова «разведка боем», Угрюмый командир не поднял глаз. А час спустя заря позолотила Чужой горы чернильные края. Дай оглянуться — там мои могилы, Разведка боем, молодость моя!1938
Юрий Яковлев На пароме
Поперек теченья легкого Через Волгу плыл паром, Словно часть пути далекого Отрубили топором. И пошел он с пешеходами, С вереницею машин, С неподвижными подводами И с автобусом большим. И тогда на радость малому, Что у поручней играл, Спрыгнул молодо на палубу Из машины генерал. У него фигура стройная, Брови низкие седы. На щеке рубцы у воина — Боевых деньков следы. И как будто завороженный, Тронув мягкий козырек, На него глядит восторженно Черномазый паренек. Он глазенки вездесущие Вскинул, кепку теребя, Словно смотрит в дни грядущие, Словно видит в них себя. То на нем штаны с лампасами И фуражка со звездой. Пистолет с боеприпасами, Сабля с кистью золотой. Это он в походы хаживал В дни суровые войны. Это он врагов отваживал От родимой стороны. Паренек в уме прикидывал, Замечтавшись, что к чему. И не знал он, что завидовал Генерал седой ему. Старый воин смелым росчерком Скинул сорок лет долой, И таким же стал он хлопчиком, Вот как этот — удалой. То на нем ботинки папины На тяжелых каблуках. И почетные царапины На обветренных ногах. Как орешек нерасколотый, Сердце крепкое в груди. И опять в запасе молодость, Жизнь большая впереди. И весь путь, однажды пройденный, Можно заново пройти, Можно снова милой родине Жизнь и силы принести. Правый берег удаляется, Изгибается дугой. Левый — рядом появляется, До него подать рукой. И под ветром, в спину дующим, Шум мотора зачастил. Кто задумался о будущем, Кто о прошлом загрустил.1953
Александр Яшин Добрые дела
Мне с отчимом невесело жилось, Все ж он меня растил — И оттого Порой жалею, что не довелось Хоть чем-нибудь порадовать его. Когда он слег и тихо умирал, Рассказывает мать, День ото дня Все чаще вспоминал меня и ждал: — Вот Шурку бы… Уж он бы спас меня! Бездомной бабушке в селе родном Я говорил, — мол, так ее люблю, Что подрасту и сам срублю ей дом, Дров наготовлю, Хлеба воз куплю. Мечтал о многом, Много обещал… В блокаде ленинградской старика От смерти б спас, Да на день опоздал, И дня того не возвратят века. Теперь прошел я тысячи дорог — Купить воз хлеба, дом срубить бы мог… Нет отчима, И бабка умерла… Спешите делать добрые дела!1958
Примечания
1
Лопотина — по-сибирски: верхняя одежда.
(обратно)2
Эс — означает паузу. Произносить про себя.
(обратно)3
Истинный дух гор и лесов — так китайцы называют тигра.
(обратно)




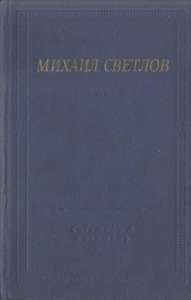


Комментарии к книге «Моё лучшее стихотворение», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев