Ивритская классика прошлого века Переводы Мири Яниковой
© Переводы Мири Яниковой, 2015
© Мири Яникова, дизайн обложки, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
От переводчика
Когда-то я бредила ими обеими. Обе родились в конце девятнадцатого века. Две лирические поэтессы, у обеих творчество очень личное, одной выпали на долю большие испытания, и она рано ушла из жизни. Обе писали о любви, но одна еще написала пронзительные стихи о Родине. А вторая, творчество которой было менее напористым и более мягким, в конце жизни описывала горе и потери. Одна жила в столице, а вторая – во второй, неофициальной, столице. Их звали… Нет, не Марина и Анна. Они носили другие, древние библейские имена – Лея и Рахель.
Когда-то я бредила ими так же, как лет за десять до того теми же Мариной и Анной. Но их, Рахель и Лею, я еще и попыталась вывести из их родной стихии и окунуть в другую. Я перевела их на русский язык. Тот, на котором, кстати, и та, и другая тоже могли писать – и писали.
Процесс перевода стихотворения с одного языка на другой я воспринимаю как магическое действие. Причем магии в нем больше, чем в процессе создания самого стихотворения. Автор получает текст Свыше. Для переводчика автор – посредник (пусть это и звучит парадоксально). Если ему не удается еще раз услышать ту же самую весть – и ту же самую музыку – что однажды уловил автор, то поэтического перевода не будет – будет пересказ, пусть и рифмованный. Хороший перевод обеспечивается мостом, построенным между Высшими мирами – и их отражением в двух душах, скитающихся внизу. Иными словами, переводчик может выразить автора только при посредничестве Небес, пройдя вверх и вниз по полной дуге этого моста.
Каждый из нас получает удовольствие, если ему случается так или иначе стать причастным к магическому действию. Магия притягивает. Холодок пробегает по спине в тот момент, когда ощущаешь, что автор когда-то уловил в этом месте то же самое, что сейчас слышишь ты, – и что тебе удалось точно «перевести» это его ощущение. Меня завораживает процесс перевода на русский язык равномерных рифмованных строк с аллитерациями. Рахель, которая сама тоже иногда писала на русском языке. Лея Гольдберг, упоминающая в своих стихах Есенина… Меня заколдовывают стихи, написанные на иврите силлабо-тоническим стилем. Мне кажется, что, переводя их на русский язык, я возвращаю их в родную стихию. Кстати, почти для всех ивритских поэтов начала двадцатого века, которых я переводила, русскоязычная среда не была чужой. Поэтому и срабатывало так легко волшебство «соавторства», – не только рифмы появлялись сами собой, но и ритм легко соблюдался, несмотря на очевидное на первый взгляд несоответствие среднего количества слогов, необходимых для того, чтобы вербально выразить одну и ту же мысль на русском и на иврите. Именно жесткость задания выявляла магию (которая, конечно, тут от слова магиа (ивр.) – «достигающий», «прибывающий») переложения рифмы и ритма на другой язык.
***
Но почему же тогда я решила подступиться также и к неровным и часто не рифмованным строчками Ури Цви Гринберга? Возможно, потому, что это для меня было вызовом. Да, и поэтому тоже. Но главное, конечно, не это. Ведь поэзия – это вовсе не только рифма и ритм, это еще и волшебство, песнь, весть от ангелов. Именно эту весть, и ничто иное, мы и переводим, облекая в заданную автором форму.
Но есть поэзия, исток которой – выше сферы обитания ангелов. Есть поэзия, которая является синонимом понятия «пророчество» и исходит из того уровня человеческой души, который соответствует в Высших мирах самому Первоисточнику. Поэтому и «форма» ее на первый взгляд «несовершенна» – там, откуда она пришла, отсутствует такое жесткое понятие формы, которое подразумевает подсчет количества слогов в строке. Невозможно представить себе, например, псалмы Давида, написанные силлабо-тоническим стилем. И при этом, трудно подобрать пример, более соответствующий самому понятию поэзии… Зато только с этого уровня можно спорить с Богом и требовать от Него ответа, что и делал Ури Цви Гринберг.
Собственно, настоящая поэзия и является всего лишь точным отчетом о беседах со Всевышним. Спускаясь и проходя через сгущающиеся нижние миры, эти «отчеты» обрастают формой. Вот здесь и приходится искать золотую середину – ибо, застряв, а иногда и завязнув, на уровне формы, послания Свыше теряют свое пророческое содержание. Но, не пройдя через эти уровни, они не смогут достичь адресата… В качестве примера полностью донесенного «донизу» содержания опять же хочется привести псалмы царя Давида.
***
Классик ивритской поэзии Хаим Нахман Бялик представлен здесь двумя поэмами. Оба эти перевода были сделаны мною по заказу для учебника Открытого Университета Израиля. Почему я не переводила Бялика, своего любимого Бялика, сама, в больших количествах и по собственной инициативе, почему я не приступила к нему раньше, без всяких заказов? Потому что Бялик, как это ни парадоксально, пришел ко мне впервые на русском языке – в блестящих переводах Зеэва Жаботинского. Я не видела, что тут можно добавить.
Если бы я стала писать текст под названием «Мой Бялик», то сначала я рассказала бы о том, что для меня он начался с попавшей тридцать пять лет назад в руки самиздатовской распечатки, с потрясения, заучивания наизусть, потом – взятия напрокат пишущей машинки, при помощи которой я сделала восемь тонюсеньких экземпляров под копирку и раздала самым любимым своим друзьям…
Бялик – это, конечно, прежде всего «Сказание о погроме». Но и еще – потрясающая лирика. И еще – то, что было для меня лично самым важным – тоска еврейской души, тема забытой Традиции, плачущей Шхины. И тема Мессии… И еще, как оказалось, – две прекрасные поэмы о детстве, которые мне и довелось перевести и которые я включила в эту книгу.
***
И напоследок, еще одна часть этого сборника – это два переведенные мною стихотворения Зельды. Почему всего два? А потому что я пока еще не осуществила проект под названием «переводы Зельды». Я не знаю, возьмусь ли я за него когда-нибудь – это решит та невидимая сила, которая независимо от нашего сознания и желания ведет нас по жизни. Такие вещи планировать нельзя, можно только с этой силой сотрудничать. Когда мне нужно было вжиться в новое место моего физического обитания на этой земле – город Хайфу на горе Кармель, когда я примеривала Хайфу к себе и себя к Хайфе – я увидела случайно стихотворение Зельды «Невидимый Кармель». Оно заканчивалось именно так, как заканчивались все мои собственные безмолвные беседы с моим новым городом – тоской и отсылкой к Иерусалиму, к вершине, которую я искала на всех встреченных мною горах, и которой на них не было… Так что этот перевод, точнее, два этих перевода – это пока что просто едва начавшийся диалог, приветствие, которым, возможно, все и ограничится, а возможно, и нет…
Мири ЯниковаЛея Гольдберг
О Лее Гольдберг
Лея Гольдберг родилась в 1911 году в Кенигсберге. Закончила ивритскую гимназию в Ковно (Каунасе). Первые свои стихи (на иврите) опубликовала в 1926 году. Училась в Берлинском и Боннском университетах. Получила степень доктора философии. В 1935 году она репатриировалась в Израиль. Принадлежала к литературной группе модернистов под руководством А. Шленского. Работала в редакции газеты «Давар», была литературным консультантом театра «Габима», читала в Еврейском университете курс мировой литературы. Прекрасно владела русским языком, так же как и немецким, и французским. Очень много переводила, и стихи, и прозу, в том числе «Войну и мир» Толстого и стихотворения Ахматовой.
Лея Гольдберг первая и, кажется, единственная, писала на иврите тринадцатистрочные сонеты. Ее творческий мир завершен, и он представляет собой бесконечное пространство, заполненное образами, которые возникают в душе читателя именно благодаря тому, что на физическом уровне кажется незавершенностью – отсутствием четырнадцатой строки сонета, открытым окном, полным теней зеркалом, в котором каждый видит свой индивидуальный мир.
Мир Леи Гольдберг очень высок и тонок. Мы должны принять его, как драгоценный дар поэта, благодаря которому и мы стали туда вхожи. В нем висят на ветвях деревьев звезды, и клетки с соловьями стоят на подоконниках, за которыми опять же – звезды. И за звездами ходят в лес с корзинкой, как за грибами…
Мири ЯниковаИз сборника «Кольца дыма»
Вечером
Известно мне, что означает «вечер». Скоро тоска коснется замирающих сердец, настанет час, когда захлопнутся затворы, что только утром отворятся наконец. И в щели ставен проползут, пробьются тени, и возле лампы образуют полукруг, и с чуть заметными намеками затеют с моим портретом – тем, что в зеркале – игру. И будут окна ухмыляться в черной злобе, и только грустная лампада средь теней мне посочувствует: «Сейчас заплачут обе, и та, что в зеркале, и та, что схожа с ней».«Все телеги полны зерном…»
Все телеги полны зерном, и в лугах пасутся стада. К небесам, охваченным сном, распахнула осень врата. Будто кто-то прочел наизусть стих Есенина налитой, и была разлита в нем грусть, словно солнца сок золотой. Ветви полны птичьей возни, в них разыграна шумная пьеса, а тропинка мечтала в дождливые дни, как по ней пройдет поэтесса.Она
Она тиха, как луч, скользящий по воде, она легка, как свет весны, что реку дразнит. Она поет, благословляя каждый день, а мой мотив звучит лишь раз в году на праздник. И будет праздник сердцу моему: он для меня зажжет, возможно, свечи, — но к ней вернется, позабыв мою тюрьму, и будет горечь изливать ей целый вечер. Я утешать умею, как она, прощать умею и не ждать ответа. И все ж ее покой и тишина мне показали, что за ней – победа.Белые дни
Эти белые дни так длинны – будто солнца лучи. Велико одиночество, будто большой водоем. В небо смотрит окно, и широкое небо молчит. И мосты перекинуты между вчерашним и завтрашним днем. Мое сердце привыкло ко мне и умерило пыл, примирилось и стало удары спокойно считать, как младенец, что песню поет себе, глазки закрыл, потому что уснула и петь перестала усталая мать. Как легко мне идти, мои белые дни, на неслышный ваш зов! Научились смеяться глаза, не прося ни о чем, и давно перестали подталкивать стрелки часов. Велики и прекрасны мосты меж вчерашним и завтрашним днем.«Этот запах весеннего ливня, встающий…»
Этот запах весеннего ливня, встающий с камней тротуара, утонувшая в ярком сверканье стакана звезда, эта песнь фонарей, эта сказка под звуки гитары — я запомнила их навсегда. Но не знаю совсем, был ли твой это взгляд, в самом деле, что зажег эти искры в крови, и не знаю, действительно шла я – с тобой ли, к тебе ли переулком, немым от любви? Это было весной, в каждой почке был смех сокровенный, кровь смешалась с вином золотым, и о каждом прохожем, что взор поднимал вожделенный, я считала, что он – это ты.«Еловые ветви заснежены – кажется, будто летит…»
Еловые ветви заснежены – кажется, будто летит большая белая птица на фоне пустых небес. Как сказочный бледный цветок, в синем небе месяц висит — поскольку его погасить забыли – ему не по себе. Моя огромная грусть покинула вдруг тюрьму и повисла на фоне гор, как желтоватый дым. Смешок осторожный в сердце. И странно лишь – почему мужчина, идущий рядом, вовсе мной не любим?«Армада солнц скользит по льду реки —…»
Армада солнц скользит по льду реки — разбившийся об лед корабль-пламя. Вверх на горе береза тянет две руки, как мальчик, что погнался за орлами. Плененный молниями облачный навес скользнул вдали и не задел небес. И если сердце – в солнечных цепях, уединенье его в бездну не заманит. Дым поднимается к вершинам второпях, и синева тоски уходит с ним в тумане. И память, белая, как снег и этот лед, алмазы прошлого погасит и зажжет.«Не встанешь у дверей, страдая и желая…»
Не встанешь у дверей, страдая и желая, колеблясь и стремясь вперед. В такой ненастный день душа моя нагая чудес уже не ждет. Все ясно: встреча на углу, смятенье дома, и не унять у губ зажженной спички дрожь, рука дрожит, рука к руке влекома, никто не спросит: «ну, так что ж?» Есть путь один, ведущий к краю бездны, к стенам, за коими – грядущая тоска. Из тех краев назад дороги неизвестны, забыты на века…Из сборника «Зеленоглазый колосок»
Ночь
Тот, кто в дар получает большую луну, — ту, что помнит младенчество многих людей, колыбельных несчетное помнит число, — тот, кто в дар получает большую луну, что колдует, вздымая волну на воде, чтобы с шелестом волн к нам легенды несло, — кто ее получает – на том благодать. Как ребячлива ночь и мудра! Что ей стоит все крыши в ладони собрать — будто ракушек это гора.Зеркало
Эта комната – остров в сиянье луны. В складках штор привиденья роятся, ну, а в зеркале сказки отображены — там конек-горбунок, в глубине же видны брат с сестрой, что домой воротиться должны, и охотников волки боятся. Семь козлят заждались – что же мать не идет? Засыпает принцесса до срока, и ликуют семь гномов всю ночь напролет, и на зеркале-озере остров встает, остроносая лодка куда-то плывет, ну, а Золушка не одинока — по спокойной воде – да на белой ладье — уплывает далеко-далеко…Городской дождь
Дождь несет свою злобу по крышам домов городских, и разносит по улицам ругань, и хлещет по лицам. Младший брат, самый старший из всех младших братьев моих, я не знаю, куда мне укрыться! Вот вагоны стоят – но куда им по ржавчине рельс? По грязи и по слякоти – как же, больной, мне угнаться? Младший брат мой, ты видишь, что дети стоят у дверей? Ты вели им домой возвращаться! Как же детям понять, что ветра наточили ножи, что разверзнется бездна и рухнут мосты, разбушуются грозы? Дождь залил этот город – но как он, скажи, сможет выплакать все наши слезы?Радуга над полем
Повисла под радугой капля лазури и, как колокольчик, звенит. Впрягли небеса в набежавшую бурю порыв потревоженных нив. Они к горизонту стремительно скачут, где полог висит дождевой, и красные серьги с собою захватят, вернувшись назавтра с зарей.Гусь
В этот пригород, в этот дождливый сад, навевающий грусть, к этой вишне, к ветрам, что пейзаж овевают ненастный, — как сюда он попал, удивительный белый гусь, одинокий, нездешний, прекрасный? Есть зеленые братья у каждого стебля травы, есть отец у древа, в глубоких садах запрятан, лишь у белого гуся, как у синей дали, увы, — ни родни, ни отца, ни брата.Маленький ветер
Кто раскрасить сумел в темноте небеса, превратил их в сад и расцветил? Как один в темноте доберется в сад этот тихий маленький ветер? Засиявшее облачко ветер задел, звезды бледные замирают. Тихий ветер белый передник надел, одуванчики собирает.Негрустная песня
Расстелена бедность ковром обнищалым, разбит наш стакан. Что на хлеб нам сменять? Мы все потеряли, и ночь обещала, что станет она нищету охранять. Но маленький ветер негрустную песню тихонько напел и сказал: ваш дом – у чужих, путь к нему неизвестен, но можно вернуться назад!Прошедшая осень
Этот город промок – льют дожди целый день, он в глаза мне глядит виновато, вспоминая колодцы, сады деревень, все иное, что было когда-то: как красу листопада мне осень несла, как гостей на крыльце ожидала, как овца пожелала удачи, прошла — и на шерсти роса засверкала. Ну, а я, подчинившись златому ярму, потихоньку брела вдоль забора, чтобы в красном саду и зеленом дому встретить дождь, что начнется так скоро.«Освещенные окна твои затерялись в ночи…»
Освещенные окна твои затерялись в ночи, но открыты они для молитвы моей и мечты. Все тропинки, что к дому ведут твоему, омывают ручьи, и тропинки эти чисты. Ты прошел одиночество, песня сгорела в огне, твоя песня сгорела и мудрое сердце забрала с собой. Потому я прошу: разреши же и мне одинокий покой.Есть такие
Есть такие, что любят друг друга, и по вечерам от любви сгоревшего Бога в закате видят. Есть такие, что любят внимать вещающим небесам: жил да был на свете добрый Бог, что не мог никого обидеть. Жил на свете Бог, что создал Землю и синь морей, и все травинки, и все пути, деревья и реки, и всех на свете людей, и лесных зверей, и сам Он это все полюбил навеки. И поскольку сутью Его была любовь и кротость, Он велел всем стать такими же, как Он Сам, и пошел к краю света, вдаль, за городские ворота, чтоб добавить сини тускнеющим небесам… Есть такие, что знают все это наверняка, и они молчаливы и благость повсюду видят, и глаза их читают во всех закатах, во всех веках: жил да был на свете добрый Бог, что не мог никого обидеть.Из сборника «Из моего старого дома»
Завершение
По ночам, закрывая глаза, я видела лист. Только лист – и знала, что все хорошо. Море не было полным, хоть к морю все реки сошлись, потому я и знала, что все хорошо. Над могилами сочные травы стремилися ввысь, над могилами близких их рост начался и пошел. Море было пустым – а к нему реки крови слились. Бог, творящий миры, поднимающий травы, взрастающий лист, — что, действительно, так – хорошо?..«Мне показалось вдруг, что время встало…»
Мне показалось вдруг, что время встало, и яблони в цвету, как в те года, иль листопад, как прежде, желто-алый ковром сады засыпал, как тогда. Как будто мир наш вовсе не был отнят, как будто мы не знали столько бед, и цел наш дом, и стол накрыт субботний, и приготовлен праздничный обед. Все, что когда-то мы с тобой любили, сквозь слезы различаем мы опять. И не смотри так: то, что позабыли, совсем, совсем не стоит вспоминать. Незабываемое, что забыто, потери, от которых не сбежать…Голуби
Усталый день закончился, погас, и паруса ветров упали вниз. И в этот сонный золотистый час два голубя присели на карниз. День с облаками проплывет к себе домой — в обитель вышнюю, и зелень цвет утратит. Прижались голуби друг к другу головой, как пара стариков над пачкой фотографий.«Вдруг ворвутся в эту тишину…»
Вдруг ворвутся в эту тишину голоса потерянных миров: будут днем клонить меня ко сну, будут ночью пробуждать от снов. Там, на крыше, ангел слезы льет. Капли на стекле – как дождь идет. Мертвые не встанут из могил. Где шофар, чтобы в тишине трубил? Как во тьме мне тени отыскать, от рыданий ангельских сбежать? Мертвые не встали из могил.Из сборника «О цветении»
Песнь ручья к камню
Я камень целую, в глуби его сна, поскольку я – песня, а он – тишина. И пусть он – загадка, тогда я – ответ. Мы оба из Вечности вышли на свет. Целую я камня холодный гранит. И пусть я изменчив – он клятву хранит. Я вечно в движенье, а он не спешит. Он – тайна Творенья, а я – это шифр. И вот мне раскрылся секрет бытия: тот камень – весь мир. А поэт – это я!Песнь месяца к ручью
Я – один в небесах. Множат волны мой лик один. Посмотри же в мои глаза, образ мой из глубин. Я – как истина в небесах, я, ручей, искажен тобой. Посмотри же в мои глаза, образ мой, отраженный судьбой. Я безмолвен и одинок — и болтлив я в воде потому. Если в небе я – Бог, то в ручье я – молитва Ему.Ночь
В корзине звезд – до краев, запах лугов и ручьев, где-то в росе, на дне сердце стучит мое. Ближе твой шаг звучит, дождь трепещет, лучист. Где-то в росе, на дне сердце мое стучит.Звезда
Прекрасна дальняя звезда — как колокольчик на небесной шее. Прекрасна дальняя звезда — в ночи, печалью переполненной моею.Счастливый ад
Саду в короне роз, и вишне, что в саду расцветает, радоваться велел Всевышний, поскольку они не знают. Ну, а что же делать, ей-Богу, тем, кто болен от знанья, тем, кто скрыть уже не могут в сердце – мира сиянье? Тем, кто вынужден ведать и знать, и вести познанию счет, и ощущать, что в лесах опять для них собирают мед? Роза вновь для меня разцветает, благоухает сад. Сердце радостное прорастает прямо у входа в ад.«Может, здесь, у крыльца – покой…»
Может, здесь, у крыльца – покой, подведена черта. Кружится звездный рой сердца ударам в такт. Ветви сухие звенят — благословенная тишь — будто бы ждали меня на протяженье пути. Я искала тебя вдали, на другом дороги конце, но, вернувшись с края земли, я стою на твоем крыльце.Из сборника «Молния утром»
Последнее сияние
Поддельное золото ясно, напоследок сияет простор. Стеклянная синь опоясала вершины дальние гор. Еще несколько дней продлится это: замрут дерева поутру, как старинные инструменты в красоте своих струн. Бледное утро, камня касаясь, вдруг озноб ощутит, и с холодных небес, прощаясь, перелетная птица нам прокричит.«Быть может, в черных небесах сейчас…»
Быть может, в черных небесах сейчас вдруг пронесется птица заревая? Ведь я уже видала как-то раз, как крылья белые тьму ночи разрывают. Но чуда все же не произошло, хотя его мы ощущали полыханье — как запах, что из сада принесло, и как твое горячее дыханье. Но чуда все же не произошло.«Как белый луч, что, проходя в кристалле…»
Как белый луч, что, проходя в кристалле, стал хороводом из цветов, забыв усталость, так память преломляет взгляд твой дальний. Ты слышал? Этой ночью я смеялась.На закате лет
Мои кудри в ночи серебрятся при яркой луне. За окном я вижу в ветвях уснувших птенцов. Я окно распахнула, чтоб крикнуть: «Голубка, ко мне!» — только ночь зачем-то прислала мне мудрых сов.«Время течет, и его не поймаешь…»
Время течет, и его не поймаешь, мой дебет и кредит учтен в его сметах. Каждый день создает меня – и ломает, и подводит итог и жизни, и смерти.Песнь конца пути
Ты скажешь: ночь идет за ночью, день за днем. Года проходят – в сердце ты отметишь. Увидишь молнии и тучи за окном, и только нового под солнцем не заметишь. Но вот придут преклонные года, ты станешь днями дорожить на их исходе. И скажешь: этот день уходит навсегда. И скажешь: утром новый день приходит.«День этот моря голубей…»
День этот моря голубей, день этот моря голубей, и нет спасенья, нет Мессии. И вот звезда летит с небес и исчезает в сини бездн, спускаясь из небесной сини.Песнь любви
Мы расставались, сердце разрывая. Туман меж нами все густел и рос. А эта влага – влага дождевая, и, уж конечно же, не влага слез. Что делать, если в наши дни всерьез никто уж на любовью не заплачет, и в день Суда, и в ночь любви мы прячем за равнодушьем – горечь наших слез. Мы расставались. И поток понес меня вперед по улице шумящей. Туман висел вуалью. И вопрос стучался в грудь: откуда же щемящий и радостный покой? Наверное, от слез…Завтра
Завтра сад расцветет в небосводе моем, будет вечер, еще незнакомый земле, и поставишь ты клетку свою с соловьем на окне, в переполненной звездами мгле. Мы послушаем песнь и отпустим его, он взлетит, – и уже не вернется тоска, будет только великой любви торжество, будет вечер, невиданный прежде в веках.Ночной мотив
Звезды свои погасили лучи, все почернело вдруг. Ни одного огонька в ночи, темен север и юг. Утро придет, как верный вдовец, с серым мешком на плечах. Югу и северу не розоветь — ни одного луча. Пусть загорится белый огонь в черном сердце моем, так, чтобы вспыхнул вдруг от него сразу весь окаем!Из сборника «Последние слова»
Последние слова
Что нас ждет? Остановятся вдруг небеса. Наше утро ушло далеко — без часов нам о том не узнать. Что за зерна с собою приносит весна, и какой над могилой цветок расцветет? Я хочу, чтоб фиалка – как те, что рвала я в лесах. Что нас ждет?«Что будет в конце?»
Что будет в конце? Два отрока песню поют при луне, и два огонька загорелись в окне, и два корабля выйти в путь должны, две руки в ладонях твоих холодны. Что будет в конце?«Я стою в самом сердце пустыни…»
Я стою в самом сердце пустыни. Не осталось со мной ни одной звезды. Мне не скажет ни слова ветер отныне, и песок заметет мои следы.«Те, кто ко мне являются во сне —…»
Те, кто ко мне являются во сне — они меня почти не замечают. Присядут на крыльцо, не обратясь ко мне, и сразу же уходят, не прощаясь. Мы с ними повстречаемся потом, когда умрем. И тех, кто приходил ко мне во сне, по знаку я узнаю в тишине.Колумб 1957
Пусть всем известно: суши нет в помине. Пусть всем понятно: звездам не сиять. Корабль мой тонет в серых дней пустыне, своих посланцев Бог забыл опять. И все ж, как летний ливень долгожданный, как страсть внезапная, что правит без руля, я вдруг явлюсь к брегам твоим желанным, к их лону припаду, о, новая земля! Ты жди, – мне никуда теперь не деться, ведь есть одна тропа в лесу твоем… Комета разрывает ночи сердце. Я завтра буду твой, мне никуда не деться, моя Америка, скитание мое…Антигона
Дождь больше не вернется. Облака, как мертвые свидетели, висят. И, успокоенные на века, выходят горожане в тихий сад. Ты сотни братьев распознала в них. Им довелось на смерть зари смотреть. Но все забыто – ведь должны ж они хоть как-нибудь существовать и впредь. Дождь не придет. И почва, как во сне, покорно отказалась от него. Она привыкла к жажде, к тишине, к беззвучию рыданья твоего. Дождь не придет. Все в прошлом. Позабудь. Теперь попробуй обойтись без бурь.После бури
И, если б не ветра хохот утробный, то мы б услыхали свой голос – и знали, какой в нашем сердце ужас огромный, какие утро несет нам печали. Но ветер умчится и ветер примчится, все звуки уносит он в дальние дали, и, если б не бледность на наших лицах, то мы бы пути его различали.Мудрецы подтвердят
И ныне солнце есть в сиянии небесном — вам это подтвердит любой мудрец. За тучами, за дождевой завесой — не будет Свету никогда грозить конец. Все мудрецы расскажут вам о том. И все ж в глазах детей — лишь молнии и гром.«Над той горою, далеко —…»
Над той горою, далеко — оранжевая птица там летает, та, имени которой я не знаю. Но с ней знакомо дерево, и ветер с ней знаком, и он поет ей: «Здесь твой дом!» В глазах девчонки в переулке деревенском летит оранжевая птица — ее мне имя неизвестно.«Ты видела ливень? Здесь царствует тишь…»
Ты видела ливень? Здесь царствует тишь. Три Ангела древней истории той идут меж дерев среди мокнущих крыш. Тут все, как и прежде. Лишь капли стучат о камни на улице этой пустой. Они не спешат, подошли и молчат — три Ангела древней истории той. Распахнута дверь. Накрывается стол. И чудо свершилось, и ливень прошел.Из сборника «С этой ночью»
С этой ночью
С этой ночью, со всею ее тишиной, с этой ночью, — с тремя огонькам с небес, — их укрыл в себе лес вместе с ветром ночным. С этим ветром, который собрался внимать полноте тишины, — с этой ночью, с тремя огоньками в ветвях, с этим ветром ночным.«Я плыла с кораблями, стояла с мостами…»
Я плыла с кораблями, стояла с мостами, я лежала в пыли с опадающими листами. Были осени дни моими, и моим было яркое облако рядом с черной трубою. И еще я имела странное имя, — ни один человек не сможет дознаться – какое.Ушедшие в мир иной
Я – у небесных врат. Их стражник сторожит. Никто из тех палат навстречу не спешит. Ведь во дворце твоем и так полно гостей, и нету места в нем для остальных друзей. Тебя и на покой сопровождал другой. Меня ж ты не вписал в парадный список свой.«Десять лет прошло, как ты в вечность ушел…»
Десять лет прошло, как ты в вечность ушел. Я признаюсь: люблю тебя всей душой. Или: десять лет, как я в сплю вечным сном. Ты признайся: меня ты забыл давно. Из памяти вещи простые не стерты, а вписаны в Книгу Мертвых.Офелия
Не как цветок на глади вод, не как венок на глади вод, — как камень, что пошел ко дну и утонул. И три круга лишь на водной глади: я, моя любовь, мое проклятье.Это не море
Это не море – то, что меж нами, это не бездна – то, что меж нами, это не время – то, что меж нами. Это мы сами встали меж нами.«Я город не любила —…»
Я город не любила — мне хорошо в нем было. Я город полюбила — но мне в нем плохо было. Это – чудный град, он имеет семь врат. Память входит, выходит, с ней – то солнце, то град.«У меня нет ничего…»
У меня нет ничего, потому что тебя нет. Дерева нет, нет листа от него, — потому что тебя нет. У меня нету слов. Даже краткое слово «нет» — и оно от меня ушло. Кому его молвлю в ответ?Стихотворения, не вошедшие в сборники
«Этот дом давно уже пуст…»
Этот дом давно уже пуст, и в очаге – зола. Хозяин к нему позабыл тропу, хозяйка его ушла. На каменную ступень присяду я отдохнуть, и будет ветер мне песни петь про утро и про весну.Облака
И вновь нам облака несут воспоминанья о Потопе. Облака, что лишь вчера казалось – их пасут в лугах, и мирны те луга. Как будто праведник возник из тьмы времен, вернулся Ной, и снова видит он: развратны дочери и пьяны сыновья, и почернели облаков края.«И снова в сердца пламень и пожар…»
И снова в сердца пламень и пожар, и лишь одна молитва: прекратить! Но что же делать, если сей великий дар я не посмела попросить? Лишь по ночам, в каком-то полусне издалека я видела порой, как дерево чернеет при луне. Но сердце все ж напоминало мне: зеленым дерево становится с зарей.«Здесь, в одиночестве этой ночи…»
Здесь, в одиночестве этой ночи, где белые звезды шлют лучи, дрожат в небесах заиндевелых, — в одиночестве всей этой ночи целой, накрывающей все, что видно глазам — жизнь и год, расписанный по часам, — в хрустале этой ночи, в черноте без дна время скрыло следы. Так чем отличается эта ночь одна от всех остальных ночей?Как вчера
Вот мы воскресли. Все по-прежнему идет. Ничто здесь не успело измениться. Вот только лишь часы ушли на час вперед, и равнодушней стали близких лица.На полустанке
Ночью вагоны прошли, но что я могла понять, что разглядеть при мелькнувших огнях, что ушли навсегда? Ведь догадаться нетрудно: подобные поезда на полустанках не станут стоять…«Я не в пустыне. Ведь там нет часов…»
Я не в пустыне. Ведь там нет часов, а здесь – есть. Я боюсь опоздать. Ветер швыряет мне листья в лицо, листья летят на мое крыльцо. Разве здесь – пустота?Ночь
В небесах колесница и семь звезд. И на небе, как и на земле пока еще, никто никогда не слушал всерьез ни злодея, ни праведника, ни раскаявшегося.«Десять раз…»
Десять раз, может быть, двадцать раз мне сопутствовала удача. Только кто сказал, что и в этот раз мне сопутствовать будет удача?С моста
И вот стало ясно мне, что я не нужна никому, ни тропинки во всей стране не ведет к крыльцу моему, и я осознала вполне: я не нужна никому — и тогда упали, застлали свет одиночество и печаль. Если б плакать могла я – что же, в одиночестве плачут тоже, только как мне смеяться, если в ответ даже эхо будет молчать?Суббота
На том месте, где дерево это растет, мы вместе мечтали тогда. На том месте, где дерево это растет, в те дни бродили стада. Здесь черные козы бродили в тот вечер, а нынче здесь дерево – вместо стада, и в окошке рядом зажигают субботние свечи.Гузмай Цикл детских стихотворений
Мой сосед Гузмай
Мой сосед Гузмай для вас вмиг сплетет любой рассказ. Сказки, полны похвальбы, вырастают, как грибы. Если он собачку встретит, он вам вечером заметит: «Встретил я громадных псов, страшных, ростом со слонов! Самый главный – я видал — на полицию напал!» Если ж кошку повстречает, так, примерно, замечает: «Я гулял себе, и вот — мне навстречу тигр идет! Вот меня узнал, кивает, шляпу предо мной снимает. Тигр громадный и злой поздоровался со мной!» Мой сосед Гузмай для вас вмиг сплетет любой рассказ!Чудо-птица
Наш Гузмай на сказки скор. Все их знают с давних пор. Только он не даст скучать, не устанет сочинять: «На суку уселся дрозд и вперед направил хвост. Честно! Врать я не люблю! Он назад направил клюв! Странной птица та была! И она яйцо снесла. Вышел птенчик из яйца. Посмотрел я на птенца: Предо мной обычный дрозд: он назад направил хвост, — (видите! Гузмай не врет!) — клюв направил он вперед. Только выйдя из яйца, птичка пела без конца, беззаботна, весела, а потом яйцо снесла. Вышел птенчик из яйца, посмотрел я на птенца, вижу – все наоборот! Он направил хвост вперед! — (Верьте! Врать я не люблю!) — он назад направил клюв! Только выйдя из яйца, птичка пела без конца… И, скажу вам без прикрас, так случилось сотню раз! Я могу для вас опять все с начала рассказать!»Гузмай-мудрец
Однажды Гузмай сочинил для нас абсолютно правдивый рассказ: «Как-то по улице шел я, весь в задумчивости великой, и вдруг на меня упала с небес очень большая книга. Как я не уберегся! Поверьте, не вру. Книга сразу во мне прорубила дыру. Не успел закричать я: «мама!», как вошла она внутрь прямо! Тут же врач из соседнего дома возник. Он поставил кровать, уложил меня вмиг, и разрезал, зашил меня вмиг он, но забыл он вытащить книгу! Эта книга в крови моей растворена, потому мне и мудрость дана!»Солнце в рюкзаке
Постучал Гузмай в оконце. «Верь-не верь, но это так: у меня в квартире солнце упаковано в рюкзак! Потому что завтра поезд увезет меня к друзьям. Я, конечно, беспокоюсь: как с погодой будет там? Отдыхать мы были б рады так, чтоб на сердце легко: чтоб без ветра, и без града, без дождей и облаков! Потому-то к горизонту в лодке я вчера уплыл и садящееся солнце я оттуда притащил. А придя домой, нарочно я его упаковал в самый белый, самый прочный и большой материал. И сейчас я уезжаю с легким сердцем погостить, потому что точно знаю: будет солнце мне светить!»Обжора
Сказал мне Гузмай: «Не шучу я совсем! Я слопал вчера три десятка гусей, одного за другим, – говорю же! — мне перерыв не нужен, это был просто ужин. Ах, что за прелесть – блюдо из гуся! Тарелку ел за тарелкой – клянусь я! И тридцать готовили мне поваров, и тридцать тарелки несли со столов… Но дома, едва я двери захлопнул, случилась беда: я лопнул! Однако я тут же позвал докторов, живот мне зашили, и вот я здоров! И жду не дождусь, – могу вам поведать, — когда ж подадут обедать!»Выросла яблоня
Начинает Гузмай как бы издалека: «А скажите-ка, что я держу в руках? Ну, конечно же, яблоко! Честное слово, вы спросите, что тут такого? Но вот как объяснить, если б кто-то спросил, откуда же яблоко я получил? Это было вчера, или позавчера. Я обычное яблоко скушал с утра. Вдруг – щекотка в желудке! Совсем не смешно! Потому что я с яблоком скушал зерно. Ночью я просыпаюсь от страха, и вот, — чую: что-то не то! И смотрю на живот, и зажмурил глаза, и протер я глаза… Не поверите вы! Чудеса, чудеса! В животе моем дерево вдруг проросло, зеленело, ветвилось, потом расцвело, а потом зарумянились яблок ряды — это чудное дерево дало плоды! Это было прекрасно! Ах, я вам не вру! Как чудесно качались плоды на ветру! …Красота – красотою, и все же представьте: лежу я на ложе, и думаю: как я ступлю на крыльцо, когда из меня проросло деревцо? Что делать? Поднялся, нашел я топорик и яблоню снес под корень! Ах, сердце разбито! Ах, в сердце печаль! Мне дерева жаль и плодов его жаль. И вот посмотрите: в руках моих плод, свидетельство вам, что Гузмай не врет!»Едет сад
Раз Гузмай собрал всех нас и повел такой рассказ: «Я хочу, чтоб вы узнали: жил я в детстве без печали, был наш дом совсем не мал, и в саду он утопал. Только – вам не догадаться! — этот сад умел кататься! Каждый куст в нем был не прост: на колесах жил и рос! Если мы переезжали — ни ростка не оставляли! Тридцать братьев дружны были, баловаться не любили, а тащили за собой на веревках сад большой! Вслед неслися голоса: «Посмотрите! Едет сад!» В птичьем гнездышке отец размещался, как птенец, (я скажу вам, гнезда эти были больше всех на свете!), он смеялся и кричал, на вопросы отвечал: «Да, сыны мои прекрасны, я растил их не напрасно, и теперь я, их отец, будто в гнездышке птенец!» В день мы сорок километров проезжали незаметно. Знали мы, что наша цель — посреди пустых земель. Счастлив садовод отныне: сад цветет среди пустыни! «Здесь пески – откуда ж тут Розы яркие растут?» Всех мы в гости приглашали и плодами угощали. Все благословляли нас! Вот и кончен мой рассказ.»В небесах
«Что ж, – сказал Гузмай, – отлично. Вот рассказ вам необычный. Это правда до конца, до последнего словца! Как однажды жарким летом я взлетел за птицей следом, и не видели меня ночь и три-четыре дня! Я затем взлетел за птицей, чтобы от жары укрыться. Я-то знал, что там сейчас попрохладней, чем у нас. После жаркого Эйлата так манит небес прохлада! Дует ветерок в тиши… Просто – отдых для души! И, засахарены снегом, тучи движутся по небу. Из мороженного тут горы целые растут! Там, в мороженном, гулял я и его же поедал я. Снег обедом мне служил, в нем и спал я, в нем и жил. Но внезапно – что ты скажешь! — я схватил ужасный кашель. Лишь тогда, совсем больной, возвратился я домой».Летающий дом
«Ну и ветер сегодня! Смотри!» — изумленно Гузмай говорил. — «Этой ночью еще он возрос и деревья он в парке унес. А потом до того разыгрался, в приоткрытые окна врывался. А кровать-то моя под окном, уж не чаял забыться я сном. Задремал и сразу проснулся. Вижу – дом мой внезапно раздулся! Ветер в окна врывался, спеша, и раздул бедный дом, будто шар! Задрожал я от страха мгновенно, лишь увидел я круглые стены, а когда начал пол закругляться, то решил я отваги набраться. Бедный дом мой! Он весь поменялся! И внезапно с земли он поднялся, и решил я: скорее, скорей должен выпрыгнуть я из дверей, что немедля проделал я ловко, прихватив из кладовки веревку. И поскольку я действовал споро, дом успел привязать я к забору. И всю ночь у забора сидел, и стерег, чтобы дом не взлетел, не унесся бы в дальние страны. Был мой дом под моею охраной! Ну, а только восток заблистал, сдулся дом, и обычным он стал. Посмотри-ка: стоит он спокойно, да и выглядит, в общем, пристойно».В брюхе у акулы
Гузмай сообщил нам: «Сейчас в самый раз поведать вам странный, чудесный рассказ! Когда это было – не помню сейчас. Пошел я рыбачить в предпраздничный день. Вдруг вижу – акула мелькнула в воде, подплыла и смотрит. Ну, все, быть беде. И эта акула не долго ждала, наживку сглотнула и леску взяла, и удочку стала так сильно тянуть, что я не успел даже глазом моргнуть — погасло, исчезло сияние дня, поскольку акула сглотнула меня! …Поверьте, что вам не приснится во сне то, что я увидел в желудке у ней, поскольку, клянусь вам, что даже я сам вначале своим не поверил глазам. Гляжу я направо, налево гляжу и вижу гостиницу! Я подхожу. Огромнейший дом, этажей двадцати! Так что же мне делать? Решаю войти. Вошел, осмотрелся я: ну и дела! Картины на стенах, кругом зеркала, ковры и портьеры, повсюду цветы. Давно я не видел такой красоты. И тут же открылося много дверей, и вышло ко мне очень много людей. И что ж я услышал? «Прошел всего месяц с тех пор, как спокойно стояла на месте гостиница эта в далеких краях. Но буря случилась на тех берегах. Волна все залила и перевернула, и тут-то из моря явилась акула, раскрыла огромную пасть широко и съела гостиницу всю целиком! Однако же, мы приспособились тут, и создали даже какой-то уют. У нас никогда не кончается пища, поскольку акула для нас ее ищет, глотает нам фрукты, гусиный паштет и рыбных консервов для нас на обед!» Вот так я и прожил примерно неделю в желудке акулы, в подводном отеле. Но что-то акула там вдруг проглотила, и нами акулу на берег стошнило. И то, что сейчас я не умер, а жив, — вот знак, что в словах моих не было лжи!»Дом Гузмая
Гузмай начинает рассказ свой: «Ну, что ж. В огромной столице по имени Ложь с утра, а точнее, с шести до пяти на свет я родился и начал расти. В том городе праздник все ночи подряд, дома там обычно на крышах стоят, бульвары по небу плывут сквозь туман, а в центре привольно шумит океан. Был самым прекрасным на свете наш дом, и много чудесного видели в нем. Мы очень любили дремать на качелях и каждую ночь там стелили постели. А в ванной нам краны совсем не нужны, нам воду из хоботов лили слоны. Верблюд там у двери пристроился спать. Он был для гостей, как складная кровать. Глаза у совы были как фонари! Да, чудный был дом это, что говорить! Родившись, я сразу вскричал что есть духу: «Сгоните мне с носа противную муху!» И мама поднялась, чтоб муху прогнать, и понял я, что меня любит она. И к нашему дому явился мудрец, в глаза мне взглянул и сказал: «Наконец! Свершилось!» Прославлен наш город с тех пор: родился в нем гений, Гузмай-фантазер!»Рахель
О Рахели
Россия начала 20 века жила стихами. Они были духом времени, его неотъемлемой частью. Однако сколько бы мы ни называли имен ярких талантов тех лет, творчество которых занимает большое место в наших домашних библиотеках, перечень будет неполным. Мы знаем, что многих из них судьба разметала по всем частям света, и сокровищница русской поэзии тех времен, возможно, еще таит от нас немалую часть своих богатств.
Однако для российских евреев в начале 20 века дух времени определялся еще и другими составляющими. Именно это и привело к тому, что стихи Рахели Блувштейн, родившейся в традиционной еврейской семье в Саратове в 1890 году, возвращаются к русскоязычному читателю в переводах с иврита.
Рахель закончила гимназию в Полтаве. В девятнадцать лет она уехала в Палестину. Поселившись в Реховоте, она сразу прекратила писать стихи на русском языке, – те, которые к тому времени уже были созданы, сегодня можно найти только в архивах. Она поставила перед собой цель, и этой целью было – погружение в иврит, до тех его глубин, в которых сможет проснуться вновь ее творчество.
Начался штурм языка. Она читала Танах, вслушивалась в речь малышей на улицах. Для нее наступила пора временного молчания. А в душе, влюбленной в пустынную землю, жила поэзия. Любовь к земле искала выхода – и Рахель поступила в женскую сельскохозяйственную школу и поселилась у озера Кинерет. Здесь прошли ее лучшие дни, которые она потом, будучи прикована к постели, неоднократно вспомнит в своих стихах.
В 1913 году она уехала во Францию, чтобы выучиться на дипломированного агронома. Она мечтала вернуться на свою землю специалистом. Грянувшая война нарушила ее планы. Путь в Палестину был закрыт.
И тогда Рахель направилась в Россию. Там она работала учительницей и писала на русском языке воспоминания о жизни на Кинерете. В 1919 году, на первом же корабле, вышедшем после войны в Палестину, она вернулась домой.
И сразу же дала себя знать болезнь – результат последних трудных и голодных лет. Поселившись в кибуце Дгания, она обнаружила, что не может больше заниматься тяжелым физическим трудом. Она переехала в Иерусалим, затем предприняла последнюю попытку найти себе дело в любимом краю – вернулась в Дганию, чтобы работать воспитательницей в детском саду. Но все сильнее тревожили ее симптомы туберкулеза, и вскоре ей пришлось покинуть свой любимый Кинерет навсегда.
Она жила в Иерусалиме, в Цфате, потом окончательно поселилась в Тель-Авиве. Она фактически была прикована к своей комнате, врачи запретили ей выходить из дому. Изредка она нарушала этот запрет. У нее было много друзей, и она не испытывала одиночества. Но ее тянуло в большой мир! И вот тогда-то и прорвалась плотина вынужденной немоты. Ее стихи начали появляться в 1925 году в приложении к газете «Давар» и вскоре превратились в нем во что-то вроде постоянной рубрики. Их ждали, к ним привыкли. Она переводила на иврит стихи русских поэтов, включая Пушкина, Ахматову. Древний иврит переживал в те времена свою бурную вторую молодость, и еврейское население Палестины буквально холило и лелеяло все явления духа, связанные со своим языком. Стихи же на иврите воспринимались, как лишнее подтверждение его жизненности.
Рахель умерла 16 апреля 1931 года в возрасте сорока лет. Свое поэтическое кредо она изложила в следующих словах: «Мне ясно, что в искусстве поэзии дух этого времени проявляется в простоте выражения. Простое выражение – это выражение самого первого шевеления лирической эмоции, выражение немедленное, то есть сделанное до того, как она успеет прикрыться нарядной шелковой одеждой и золотыми украшениями; выражение, свободное от литературности, затрагивающее сердце своей правдой, овевающее душу свежестью; способное выгравироваться в памяти, чтобы сопровождать нас в повседневной жизни; выражение, которое может внезапно „запеть“ в душе…»
Мири ЯниковаИз сборника «Дополнение»
Странствие души
А. Д. Гордону
Вот закат начался. Как приход его скор! Цвет золотой проник в небеса и на вершины гор. И почернели поля — молча лежат. Будет по ним тропка моя молча бежать. Но не позволю судьбе безраздельно царить. Буду за свет, за сиянье небес с радостью благодарить.«Разве это конец, если видно вдали…»
Разве это конец, если видно вдали, как туман охраняет намеки чудес, — зелень яркой травы и сиянье небес — пока осени дни не пришли. Подчинюсь приговору, приму этот крах, ведь алеет закат и сияет рассвет, и цветы улыбаются мне на тропах прошлых лет.«Мы отправились в путь…»
Мы отправились в путь, был веселым вначале поход. Мы отправились в путь, чтобы встретить Царицы приход. Но один за другим проходили над нами года, и один за другим отставали друзья навсегда. Ты ведь тоже уйдешь, заплутавши средь этих путей. Ты ведь тоже уйдешь, — я останусь одна в пустоте. И обманет родник — в нем воды не окажется вдруг. И обманет родник — и тогда я от жажды умру.Подчинись приговору
Подчинись, заглуши в себе сердца глас, подчинись приговору и в этот раз. Не борись. Подчинись. Там, на севере, снег покрывает поля, а под ними весны ожидает земля — в тишине, в глубине. Подчинись, заглуши в себе сердца глас, уподобься траве, что под снегом спаслась, видит сны, ждет весны.«Лучше память горькую выгнать прочь…»
Лучше память горькую выгнать прочь и свободу себе вернуть, отгоревших искр не ловить сквозь ночь, к подаянью рук не тянуть. Превратить во Вселенную душу свою, и пребудет в ней кто-то один, и опять обновить неразрывный союз с небесами, с цветеньем долин.«Полночный вестник был в гостях…»
Полночный вестник был в гостях, у изголовья встал. Нет плоти на его костях, в глазницах – пустота. И я узнала, что – пора, и ветхий мост сожжен, что между Завтра и Вчера держала длань времен. Он угрожал, гремела весть сквозь смех, бросавший в дрожь: «Последней будет эта песнь, что ты сейчас поешь!»«И вот последний отголосок эха стих…»
И вот последний отголосок эха стих, от всех сокровищ не осталось ни следа, и обнищало сразу сердце, и грустит в оковах льда. Как жить тому, кто забывает о былом, как превозмочь ему перед грядущим страх? Его не скроет больше память под крылом, рассеяв мрак…«Вот встреча, полувстреча, быстрый взгляд…»
Вот встреча, полувстреча, быстрый взгляд, вот ты приветствие едва пробормотал, — и сразу же сметает все подряд лавина боли, счастья шквал. И прорвана плотина забытья, и бури не сдержать, не отдалить, и на колени опускаюсь я, и пью, чтоб жажду утолить…Грушевое дерево
Что такое весна? Ты проснулся с утра — и увидел грушу в цветенье. И давившая прежде на плечи гора исчезает в одно мгновенье. Так пойми: как же вечно грустить о цветке, том, что осень сгубила давно, если нынче весна тебе дарит букет и подносит прямо в окно?Эхо
Залману
Там горы к небу поднялись — в дали прошедших лет. И с песней я взлетала ввысь, кричала: «Кто там? Отзовись!» — И эхо мне в ответ. Померк тот свет, прошли года, вершины стерлись те. но эхо живо, как тогда, ты крикни, и оно всегда ответит в пустоте. Когда беда приходит вдруг, когда вокруг темно, — как сохранить хотя бы звук, хотя бы тень, пожатье рук, пусть эхо лишь одно!..В больнице
Мчатся тропы, сияет их белизна. Что до этого мне, заключенной в палате? Я стою тихонечко у окна. Просто плачу. Спросит врач: «Ты сегодня плакала, да? Ты хотела увидеть, что там, за горой?» И я улыбнусь: а ведь он угадал! И я кивну головой.«Возьми в свои руки руку мою…»
Возьми в свои руки руку мою с любовью брата. Мы оба знали: простреленному кораблю нет к родным берегам возврата. Единственный, я внимаю тебе, сними кручину. Мы оба знали: родных небес не увидеть блудному сыну.Бессонной ночью
А бессонной ночью – на сердце лед, а бессонной ночью – ужасен гнет. Протянуть ли руку – порвать ли нить? Отступить? А наутро – свет. он на крыльях мчит, и тихонько он мне в окно стучит. Не тяну я руку, не рву я нить. Сердце! Дай мне повременить!«Да, я такая…»
Да, я такая: проста без затей, мысли мои тихи. Люблю тишину, и глаза детей, и Франсиса Жамма стихи. Был пурпур мне ближе других цветов, я жила среди горных вершин, я была своей средь больших ветров и своей – средь орлов больших. Да, это было, но это – ушло. Меняются времена. Душа носилась на крыльях орлов, а нынче меня не узнать…В пути
И вновь простор полей, и ветер вешний, шаг невесом. Так может, этот плен и этот ад кромешный — лишь страшный сон? Но ведь тогда и память об отрадах и о дарах, что узников утешить были рады, скользнет во мрак? Так пусть кошмар и ад не гасят пламя еще чуть-чуть, чтоб этот малый свет не смог с тенями прочь ускользнуть!..«Итак – конец и этим кандалам…»
Итак – конец и этим кандалам. Их прежде не брала любая сила — теперь же скука их перепилила. Итак, свобода. Как я к ней рвалась, ее боялась… Сердце же, однако, не радо, чтобы не сказать – готово плакать…Его жена
Как ей просто его величать его именем средь бела дня! Ну, а я привыкла молчать, чтобы голос не выдал меня. Как ей просто шагать по земле рядом с ним ясным днем! Ну, а я пробираюсь во мгле и тайком. Есть кольцо золотое у ней, и алмазы на нем горят. Но мои кандалы – тяжелей во сто крат.Печальный мотив
Различишь ли зов из своей дали, различишь ли зов, как ни страшна даль? Он рыдает в сердце, в душе болит и благословляет сквозь все года. Через мир огромный ведут пути и, сойдясь на миг, разойтись спешат, и своей потери не обрести, и стопы усталой неверен шаг. Может статься, смерть стоит за дверьми, и прощальных слез пора подошла, но тебя – и в самый последний миг буду ждать, как Рахель ждала.«Раны пред вами свои обнажать…»
Раны пред вами свои обнажать, золото горечи – полную чашу! — на сострадание ваше сменять и на презрение ваше? Вам предназначен – презрительный смех. Силы собрав, проявлю я отвагу и обозначу границу для всех: «дальше – ни шагу!»«Вновь эти строки перед взором предстают…»
Вновь эти строки перед взором предстают: лист пожелтевший смят, его чернила, выцветая, создают былого аромат. О чары памяти, о властная рука, касания тепло! Вот подан знак – и что-то вдруг издалека вплотную подошло.«Так нежны, так чудесны объятья твои —…»
Так нежны, так чудесны объятья твои — убаюкают, грусть унесут. К лону милой земли приравняю я их, ибо ужас не властвует тут. Только женщина я! Как могу я одна? И лоза, что к вершине ползет, — без родного ствола ослабеет она и, как я, на землю падет.«Пусть слиты губы, но сердца разделены…»
«Мы как два волка плясали на цепи, и это мы называли любовью»
И. Эренбург«Поставь меня печатью на сердце своем…»
Песнь песней Пусть слиты губы, но сердца разделены, сердца терзает страх. В одних и тех же – волей рока – мы должны плясать цепях. Степным волкам лишь слышно, как звенят их цепи – не дано им различать молитвы и мольбы: «поставь меня на сердце, как печать…»«Уходят силы прочь…»
Уходят силы прочь. Так постарайся мне помочь, попробуй мне помочь! Стань мостиком над пропастью тоски, над бездной дней, и постарайся мне помочь, помочь душе моей. Стань деревом, ручьем – в краю, где тени нет и вод. Попробуй мне помочь! Ночь длится, и далек восход. Стань вестью радостной, лучом в ночи, стань хлебом из печи!Моей земле
Ни славословья, ни возвышенной строки не посвящала я тебе, моя земля. Лишь дуб посажен мной на берегу реки, лишь мной протоптана тропа в твоих полях. Я знаю, мать моя, — и в том сомненья нет, что скромен дар тебе одной из дочерей: лишь возглас радости, когда прольется свет, лишь слезы скрытые над бедностью твоей.Рахель
Наша кровь едина и души, ее голос во мне поет. Праматерь Рахель, пастушка, пасла Лавана скот… И поэтому дом мне тесен и город ко мне суров — никогда не забыть ее песен для пустынных ветров. Мне другой хранитель не нужен, кто-то путь указал мне рукой, — это память хранит мою душу и покой.«Я всем довольна! Теснота…»
Я всем довольна! Теснота поможет мне мечтать о дали, и есть у осени цвета любви и золотой печали. Стихов прекрасные цветы взрастают из тоски нетленной, а золотой песок пустынь летит с горы Нево священной.Возмещение
Это слабое тело, это сердце, что полно печали такой — станут прахом земным они чуть погодя, частью почвы, и с нею дождутся дождя и, смеясь, взлетят высоко. С благодатным дождем я прорвусь к небесам — через почву пройду, стены гроба поправ, и тогда загляну прямо зною в глаза я глазами трав.«Пусть я десять раз сказала: «Хватит…»
Пусть я десять раз сказала: «Хватит», десять раз «Свободна!» – прокричала, но оковы прочность не утратят, и опять начнется все сначала. Вновь на сердце длань твоя сожмется, — и отпустит, дав воспрять надежде. Сердце затрепещет и забьется — а потом умолкнет, как и прежде.«Та, которая следом за мною займет…»
Та, которая следом за мною займет в твоем сердце чужие покои, и насытится горечью, сладкой как мед, едкой сладостью – следом за мною, та, другая — заставит меня позабыть? Или все ж прибежишь впопыхах, чтоб опять теребить этой горечи нить, что в моих вплетена стихах?Михаль
«И полюбила Михаль, дочь Саула, Давида… – и презрела его в сердце своем»
Книга Самуила, 1, II О Михаль, ты сестра мне — ведь связь поколений крепка, и еще виноградник полынью сухой не зарос, и на платье твоем не поблек еще пурпур полос, золотые браслеты твои мне звенят сквозь века. Не однажды я видела, как ты стоишь у окна, и свободу и нежность твои отражают черты. О Михаль, о сестра, я ведь тоже грустна, как и ты, и, как ты, на презренье к любимому осуждена.«Только стук дверей, только лязг замка —…»
Только стук дверей, только лязг замка — и стихают шаги в ночи. И к чему мой зов, и к чему тоска, если ты их не различишь? Так поставь же, гордость, на сердце знак, горечь, душу мою залей, потому что я одинока так, как слепец среди площадей.«Все я вам поведала теперь…»
Все я вам поведала теперь, распахнула дверь. В комнатах бродили чужаки, указаньям следуя руки: «Тут – пустые чаянья и месть, а покой отчаяния – здесь. Это – смотрит из угла гордость, что растоптана была». И случилось так: ты был с ними, мой родной чужак. Посмотрел, как все, и вышел прочь. Я – в углу. Настала ночь. «Вдруг», – мелькает мысль в тиши ночной, — ничего и не было со мной?»Из сборника «Со стороны»
Книга моих стихов
Те стоны мои в час нужды и печали — от боли, от гнета оков, — теперь ожерельями слов они стали и белою книгой стихов. Со всех тайников были сорваны дверцы, расхищено то, что огнем пылало в глубинах разбитого сердца, в беспомощном сердце моем…Преграды
Когда я была девчонкой, я часто бывала грустна. Ходила в одежде черной, играла совсем одна. Пусть лет промелькнула стая, той девочки больше нет, но вот – как прежде, грустна я, и та же мета на мне. Преграды – те же, что в детстве, меж мной и людьми лежат, но только в траур одето не тело теперь, а душа.Может быть
Может быть, и придумала все это я? И, как знать, никогда я не мчалась с рассветом в поля, отгоняя остатки сна? Никогда, никогда в эти длинные жаркие дни не слыхали снопы, не слыхали поля, как в устах моих песнь звенит? В синеве твоих волн никогда не купалася я, о, Кинерет родной, мой Кинерет родной! Ты-то – был? Или сон это мой?Цветы «быть может»
Прекрасны клумбы у меня в саду, и выросли на них цветы «Быть может». Став садоводом, пристрастясь к труду, как я растила их! Как лезла я из кожи! Я выставила стражу у ворот и на ее рассчитывала верность. Цветы хранила я от всех невзгод, боясь, что в сад проникнет Достоверность. Но та пробилась через семь оград и сразу приговор ужесточила, и превратила в кладбище мой сад и мой цветник – в могилы превратила.Если Господня воля…
Если Господня воля — мне на чужбине скитаться, то, Кинерет, позволь мне хоть в могиле рядом остаться. Мы наконец-то вместе. Здесь покой небывалый. С поля несутся песни, что я когда-то певала. Здесь меня не забыли. Здесь мой путь подытожен. Дерево на могиле благословляет прохожих. Если Господня воля — мне вдали от тебя скитаться, — я вернусь, о Кинерет! Позволь мне хоть в могиле рядом остаться.Союз с эхом
Залману
Как союз между звуком и эхом, так и наша с тобою связь. Ей года и века – не помеха, в сердце память живет, затаясь. На вершине – двое. как ветер, весела она и легка, ну, а он – черноглаз и светел, как еврейский отрок в веках. Он сказал: «Как пастушьи свирели, голос твой в Иудейских горах, эти звуки не устарели, и легенда та не стара». Нас вели изгнанья путями, эта доля совсем не легка. Потому ли союзу меж нами не помеха – года и века?Закрытый сад
Чужому
Кто ты? Я тянусь рукой, но рядом я твоих не ощущаю рук, и глаза, с моим встречаясь взглядом, прячутся, и в них сквозит испуг. Каждый человек – как сад закрытый, и к нему тропинка не лежит. Жду, покуда на пустынных плитах иссякает жизнь…В городе
Я примирюсь – и грохот, и бетон моя душа воспримет и поверит, в чужой толпе не вспомню я о том, что спит в душе, не прошепчу: «Кинерет!..» Лишь ночью, в час молчанья и тоски я стану вспоминать и плакать стану, когда страдание рвет сердце на куски, когда болят закрывшиеся раны.Мотив
Лишь для тебя они станут наградой, лишь о тебе мои песни звучат: штили и штормы, слезы и радость, боль и услада, холод и чад. Да, я ответа не знала доселе, да, я почти что мосты подожгла, — сразу вернулись и снова запели: ревность и ненависть, пламя и мгла. И для тебя лишь симфония эта, лишь о тебе сотни скрипок поют: лживость тумана – и правда рассвета, слезы и радость, боль и уют.«Вдруг проснуться, понять…»
Вдруг проснуться, понять: это было кошмаром, лишь кошмаром, рожденным в тоске! И опять, как вчера, ощутить твои чары и почувствовать руку в руке. Мы не предали наши с тобой идеалы, мы храним этот давний завет, и Кинерет родной, как большая пиала, щедр, как прежде, и полон навек. Мы навеки повязаны скрытою нитью, самой прочной из прочных цепей. То был просто кошмар, а совсем не наитье. О, скорей бы проснуться! Скорей!«Руку жестом рассеянным ты перенес…»
Руку жестом рассеянным ты перенес мне на голову, и от тепла непосильною ношей, тяжелой до слез грусть на сердце внезапно легла. Неужели безжалостный рок повелел выпить чашу до дна нам с тобой? Мы не ближе друг с другом на этой земле, чем на небе звезда со звездой.«Рукой за милостью я тянусь —…»
Рукой за милостью я тянусь — мне крошечный нужен кусок. Мой вечер близок, на сердце грусть, мой путь одинок. От века глухи к чужой нужде те, кто сыт и богат, но как же нищему не разглядеть, как голодает брат?Бесплодная
Вот бы сыночка иметь довелось! Был он черноволос. Бродим в саду, не боимся росы — я — и мой сын. Ури, мой свет и моя душа! Имя, как капли ручья. Черноволосого малыша Ури – назвала бы я. Буду молиться, как Хана в Шило, и, как Рахель, страдать. Буду его ждать.Судьба
Стучащий в ворота упрямой рукою давно изнемог. И капает кровь, и сочится струею на прочный замок. Не слышит никто. Где же сторож блуждает? Так тихо — как перед концом. Я знаю: спасенье мое опоздает, и замертво я упаду на крыльцо.Посещение
Хае
Осенним вечером на Родине, в палатке, в которой пол – земля, и дыры есть в стене, и где в углу белеет детская кроватка и дали дальние – в окне… Тяжелый труд, надежды, исступленье — я ваша. Как опять вас обрести?.. …Вот дети подошли, застыли в изумленье: зачем же тетя так грустит?..Ночью
Ури
Письма брошены, и перепутан их порядок. Как много их! Я простерта над ними, как будто та гадалка веков седых. Только я, как она, назавтра не пойду судьбу вопрошать, потому что Бог отказался, отказался мне помогать, хоть и знает он сердце это, ту печаль, что оно хранит. Буду письма читать до рассвета, пока буквы не стерлись на них.Молчание
Земля молчит – и будто саван грудь окутал, и будто сердце мне пронзил молчанья меч. Но я покуда здесь и жду еще покуда, и кровь стихов моих не прекращает течь. Раз смерть молчит – умолкнем мы в ее объятьях, настанет день – и путь прервется у черты, но до чего же голос жизни нам приятен, как звуки эха его ясны и чисты! Могильным холодом в лицо молчанье дышит, и ухмыляется чудовище в ночи. Но я покуда здесь, покуда здесь, ты слышишь? Срази меня словами! Только не молчи!«Я запомню навек…»
Я запомню навек: как испуганный конь, колотится сердце в груди. Будто в лунную ночь, всюду бледный огонь и призрачный свет – впереди. И внезапно почувствую вспышку в крови, будто послан мне знак от огня. Он напиться дает – и сгореть от любви, окружает и душит меня.При свете форточки
О, как же недолго со мною он пробыл — тот луч, что скользнул сквозь стекло. Уже не мечтаю отныне я, чтобы здесь стало свежо и светло. О солнце! О солнце! Блестящей оравой твои рассыпались лучи, сверкали в росе и плясали на травах, горели в заката печи. Я знала, что дни опустеют без света. В тоске подойду я к окну. Как к памяти солнца, я к форточке этой без всякой надежды прильну.Женщина
Вот она от головы до пят, вот ее забитый, тихий взгляд. Преданность, унынье и мольба: взгляд собаки битой иль раба. Миг кристально чистый, ясный, узнанный, хоть и полон, скуп он на слова. Тишина, и лишь порыв обузданный: господина руку целовать.«Назови моим именем дочь —…»
Назови моим именем дочь — руку дай, постарайся помочь. Так печален в вечность уход! И когда она подрастет, то мою сиротливую песнь, мой вечерний, грустный мотив — в золотую звонкую весть, в голос утра она превратит. Нить порвалась – вплети ее им, дочерям и внучкам твоим!«Тебе я, как прежде…»
Тебе я, как прежде, тебе – на века — чужая, своя, далека и близка. Ты – рана на сердце, и невмоготу краснеть и бледнеть, и взлетать в высоту. Так вслушайся в глас, леденящий сердца! К тебе, о тебе, от тебя – до конца…Открылася дверь…
Открылася дверь и закрылася дверь. Мираж сияет вдали, и манит колодец. Но, верь иль не верь, им жажды не утолить. Тюрьма – моя келья, и книга – нема, и ширится ужас во мне. И пусть я грешила – но я же сама наказана Богом вдвойне!«Своею рукою! —…»
Своею рукою! — Так гордость велела. Разорвана нить и мосты сожжены своею рукой. В сердце радость запела. Так гордость велит. Нож торчит из спины.Из сборника «Нево»
«Лишь о себе рассказать я смогла…»
Лишь о себе рассказать я смогла. Сжался мой мир, будто мир муравья. Так же, как он, я и ношу несла, так же, как он, надрывалася я. Путь муравьишки к вершине желанной долог, мучителен, труден вдвойне. Ради забавы рука великана все его чаянья сводит на нет. Так же и путь мой – слезы и песни, страх и молитвы Высшей Руке. Что ж ты позвал меня, берег чудесный? Что ж обманул ты, огонь вдалеке?«Столько доверия в сердце моем! —…»
Столько доверия в сердце моем! — Не испугаешь его листопадом, благословит любые преграды — осени плач за окном, ветра бессилье, вечности мощь… Сердце доверчиво, дальний ты мой!«В сердце сад есть заветный…»
В сердце сад есть заветный, ты вселен в заветный мой сад. Заплелись твои ветви, глубоко твои корни лежат. Не смолкает, не стынет в сердце до ночи птичий галдеж. Это сад мой, и ты в нем сотней жаворонков поешь.«Все сказала я. Срок настал…»
Все сказала я. Срок настал виноград давить — или душу. Кровь течет, как вино. И вопит немота. А ты даже не слушал.Письмо
Все хорошо. Секрет храню навеки про счастье, что открылось и ушло. Готова руку целовать я человеку, что обижал и будет впредь мне делать зло. Но вдруг в тиши — есть миг жестокий, грубый, есть миг, взрывающий покой и сонный плен, когда мне хочется, чтоб затрубили трубы и Страшный Суд свершился на земле.Сосед
Его не видя, все же знаю точно о том, что он вблизи, я не одна, и бережет от ужасов полночных квадратик света из его окна. О, только бы мне знать, что кто-то рядом — невидимый, но явственный, как свет, и это знание – защита и ограда, ладонь на лбу, прохлада и привет…Иная печаль
Отодвинулись мгла с синевою, дни и ночи ушли далеко. Я устала. Глаза закрою, посижу, отдохну немного. Пелена чужбины упала, и придвинулся вдруг безотчетно образ тот, что во мне погребала память дней и ночей бессчетных. За борьбу, за сверканье стали — ты прости! Мы запомним отныне, что касанье иной печали ранит больно, и память не стынет.«Моя хрупкая радость! Цветочек…»
Моя хрупкая радость! Цветочек, что взрастила с таким я трудом на тяжелой безжизненной почве, на пустынном наделе моем. Моя хрупкая радость! Жестокий тот закон мне известен давно: если слез проливаешь потоки, не создашь и росинки одной. И дорога мне эта известна, и другой уже не повстречать: вспоминать, создавая песни, вспоминать, грустить и молчать.«Книгу Йова раскрыла, читаю о нем…»
Книгу Йова раскрыла, читаю о нем. вот герой! Нас ведь тоже учили видеть благо и пользу в страданье своем, подчиняясь Всевышней силе. Если б только уметь разговор нам живой, как и он, вести благосклонно, и устало склоняться, как он, головой, и идти к Отцовскому лону…Своими руками
«Своими руками —
так гордость велела…»
Я закрою дверь на замок, я заброшу в море ключи, чтоб мой дух смятенный не мог на твой голос мчаться в ночи. Знаю – ночи будут без снов, знаю – дни покроет туман. Утешенье мое – в одном: это сделала я сама.«Я заберу себе взгляд твой нежный —…»
Я заберу себе взгляд твой нежный — сверкающий смех, глухую тоску, которым, как вспаханным полем безбрежным, я вылечить бедное сердце смогу, Я заберу себе взгляд твой нежный, я заберу – и втисну в строку.«Не осуждай меня: да, я виновна…»
Не осуждай меня: да, я виновна. Так отсрочь приговор и крах! Возлюбить себя? Ну что ж, безусловно, я себе – главный враг! Не уходи с испуганным взглядом, и не плачь обо мне – смерть уйдет! Лишь месть моя стрелы наполнила ядом, в мое сердце стремит их полет.Прежняя ночь
Нынче все по-иному – никто не поверит: мы летим над землей, будто в сбывшихся снах. Мы с тобою на яхте, сверкает Кинерет, и над нами горит парусов белизна. Мы когда-то сплетали из лунного света тот фитиль, что навеки связал нас с тобой. Все свершилось! Смотри: сон сбывается этот, мы бредем золотою тропой. Станет память кристальной водой родниковой, давшей влагу сожженной земле. Эта ночь – навсегда. Ее светом окован ряд за нею тянувшихся лет.Ночная дойка
В лунных бликах наш двор неровный. По прохладе и тишине поскорее бежим в коровник. Дышит ровно корова во сне. Как тепло она шевелится! Как рогатый лоб ее крут! Наши с нею судьбы сплелися целым ворохом скрытых пут.Цвета
Земли вспаханные чернеют, воды утром горят синевой, и проемы скал зеленеют утверждающей жизнь травой. А в ущелье сером смелеет, розовеет цветок живой.«Буйную тропку в горах…»
Буйную тропку в горах должен ли ты обойти? Чтобы увидеть твой страх — где же мне силы найти? Что же туман окружил, горы окутал собой, если сиянье вершин — это награда за боль?Нежность
Это кажется странным: сквозь горечь от слез, сквозь упреки и злые слова из далекого прошлого ветер принес шепот нежности, слышный едва. Этот бой меж мужчиной и женщиной стар, смертный бой, до исхода сил. Потому что ты братом любимым мне стал, потому что ты сыном мне был.«Никакие узы запретов…»
«Есть разрешенное —
и есть запрещенное»
Никакие узы запретов перед пламенем не устоят, и, как стебель стремится к свету, так тянусь за нежностью я. Ты поникшую душу отыщешь над судьбою и смертью моей… Горе мне! От несчастной нищей отведи свои взоры скорей!«Я хочу одного…»
Я хочу одного: позабыть этот горестный миг, и несчастного сердца, в пустыне забытого, крик, и вернуться и жить на вчерашней земле золотой, где растет мое дерево над голубою водой.«Голос ветра холодного ночью возник…»
Голос ветра холодного ночью возник, голос ветра шепнул: «приготовься, сестра…» Так прости! И прими, как и в прежние дни, ношу горьких стихов, и усталость, и страх. И по-прежнему будь мне опорой во тьме, и, как прежде, утешь, и верни мне покой, — недалекою ночью приблизится смерть и закроет глаза ледяною рукой…Мои мертвые
«Только мертвые не умрут».
Й. Ш. К. Лишь они остались. Лишь они теперь не пополнят список горестных потерь. И на перепутье, на закате дня призрачной толпою окружат меня. И не разлучат нас долгие года. Лишь потери наши – с нами навсегда.Хаим Нахман Бялик
О Хаиме Нахмане Бялике
Хаим Нахман Бялик – классик ивритской литературы. Его перу принадлежит как любовная лирика, так и полные боли и силы строки о доле и судьбе еврейского народа. На его стихи написаны песни и романсы. Его творчество переведено более чем на тридцать языков. Он считается одним из создателей современного иврита.
Бялик родился в 1873 году на хуторе Рады возле Житомира, в семье лесника. С семилетнего возраста, после смерти отца, жил в доме деда в Житомире, а в семнадцать лет уехал в Одессу, где начал публиковать свои стихи. До 1921 года он жил попеременно в Одессе и в Житомире. Принимал участие в Сионистских Конгрессах 1907 и 1913 годов, бывал в разных странах Европы и в США. В 1921 году он переехал в Берлин, а в 1924 поселился в Тель-Авиве, где сразу же его дом стал одним из центров культурной жизни. Поэт принимал участие в работе театра «Габима», Еврейского университета в Иерусалиме, Художественного музея в Тель-Авиве. Умер Хаим Нахман Бялик в 1934 году в Вене, после неудачной операции.
***
Я хочу привести здесь кусок из «Автобиографических отрывков» Хаима Нахмана Бялика (в переводе, взятом из учебника Открытого Университета Израиля), который послужит прекрасной иллюстрацией и вступлением к двум поэмам о детстве, которые я включила в эту книгу:
«Понимаю, то, что я видел, не могло произойти в действительности. Но мы с моим сердцем знаем: все, что видели – видели воочию, и никогда сердце мое не сомневалось в этом.
Серебряная ночь. Я стою на улице у ворот нашего двора. Справа от меня – лес, слева – степь. Над головой небо, небо. А передо мной – невысокая горка с крутыми склонами, покрытыми зеленой травой, сверкающей тысячами капель росы в таинственном, призрачном лунном свете. Склон холма поднимается все выше и выше, пока не оканчивается маленьким белым домиком на вершине. Все дремлет, обмершее, застывшее, окутанное легкой вуалью серебристо-синей дымки. Как вдруг – две вереницы гномов, с чистыми детскими лицами, в черных одеждах идут по холму в сторону леса; и как будто песня – невыразимо сладостная песня, едва слышная, сокровенная, безмолвно льется в сердце. Льется от них – в мое сердце. В мое сердце. Потому что слышал я ее не слухом, а сердцем.
Они прошли своим путем, не обратив на меня внимания, а я глядел им вслед, пока они не скрылись из виду. Я помню, как, войдя домой, обнаружил, что потерял дар речи. Ухватившись за край материнского передника, я силился сказать «мама» и не мог. Слово «мама» застыло в моей гортани – и осталось там по сей день».
Поэмы Хаима Нахмана Бялика
Зефиры
С птичьим посвистом – маминых уст поцелуй от ресниц отгоняет виденье ночное. Я проснулся, и свет в белизне своих струй мне ударил в лицо необъятной волною. Лезут сны на карниз, и покуда хранят тени сладкой дремоты прикрытые веки, но уже пронеслось ликование дня по булыжнику улиц в гремящей телеге. Из сидящего в раме окошка гнезда раскричалась птенцы, опьяненные светом, и уже за окном началась суета — то друзья-ветерки заявились с приветом. И зовут, и лучатся, сияют светло, торопливо мигают, снуют, намекают, как птенцы озорные, стучатся в стекло, ускользнут, возвратятся и снова мигают. И в сиянье их лиц на окошке своем различу я призыв: «Выходи же наружу! Мы ребячеством радостным утро зальем, мы ворвемся повсюду, где свет обнаружим: мы растреплем волну золотистых кудрей, по поверхности вод пронесемся волнами, в сладких грезах детей, и в сердцах матерей, и в росе засверкаем – и ты вместе с нами! В детском плаче, в изогнутом птичьем крыле, в мыльном радужном шаре, на пуговке медной, и на гранях стакана на вашем столе, и в веселом звучании песни победной!» Над кроватью снует их прозрачный отряд и щекочет меня в полусне моем сладком, и сияют их глазки, и лица горят, на щеках зажигая огни лихорадки. Я брежу, и тает плоть… Омой меня светом, Господь! Эй, зефиры прозрачные! Ну-ка, ко мне, залезайте, мигая и делая рожи, пробегитесь по белой моей простыне, воспаленным глазам и пылающей коже, по кудрям, по ресницам, по ямочкам щек — и в глубины зрачков сквозь прикрытые веки, омывайте мне сердце и кровь, и еще — растворитесь в душе – и светите вовеки! И горячая дрема меня обоймет, и наполнится сладостью каждая жилка, кровь сметает преграды, и в сердце поет изначальная радость безмерно и пылко. Как сладко, и тает плоть! Залей меня светом, Господь!Таинства ночи
Приоткрыто окошко в ночной тишине, волны ветра чредою заходят ко мне. Тихо-тихо текут, их шаги не слышны, будто только вернулись из тайной страны. Как неслышно порхают, садясь на постель, будто полные тайной пропавших земель. Видишь, как их пугает огарок свечи, как дрожат они, света коснувшись в ночи, как пускаются дружно они наутек, если вдруг моя тень в полумраке растет? Кто они, эти духи без лиц и имен, из неведомых стран, из неясных времен, что пришли они выведать здесь в этот час, оставаясь незримыми, в тайне от нас? И вообще, где живут они, духи? Секрет. И бессмыслен вопрос, и неясен ответ… Что за странник таинственный скрылся в углу, кто по стенам неслышно прокрался к столу, обвиняя, грозя и беря на прицел, теребя: «Ты проснулся? Ты Господу спел?» И внезапно мне комната стала узка, сжались тени и бросились ввысь облака, и в душе моей трепет великий возрос, захотелось ей знать, сколько в небе есть звезд. Эта страсть разгоралась в ней, как на огне, и великая дерзость рождалась во мне. И когда подошел я к окну своему, и всей грудью вдохнул, и вгляделся во тьму, — я увидел, как, соткан из мглы, затаясь, там стоит этой ночи властитель и князь. Он объял целый мир – только здесь, на земле, огонек моей свечки трепещет во мгле, и на небе одна лишь мигает звезда, будто мир остальной замолчал навсегда. Если взглянешь наверх, если кинешься прочь, все равно всюду встретишь одну только ночь, тень над тенью летит, тень меж теней прошла, всюду тени плывут, всюду черная мгла. Будто кто-то пленил меня, кто-то связал и швырнул меня в ночь, и похитил глаза, и на плахе моя голова отнята — вот такая повсюду стоит чернота, заполняя весь мир, проникая во все… Синагогу чуть видно. Она не спасет. Он стоит над домами, губитель и князь, целый мир он собой накрывает, склонясь, два засохших кладбищенских древа – и те лишь по скрипу я смог опознать в темноте. Ночь исполнена таинства и ворожбы… Как мне выбраться прочь, как уйти от судьбы, как мне вытащить слух мой из этой тиши, водоема бессмертья и мрака души, как мольбу уловить еле слышную мне, ту, которую спящий прошепчет во сне? Эта тайна безбрежна, не видно ей дна, и вуаль этой ночи черна и прочна. Миллионы исчезнувших в мрачных местах эту тайну хранят в онемевших устах. Ночь мигает огнями – им нету числа, и плетет свои замыслы, полные зла. Там на улице, снизу, разрушенный дом, и скрывается что-то ужасное в нем. Синагога уныло и мрачно глядит, и, возможно, там некто опасный сидит. И сплетает злокозненно сеть надо мной тот, кто скрылся в колючках под темной стеной. Ну, а что мне подумать о тех голосах, что пришли и ушли, замерев в небесах? Чье-то эхо они? Вот опять не слышны, и опять мы в безмолвие погружены. Чье стенанье разрушило темную власть? Чья неслышная жалоба, тайная страсть вдруг проникла в могилу, что ждет нас уже, и надежду вернула несчастной душе? Так взмолитесь из тьмы, через все миражи, возвратитесь, воспряньте, воскликните: «Жизнь!» А возможно, тот голос, что слышится мне — это плач о разрушенной дивной стране, об оставшейся в прошлом прекрасной земле, где отныне лишь мерзость укрыта во мгле? И чудесная весть о нездешних мирах в онемевшей душе уничтожила страх. От истоков веков и от края земли вот уже прямо в сердце мое потекли позабытые думы неслышной толпой, и меня потянули они за собой — к краю бездны, где сходятся все небеса, где скитается эхо – и те голоса. Я возьму их мечту и у них перейму — как полюбится сердцу она моему! И тогда-то пойму я, в какие края тянет душу мою, как сиротствую я! Ночи князь, возвышаясь, стоит надо мной и грозится мне шепотом в бездне ночной, но я знаю, что в мире нигде, никогда и дыханье одно не уйдет без следа. Тайна тайну глотает в глухой тишине. Я прислушаюсь – что же откроется мне? Я всмотрюсь в эту бездну, в безмолвье тюрьмы — и проникнет мой взор прямо в логово тьмы. Херувим пролетел, или тень тут прошла? Будто ангел над бездной расправил крыла. Очень медленно занавес тьмы упадет. Кликнет тень свою тень, тайна тайну шепнет. Голос – голосу, призраку – призрак, таясь, отыграет отбой. Познакомимся, князь! Пусть услышит земля, как над ней ты летишь! Пусть сразят тебя тайные думы и тишь! От редеющей мглы городских площадей, от пустынных проулков, где нету людей, от домов, тех, что спят, от подвалов до крыш, где запахнуты окна, где прячется тишь, от окошка, раскрытого ночи вослед, через тонкий экран пропустившего свет, от пока еще тусклой полоски зари, что туман разгоняя, все ярче горит, и от эха, возникшего там, в вышине, что веселою флейтой явилось ко мне, как с далекого бала, прорезало тишь и рванулось в окно, будто прыгнувши с крыш, от травы, от пока еще спящей земли и от отзвуков, что исчезают вдали, — различу я намеки опять и опять на чудесные сны, что нельзя разгадать.Ури Цви Гринберг
Об Ури Цви Гринберге
Ури Цви Гринберг родился в 1896 году в местечке Белый Камень. Когда Ури Цви было полтора года, его семья переехала в Лемберг (Львов). В шестнадцатилетнем возрасте он начал публиковать стихи в одесском журнале «А-Шилоах».
Вскоре он был призван в австрийскую армию. Вернувшись с фронта во Львов, он чудом, вместе с семьей, спасся от еврейского погрома. В 1920 году он переехал в Варшаву, затем был вынужден бежать в Берлин – по следам публикаций в издаваемом им журнале «Альбатрос» его обвинили в «оскорблении христианской религии».
В 1923 году Ури Цви Гринберг переехал в Палестину и начал сотрудничать с газетой «Давар». Присоединившись вначале к рабочему движению, он вскоре разочаровался в нем и вступил в партию сионистов-ревизионистов. В 1931 году он уехал в Варшаву, чтобы издавать там партийную газету, а вернувшись оттуда через пять лет, написал пророческую поэму «Башня трупов».
Ури Цви Гринберг был членом ЭЦЕЛ, после провозглашения государства – депутатом Кнессета от «Херута». После Шестидневной войны участвовал в борьбе за неделимую Эрец Исраэль.
***
Для меня процесс перевода строк Ури Цви Гринберга был скорее написанием комментария к его стихам. Любой знаток ТАНАХа подтвердит: полноценный, состоявшийся перевод со Святого языка является ничем иным как комментарием!
Ну, ничего себе ассоциации, справедливо возразят мне здесь те самые знатоки. Комментарием может быть только перевод самого ТАНАХа! Верно, а что прикажете делать, если уже на этапе составления подстрочника ты обнаруживаешь себя в глубоком живом колодце этого самого ТАНАХа, и приходится в отчаянии хватать телефон и обращаться за разъяснениями к знакомым тальмидей-хахамим. А после разговора чувствовать себя оглушенной неожиданным знанием, пережившей погружение в колодец с живой водой…
Я долго ходила вокруг творчества Ури Цви Гринберга, не решаясь приблизиться. В его нерифмованных, на первый взгляд, строках, конечно же, при ближайшем рассмотрении обнаружили себя и рифмы – и какие! Сквозные – и отдаленные, несущие на себе значительно большую нагрузку, чем обычные рифмы на конце строки. Рифмы, создающие дополнительный смысл за счет объединения слов и понятий, находящихся на расстоянии нескольких слов – или же нескольких строк друг от друга.
Но главное, конечно же, не это. Главное – искренность и неугасимый огонь души, исключающий любые компромиссы. Главное – диалог со Всевышним на равных. Вот это был вызов!
Он имел на это право. Его прадедом был реб Ури из Стрильська, а его отец был хасидским цадиком. Если бы век, в котором он родился, трагически не перемешал европейский котел, Ури Цви Гринберг стал бы наследником и главой хасидского двора. А это значит, что он был князем – из тех князей, которые вырыли своими посохами и жезлами колодец, поддерживавший жизнь народа в пустыне.1 Кому же, как не ему, было объясняться с Высшим Начальством и спрашивать с Него за трагедию, обрушившуюся на Его подданных?
И он спрашивал и требовал. Его вопросы шли из самого сердца, и поэтому он получал ответы-пророчества. Он предсказал войны, обрушившиеся на Государство Израиль. Он предсказал Катастрофу европейского еврейства.
Его не слышали – но он не замолкал и не пытался бежать. Он продолжал пересказывать свои видения – и публиковать эти пересказы на страницах газет. Его стихи и были пересказами, отчетами о том, что он увидел и узнал в тех мирах, куда он имел доступ.
Взявшись за переводы Ури Цви Гринберга, решившись на это, я стала искать то, что я способна была бы прокомментировать. Поэмы о Катастрофе и о гибели его семьи – и то, и другое было пророчески увидено им заранее! – сразу лишали возможности дышать. Другие переводчики – Инна Винярская, Эфраим Баух, Валерий Слуцкий – донесли их до русскоязычного читателя, и я преклоняюсь перед ними. Я – не смогла. Не смогла приблизиться…
Но слово «Йерушалаим» дохнуло с книжной страницы узнаванием. Вчитавшись в стихотворение, я поняла, что я там была – речь не о земном Иерусалиме, в котором мне довелось не только бывать, но и жить, имеется в виду то место Небес, которое описывает поэт. Иерусалим поднимает в ласковых ладонях на свои собственные Небеса довольно многих из тех, кто ступает на его Землю – и мне посчастливилось быть среди них.
Я узнала описание своего Иерусалима и взяла в руки чистый лист, чтобы написать на нем свой комментарий-перевод…
Мири ЯниковаСтихи Ури Цви Гринберга
Из цикла «Бог-кузнец»
1. Как осколки пророчества, дни мои раскалены, и меж ними тело мое, как брусок металла, и стоит надо мною мой Бог-кузнец, и молотом бьет, и раскрыто ему все, что время на мне начертало, и обузданный пламень искры секунд отдает. Мне начертан сей путь, и до вечера я под судом, но когда я вернусь и избитое тело брошу на ложе, как открытою раною, заговорю я устами, и нагим обращусь я к Богу: посмотри, ты измучен трудом, так давай отдохнем – мы оба устали. 2. Будто женщина, знающая, что я околдован ею, Бог с усмешкой предложит: «Попробуй сбежать!» Только мне не удастся сбежать. Я в отчаянном гневе сбегал безоглядно, и как уголь шипящий, была моя клятва: «Не хочу Его видеть вовек!» Я к Нему возвращаюсь, в Его двери стучусь со всех сил, как отчаявшийся влюбленный, что посланье любви получил. 3. Боясь отыскать Его, я с фонарем в такие глубины сознанья забрел, но вот – все цвета Его царства горят, а я – как шахтер, обнаруживший клад. Я счастлив, что столько простора во мне, что есть небеса, и созвездия в ряд, и глаз Его – отсвет луны в глубине. 4. В начале отчаянье было безбрежным: хоть мной побежден – но в руках меня держит, как первоматерию, Бог. И вот выпадает мне срок внимать Ему, волю забывши свою, стать только лишь глиной в огромных руках. Пронизанный Светом, стою перед Ним, и вижу Его проявлений огни на этом краю. 5. Всех родных мне душой и по крови родных — время спрятало их. И уже не прижаться к родимой руке, не заплакать в тоске. И смертельным ознобом в крови отдает очищенье мое. И тогда Тебя вспомню, Отец мой живой, что в крови и в земле, сквозь закрытые веки – стоишь предо мной, волевое реченье, пронзительный слог — Боже мой! О, мой Бог! Человек урожаем богатым владел, а сегодня подобен пустой борозде, говорит в нем уснувшая кровь.Ужас пророчества
Еще не было здесь облаков, еще солнце палило, и сравнялись разумом люди с детьми, что груди сосали, и тогда мне было пророчество о великой печали: тучи над Иерусалимом! И поэты еще слагали стихи об оленях и о гроздьях звезд в виноградниках поднебесных, ну а мне пророчество было о днях гонений, когда мы обнаружим, что воды несут нас, как листья, в бездну. Так откуда же это знание мне досталось? Если чья-то душа разорвана в трауре и кровоточит, в ней тогда открывается этого знанья источник. И пророчество билось во мне, и ключом прорывалось. И сухие губы издали вопль того, кто погублен, и того, кто остался в живых единственным после боя, и чье сердце упало внутрь раскаленным углем, что останется тлеть, даже если все реки его омоют. И когда спасенья от жажды искал я в колодцах братьев, зачерпнули в одном из ключей, и затем повернулись они к морю; тогда луна на небо взобралась, золотые блики с нее упали, волны коснулись. Вот то горе, несчастье, что мне в виденье предстало! Вот несут на носилках мертвых неисчислимых! Есть ли такая беда, что еще не пришла, не настала, не об этом вопил ли я в уши Иерусалима? Вот и беженцев лежбище – будто грибное царство, на краю селений – прах плодов непригодных, вот позор молодых, что вдруг превратились в старцев, тени тех сухих тель-авивских деревьев бесплодных. Нет спасенья. Одна безысходность вокруг и изгнанье. Пусть изгнанье теперь не на Западе, а в Сионе, но на Западе нас донимали лишь христиане, а отсюда еще и ислам вместе с ними нас гонит. И смотрите – уже поэты стихи слагают о несчастье и горе; их песни – чернила, а слезы – как воды, что хотели сказать – умирает в устах, на губах застывает, с головы и до ног покрывают их нечистоты. О, послушайте их! Они лепечут, как дети! Со вчерашнего дня раздается напев их небесный! Свои рифмы пустые плетут они, будто сети, расправляя их над иерусалимскою бездной! Как же сладко вам спится! Напевы звучат все нежнее, колыбельные их безыскусны и неодолимы. Но вчера здесь другой был поэт, чьи напевы сложнее, он единственным был, кто взывал в воротах Иерусалима. Ночь… И где же те виноградники под небесами? Вот затихли обманутые в колыбели, поднялись к вершинам. Ну а я здесь стою, по веленью закона, у вас пред глазами, и осколки пророчества моего, как осколки кувшина. Вы все – поколение мертвых… Давно вы мертвы, пусть даже нескоро в могилу уляжетесь вы.«Я утром проснулся – а всюду кровь…»
Я утром проснулся – а всюду кровь. Небо – в крови, и солнце – как кровь. Кровь на одежде, на обуви кровь. В Киеве будто проснулся сегодня я: в воздухе кровь и в глазах преисподняя. «Кровь!» – возглашает колокол громко, будто бы в Киеве в дни погрома. На Русском подворье евреев скопление — будто бы киевский сброд в исступлении. Кто здесь погромщик? Где здесь гонимый? Киев смешался с Иерусалимом, всюду проклятие, нет Откровения. Как киевский сброд, кипятится еврей, он возбужден, он взывает: эй-эй, скованы братья железом цепей! Иерусалим – будто Киев сегодня: В воздухе кровь и в глазах преисподняя.Зельда
О Зельде
Зельда – литературный псевдоним Зельды Шнеерсон-Мишковски.
Зельда родилась в 1914 году в Екатеринославле. Ее отец был прямым потомком Ребе Цемаха Цедека. В 1925 году семья Зельды уехала в Палестину и поселилась в Иерусалиме.
Зельда закончила учительскую семинарию и работала преподавателем в религиозных школах в Иерусалиме и в Хайфе. Первая книга ее поэм была издана в 1967 году.
В творчестве Зельды сильны элементы хасидской мистики.
Стихи Зельды
Любая лилия
Ведь любая лилия — остров мира и покоя в тихой ночи, в каждой лилии птица живет из сапфира, что зовется — «перекуют мечи…» И так близко сиянье, так запах манит, так тиха застывшая листьев речь, вот он, остров, — лишь лодку возьми в тумане, чтобы море огня пересечь.Невидимый Кармель
Когда умру и стану сущностью иною, — отторгнется Кармель, невидимый доселе — тот сгусток счастья из цветов, и туч, и хвои, вошедших в плоть, — от уходящего к прибою бульвара с соснами на видимом Кармеле. От смертного ль во мне — слияние с зарею? А запах моря? А туманы в тишине? А миг, когда и здесь, над этою горою, неотвратимо, — все равно меня накроет Йерусалима взор — от смертного ль во мне?Примечания
1
Колодец, сопровождавший евреев во время сорокалетних странствований по пустыне. Он появлялся рядом с тем местом, где делалась очередная остановка, а «задействовали» его вожди колен при помощи «Песни колодца»: «Колодец, который выкопали князья, который прорыли своими посохами благороднейшие из народа по приказу законодателя…»
(обратно)




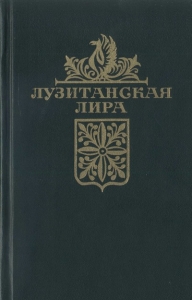

Комментарии к книге «Ивритская классика прошлого века», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев