Джордж Гордон Байрон Паломничество Чайльд-Гарольда Дон-Жуан
Перевод с английского В. Левика, Т. Гнедич, Н. Дьяконовой.
Вступительная статья А. Елистратовой.
Иллюстрации Ф. Константинова
А. Елистратова Джордж Гордон Байрон
1
Однажды в горькую минуту, подумывая навсегда распроститься с поэзией, Байрон, которому было тогда всего двадцать шесть лет, писал своему другу Т. Муру: «У меня была своя пора, на том и покончим. Самое большее, чего я ожидаю или даже желаю, это чтобы в Biographia Britannica было сказано, что я бы мог стать поэтом, если бы постарался исправиться. — Но тут же он с гордостью продолжал: — Я нахожу большое удовольствие в сознании, что временная слава, которой я добился, завоевала наперекор общепринятым мнениям и предрассудкам. Я не льстил властям предержащим; я не скрыл ни одной мысли, которую мне хотелось высказать».
С поэзией Байрона разлучила только смерть. И до конца он по праву ощущал себя в своем творчестве борцом и сравнивал свои произведения с прославленными в истории битвами:
Моей Москвою будет «Дон-Жуан», Как Лейпцигом, пожалуй, был «Фальеро», А «Каин» — это просто Мон-Сен-Жан…Ироническая интонация этих строк песни одиннадцатой «Дон-Жуана» не противоречит глубокой серьезности выраженного в них убеждения. Уподобление политического стихотворения — ручной гранате, слова — молнии, мысли — мечу, своего поэтического голоса — легендарному Роландову рогу, зовущему к бою, проходит через все творчество Байрона.
Обстоятельства жизни Байрона (1788–1824) сложились так, что уже с детства он привык чувствовать себя чужаком и отщепенцем в той аристократической среде, к которой принадлежал по праву рождения.
Последние представители знатного рода Байронов в конце XVIII века не могли похвастать милостями Фортуны и были по преимуществу известны своими несчастьями. В бурные периоды жизни Байрон не раз вспоминал своего деда, адмирала Джона Байрона, за которым навсегда укрепилось прозвище «Джек Непогода»: матросы были твердо убеждены, что корабль под командой Джека Непогоды обязательно ждут ураганы и шквалы, и поэт склонен был видеть в этом символическое предвестие собственной судьбы. Родовые поместья Байронов к тому времени, когда десятилетний Джордж Гордон Байрон после смерти своего двоюродного деда унаследовал титул лорда Байрона, были частью разорены, а частью находились под секвестром, так как права владельцев стали предметом многолетней судебной тяжбы. Состояние матери Байрона, гордившейся своим происхождением от древних шотландских королей, давно было пущено па ветер ее мужем, блестящим, но беспутным офицером, который разошелся с нею вскоре после рождения сына и умер за границей, куда ускользнул от кредиторов. Когда десятилетний мальчик приехал с матерью в Ньюстедское аббатство, свое родовое гнездо, оказалось, что запущенный замок непригоден для жилья; в одном полуразрушенном крыле зияли пустые проемы окон, другое крыло служило сеновалом… Вековые леса, окружавшие Ньюстед, были проданы на сруб. Маленькому лорду и его матери пришлось, сдав Ньюстед в аренду, поселиться в соседнем городке Саутвел и довольствоваться самым скромным полумещанским существованием. Первые годы учения в аристократической школе в Харроу были омрачены для самолюбивого подростка и сознанием своей бедности п одиночества, и врожденным физическим недостатком — хромотой, усугубленной в эту пору варварским, шарлатанским «лечением». (Впоследствии она не помешала Байрону стать хорошим боксером, неутомимым наездником и превосходным пловцом.)
Своим образованием Байрон был в большей степени обязан самому себе, чем рутинному преподаванию в Харроу и Кембриджском университете.
Байрон с детства много и жадно читал, поражая сверстников широтой познаний и независимостью суждений. Много позже, в двадцатых годах, когда ход мировой истории научил его более критически оценивать политическую роль бонапартизма, Байрон с усмешкой вспоминал, как он яростно дрался со своими однокашниками в Харроу, чтобы уберечь от них свое сокровище — бюст Наполеона. В этом еще недавно безвестном артиллерийском офицере, ставшем первым консулом, а затем императором Франции, Байрону виделся тогда наследник Французской революции, победоносный противник старых, реакционных европейских режимов.
Еще на школьной скамье его любимым чтением были труды историков, мемуары, речи ораторов. Он мечтал о политической деятельности и долгое время рассматривал свою поэзию лишь как временную замену настоящего дела. «Кто стал бы писать, если бы мог делать что-нибудь получше?.. «Действия — действия — действия», — говорил Демосфен. «Действий — действий», — говорю я, — а не сочинительства, и менее всего стихов», — писал он в дневнике в 1813 году.
Личность в высшей степени активная, обладавшая к тому же способностью мыслить исторически, Байрон остро ощущал себя человеком переломной революционной эпохи и сожалел, что родился слишком поздно, чтобы принять участие в революционных боях конца XVIII века. Его глубоко возмущала роль «тюремщика народов», которую приняла на себя Англия, потопившая в крови ирландские национально-освободительные восстания 1798 и 1803 годов, поработившая и разграбившая Индию, способствовавшая реставрации реакционных правительств в Европе после падения Наполеона. Он горячо сочувствовал бедствиям английских рабочих и ремесленников, которых развитие машинной индустрии обрекало на безработицу и нищету и которые объединялись в эту пору для своих первых, еще стихийных выступлений.
Но те реальные возможности вмешательства в общественную политическую жизнь, какими он располагал в Англии, не могли удовлетворить Байрона. Обе тогдашние парламентские партии — тори и виги — были равно далеки от народа и более озабочены борьбой за власть, чем защитой его интересов.
Первое длительное путешествие Байрона за границу, где он провел около двух лет (1809–1811), главным образом в странах Ближнего Востока, было само по себе демонстративным актом вызова: он покинул Англию в разгар ее военных действий против Наполеона, едва успев официально занять свое место в палате лордов. Путешествие это, открывшее Байрону новые широкие горизонты, не только обогатило его впечатлениями, воплотившимися в первых песнях «Паломничества Чайльд-Гарольда», вышедших в 1812 году, но обострило критическое отношение молодого поэта к политике правящих кругов его родины. «Я проехал через Пиренейский полуостров в дни, когда там свирепствовала война, я побывал в самых угнетенных провинциях Турции, но даже там, под властью деспотического и нехристианского правительства, я не видел такой ужасающей нищеты, какую по своем возвращении нашел здесь, в самом сердце христианского государства…» — так характеризовал Байрон положение английских рабочих в своем первом выступлении в парламенте (февраль 1812 г.). Речь шла о его земляках, ноттингемских рабочих-чулочниках, которые бунтовали, захватывали фабрики и разрушали вытеснявшие их из производства станки. Правительство спешило провести через парламент законопроект о смертной казни для бунтовщиков. Сохранилась любопытная переписка Байрона с главою вигийской парламентской оппозиции, лордом Холландом, показывающая, что, дорожа поддержкой талантливого молодого оратора, виги, однако, хотели бы смягчить его пыл и ввести его аргументацию в рамки своей весьма компромиссной программы. Байрон не внял этим увещеваниям. «Право же, милорд, — писал он, — … поддержание существования трудящихся бедняков и их благополучие гораздо важнее для общества, чем обогащение нескольких монополистов за счет усовершенствования орудий производства, лишающего работника хлеба…» Эту мысль и развивал Байрон в своей гневной и страстной речи. Но его защита луддитов — разрушителей станков не достигла цели. Билль был утвержден парламентом. А к вольнодумному оратору стали присматриваться с подозрительностью. «Мне указывали, — вспоминал впоследствии Байрон, — что моя манера говорить недостаточно солидна для палаты лордов. Я думаю, что это была речь вроде «Дон-Жуана». (Любопытно, что Гете, высоко ценивший поэзию Байрона, со своей стороны охарактеризовал его поэмы как «непроизнесенные парламентские речи»!)
Безрезультатным осталось и другое парламентское выступление Байрона в защиту угнетенных ирландцев, столь же энергичное, остроумное и смелое, как и его первая речь. Опыт убеждал Байрона, что в тогдашних условиях он лишен возможности воздействовать на жизнь посредством парламентской борьбы.
Третьего февраля 1816 года он получил от своего тестя письмо, ставившее его в известность, что его жена, незадолго до этого уехавшая из Лондона с новорожденной дочерью погостить к родителям, отказывается вернуться к мужу.
Женитьба Байрона была несчастлива. Его жена, Аннабелла Мильбэнк, не разделяла его интересов, — Аннабелла гордилась своей образованностью, даже сочиняла стихи, но ей были совершенно чужды и титаническая вольнолюбивая поэзия Байрона, и его гордый, нетерпеливый и пылкий нрав.
Акт о раздельном жительстве супругов, оформленный юристами после того, как леди Байрон отвергла все просьбы и протесты мужа, казалось, исчерпывал дело. Тогдашняя великосветская хроника насчитывала множество подобных, а зачастую и гораздо более сенсационных случаев. Однако реакция уже давно ждала повода для того, чтобы свести счеты с Байроном. Ему не могли простить ни его свободомыслия, ни блеска его сатирических эпиграмм, ни бунтарского духа его поэм. Еще в начале 1812 года консервативный журнал «Куортерли ревью», рецензируя первые песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», порицал поэта за то, что его герой — «смертельный враг всяких воинских дел, насмехается над прекрасным полом и, по-видимому, склонен рассматривать все религии как различные роды суеверия». Его последующие поэмы — «Гяур» (1813), «Корсар» (1814), «Лара» (1814), с их мятежными трагическими героями-отщепенцами, враждующими против общества и смело преступающими все установленные им законы, укрепили за Байроном славу опасного поэта-бунтаря. Разрыв его с женой послужил долгожданным предлогом для того, чтобы свести с ним счеты. Все средства были пущены в ход. Совместными усилиями кредиторов имущество его было описано и дом занят судебными приставами. Газеты были полны издевательских заметок и карикатур; при появлении в свете Байрона встречали оскорбительными, враждебными демонстрациями. 25 апреля 1816 года Байрон покинул свою родину, — как оказалось, навсегда.
Первые месяцы этого полудобровольного, полувынужденного изгнания были для Байрона периодом тяжкого душевного кризиса. Потрясенный всем пережитым, остро ощущая свое одиночество, он создает самые мрачные свои произведения — поэму «Тьма» (1816), драматическую поэму «Манфред» (1817). Но беспросветное отчаяние, прорывавшееся в этих поэмах, преодолевалось стоическим мужеством Байрона. Это мужество воплощено нм и в образе Манфреда, противостоящего всем духам земли и неба и смело идущего навстречу смерти, и в образе Прометея в одноименной поэме, древнего титана-богоборца античных мифов, который со школьных лет был одним из любимых героев английского поэта. Возвращение к «Паломничеству Чайльд-Гарольда», над третьей и четвертой песнями которого Байрон работает в 1816–1817 годах, знаменовало собой новый взлет его творчества.
Переезд в Италию после нескольких месяцев, проведенных в Швейцарии, оказался чрезвычайно плодотворным для Байрона. Италия покорила его не только великолепием своей природы, неисчислимыми памятниками искусства и старины и счастливой вольностью нравов, чуждых чопорному ханжеству и спеси английского «света». Байрон нашел здесь то, чего ему недоставало на родине, — возможность деятельного участия в освободительной борьбе народа. А это, в свою очередь, послужило могучим источником вдохновения для его поэзии. Творчество Байрона итальянского периода отличается ярким и смелым поэтическим новаторством, отражающим все более тесное сближение поэта-романтика с действительной жизнью. Вслед за «Паломничеством Чайльд-Гарольда» возникает оборванный безвременной смертью Байрона «Дон-Жуан».
В ту пору, когда Байрон приехал в Италию, там подымалось национально-освободительное движение, руководимое тайными союзами карбонариев и направленное на свержение австрийского ига и марионеточных абсолютистских режимов, насильственно навязанных итальянскому народу после Венского конгресса (1814–1815). Около 1819 года Байрон сблизился с карбонариями, стал, по-видимому, во главе одной из карбонарских организаций, носившей название «Американцы»[1], и со всей свойственной ему самозабвенной энергией отдался подготовке восстания. Он щедро снабжал заговорщиков деньгами и оружием; его дом в Равенне был превращен в арсенал и подготовлен к тому, чтобы выдержать военную осаду. Байрон писал прокламации, участвовал в разработке планов вооруженных действий повстанцев. В его дневнике за январь — февраль 1821 года необычайно явственно выразилось душевное состояние поэта накануне сигнала к восстанию: внутренняя собранность, нетерпеливая готовность к решающей схватке; а вместе с тем, непрестанные переходы от надежд к опасениям и тревоге, порожденным противоречиями в самом карбонарском движении, легкомыслием и неслаженностью действий его руководителей. Задачи этого национально-освободительного движения воодушевляли Байрона, заранее готового пожертвовать всем ради победы: «Какая великолепная цель — настоящая поэзия политики. Подумать только — свободная Италия!!! Ведь ничего подобного не было со времен Августа», — писал он в своем дневнике.
Карбонарское восстание потерпело неудачу. Но «поэзия политики», вдохновлявшая Байрона в «итальянской» четвертой песни «Чайльд-Гарольда»[2], в поэме «Пророчество Данте» (1821) и в политических трагедиях из итальянской истории — «Марино Фальеро» (1821) и «Двое Фоскари» (1821), — и после поражения не иссякает в его творчестве. Именно в эту пору создает он свои блистательные политические сатиры: «Ирландская аватара» (1821), «Видение суда» (1822) и «Бронзовый век» (1823). Грандиозной сатирой был, в сущности, и «Дон-Жуан»[3] — вершина творчества Байрона. Презрительное негодование, с каким он пишет о повелителях Европы — об английском короле Георге IV и его предшественнике, слабоумном Георге III, о Людовике XVIII и об Александре I, усугублялось надеждами Байрона на ход современной истории: несмотря на все усилия международной реакции новые очаги освободительной борьбы разгорались на карте мира.
В Испании с 1820 по 1823 год бушевало восстание, подавленное лишь вторжением интервентов. В Латинской Америке вслед за Аргентиной (1816) и Чили (1818) провозгласили свою независимость Перу и Венесуэла (1821), Бразилия и Эквадор (1822). В 1822 году была провозглашена независимость Греции: началась долгая, изнурительная война греческого народа против турок.
Байрон счел своим долгом поспешить на помощь грекам. В июне 1823 года на корабле «Геркулес» он отплыл из Италии в Грецию для участия в военных действиях. В «Кефалонском дневнике» Байрона, в его последних письмах и в воспоминаниях его спутников запечатлены тяжкие испытания, воинские труды и заботы, которые ожидали его. С кипучей энергией и целеустремленностью Байрон старается координировать все силы раздробленного освободительного движения, ведет переговоры с греческими руководителями, формирует и финансирует военные отряды, заботится об укреплении греческого флота и артиллерии, организует обмен военнопленных, сам участвует в разгрузке прибывшего из Англии снаряжения. Штаб-квартира Байрона находилась в городке Миссолунги, расположенном в нездоровой, болотистой местности. Здесь он подготовлял план наступления на занятую турками крепость Лепанто. Эта операция, которая в случае успеха могла бы сыграть переломную роль в ходе войны, не состоялась. Труды и лишения лагерной жизни подорвали силы Байрона. Он заболел лихорадкой и умер в Миссолунгах 19 апреля 1824 года. В предсмертном бреду, по воспоминаниям очевидца, он думал о Греции: «Я отдал ей свое время, средства, здоровье, — мог ли я сделать больше? Теперь отдаю ей жизнь». Кончина Байрона, вызвавшая в Греции всенародную скорбь, была отмечена национальным трауром. Тело поэта с воинскими почестями было отправлено на родину. Его английские друзья тщетно пытались добиться, чтобы Вестминстерское аббатство — национальная усыпальница Англии приняла его прах. Гроб Байрона нашел приют в старинной маленькой церкви в Хакнолл-Торкард, в Ноттингемском графстве, неподалеку от Ньюстеда[4].
Героическая гибель Байрона в Греции вызвала скорбные отголоски в литературе многих стран мира. Престарелый Гете изобразил его в символическом образе отважного юного Эвфориона — сына Фауста и Елены, воплотившей в себе красоту Древней Греции. Пушкин уподобил Байрона, «властителя дум» своего поколения, вольной морской стихии:
Исчез, оплаканный свободой, Оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой: Он был, о море, твой певец. Твой образ был на нем означен, Он духом создан был твоим: Как ты, могущ, глубок и мрачен, Как ты, ничем неукротим.2
«Мы живем в грандиозное и гиперболическое время, когда все, что уступает по размерам Гогу и Магогу, кажется пигмейским», — писал Байрон В. Скотту 4 мая 1822 года. Тема Времени проходит, облекаясь в различные образы и в разных тональностях, и через «Паломничество Чайльд-Гарольда», и через «Дон-Шуана», — как, в сущности, и через все творчество поэта.
Французская революция 1789–1794 годов, сокрушившая твердыни феодализма во Франции и расшатавшая их во всем мире, жила в сознании Байрона, как и множества его современников, не как завершенное, исчерпанное историческое событие, а как могучий побудительный пример и двигатель будущих битв. Она невиданно убыстрила ход истории. Немногие годы отделяют напечатание первых двух песен «Паломничества Чайльд-Гарольда», вышедших в феврале 1812 года, от возобновления работы над ними (песнь третья была закончена в июле 1810 года). Но за эти четыре года разыгралась всемирно-историческая эпопея Отечественной войны в России, произошли разгром и отречение Наполеона («бедный мой маленький божок, Наполеон, сброшен со своего пьедестала», — записал в своем дневнике Байрон). За реставрацией Бурбонов последовали «Сто дней» и Ватерлоо, положившее конец наполеоновской империи. Карта Европы была несколько раз перекроена; династии успели несколько раз смениться на утративших прочность тронах.
В поэзии Байрона с небывалой до того силой выразилось ощущение неотвратимости грандиозных потрясений, великих исторических перемен. Процесс исторического развития, в его представлении, не отличается ни плавностью, ни постепенностью. Он полон трагических катаклизмов и в своем бурном движении во многом сродни могучим стихиям природы. Вечно волнуемый океан, грозовые разряды, порывы урагана — таковы романтические образы, которые чаще всего избирает Байрон, говоря о ходе истории. Так Французская революция уподобляется всепожирающему пожару:
И мир таким заполыхал огнем, Что королевства, рушась, гибли в нем.(«Чайльд-Гарольд», III, 81)
А пожар Москвы в 1812 году, в котором Байрон видит символ героического самоотречения русского народа, предстает вместе с тем в поэме «Бронзовый век» и как предвестие будущего всемирного торжества свободы:
Москва, Москва! Пред пламенем твоим Померк вулканов озаренный дым. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сравнится с ним огонь грядущих дней, Что истребит престолы всех царей.В поэзии Байрона возникают и иные, безысходно-мрачные картины колоссальных космических катастроф, потрясающих мироздание, несоизмеримых по своему грандиозному неотвратимому размаху с какими бы то ни было сознательными усилиями и стремлениями живых существ. В мистерии «Каин» (1821), где библейское предание дополняется вдохновившими Байрона естественно-научными гипотезами Кювье, мятежный богоотступник Люцифер увлекает Каина в фантастический полет по вселенной, показывая ему призраки погибших миров, населенных существами, непохожими на людей, но не менее прекрасными и созданными для счастья. Все эти миры уничтожены космическими катастрофами, и лишь тени их смутно мерцают в царстве смерти. В таком же духе была истолкована Байроном и библейская легенда о всемирном потопе в его другой, неоконченной мистерии «Небо и земля». В небольшой поэме «Тьма», написанной в самый мрачный и трагический для Байрона период, в начале его изгнаннической жизни в Швейцарии в 1816 году, поэт предрекает грядущую гибель человечества. Погаснет солнце; вечный холод скует брошенный в пространство земной шар; два последних человека на земле — два злейших врага — встретятся у последнего догорающего костра, и вид их будет так страшен, что они умрут, потрясенные ужасом, так и не узнав друг друга… Но «Тьма» — единственное произведение Байрона, где идея бессмысленности бытия и всесилия смерти царит полновластно, не встречая ни опровержения, ни протеста. Во всех других, даже самых трагических и скорбных его созданиях, как в сложном музыкальном сочинении, сталкиваются, сплетаются и расходятся противоречивые, но неразрывно связанные друг с другом темы: утверждение и отрицание, отчаяние и надежда, сомнение и уверенность, уныние и радость. Они перебивают друг друга, разрешаясь иногда кричащими диссонансами, но образуют в конце концов мощную целостную гармонию.
Лирический сборник «Часы досуга» (1807) и в особенности литературная сатира «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809) сделали имя Байрона известным в литературных кругах. Но только шумный успех «Паломничества Чайльд-Гарольда» снискал ему славу первого из национальных поэтов его времени, а вместе с тем и международную известность.
Сегодняшним читателям 70-х годов XX века необходимо известное усилие воображения, чтобы понять причины этого небывалого успеха, который застал врасплох даже самого Байрона, и воспринять «Чайльд-Гарольда» так, как восприняли его читатели времен наполеоновских войн.
С одной стороны, многое из того, что было поэтическим открытием Байрона, — и прежде всего необычайно естественное и полное слияние лирического и эпического начал, позволяющее поэту свободно и непринужденно переходить от выражений мгновенного личного настроения пли чувства к судьбам народов, общества, всего человечества, — кажется само собой разумеющимся, привычным поколению, с детства воспитанному на сочинениях Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Блока. Новаторство Байрона как создателя лирико-эпической поэмы было усвоено европейской поэзией, вошло в ток ее крови и, многократно творчески трансформируясь, незримо присутствует в произведениях, создатели которых зачастую уже и не помышляют о своей отдаленной преемственной связи с байронической традицией революционного романтизма.
А с другой стороны, сто шестьдесят лет, протекшие со времени выхода первых песен «Чайльд-Гарольда», не могли не приглушить свежесть первоначальных красок поэмы, не могли не сгладить злободневнейшую остроту политических намеков и характеристик, которые теперь во многих случаях уже требуют особого комментария, тогда как читатели 1812 года ловили их на лету.
Кроме того, тот читатель, к которому в тоне непринужденной доверительной беседы обращался автор «Чайльд-Гарольда», был человеком, образованным в духе своего времени. Подобно пушкинскому Онегину, он, во всяком случае, «знал довольно по-латыне, чтоб эпиграфы разбирать», он тоже хранил в своей памяти «дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней»; ему были понятны с полуслова многочисленные намеки английского поэта на мифы и предания классической древности, и он мог, вслед за Байроном, читать по развалинам и обломкам летопись героических деяний минувших веков.
Постоянные переходы от настоящего к прошедшему и будущему и обратно составляют главное движущее начало поэмы. Скитания лирического героя, соответствующие путевым маршрутам самого Байрона в 1809–1811 годах и в 1816–1817 годах, дают непрестанно повод для этих смелых взлетов воображения. Сменяющиеся картины различных стран и нравов — это та основа, по которой непрерывно снует челнок авторской мысли, создавая сложную, прихотливую ткань поэмы.
Многое здесь обладало для первых читателей «Чайльд-Гарольда» актуальностью свежего газетного листа. Байрон был не только великим поэтом; как заметил его новейший французский исследователь Р. Эскарпи[5], он был и превосходным журналистом. Острый анализ важнейших политических событий современности придавал многим строфам «Паломничества» характер памфлета. Байрон резко критиковал нашумевшее соглашение, заключенное с французским военным командованием в Синтре (Португалия) на условиях, которые, по мнению молодого автора, свидетельствовали о бездарности или беспринципности британской дипломатии. Многократно, в связи с военными действиями на Пиренеях, в связи с положением в Греции, в связи с воспоминаниями о Ватерлоо, он разоблачал претензии Англии на роль «освободительницы» Европы. Необычайно глубок и проницателен для своего времени был взгляд Байрона на ход событий в Испании, которая представляла собой театр военных действий между французскими захватчиками и английскими экспедиционными частями, поддерживавшими против Наполеона насквозь прогнивший абсолютистский режим Фердинанда VII. Байрон показывал трагическое положение испанского народа: представляя собой единственную подлинно-освободительную силу в этой войне, испанские патриоты-партизаны жертвуют собой ради восстановления антинародного монархического строя:
Испания, таков твой жребий странный: Народ-невольник встал за вольность в бой. Бежал король, сдаются капитаны, Но твердо знамя держит рядовой.«Изменить могла здесь только знать», — Саркастически напоминает поэт, противопоставляя трусость правящих классов Испании, готовых на компромисс с Наполеоном, отваге народа. Еще за несколько лет до того, как Россия показала миру, что значит в борьбе с агрессором «дубина народной войны», Байрон, обобщая свои личные путевые впечатления, с восхищением пишет о боевых действиях испанских партизан, о мужестве испанских женщин, которые, как прославленная «Дева Сарагоссы», принимали участие в боях против французов.
Байрон писал в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» о недавних сражениях, в которых участвовали и его соотечественники. Многие из тех, кто читал «Чайльд-Гарольда» в 1812 и 1816 годах, оплакивали своих близких, погибших на полях Испании и при Ватерлоо. Байрон скорбит о павших. Но в своей оценке английской воинской славы он резко противоречит официальному общественному мнению своей страны. В то время как почти вся английская печать (в том числе даже такие выдающиеся писатели, как Скотт и Вордсворт) славила победу над Наполеоном при Ватерлоо, для Байрона низвержение императора означает лишь замену одного тирана другими. Тревожно и скорбно вглядывается поэт в будущее, уготованное Европе, отданной во власть Священного Союза. Земля удобрена кровью убитых,
Но мир на самом страшном из полей С победой получил лишь новых королей.Вместе с тем, перед читателями «Чайльд-Гарольда» развертывается в стремительном движении необъятная, блистающая всеми красками романтического «местного колорита» панорама стран, через которые лежит путь байроновского паломника. Поэзия истории и поэзия природы сливаются воедино. И всюду — в Испании, в Греции, в Швейцарии, в Италии — настоящее напоминает о прошлом, а прошлое — о настоящем. Развалины храмов, дворцов и триумфальных колонн как будто говорят о бренности человеческих стремлений, о суетности славы… Но из глубины минувшего раздаются вдруг голоса укора и ободрения: так Древняя Греция напоминает о себе своим потомкам, порабощенным турками, и зовет их к борьбе. И сама ее земля вселяет надежду на будущее:
Но ты жива, священная земля, И так же Фебом пламенным согрета. Оливы пышны, зелены поля, Багряны лозы, светел мед Гимета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пусть Время рушит храмы иль мосты, Но море есть, и горы, и долины, Не дрогнул Марафон, хоть рухнули Афины.Эпическая широта «Паломничества Чайльд-Гарольда» не противоречит субъективному лирическому началу поэмы.
Для большинства современников Байрона это лирическое начало всецело воплощалось в образе Чайльд-Гарольда, который воспринимался как образ вполне автобиографический, двойник самого поэта. Это, однако, не вполне соответствует действительности. Байрон, конечно, проецировал в образ своего разочарованного, пресыщенного жизнью скитальца многое из того, что было пережито и перечувствовано им самим. Многое, — но не все и далеко не самое главное. Горделивое одиночество Гарольда, его презрительная отчужденность от светской суеты и корыстных расчетов, его добровольное изгнанничество соответствовали настроениям молодого Байрона в ту пору, когда, едва достигнув совершеннолетия, он демонстративно покинул Англию; в 1816 году, когда его соотечественники сами поставили его в положение гонимого, оклеветанного отщепенца, он, естественно, вернулся к образу Гарольда и возобновил давно оставленную поэму. Но характерно, что даже в ту пору, когда первые песни «Чайльд-Гарольда» готовились к печати, 31 октября 1811 года, Байрон в письме к Далласу уже настаивал на своем отличии от Гарольда: «Я никак не намерен отождествлять себя с Гарольдом; я буду отрицать всякую связь с ним. Если частично и можно думать, что я рисовал его с себя, то, поверьте мне, лишь частично, а я не признаюсь даже и в этом… Я ни за что на свете не хотел бы быть таким лицом, каким я сделал своего героя». Другая записка поясняет причины столь раздраженного отношения Байрона к его мнимому двойнику. «Лучше все, что угодно, чем я, я, я, я, — вечно я», — восклицает поэт. Как показывают уже первые песни «Паломничества», Байрон не может удовлетвориться ни эгоцентрическим индивидуализмом Гарольда, ни его неизменной позой равнодушного созерцателя жизни. Если одним из двух главных героев «Паломничества» было само Время, то другим был, конечно, не Гарольд, а сам Байрон, авторский голос которого мощно звучит в поэме на протяжении всех четырех песен.
«Да, этот человек был велик; он в муках открывал новые миры…» — писал о Байроне Гейне. Это открытие «новых миров» совершалось и в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» и в «Дон-Жуане». И образ автора в этих поэмах предстает как образ неутомимого искателя, чуткого ко всем впечатлениям бытия, ко всем противоречиям действительности. В отличие от его неизменно сумрачного, унылого Гарольда автор «Паломничества» одарен неутолимой любознательностью и пылким жизнелюбием. Ложная традиция надолго закрепила за Байроном одностороннее наименование «поэт мировой скорби». Но эта скорбь, питавшая и его порывы к действию, к борьбе, не была бы столь поэтически плодотворной, если бы Байрон не умел ценить людей и жизнь. Именно поэтому уже начиная с первых песен «Чайльд-Гарольда» так ярки там картины быта и нравов чужеземных стран и так точно и живо очерчены образы новых не только для английской, но и для мировой поэзии того времени народных героев: испанские крестьяне-партизаны, погонщик мулов, проклинающий предателей родины, девушка-партизанка из Сарагоссы, албанские рыбаки и земледельцы, венецианский гондольер… Не довольствуясь внешней экзотической живописностью, Байрон проникает в их душевный мир, показывая чувства и страсти, определяющие их характеры. А рядом с ними возникают блистательные психологические портреты Наполеона, Вольтера, Руссо…
В драматичном внутреннем движении поэмы отразился и ход всемирной истории, и потрясения, пережитые самим Байроном. Песнь третья в этом отношении выделяется своей трагической напряженностью и безудержностью отчаяния. Отодвигая на задний план своего условного «паломника», поэт поверяет всему миру свои обиды, свою нежность и печаль. Эта песнь открывается и завершается обращением Байрона к отнятой у него дочери, Аде, которую ему уже не суждено было увидеть. Личная скорбь переплетается с горестными раздумьями о судьбах Европы, снова отданной во власть феодально-абсолютистской реакции. Природа — полноводный Рейн, Швейцария, с ее грандиозными горными вершинами и прозрачными озерами, — влечет к себе поэта как возможное прибежище от общественной несправедливости. Этот мотив слияния с природой звучит с особенной силой в 75-й строфе песни третьей:
Иль горы, волны, небеса — не часть Моей души, а я — не часть вселенной? И, к ним узнав возвышенную страсть, Не лучше ль бросить этот мир презренный, Чем прозябать…Но бегство от людей не могло удовлетворить Байрона. Та же Швейцария, где он, подобно своему Манфреду, напрасно искал целительного «забвения», напоминала ему о другом — о битвах швейцарцев за свободу, о великих мыслителях Просвещения — Вольтере и Руссо, которые жили на этой земле, и о Французской революции, в которой воплотились их идеи. Выходя из своего созерцательного уединения, поэт снова возвращается к людям и зовет их к борьбе.
Песнь четвертая «Паломничества» знаменует собою новый этап в развитии мировоззрения Байрона. Недаром уже в начальных строфах, вслед за великолепным поэтическим изображением Венеции (где он писал эту песнь), поэт обращается к размышлениям о собственном творчестве в его отношении к жизни. Романтическим вымыслам он предпочитает теперь «могучую реальность» бытия, которая отныне владеет его воображением:
Для разума открылся мир иной. Иные голоса уже владеют мной…Этим «иным миром», этой «могучей реальностью» стала для автора Италия.
Создания человеческих рук, творения искусства и памятники старины говорят с ним не менее красноречиво, чем стихии природы. В песнь четвертую «Паломничества» входит, как одна из ее основных тем, великая национальная культура Италии, запечатленная в ее зодчестве, ваянии, живописи, в ее поэзии и науке. Преклоняясь перед памятью Данте, Петрарки, Боккаччо, Микеланджело, «звездного Галилея», Байрон думает не только о прошедшем, но и о настоящем и будущем: не может оставаться раздробленной, униженной и порабощенной страна, которая столько дала миру.
Образ Времени, столь важный вообще для творчества Байрона, в этой песни приобретает особое значение. Поэт взывает к Времени-мстителю, исправителю ошибок, вершителю попранной справедливости. Строфы 132–137, открывающиеся патетическим заклинанием: «Зову тебя, святая Немезида…», намекают и ла лично пережитую Байроном трагедию, приоткрытую читателям еще в песни третьей. Но возмездие, которого Байрон требует и ждет от Времени-мстителя, это, конечно, не только мщение его личным обидчикам и гонителям, а сведение великих счетов истории.
Всегда нуждавшийся удобного и легкого, поверхностного оптимизма, Байрон и здесь возвращается к тревожным вопросам о смысле человеческого бытия и возможностях человеческого разума:
Цель бытия — кто скажет, в чем она? Наш разум слаб, недолги наши годы, Мы близоруки, истина темна… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И человек лишен простой свободы Судить и думать, быть самим собой, И мысль рождается бесправною рабой.Байрон отказывается признать человека побежденным судьбой. Его ответ — призыв к сопротивлению, к действию, к борьбе.
Природа и общество, резко противопоставленные в песни третьей, здесь, в песни четвертой «Чайльд-Гарольда», снова сближаются друг с другом. Теперь природа обещает поэту не умиротворение и покой, а бури, без которых нет жизни, нет движения. Великолепные заключительные строфы (179–184) обращены к морю, образ которого приобретает здесь особый символический смысл: неукротимая, свободная, могучая стихия становится как бы воплощением неудержимых законов вечного движения жизни, против которых бессильны тираны:
Левиафаны боевых армад, Которыми хотят цари земные Свой навязать закон твоей стихии, — Что все они! Лишь буря заревет, Растаяв, точно хлопья снеговые, Они бесследно гибнут в бездне вод, Как мощь Испании, как Трафальгарский флот.3
Свободная форма «Паломничества Чайльд-Гарольда» допускала возможность продолжения поэмы, и многие ждали от Байрона создания песни пятой. Но он искал новых путей. В песни четвертой поэмы он простился не только со своим полузабытым, уже ненужным ему спутником — Гарольдом. Он простился и с самим собой, с целым периодом своей жизни, на который смотрел теперь как на пройденный, завершенный этап.
В письме Муру (10 марта 1817 г.), в связи с критическими отзывами английских журналов о песни третьей «Чайльд-Гарольда», Байрон восклицает, что он вовсе не тот «мизантропический и угрюмый джентльмен», за которого его принимают, а «веселый собеседник», умеющий поболтать и посмеяться не хуже любого другого умника. Но, — с досадой добавляет он, — «теперь, наверное, в глазах публики я никогда не смогу сбросить с себя мои траурные одежды».
Эти «траурные одежды» — гарольдов плащ, давно ему прискучивший и уже стеснявший его, — Байрон сбросил с себя в «Дон-Жуане».
Когда близкий друг Байрона Хобхауз много лет спустя после смерти поэта задался в своем дневнике вопросом, что лучше всего запомнилось ему в Байроне, он ответил самому себе: его смех. Неповторимый байроновский смех и сейчас звучит в «Дон-Жуане».
Байрон работал над этой поэмой, венчающей все его творчество, на протяжении последних шести лет своей жизни в Италии, начиная с 1818 года. Она издавалась отдельными выпусками (1819–1824) и осталась незавершенной. (Фрагмент песни семнадцатой, которым обрывается поэма, был найден и опубликован только в начале нашего столетия.) Трудно судить о том, какую часть своего замысла успел осуществить Байрон. Замысел этот, по-видимому, менялся, усложнялся и уточнялся по мере того, как создавалась поэма. В песни первой Байрон обещал своим читателям «двенадцать книг»; но была начата уже песнь семнадцатая, а конец еще не был виден. Позднее, полушутя, он мистифицировал читателей, уверяя, что намерен написать еще сотню песен.
Не вполне ясен был и финал поэмы. Иногда (как, например, в 200-й строфе песни первой, Байрон намекал на то, что, в соответствии с традиционным сюжетом предания о Дон-Жуане, его герой попадет в ад. Позднее в своих письмах он заявлял, что собирается привести Жуана в Париж и сделать его очевидцем и участником Французской революции.
Но даже и не доведенная до конца, оборванная почти на полуслове, посреди только что завязавшегося фривольного эпизода, «эпическая сатира» Байрона (как назвал ее он сам) вошла в мировую литературу как монументальное произведение, поражающее и глубиной содержания, и блеском поэтической формы. Появление поэмы в печати, уже начиная с первых песен, вызвало бурю негодования в «обществе». Она, казалось, вполне оправдывала кличку главы «Сатанинской школы» поэтов, данную Байрону реакционным литератором Саути (тем самым, которому Байрон, в свою очередь, адресовал свирепое сатирическое «Посвящение» «Дон-Жуана»). В этой сатирической энциклопедии современной жизни ниспровергались все авторитеты, разоблачались все лицемерные претензии, все фальшивые репутации и благонамеренная ложь. И, что казалось особенно опасным, это совершалось непринужденно, как бы невзначай, в стихах, которые увлекали читателя, подчиняя его обаянию интимно-доверительной авторской интонации, шутливое простодушие которой оборачивалось убийственной иронией. Блюстителей британской нравственности возмущал и сюжет поэмы с его вольными эротическими перипетиями (хотя им было прекрасно известно, что интимная жизнь принца-регента, будущего Георга IV, так же как и его братьев, принцев крови, изобиловала куда более скандальными подробностями). Однако Байрону скорее простили бы даже фривольность сюжета, чем сатирический, разоблачительный дух поэмы. Саути печатно объявил, что «Дон-Жуан» равнозначен государственной измене.
Против Байрона ополчились все — его враги, его друзья, его издатель, даже его возлюбленная, графиня Тереза Гвиччиоли; сентиментальная воспитанница монастырского пансиона, прочитав во французском переводе первые песни поэмы, нашла, что автор слишком непочтительно пишет о женщинах и о любви. Она даже попыталась наложить на поэму свое «вето», но Байрон, сперва уступивший ее просьбам, очень скоро нарушил этот запрет. Что касается своих английских советчиков, то он отмахивался от всех их сетований, укоров и угроз, твердо убежденный в том, что стоит на верном пути.
Время, этот незримый и непобедимый герой, играет в «Дон-Жуане» не меньшую, и притом даже более сложную роль, чем в «Паломничестве Чайльд-Гарольда». Действие поэмы развертывается одновременно в двух различных временных планах. Дон-Жуан, юношей участвующий во взятии Измаила под командованием Суворова (1790), должен был родиться где-то в начале семидесятых годов XVIII века. Он лет на шестнадцать — восемнадцать старше своего создателя, — разница не слишком большая, но все же делающая его человеком другого века. Изображая русско-турецкую войну, двор Екатерины, Пруссию, Байрон верен тем источникам, которые были в его распоряжении (хотя, как заметил еще Пушкин, допускает ошибки в описании России). Но в то же время и автор, и его читатели живут прежде всего в атмосфере сегодняшнего дня — конца второго и начала третьего десятилетия XIX века. В последних, английских (по месту их действия) песнях поэмы пошлые и мелочные заботы английских парламентариев и их супруг, столь иронически трактованные Байроном в описании четы Амондевиллов, больше напоминают Англию начала двадцатых годов XIX века, чем Англию первых лет Французской революции, когда в стране умножались «беспорядки» и правительство было всерьез озабочено решением сложных внутриполитических и международных проблем, вызванных событиями во Франции. Но эти анахронизмы мало беспокоили Байрона — они даже входили в его программу.
Ироническая парадоксальность определяла и движение поэмы, п всю ее атмосферу. Парадоксальна была и трактовка сюжета. Воспользовавшись тем старым преданием о великом соблазнителе, заживо попавшем за свои грехи в преисподнюю, которое вдохновило Тирсо де Молину, Мольера, Моцарта, Пушкина и многих других, Байрон, однако, ставит своего Жуана в положение не искусителя, а искушаемого[6]. В нем нет ничего от демонического сладострастного хищника, гонимого неутолимой жаждой наслаждения. Это, скорее (по выражению Стендаля), «средний чувственный человек», добрый малый, естественно идущий навстречу соблазну, а иногда и сопротивляющийся ему (как, например, в эпизоде с султаншей Гюльбеей).
Дистанция между Жуаном и автором в этой поэме еще значительнее, чем между автором и Гарольдом в «Паломничестве». В отношении автора к Жуану сочувствие смешано с иронией. Все повествование о жизненных «опытах» его юного героя представляет для Байрона часть того развенчания романтических иллюзий, которое образует одну из определяющих тенденций поэмы.
В эти годы Байрон не раз резко осуждал «ложную систему» своего раннего творчества. «Я расплачиваюсь теперь за то, что содействовал порче общественного вкуса, — писал он Исааку Дизраэли-старшему 10 июня 1822 года. — Пока я писал фальшивым, преувеличенным слогом, по молодости лет и в духе нашего времени, мне рукоплескали… А за последние годы, когда я стал стремиться к лучшему и написал вещи, в которых, как я подозреваю, есть основа долговечности, церковь, канцлер и весь Свет… восстали против меня и моих новых сочинений. Такова Правда! Люди не осмеливаются взглянуть ей в лицо…»
Байрон отрекался, конечно, не от бунтарского духа своих ранних произведений, но от присущей им субъективной односторонности, неестественности и риторики в выражении страстей и в обрисовке ситуаций и характеров (это относилось в особенности к таким его поэмам, как «Гяур», «Корсар», «Лара» и др.). Он сохранял и в «Дон-Жуане» верность лучшим традициям своего революционного романтизма, смело дополняя своим воображением еще не вполне раскрывшуюся картину действительности, угадывая в тумане будущего то, что можно было только предчувствовать в настоящем. Но он стремится к большей объективности и точности изображения общества и человека и требовательнее проверяет и себя самого, и своих героев строгим мерилом опыта и правдоподобия. Байрон далек от стремления унизить человеческую природу, какое приписывали ему противники. Но на примере своего Жуана он показывает, как обманчивы наши тщеславные представления о самих себе. Приступа морской болезни достаточно, чтобы прервать самые восторженные любовные клятвы Жуана, разлученного со своей Юлией. А гордость, охранившая, как ему кажется, его целомудрие в приключении с деспотической султаншей Гюльбеей, улетучивается перед соблазном попасть в фавор к императрице Екатерине.
Байрон не чернит своего героя, он даже позволяет ему завоевать симпатии читателей. Жуан легко поддается обстоятельствам, по он иногда и возвышается над ними: после кораблекрушения, на плоту, среди обезумевших от голода и жажды спутников, он не оскверняет себя людоедством. Мужественно, хотя и тщетно, пытается он защитить Гайдэ от ярости ее отца. Во время штурма Измаила он рискует всем — трофейной добычей, воинской карьерой и самой жизнью ради спасения маленькой турчанки Леилы…
Главной мишенью сатиры Байрона является общественный строй его времени. Его отношение к правящим кругам Англии и всей Европы остается столь же непримиримым, как и в «Чайльд-Гарольде». Но гнев и презрение поэта подкрепляются более точными, конкретными наблюдениями, заостряющими его сатиру.
С проницательностью, предвосхищающей реализм Бальзака, он говорит о крупных капиталах, о банкирах, как негласных заправилах мировой политики:
О, золото! Кто возбуждает прессу? Кто властвует на бирже? Кто царит На всех великих сеймах и конгрессах?.. Кто создает надежды, интересы? Кто радости и горести дарит? Вы думаете — дух Наполеона? Нет! Ротшильда и Беринга мильоны!Недаром он даже обещает читателям, что в одной из последующих песен их ждет «экономический трактат, упорных размышлений результат!».
Говоря о политических деятелях своей страны, он зачастую предпочитает патетическим инвективам язвительную пародию (как, например, в 72—75-й строфах песни шестнадцатой, где в характеристике Амондевилла блестяще пародируется пошлая демагогия парламентского красноречия). Или же прибегает к убийственному сатирическому сопоставлению, вскользь замечая, например, по поводу отца Гайдэ, свирепого пирата и работорговца:
Все флаги он в морях подстерегал И грабил. Но к нему не будем строги: Будь он министром, всякий бы сказал, Что просто утверждает он налоги!Так же, как и ранее в «Чайльд-Гарольде», Байрон клеймит захватнические войны, обличает деспотические режимы и XVIII века, и своего времени. Его негодование столь же пламенно, но чаще оно переходит в насмешливую издевку.
В песни четырнадцатой он насмешливо предлагает — не обратить ли в рабство Александра I и других государей Священного Союза:
Сошли «святую тройку» в Сенегалию И Александра Лысого запри, Чтоб развлеченья рабства испытали и Запомнили тираны и цари.Для русских читателей полны особого волнующего смысла стихи песни шестой, где Байрон за два-три года до восстания декабристов, до которого ему не суждено было дожить, говорит о подъеме революционного движения в России:
Я знаю: в рев балтийского прибоя Уже проник могучий новый звук— Неукротимой вольности дыханье! С меня довольно этого сознанья.Что же касается Георга IV, то поэт предвидит, как поразятся этой чудовищной туше люди нового, свободного мира, который возникнет на развалинах старого. Достойное место ему будет только в музее, рядом с мамонтами и прочими ископаемыми…
Пушкин восхищался «удивительным шекспировским разнообразием» «Дон-Жуана».
Это «шекспировское разнообразие» проявляется во всей структуре поэмы — и в ее необычайно широком, динамическом и контрастном общественном фоне, и в сюжете, полном драматических конфликтов, где трагическое и комическое стремительно сменяют и оттеняют друг друга. Прямые и скрытые, нередко шутливо переосмысленные цитаты из Шекспира пронизывают поэму (так же, как и письма и дневники Байрона этих лет). «Век вывихнут, — но вывихнут и я», — так, например, перефразирует поэт применительно к самому себе известные слова Гамлета…
«Шекспировским разнообразием» поражает и язык поэмы. Байрон с виртуозной легкостью переходит в своих октавах от высокого обличительного пафоса к шутливой веселости, от философского раздумья — к прозе повседневного быта, от лирической нежности — к язвительной насмешке… Каламбуры, анекдоты, автобиографические воспоминания, внезапные полемические экскурсы (вроде спора с идеалистом Беркли) и сенсационные технические прогнозы (о движении пароходов на Луну!), саркастические намеки, недомолвки, оборванные на полуслове риторические обращения, ссылки на Библию или на песенку Беранже, воровской жаргон и цитаты из латинских классиков — все это могло бы показаться хаотичным, если бы этот видимый хаос не был подчинен ясной и целеустремленной мысли поэта. Читая «Дон-Жуана», нельзя не почувствовать, как наслаждается автор самим процессом созидания и сознанием своего поэтического мастерства.
«Если я горжусь кое-чем в моей поэзии, то еще более я горд некоторыми из моих предсказаний», — писал Байрон Киннерду 22 ноября 1820 года в разгар работы над «Дон-Жуаном». Время, к которому так часто взывал поэт, не обмануло его надежд. Люди новой эпохи и нового мира, к которым издалека обращался создатель этой поэмы (песнь восьмая, строфы 135–137), слышат в ней его поныне живой голос и преклоняются перед гражданским и творческим подвигом великого революционного романтика.
А. Елистратова
Паломничество Чайльд-Гарольда Перевод Вильгельма Левика
{1}
L’univers est une espèce de livre, dont on n’a lu que la première page quand on n’a vu que son pays. J’en ai feuilleté un assez grand nombre, que j’ai trouvé également mauvaises. Cet examen ne m’a point été infructueux. Je haïssais ma patrie. Toutes les impertinences des peuples divers, parmi lesquels j’ai vécu, m’ont réconcilié avec elle. Quand je n’aurais tiré d’autre bénéfice de mes voyages que celui-là, je n’en regretterais ni les frais ni les fatigues.
Le Cosmopolite[7]
{2}
Предисловие (к песням первой и второй)
Большая часть этой поэмы была написана в тех местах, где происходит ее действие. Она была начата в Албании, а те части, которые относятся к Испании и Португалии, основаны на личных наблюдениях автора в этих странах. Я упоминаю об этом как о ручательстве за верность описаний. Сцены и пейзажи, набросанные здесь автором, рисуют Испанию, Португалию, Эпир{3}, Акарнанию и Грецию. На этом поэма покуда остановилась. Осмелится ли автор повести читателя по Ионии{4} и Фригии{5} в столицу Востока{6}, зависит от того, как будет принято его творение. Эти две песни — не более, чем проба.
Вымышленный герой был введен в поэму с целью связать ее отдельные части: это, однако, не означает, что автор не намерен допускать отступления. Друзья, мнение которых я высоко ценю, предостерегали меня, считая, что кое-кто может заподозрить, будто в этом вымышленном характере Чайльд-Гарольда я изобразил реально существующую личность. Такое подозрение я позволю себе отвергнуть раз и навсегда. Гарольд — дитя воображенья, созданное мною только ради упомянутой цели. Некоторые совсем несущественные и чисто индивидуальные черты, конечно, могут дать основание для таких предположений. Но главное в нем, я надеюсь, подобных подозрений не вызовет.
Излишне, может быть, говорить, что титул «Чайльд»{7} (вспомним Чайльд-Уотерс, Чайльд-Чайльдерс и т. п.) был мною выбран как наиболее сообразный со старинной формой стихосложения.
«Прости, прости!» в начале песни первой навеяно «Прощанием лорда Максвелла» в «Пограничных песнях», изданных м-ром Скоттом.{8}
В первой части, где речь идет о Пиренейском полуострове, можно усмотреть некоторое сходство с различными стихотворениями, темой которых является Испания{9}; но это только случайность, потому что за исключением нескольких конечных строф вся эта песня была написана в Леванте.
Спенсерова строфа{10}, принадлежащая одному из наших наиболее прославленных поэтов, допускает огромное разнообразие. Д-р Битти{11} говорит об этом: «Недавно я начал поэму в стиле Спенсера, его строфой. Я хочу в ней дать полный простор моим склонностям и сделать ее то шутливой, то возвышенной, то описательной, то сентиментальной, нежной или сатирической — как подскажет настроение. Если не ошибаюсь, размер, выбранный мною, в одинаковой степени допускает все эти композиционные ходы…»
Опираясь на такие авторитеты и на пример многих выдающихся итальянских поэтов, я не стану оправдываться в том, что мое сочинение построено на таких же сменах и переходах. Если мои стихи не будут иметь успеха, я буду удовлетворен сознанием, что причина этой неудачи кроется только в исполнении, но не в замысле, освященном именами Ариосто{12}, Томсона{13} и Битти.
Лондон, февраль 1812
Дополнение к предисловию
{14}
Я ждал, пока наши периодические листки не израсходуют свою обычную порцию критики{15}. Против справедливости этой критики в целом я ничего не могу возразить; мне не пристало оспаривать ее легкие порицания, и возможно, что будь она менее доброй, ока была бы более искренней. Но, выражая всем критикам и каждому в отдельности свою благодарность за их терпимость, я должен все-таки высказать свои замечания по одному только поводу. Среди многих справедливых упреков, которые вызвал характер моего «странствующего рыцаря» (я все-таки, несмотря на многочисленные признаки обратного, утверждаю, что это характер вымышленный), высказывалось мнение, что он, не говоря уже об анахронизмах, ведет себя очень нерыцарственно, между тем как времена рыцарства это времена любви, чести к т. п. Но теперь уже известно, что доброе старое время, когда процветала «любовь добрых старых времен, старинная любовь», было как раз наиболее развратным из всех возможных эпох истории. Те, кто сомневается в этом, могут справиться у Сент-Пале{16} во многих местах и особенно во второй части (стр. 69). Обеты рыцарства исполнялись не лучше, чем все другие обеты, а песни трубадуров были не менее непристойны и уж во всяком случае менее изысканны, чем песни Овидия{17}. В «Дворах любви»{18}, «Беседах любви, учтивости и любезности» гораздо больше занимались любовью, чем учтивостью и любезностью. Смотри об этом Роллана{19} и Сент-Пале.
Какие бы возражения ни вызывал в высшей степени непривлекательный характер Чайльд-Гарольда, он был во всяком случае настоящим рыцарем — «не трактирным слугой, а тамплиером»{20}. Между прочим, я подозреваю, что сэр Тристрам и сэр Ланселот{21} были тоже не лучше, чем они могли быть, при том, что это персонажи высокопоэтические и настоящие рыцари «без страха», хотя и не «без упрека». Если история установления ордена «Подвязки»{22} не вымысел, то, значит, рыцари этого ордена уже несколько столетий носят знак графини Сэлисбери, отнюдь не блиставшей доброю славой. Вот правда о рыцарстве. Берку не следовало сожалеть о том{23}, что времена рыцарства прошли, хотя Мария-Антуанетта{24} была так же целомудренна, как и большинство тех, во славу которых ломались копья и рыцарей сбрасывали с коней.
За время от Баярда{25} до сэра Джозефа Бенкса{26}, самого целомудренного и знаменитого рыцаря старых и новых времен, мы найдем очень мало исключений из этого правила, и я боюсь, что при некотором углублении в предмет мы перестанем сожалеть об этом чудовищном маскараде средних веков.
Теперь я предоставляю Чайльд-Гарольду продолжать свою жизнь таким, каков он есть. Было бы приятнее и, конечно, легче изобразить более привлекательный характер. Было бы легко притушить его недостатки, заставить его больше делать и меньше говорить, но он предназначался отнюдь не для того, чтобы служить примером. Скорее следовало бы учиться на нем тому, что ранняя развращенность сердца и пренебрежение моралью ведут к пресыщенности прошлыми наслаждениями и разочарованию в новых, и красоты природы, и радость путешествий, и вообще все побуждения, за исключением только честолюбия — самого могущественного из всех, потеряны для души так созданной или, вернее, ложно направленной. Если бы я продолжил поэму, образ Чайльда к концу углубился бы, потому что контур, который я хотел заполнить, стал бы, за некоторыми отклонениями, портретом современного Тимона{27} или принявшего поэтическую форму Зелуко.
Лондон, 1813
Ианте
{28} Ни в землях, где бродил я пилигримом, Где несравненны чары красоты, Ни в том, что сердцу горестно любимым Осталось от несбывшейся мечты, Нет образа прекраснее, чем ты, Ни наяву, ни в снах воображенья. Для видевших прекрасные черты Бессильны будут все изображенья, А для невидевших — найду ли выраженья? Будь до конца такой! Не измени Весне своей, для счастья расцветая. И красоту и прелесть сохрани — Все, что Надежда видит в розах мая. Любовь без крыльев! Чистота святая! Хранительнице юности твоей, Все лучезарней с каждым днем блистая, Будь исцеленьем от земных скорбей, Прекрасной радугой ее грядущих дней. Я счастлив, пери Запада, что вдвое Тебя я старше, что могу мечтать, Бесстрастно глядя на лицо такое, Что суждена мне жизнью благодать Не видеть, как ты будешь увядать, Что я счастливой юношей докучных, Которым скоро по тебе страдать, И мне не изливаться в рифмах звучных, Чтобы спастись от мук, с любовью неразлучных. О, влажный взор газели молодой, То ласковый, то пламенный и страстный, Всегда влекущий дикой красотой, Моим стихам ответь улыбкой ясной, Которой ждал бы я в тоске напрасной, Когда бы дружбы преступил порог. И у певца не спрашивай, безгласный, Зачем, отдав ребенку столько строк, Я чистой лилией украсил свой венок. Вошла ты в песню именем своим, И друг, страницы «Чайльда» пробегая, Ианту первой встретит перед ним, И уж не позабудет, дорогая. Когда ж мой век исчислит парка злая, Коснись тех струн, что пели твой расцвет, Хвалу тебе, красавица, слагая. Надежде большим твой не льстит поэт, А меньшего, дитя, в устах у Дружбы нет.Песнь первая
{29}
1
Не ты ль слыла небесной в древнем мире, О Муза, дочь Поэзии земной, И не тебя ль бесчестили на лире Все рифмачи преступною рукой! Да не посмею твой смутить покой! Хоть был я в Дельфах{30}, слушал, как в пустыне Твой ключ звенит серебряной волной, Простой рассказ мой начиная ныне, Я не дерзну взывать о помощи к богине.2
Жил в Альбионе{31} юноша. Свой век Он посвящал лишь развлеченьям праздным. В безумной жажде радостей и нег Распутством не гнушаясь безобразным, Душою предан низменным соблазнам, Но чужд равно и чести и стыду, Он в мире возлюбил многообразном, Увы! лишь кратких связей череду Да собутыльников веселую орду.3
Он звался Чайльд-Гарольд. Не все равно ли, Каким он вел блестящим предкам счет! Хоть и в гражданстве, и на бранном поле Они снискали славу и почет, Но осрамит и самый лучший род Один бездельник, развращенный ленью, Тут не поможет ворох льстивых од, И не придашь, хвалясь фамильной сенью, Пороку — чистоту, невинность — преступленью.4
Вступая в девятнадцатый свой год, Как мотылек, резвился он, порхая, Не помышлял о том, что день пройдет, И холодом повеет тьма ночная. Но вдруг, в расцвете жизненного мая, Заговорило пресыщенье в нем, Болезнь ума и сердца роковая, И показалось мерзким все кругом: Тюрьмою — родина, могилой — отчий дом.5
Он совести не знал укоров строгих И слепо шел дорогою страстей. Любил одну — прельщал любовью многих, Любил — и не назвал ее своей. И благо ускользнувшей от сетей Развратника, что, близ жены скучая, Бежал бы вновь на буйный пир друзей И, все, что взял приданым, расточая, Чуждался б радостей супружеского рая.6
Но в сердце Чайльд глухую боль унес, И наслаждений жажда в нем остыла, И часто блеск его внезапных слез Лишь гордость возмущенная гасила. Меж тем тоски язвительная сила Звала покинуть край, где вырос он, — Чужих небес приветствовать светила; Он звал печаль, весельем пресыщен, Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.7
И в жажде новых мест Гарольд умчался, Покинув свой почтенный старый дом, Что сумрачной громадой возвышался, Весь почерневший и покрытый мхом. Назад лет сто он был монастырем, И ныне там плясали, пели, пили, Совсем как в оны дни, когда тайком, Как повествуют нам седые были, Святые пастыри с красотками кутили.8
Но часто в блеске, в шуме людных зал Лицо Гарольда муку выражало. Отвергнутую страсть он вспоминал Иль чувствовал вражды смертельной жало — Ничье живое сердце не узнало. Ни с кем не вел он дружеских бесед. Когда смятенье душу омрачало, В часы раздумий, в дни сердечных бед Презреньем он встречал сочувственный совет.9
И в мире был он одинок. Хоть многих Поил он щедро за столом своим, Он знал их, прихлебателей убогих, Друзей на час — он ведал цену им. И женщинами не был он любим. Но боже мой, какая не сдается, Когда мы блеск и роскошь ей сулим! Так мотылек на яркий свет несется, И плачет ангел там, где сатана смеется.10
У Чайльда мать была, но наш герой, Собравшись бурной ввериться стихии, Ни с ней не попрощался, ни с сестрой, Единственной подругой в дни былые. Ни близкие не знали, ни родные, Что едет он. Но то не черствость, нет: Хоть отчий дом он покидал впервые, Уже он знал, что сердце много лет Хранит прощальных слез неизгладимый след.11
Наследство, дом, поместья родовые, Прелестных дам, чей смех он так любил, Чей синий взор, чьи локоны златые В нем часто юный пробуждали пыл, — Здесь даже и святой бы согрешил, — Вином бесценным полные стаканы — Все то, чем роскошь радует кутил, Он променял на ветры и туманы, На рокот южных волн и варварские страны.12
Дул свежий бриз, шумели паруса, Все дальше в море судно уходило, Бледнела скал прибрежных полоса, И вскоре их пространство поглотило: Быть может, сердце Чайльда и грустило, Что повлеклось в неведомый простор, Но слез не лил он, не вздыхал уныло, Как спутники, чей увлажненный взор, Казалось, обращал к ветрам немой укор.13
Когда же солнце волн коснулось краем, Он лютню взял, которой он привык Вверять все то, чем был обуреваем Равно и в горький и в счастливый миг, И на струнах отзывчивых возник Протяжный звук, как сердца стон печальный, И Чайльд запел, а белокрылый бриг Летел туда, где ждал их берег дальный, И в шуме темных волн тонул напев прощальный. «Прости, прости! Все крепнет шквал, Все выше вал встает, И берег Англии пропал Среди кипящих вод. Плывем на Запад, солнцу вслед, Покинув отчий край. Прощай до завтра, солнца свет, Британия, прощай! Промчится ночь, оно взойдет Сиять другому дню, Увижу море, небосвод, Но не страну мою. Погас очаг мой, пуст мой дом, И двор травой зарос. Мертво и глухо все кругом, Лишь воет старый пес. Мой паж, мой мальчик, что с тобой? Я слышал твой упрек. Иль так напуган ты грозой, Иль на ветру продрог? Мой бриг надежный крепко сшит, Ненужных слез не лей. Быстрейший сокол не летит Смелей и веселей». «Пусть воет шквал, бурлит вода, Грохочет в небе гром, — Сэр Чайльд, все это не беда, Я плачу о другом. Отца и мать на долгий срок Вчера покинул я, И на земле лишь вы да бог Теперь мои друзья. Отец молитву произнес И отпустил меня, Но знаю, мать без горьких слез Не проведет и дня». «Мой паж, дурные мысли прочь, Разлуки минет срок! Я сам бы плакал в эту ночь Когда б я плакать мог. Мой латник верный, что с тобой? Ты мертвеца бледней. Предвидишь ты с французом бой,{32} Продрог ли до костей?» «Сэр Чайльд, привык я слышать гром И не бледнеть в бою, Но я покинул милый дом, Любимую семью. Где замок ваш у синих вод, Там и моя страна. Там сын отца напрасно ждет, И слезы льет жена». «Ты прав, мой верный друг, ты прав, Понятна скорбь твоя, Но у меня беспечный нрав, Смеюсь над горем я. Я знаю, слезы женщин — вздор, В них постоянства нет. Другой придет, пленит их взор, И слез пропал и след. Мне ничего не жаль в былом, Не страшен бурный путь, Но жаль, что, бросив отчий дом, Мне не о ком вздохнуть. Вверяюсь ветру и волне, Я в мире одинок. Кто может вспомнить обо мне, Кого б я вспомнить мог? Мой пес поплачет день, другой, Разбудит воем тьму И станет первому слугой, Кто бросит кость ему. Наперекор грозе и мгле В дорогу, рулевой! Веди корабль к любой земле, Но только не к родной! Привет, привет, морской простор, И вам — в конце пути — Привет, леса, пустыни гор! Британия, прости!»14
Плывет корабль унылых вод равниной, Шумит Бискайи пасмурный залив. На пятый день из волн крутой вершиной, Усталых и печальных ободрив, Роскошной Синтры{33} горный встал массив. Вот, моря данник, меж холмов покатых Струится Тахо{34}, быстр и говорлив, Они плывут меж берегов богатых, Где волнам вторит шум хлебов, увы, несжатых.15
Неизъяснимой полон красоты Весь этот край, обильный и счастливый. В восторге смотришь на луга, цветы, На тучный скот, на пастбища и нивы, И берега, и синих рек извивы, Но в эту землю вторглись палачи{35}, — Срази, о небо, род их нечестивый! Все молнии, все громы ополчи, Избавь эдем земной от галльской саранчи!16
Чудесен Лиссабон, когда впервые Из тех глубин встает пред нами он, Где виделись поэтам золотые Пески, где, Луза{36} охраняя трон{37}, Надменный флот свой держит Альбион — Для той страны, где чванство нормой стало И возвело невежество в закон, Но лижет руку, пред которой пала Незыблемая мощь воинственного галла.17
К несчастью, город, столь пленивший нас, Вблизи теряет прелесть невозвратно. Он душит вонью, оскорбляет глаз, Все черное, на всем подтеки, пятна, И знать и плебс грязны невероятно. Любое, пусть роскошное, жилье, Как вся страна, нечисто, неопрятно, И — напади чесотка на нее — Не станут мыться здесь или менять белье.18
Презренные рабы! Зачем судьба им Прекраснейшую землю отдала — Сиерру, Синтру, прозванную раем,{38} Где нет красотам меры и числа. О, чье перо и чья бы кисть могла Изобразить величественный форум — Все то, что здесь Природа создала, Сумев затмить Элизий, над которым Завесы поднял бард{39} пред нашим смертным взором.19
В тени дубрав, на склонах темных круч Монастырей заброшенных руины, От зноя бурый мох, шумящий ключ В зеленой мгле бессолнечной лощины, Лазури яркой чистые глубины, На зелени оттенок золотой, Потоки, с гор бегущие в долины, Лоза на взгорье, ива над водой — Так, Синтра, ты манишь волшебной пестротой.20
Крутая тропка кружит и петлит, И путник, останавливаясь чаще, Любуется — какой чудесный вид! Но вот обитель Матери Скорбящей, Где вам монах, реликвии хранящий, Расскажет сказки, что народ сложил: Здесь нечестивца гром настиг разящий, А там, в пещере, сам Гонорий жил И сделал адом жизнь, чем рая заслужил.21
Но посмотри, на склонах, близ дороги, Стоят кресты. Заботливой рукой Не в час молитв, не в помыслах о боге Воздвигли их. Насилье и разбой На этот край набег свершили свой, Земля внимала жертв предсмертным стонам, И вопиют о крови пролитой Кресты под равнодушным небосклоном, Где мирный труженик не огражден законом.22
На пышный дол глядят с крутых холмов Руины, о былом напоминая. Где был князей гостеприимный кров, Там ныне камни и трава густая. Вон замок тот, где жил правитель края, И ты, кто был так сказочно богат, Ты, Ватек{40}, создал здесь подобье рая, Не ведая средь царственных палат, Что все богатства — тлен и мира не сулят.23
Ты свой дворец воздвигнул здесь в долине Для радостей, для нег и красоты, Но запустеньем все сменилось ныне, Бурьян раскинул дикие кусты, И твой эдем, он одинок, как ты.. Обрушен свод, остались только стены, Как памятники бренной суеты. Не все ль услады бытия мгновенны! Так на волне блеснет — и тает сгусток пены.24
А в этом замке был совет вождей{41}, Он ненавистен гордым англичанам. Здесь карлик-шут, пустейший из чертей{42}, В пергаментном плаще, с лицом шафранным, Британцев дразнит смехом непрестанным. Он держит черный свиток и печать, И надписи на этом свитке странном, И рыцарских имен десятков пять, А бес не устает, дивясь им, хохотать.25
Тот бес, дразнящий рыцарскую клику, — Конвенция, на ней споткнулся бритт.{43} Ум (если был он), сбитый с панталыку, Здесь превратил триумф народа в стыд; Победы цвет Невежеством убит, Что отдал Меч, то Речь вернула вскоре, И лавры Лузитания растит Не для таких вождей, как наши тори. Не побежденным здесь, а победившим горе!{44}26
С тех пор как был британцу дан урок, В нем слово «Синтра» гнев бессильный будит. Парламент наш краснел бы, если б мог, Потомство нас безжалостно осудит. Да и любой народ смеяться будет Над тем, как был сильнейший посрамлен. Враг побежден, но это мир забудет, А вырвавший победу Альбион Навек презрением всех наций заклеймен.27
И, полный смуты, все вперед, вперед Меж горных круч угрюмый Чайльд стремится. Он рад уйти, бежать от всех забот, Он рвется вдаль, неутомим как птица. Иль совесть в нем впервые шевелится? Да, он клянет пороки буйных лет, Он юности растраченной стыдится, Ее безумств и призрачных побед, И все мрачнее взор, узревший Правды свет.28
Коня! коня! гонимый бурей снова, Хотя кругом покой и тишина, Назло дразнящим призракам былого Он ищет не любовниц, не вина, Но многие края и племена Изведает беглец неугомонный, Пока не станет цель ему ясна, Пока, остывший, жизнью умудренный, Он мира не найдет под кровлей благосклонной.29
Однако вот и Мафра{45}. Здесь, бывало, Жил королевы лузитанской двор. Сменялись мессы блеском карнавала, Церковным хором — пиршественный хор. Всегда с монахом у вельможи спор. Но эта Вавилонская блудница{46} Такой дворец воздвигла среди гор, Что всем хотелось только веселиться, Простить ей казни, кровь — и в роскоши забыться.30
Изгибы романтических холмов, Как сад сплошной — долины с свежей тенью. (Когда б народ хоть здесь не знал оков!) Все манит взор, все дышит сладкой ленью. Но Чайльд спешит отдаться вновь движенью, Несносному для тех, кто дорожит Уютным креслом и домашней сенью, О, воздух горный, где бальзам разлит! О, жизнь, которой чужд обрюзгший сибарит!31
Холмы все реже, местность все ровней, Бедней поля, и зелень уж другая. И вот открылась даль пустых степей, И кажется, им нет конца и края. Пред ним земля Испании нагая, Где и пастух привык владеть клинком, Бесценные стада оберегая. В соседстве с необузданным врагом Испанец должен быть солдатом иль рабом.{47}32
Но там, где Португалию встречает Испания, граница не видна. Соперниц там ни даль не разделяет, Ни вздыбленной Сиерры{48} крутизна, Не плещет Тахо сильная волна Перед царицей стран заокеанских, Не высится Китайская стена, Нет горной цепи вроде скал гигантских На рубеже земель французских и испанских.33
Лишь ручеек бежит{49}, невозмутим, Хоть с двух сторон — враждебные державы. На посох опершись, стоит над ним Пастух испанский — гордый, величавый. Глядит на небо, на ручей, на травы, И не робеет между двух врагов. Он изучил своих соседей нравы, Он знает, что испанец не таков, Как португальский раб, подлейший из рабов.34
Но вот, едва рубеж вы перешли, Пред вами волны темной Гвадианы{50}, Не раз воспетой в песнях той земли, Бурлят и ропщут, гневом обуянны. Двух вер враждебных там кипели станы{51}, Там сильный пал в неистовой резне, Там брали верх то шлемы, то тюрбаны, Роскошный мавр и мних{52} в простой броне — Все обретали смерть в багровой глубине.35
Романтики воскресшая страна, Испания, где блеск твоей державы? Где крест, которым ты была сильна, Когда предатель мстил за слезы Кавы{53}, И трупы готов нес поток кровавый? Твой стяг царям навязывал закон, Он обуздал разбойничьи оравы, И полумесяц пал, крестом сражен{54}, И плыл над Африкой вой мавританских жен.36
Теперь лишь в песнях отзвук тех побед{55}, Лишь в песнях вечность обрели герои, Столпы разбиты, летописей нет, Но помнит песнь величие былое. Взгляни с небес на поприще земное, О Гордость! Рухнет бронза и гранит, И только песнь верней, чем все иное, Когда историк лжет, а льстец забыт, Твое бессмертие в народе сохранит.37
К оружию, испанцы!{56} Мщенье, мщенье! Дух Реконкисты правнуков зовет. Пусть не копье подъемлет он в сраженье, Плюмажем красным туч не достает, Но, свистом пуль означив свой полет, Ощерив жерла пушек роковые, Сквозь дым и пламень кличет он: вперед! Иль зов его слабей, чем в дни былые, Когда он вдохновлял сынов Андалусии?38
Я слышу звон металла и копыт{57} И крики битвы в зареве багряном, То ваша кровь чужую сталь поит, То ваши братья сражены тираном. Войска его идут тройным тараном, Грохочут залпы на высотах гор, И нет конца увечиям и ранам. Летит на тризну Смерть во весь опор, И ярый бог войны приветствует раздор.39
Он встал, гигант, он будто в скалы врос, В ужасной длани молния зажата, Копна кроваво-рыжая волос Черна на красном пламени заката. Глаза — навыкат. Гибнет все, что свято, От их огня. У ног его припав И брата поднимая против брата, Ждет Разрушенье битвы трех держав, Чьей крови жаждет бог, свирепый теша нрав.40
Великолепно зрелище сраженья (Когда ваш друг в него не вовлечен). О, сколько блеска, грома и движенья! Цветные шарфы, пестрый шелк знамен. Сверкает хищно сталь со всех сторон, Несутся псы, добычу настигая. Не всем триумф, но всем — веселый гон, Всем будет рада Мать-земля сырая. И шествует Война, трофеи собирая.41
Три знамени взывают к небесам, Три языка воздвигли спор ужасный. Француз, испанец, бритт сразились там, — Враг, жертва и союзник тот опасный, В чью помощь верить — право, труд напрасный. У Талаверы, смерть ища в бою (Как будто ей мы дома не подвластны!), Сошлись они, чтоб кровь пролить свою, Дать жирный тук полям и пищу воронью.42
И здесь им тлеть, глупцам, прельщенным славой
И славы удостоенным в гробах.
О, бред! Орудья алчности кровавой —
Их тысячи тиран бросает в прах,
Свой воздвигая трон на черепах, —
Спроси зачем — во имя сновиденья!
Он царствует, пока внушает страх,
Но станет сам добычей смрадной тленья,
И тесный гроб ему заменит все владенья.
43
О поле скорбной славы, Альбуера!{58} Среди равнин, где шпорит Чайльд коня, Кто знал, что завтра зла свершится мера, Что на заре твой сон прервет резня. Мир мертвым! В память гибельного дня Им слезы горя, им венец героя! Так славьтесь же, в преданиях звеня, Пока, могилы новым жертвам роя, Их сонмы новый вождь не кинет в ужас боя.44
Но хватит о любовниках войны! Была их гибель данью славословью. Чтобы один прославлен был, должны Мильоны пасть, насытив землю кровью. Отчизна да спасется их любовью! Цель благородна. А живи они, Покорствуя других богов условью, Могли б в разбое, в ссоре кончить дни Позором для друзей, отчизны и родни.45
И вот Севилью{59} видит пилигрим. Еще блистает буйной красотою Свободный город, но уже над ним Насилье кружит. Огненной пятою Войдет тиран, предаст его разбою И грабежу. О, если б смертный мог Бороться с неизбежною судьбою! Не пала б Троя, Тир{60} не изнемог, Добро не гибло бы, не властвовал порок.46
Но, близящихся бед не сознавая, Еще Севилья пляшет и поет, Веселая, беспечная, живая. Тут патриотам их страна не в счет! Воркуют лютни, барабан не бьет, Над всем царит веселье молодое, Разврат свершает поздний свой обход, И Преступленье крадется ночное Вдоль стен, дряхлеющих в торжественном покое.47
Не то крестьянин. С бледною женой Он тужит днем, ночей не спит в печали. Их виноградник вытоптан войной, В селе давно фанданго не плясали, Звезда любви восходит, но едва ли Раздастся дробь веселых кастаньет… Цари, цари! Когда б вы только знали Простое счастье! Смолк бы гром побед, Не стал бы трубный зов предвестьем стольких бед.48
Какою ныне песней оживляет Погонщик мулов долгий переход? Любовь ли, старину ли прославляет, Как славил их, когда не знал забот? Нет, он теперь «Viva el Rey»[8]{61} поет, Но вдруг, Годоя{62} вспомнив, хмурит брови И Карла рогоносного клянет, А с ним его Луизу{63}, в чьем алькове Измена родилась, алкающая крови.49
Среди равнины голой, на скале Чернеют стены мавританских башен, Следы копыт на раненой земле, Печать огня на черном лике пашен. Здесь орды вражьи, грозен и бесстрашен, Андалусийский селянин встречал.{64} Здесь кровью гостя был не раз окрашен Его клинок, когда на гребнях скал Драконьи логова он дерзко штурмовал.50
Здесь, не надев на шляпу ленты красной{65}, Не смеет появиться пешеход. Когда ж дерзнет, раскается несчастный, То будет знак, что он не патриот. А нож остер, он мимо не скользнет. О Франция, давно бы ты дрожала, Когда б имел хоть ружья здесь народ, Когда б от взмаха гневного кинжала Тупели тесаки и пушка умолкала.51
С нагих высот Морены{66} в хмурый дол Стволы орудий смотрят, выжидая. Там бастион, тут ямы, частокол, Там ров с водой, а там скала крутая С десятком глаз внимательных вдоль края, Там часовой с опущенным штыком, Глядят бойницы, дулами сверкая, Фитиль зажжен, и конь под чепраком, И ядра горками уложены кругом.52
Заглянем в день грядущий: кто привык Ниспровергать одним движеньем троны, Свой жезл подняв, задумался на миг, — Лишь краткий миг он медлил, изумленный. Но вскоре вновь он двинет легионы, Он — Бич Земли! — на Западе воскрес. Испания! Ты узришь гнев Беллоны{67}, И грифы{68} галла ринутся с небес, Чтоб кинуть тысячи сынов твоих в Гадес{69}.53
Ужель вам смерть судьба определила, О юноши, Испании сыны! Ужель одно: покорность иль могила, Тирана смерть иль гибель всей страны? Вы стать подножьем деспота должны! Где бог? Иль он не видит вас, герои, Иль стоны жертв на небе не слышны? Иль тщетно все: искусство боевое, Кровь, доблесть, юный жар, честь, мужество стальное!54
Не оттого ль, для битв покинув дом, Гитару дочь Испании презрела, Повесила на иву под окном И с песней, в жажде доблестного дела, На брань с мужами рядом полетела{70}. Та, кто, иголкой палец уколов Или заслышав крик совы, бледнела, По грудам мертвых тел, под звон штыков, Идет Минервой{71} там, где дрогнуть Марс{72} готов.55
Ты слушаешь, и ты пленен, но боже! Когда б ты знал, какой была она В кругу семьи, в саду иль в темной ложе! Как водопад, волос ее волна, Бездонна глаз лучистых глубина, Прелестен смех, живой и нестесненный, — И слово меркнет, кисть посрамлена, Но вспомни Сарагоссы бастионы{73}, Где веселил ей кровь мертвящий взгляд Горгоны{74}.56
Любимый ранен — слез она не льет, Пал капитан — она ведет дружину, Свои бегут — она кричит: вперед! И натиск новый смел врагов лавину. Кто облегчит сраженному кончину? Кто отомстит, коль лучший воин пал? Кто мужеством одушевит мужчину? Все, все она! Когда надменный галл Пред женщинами столь позорно отступал?57
Но нет в испанках крови амазонок, Для чар любви там дева создана. Хоть в грозный час — еще полуребенок — С мужчиной рядом в бой идет она, В самом ожесточении нежна, Голубка в роли львицы разъяренной, И тверже, но и женственней она, И благородней в прелести врожденной, Чем наши сплетницы с их пошлостью салонной.58
Амур{75} отметил пальчиком своим Ей подбородок нежный и чеканный, И поцелуй, что свил гнездо над ним, С горячих губ готов слететь нежданный. — Смелей! — он шепчет. — Миг настал желанный, Она твоя, пусть недостоин ты! Сам Феб{76} ей дал загар ее румяный. Забудь близ этой яркой красоты Жен бледных Севера бесцветные черты!59
В краях, не раз прославленных на лире, В гаремах стран, где медлит мой рассказ, Где славит жен и циник, злейший в мире, Хоть издали, хоть прячут их от нас, Чтоб ветерок не сдул их с мужних глаз, Среди красавиц томного Востока Испанку вспомни — и поймешь тотчас, Кто жжет сильней мгновенным блеском ока, Кто ангел доброты и гурия Пророка{77}.60
О ты, Парнас{78}! ты мне сияешь въяве, Не сновиденьем беглым, не мечтой, Но здесь, во всей тысячелетней славе, Запечатленный дикой красотой, На этой почве древней и святой. Так я ли, твой паломник, о могучий, Тебя хоть краткой не почту хвалой! О, пусть услышу отклик твой певучий, И муза крыльями взмахнет над снежной кручей.61
Как часто мне являлся ты во сне! Я слышал звуки древних песнопений, И час настал, и ты открылся мне. Я трепещу, и клонятся колени, Передо мной — певцов великих тени, И стыдно мне за слабый голос мой. О, где найти слова для восхвалений? И бледный, умиленный и немой, Я тихо радуюсь: Парнас передо мной!{79}62
Сколь многие тебя в восторге пели, Ни разу не видав твоих красот, Не посетив страны твоей, — так мне ли Сдержать порыв, когда душа поет! Пусть Аполлон покинул древний грот, Где муз был трон, там ныне их гробница, — Но некий дух прекрасный здесь живет, Он в тишине лесов твоих таится, И вздохи ветру шлет, и в глубь озер глядится.63
Так! Чтоб воздать хвалу тебе, Парнас, Души невольным движимый порывом, Прервал я об Испании рассказ, О той стране, что новым стала дивом, Родная всем сердцам вольнолюбивым, — Вернемся к ней. И если не венок (Да не сочтут меня глупцом хвастливым), От лавра Дафны{80} хоть один листок Позволь мне унести — бессмертия залог.64
Прощай! Нигде средь этих древних гор, Ни даже в дни Эллады золотые{81}, Когда гремел еще дельфийский хор{82}, Звучали гимны пифии{83} святые, — Верь, не являлись девы молодые Прекрасней тех, что дивно расцвели Средь пылких нег в садах Андалусии, — О, если б мир им боги принесли, Хоть горький мир твоей, о Греция, земли!{84}65
Горда Севилья роскошью и славой, Прекрасны в ней минувшего черты, И все ж ты лучше, Кадикс многоглавый, Хоть похвалы едва ль достоин ты. Но чьей порок не соблазнял мечты, Кто не блуждал его тропой опасной, Пока блистали юности цветы? Вампир с улыбкой херувима ясной, Для каждого иной, для всех равно прекрасный!66
Пафос{85} погиб, когда царица нег Сама пред силой Времени склонилась, И на другой, но столь же знойный брег За нею Наслажденье удалилось. Та, кто измен любовных не стыдилась, Осталась верной лишь родным волнам, За эти стены белые укрылась, И в честь Киприды{86} не единый храм, Но сотни алтарей жрецы воздвигли там.67
С утра до ночи, с ночи до утра Здесь праздный люд на улицах толпится. Плащи, мантильи, шляпы, веера, Гирлянды роз — весь город веселится. Повсюду смех и праздничные лица, Умеренность на стыд обречена. Приехал — можешь с трезвостью проститься! Здесь царство песни, пляски и вина И, верите, любовь с молитвою дружна.68
Пришла суббота — отдых и покой! Но христианам не до сладкой лени. Ведь завтра будет праздник, и какой! Все на корриду кинутся, к арене, Где пикадора, весь в кровавой пене, Встречает бык, от бешенства слепой. Прыжок! Удар! Конь рухнул на колени, Кишки наружу. Хохот, свист и вой, А женщины? Как все — поглощены борьбой!69
И день седьмой ведет заря в тумане, Пустеет Лондон в этот день святой. Принарядясь, идут гулять мещане, Выходит смывший грязь мастеровой В неделю раз на воздух полевой. По всем предместьям катит и грохочет Карет, ландо, двуколок шумный рой, И конь, устав, уже идти не хочет, А пеший грубиян глумится и хохочет.70
Один с утра на Темзу поспешил, Другой пешком поплелся за заставу, Тех манит Хайгет или Ричмонд-Хилл, А этот в Вер повел друзей ораву. По сердцу всяк найдет себе забаву, — Тем невтерпеж почтить священный Рог{87}, А тем — попить и погулять на славу, И, смотришь, пляшут, не жалея ног, С полночи до утра — и тянут эль и грог.71
Безумны все, о Кадикс, но тобою Побит рекорд. На башне девять бьет, И тотчас, внемля колокола бою, Твой житель четки набожно берет. Грехам у них давно потерян счет, И все у Девы просят отпущенья (Ведь дева здесь одна на весь народ!), И в цирк несутся все без исключенья: Гранд, нищий, стар и млад — все жаждут развлеченья.72
Ворота настежь, в цирке уж полно, Хотя еще сигнала не давали. Кто опоздал, тем сесть не суждено. Мелькают шпаги, ленты, шляпы, шали. Все дамы, все на зрелище попали! Они глазами так и целят в вас. Подстрелят мигом, но убьют едва ли И, ранив, сами вылечат тотчас. Мы гибнем лишь в стихах из-за прекрасных глаз.73
Но стихло все. Верхом, как отлитые, Въезжают пикадоры из ворот. Плюмаж их белый, шпоры — золотые, Оружье — пика. Конь храпит и ржет. С поклоном выступают все вперед. По кругу вскачь, и шарф над каждым вьется. Их четверо, кого ж награда ждет? Кого толпа почтит, как полководца? Кому восторженно испанка улыбнется?74
В средине круга — пеший матадор. Противника надменно ждет он к бою. Он облачен в блистательный убор, Он шпагу держит сильною рукою. Вот пробует медлительной стопою, Хорош ли грунт. Удар его клинка — Как молния. Не нужен конь герою, Надежный друг, что на рогах быка Нашел бы смерть в бою, но спас бы седока.75
Трубят протяжно трубы, и мгновенно Цирк замер. Лязг засова, взмах флажком — И мощный зверь на желтый круг арены Выносится в пролет одним прыжком. На миг застыл. Не в бешенстве слепом, Но в цель уставясь грозными рогами, Идет к врагу, могучим бьет хвостом, Взметает гравий и песок ногами И яростно косит багровыми зрачками.76
Но вот он стал. Дорогу дай, смельчак, Иль ты погиб! Вам биться, пикадоры! Смертелен здесь один неверный шаг, Но ваши кони огненны и скоры. На шкуре зверя чертит кровь узоры. Свист бандерилий, пик разящих звон… Бык повернул, идет, — скорее шпоры! Гигантский круг описывает он И мчится, бешенством и болью ослеплен.77
И вновь назад! Бессильны пики, стрелы, Конь раненый, взвиваясь, дико ржет. Наездники уверенны и смелы, Но тут ни сталь, ни сила не спасет. Ужасный рог вспорол коню живот, Другому — грудь. Как рана в ней зияет! Разверст очаг, где жизнь исток берет. Конь прянул, мчится, враг его бросает, Он гибнет, падая, но всадника спасает.78
Средь конских трупов, бандерилий{88}, пик, Изранен, загнан, изнурен борьбою, Стоит, храпя, остервенелый бык, А матадор взвивает над собою Свой красный шарф, он дразнит, нудит к бою, И вдруг прыжок, и вражий прорван строй, И бык летит сорвавшейся горою. Напрасно! Брошен смелою рукой, Шарф хлещет по глазам, — взмах, блеск, и кончен бой.79
Где сращена с затылком мощным шея, Там входит сталь. Мгновенье медлит он, Не хочет, гордый, пасть к ногам злодея, Не выдаст муки ни единый стон. Но вот он рухнул. И со всех сторон Ревут, вопят, ликуют, бьют в ладони, Въезжает воз, четверкой запряжен, Втащили тушу, и в смятенье кони, Рванув, во весь опор бегут, как от погони.80
Так вот каков испанец! С юных лет Он любит кровь и хищные забавы. В сердцах суровых состраданья нет, И живы здесь жестоких предков нравы. Кипят междоусобные расправы. Уже я мнил, война народ сплотит, — Увы! Блюдя обычай свой кровавый, Здесь другу мстят из-за пустых обид, И жизни теплый ключ в глухой песок бежит.81
Но ревность, заточенные красотки, Невольницы богатых стариков, Дуэньи, и запоры, и решетки — Все минуло, все ныне — хлам веков. Чьи девы так свободны от оков, Как (до войны) испанка молодая, Когда она плясала средь лугов Иль пела песнь, венок любви сплетая, И ей в окно луна светила золотая.82
Гарольд не раз любил, иль видел сон, Да, сон любви, — любовь ведь сновиденье. Но стал угрюмо-равнодушным он. Давно в своем сердечном охлажденье Он понял: наступает пробужденье, И пусть надежды счастье нам сулят, Кончается их яркое цветенье, Волшебный исчезает аромат, И что ж останется: кипящий в сердце яд.83
В нем прелесть женщин чувства не будила, Он стал к ним равнодушней мудреца, Хотя его не мудрость охладила, Свой жар высокий льющая в сердца. Изведав все пороки до конца, Он был страстями, что отбушевали, И пресыщеньем обращен в слепца, И жизнеотрицающей печали Угрюмым холодом черты его дышали.84
Он в обществе был сумрачен и хмур, Хоть не питал вражды к нему. Бывало, И песнь споет, и протанцует тур, Но сердцем в том участвовал он мало. Лицо его лишь скуку выражало. Но раз он бросил вызов сатане. Была весна, все радостью дышало, С красавицей сидел он при луне И стансы ей слагал в вечерней тишине.Инесе
Не улыбайся мне, не жди Улыбки странника ответной. К его бесчувственной груди Не приникай в печали тщетной. Ты не разделишь, милый друг, Страданья дней его унылых, Ты не поймешь причины мук, Которым ты помочь не в силах. Когда бы ненависть, любовь Иль честолюбие в нем бродило! Нет, не они велят мне вновь Покинуть все, что сердцу мило. То скука, скука! С давних пор Она мне сердце тайно гложет. О, даже твой прекрасный взор, Твой взор его развлечь не может! Томим сердечной пустотой, Делю я жребий Агасфера{89}. И в жизнь за гробовой чертой, И в эту жизнь иссякла вера. Бегу от самого себя, Ищу забвенья, но со мною Мой злобный демон, мысль моя, — И в сердце места нет покою. Другим все то, что скучно мне, Дает хоть призрак наслажденья. О, пусть пребудут в сладком сне, Не зная муки пробужденья! Проклятьем прошлого гоним, Скитаюсь без друзей, без дома И утешаюсь тем одним, Что с худшим сердце уж знакомо. Но с чем же? — спросишь ты. О нет, Молчи, дитя, о том ни слова! Взгляни с улыбкой мне в ответ, И сердца не пытай мужского.85
Прости, прости, прекрасный Кадикс мой! Напрасно враг грозил высоким стенам. Ты был средь бурь незыблемой скалой{90}, Ты незнаком с покорностью и пленом, И если, гневом распален священным, Испанца кровь дерзал ты проливать, То суд был над изменником презренным{91}. Но изменить могла здесь только знать. Лишь рыцарь был готов чужой сапог лобзать.86
Испания, таков твой жребий странный: Народ-невольник встал за вольность в бой. Бежал король{92}, сдаются капитаны, Но твердо знамя держит рядовой. Пусть только жизнь дана ему тобой, Ему, как хлеб, нужна твоя свобода. Он все отдаст за честь земли родной, И дух его мужает год от года. «Сражаться до ножа!» — таков девиз народа.87
Кто хочет знать Испанию, прочти, Как воевать Испания умела. Все, что способна месть изобрести, Все, в чем война так страшно преуспела — И нож и сабля, — все годится в дело! Так за сестер и жен испанцы мстят, Так вражий натиск принимают смело, Так чужеземных потчуют солдат И не сочтут за труд отправить сотню в ад.88
{93}
Ты видишь трупы женщин и детей И дым над городами и полями? Кинжала нет — дубиной, ломом бей, Пора кончать с незваными гостями! На свалке место им, в помойной яме! Псам кинуть труп — и то велик почет! Засыпь поля их смрадными костями И тлеть оставь — пусть внук по ним прочтет, Как защищал свое достоинство народ!89
Еще не пробил час, но вновь войска Идут сквозь пиренейские проходы{94}. Конца никто не ведает пока, Но ждут порабощенные народы, Добьется ли Испания свободы, Чтобы за ней воспряло больше стран, Чем раздавил Писарро{95}. Мчатся годы! Потомкам Кито{96} мир в довольстве дан, А над Испанией свирепствует тиран.90
Ни Сарагоссы кровь, ни Альбуера, Ни горы жертв, ни плач твоих сирот, Ни мужество, какому нет примера, — Ничто испанский не спасло народ. Доколе червю грызть оливы плод? Когда забудут бранный труд герои? Когда последний страшный день уйдет, И на земле, где галл погряз в разбое, Привьется Дерево Свободы, как родное?91
{97}
А ты, мой друг! — но тщетно сердца стон Врывается в строфу повествованья. Когда б ты был мечом врага сражен, Гордясь тобой, сдержал бы друг рыданья. Но пасть бесславно, жертвой врачеванья, Оставить память лишь в груди певца, Привыкшей к одиночеству страданья, Меж тем как Слава труса чтит, глупца, — Нет, ты не заслужил подобного конца!92
Всех раньше узнан, больше всех любим, Сберегшему так мало дорогого Сумел ты стать навеки дорогим. «Не жди его!» — мне явь твердит сурово. Зато во сне ты мой! Но утром снова Душа к одру печальному летит, О прошлом плачет и уйти готова В тот мир, что тень скитальца приютит, Где друг оплаканный о плачущем грустит.93
Вот странствий Чайльда первая страница. Кто пожелает больше знать о нем, Пусть следовать за мною потрудится, Пока есть рифмы в словаре моем. Бранить меня успеете потом. Ты, критик мой, сдержи порыв досады! Прочти, что видел он в краю другом, Там, где заморских варваров отряды Бесстыдно грабили наследие Эллады{98}.Песнь вторая
1
Пою тебя, небесная, хоть к нам, Поэтам бедным, ты неблагосклонна. Здесь был, богиня мудрости{99}, твой храм. Над Грецией прошли врагов знамена.{100} Огонь и сталь ее терзали лоно, Бесчестило владычество людей, Не знавших милосердья и закона И равнодушных к красоте твоей. Но жив твой вечный дух средь пепла и камней.2
Увы, Афина, нет твоей державы! Как в шуме жизни промелькнувший сон, Они ушли, мужи высокой славы, Те первые, кому среди племен Венец бессмертья миром присужден. Где? Где они? За партой учат дети Историю ушедших в тьму времен, И это все! И на руины эти Лишь отсвет падает сквозь даль тысячелетий.3
О сын Востока, встань! Перед тобой Племен гробница — не тревожь их праха. Сменяются и боги чередой, Всем нить прядет таинственная Пряха. Был Зевс, пришло владычество Аллаха, И до тех пор сменяться вновь богам, Покуда смертный, отрешась от страха, Не перестанет жечь им фимиам И строить на песке пустой надежды храм.4
Он, червь земной, чего он ищет в небе? Довольно бы того, что он живет. Но так он ценит свой случайный жребий, Что силится загадывать вперед, Готов за гробом кинуться в полет Куда угодно, только б жить подоле, Блаженство ль там или страданье ждет. Взвесь этот прах! Тебе он скажет боле, Чем все, что нам твердят о той, загробной доле.5
Вот холм, где вождь усопший погребен, Вдали от бурь, от песен и сражений, — Он пал под плач поверженных племен. А ныне что? Где слезы сожалений? Нет часовых над ложем гордой тени, Меж воинов не встать полубогам. Вот череп — что ж? Для прошлых поколений Не в нем ли был земного бога храм? А ныне даже червь не приютится там.6
В пробоинах и свод его, и стены, Пустынны залы, выщерблен портал. А был Тщеславья в нем чертог надменный, Был Мысли храм, Души дворец блистал, Бурлил Страстей неудержимый шквал, Но все пожрал распада хаос дикий, Пусты глазницы, желт немой оскал. Какой святой, софист, мудрец великий Вернет былую жизнь в ее сосуд безликий?7
«Мы знаем только то, — сказал Сократ{101}, — Что ничего не знаем». И, как дети, Пред Неизбежным смертные дрожат. У каждого своя печаль на свете, И слабый мнит, что Зло нам ставит сети. Нет, суть в тебе! Твоих усилий плод — Судьба твоя. Покой обрящешь в Лете{102}. Там новый пир пресыщенных не ждет. Там, в лоне тишины, страстей неведом гнет.8
Но если есть тот грустный мир теней, Что нам мужи святые описали, Хотя б его софист иль саддукей{103} В безумье знаний ложных отрицали, — Как было б чудно в элизийской дали{104}, Где место всем, кто освещал наш путь, Услышать тех, кого мы не слыхали, На тех, кого не видели, взглянуть, К познавшим Истину восторженно примкнуть.9
Ты, с кем ушли Любовь и Счастье в землю, Мой жребий — жить, любить, но для чего? Мы так срослись, еще твой голос внемлю, И ты жива для сердца моего. Ужель твое недвижно и мертво! Живу одной надеждой сокровенной, Что снова там услышу зов его. Так будь, что будет! В этой жизни бренной Мое блаженство — знать, что ты в стране блаженной.10
Я сяду здесь, меж рухнувших колонн, На белый цоколь. Здесь, о Вседержитель, Сатурна сын{105}, здесь был твой гордый трон. Но из обломков праздный посетитель Не воссоздаст в уме твою обитель, Никто развалин вздохом не почтит. И, здешних мест нелюбопытный житель, На камни мусульманин не глядит, А проходящий грек поет или свистит.11
Но кто же, кто к святилищу Афины Последним руку жадную простер? Кто расхищал бесценные руины, Как самый злой и самый низкий вор? Пусть Англия, стыдясь, опустит взор! Свободных в прошлом чтут сыны Свободы, Но не почтил их сын шотландских гор{106}: Он, переплыв бесчувственные воды, В усердье варварском ломал колонны, своды.12
Что пощадили время, турок, гот, То нагло взято пиктом{107} современным. Нет, холоднее скал английских тот, Кто подошел с киркою к этим стенам, Кто не проникся трепетом священным, Увидев прах великой старины. О, как страдали скованные пленом, Деля богини скорбь, ее сыны, Лишь видеть и молчать судьбой обречены!13
Ужель признают, не краснея, бритты, Что Альбион был рад слезам Афин, Что Грецию, молившую защиты, Разграбил полумира властелин{108}! Страна свободы, страж морских пучин, Не ты ль слыла заступницей Эллады! И твой слуга, твой недостойный сын Пришел, не зная к слабому пощады, Отнять последнее сокровище Паллады!14
Но ты, богиня, где же ты, чей взгляд Пугал когда-то гота и вандала? Где ты, Ахилл{109}, чья тень, осилив ад И вырвавшись из вечного провала, В глаза врагу грозою заблистала? Ужель вождя не выпустил Плутон{110}, Чтоб мощь его пиратов обуздала? Нет, праздный дух, бродил над Стиксом{111} он И не прогнал воров, ломавших Парфенон.15
Глух тот, кто прах священный не почтит Слезами горя, словно прах любимой. Слеп тот, кто меж обломков не грустит О красоте, увы, невозвратимой! О, если б гордо возгласить могли мы, Что бережет святыни Альбион, Что алтари его рукой хранимы. Нет, все поправ, увозит силой он Богов и зябких нимф под зимний небосклон.16
Но где ж Гарольд остался? Не пора ли Продолжить с ним его бесцельный путь? Его и здесь друзья не провожали, Не кинулась любимая на грудь, Чтоб знал беглец, о ком ему вздохнуть. Хоть красоты иноплеменной гений И мог порой в нем сердце всколыхнуть, Он скорбный край войны и преступлений Покинул холодно, без слез, без сожалений.17
Кто бороздил простор соленых вод, Знаком с великолепною картиной: Фрегат нарядный весело плывет, Раскинув снасти тонкой паутиной. Играет ветер в синеве пустынной, Вскипают шумно волны за кормой. Уходит берег. Стаей лебединой Вдали белеет парусный конвой. И солнца свет, и блеск пучины голубой!18
Корабль подобен крепости плавучей. Под сетью здесь — воинственный мирок. Готовы пушки — ведь неверен случай! Осиплый голос, боцмана свисток, И вслед за этим дружный топот ног, Кренятся мачты и скрипят канаты. А вот гардемарин, еще щенок, Но в деле — хват и, как моряк завзятый, Бранится иль свистит, ведя свой дом крылатый.19
Корабль надраен, как велит устав. Вот лейтенант обходит борт сурово, Лишь капитанский мостик миновав. Где капитан — не место для другого. Тот лишнего ни с кем не молвит слова И с экипажем держит строгий тон. Ведь дисциплина — армии основа. Для славы и победы свой закон Британцы рады чтить, хотя им в тягость он.20
Вей, ветер, вей, наш парус надувая, День меркнет, скоро солнце уж зайдет. Так растянулась за день наша стая, Хоть в дрейф ложись, пока не рассветет. На флагмане уже спускают грот, И, верно, остановимся мы вскоре, А ведь ушли б на много миль вперед! Вода подобна зеркалу. О горе — Ленивой свиты ждать, когда такое море!21
Встает луна. Какая ночь, мой бог! Средь волн дрожит дорожка золотая. В такую ночь один ваш страстный вздох, И верит вам красотка молодая. Неси ж на берег нас, судьба благая! Но Арион{112} нашелся на борту И так хватил по струнам, запевая, Так лихо грянул в ночь и в темноту, Что все пустились в пляс, как с милыми в порту.22
Корабль идет меж берегов высоких. Две части света смотрят с двух сторон{113}. Там пышный край красавиц чернооких, Здесь — черного Марокко нищий склон. Испанский берег мягко освещен, Видны холмы, под ними лес зубчатый, А тот — гигантской тенью в небосклон Вонзил свои береговые скаты, Не озаренные косым лучом Гекаты{114}.23
Ночь. Море спит. О, как в подобный час Мы ждем любви, как верим, что любили, Что друг далекий ждет и любит нас, Хоть друга нет, хоть все о нас забыли. Нет, лучше сон в безвременной могиле, Чем юность без любимой, без друзей! А если сердце мы похоронили, Тогда на что и жизнь, что толку в ней? Кто может возвратить блаженство детских дней!24
Глядишь за борт, следишь, как в глуби водной Дианы рог{115} мерцающий плывет, И сны забыты гордости бесплодной, И в памяти встает за годом год, И сердце в каждом что-нибудь найдет, Что было жизни для тебя дороже. И ты грустишь, и боль в душе растет, Глухая боль… Что тягостней, о боже, Чем годы вспоминать, когда ты был моложе!25
Лежать у волн, сидеть на крутизне, Уйти в безбрежность, в дикие просторы, Где жизнь вольна в беспечной тишине, Куда ничьи не проникали взоры; По козьим тропкам забираться в горы, Где грозен шум летящих в бездну вод, Подслушивать стихий мятежных споры, — Нет, одиноким быть не может тот, Чей дух с природою один язык найдет.26
Зато в толпе, в веселье света мнимом, В тревогах, смутах, шуме суеты, Идти сквозь жизнь усталым пилигримом, Среди богатств и жалкой нищеты, Где нелюбим и где не любишь ты, Где многие клянутся в дружбе ныне И льстят тебе, хоть, право, их черты Не омрачатся при твоей кончине — Вот одиночество, вот жизнь в глухой пустыне!27
Насколько же счастливее монах, Глядящий из обители Афона{116} На пик его в прозрачных небесах, На зелень рощ, на зыбь морского лона, На все, чем, озираясь умиленно, Любуется усталый пилигрим, Не в силах от чужого небосклона Уйти к холодным берегам родным, Где ненавидит всех и всеми нелюбим.28
Но между тем мы долгий путь прошли, И зыбкий след наш поглотили воды, Мы шквал, и шторм, и штиль перенесли, И солнечные дни, и непогоды — Все, что несут удачи и невзгоды Жильцам морских крылатых крепостей, Невольникам изменчивой природы, — Все позади, и вот, среди зыбей — Ура! Ура! — земля! Ну, други, веселей!29
Правь к островам Калипсо{117}, мореход, Они зовут усталого к покою, Как братья встав среди бескрайных вод. И нимфа слез уже не льет рекою, Простив обиду смертному{118} герою, Что предпочел возлюбленной жену. А вон скала, где дружеской рукою Столкнул питомца Ментор{119} в глубину, Оставив о двоих рыдать ее одну.30
Но что же царство нимф — забытый сон? Нет, не грусти, мой юный друг, вздыхая. Опасный трон — в руках у смертных жен, И если бы, о Флоренс{120} дорогая, Могла любить душа, для чувств глухая, Сама судьба потворствовала б нам. Но, враг цепей, все узы отвергая, Я жертв пустых не принесу в твой храм, И боль напрасную тебе узнать не дам.31
Гарольд считал, что взор прекрасных глаз В нем вызывает только восхищенье, И, потеряв его уже не раз, Любовь теперь держалась в отдаленье, Поняв в своем недавнем пораженье, Что сердце Чайльда для нее мертво, Что, презирая чувства ослепленье, Он у любви не просит ничего И ей уже не быть царицей для него.32
Зато прекрасной Флоренс было странно: Как тот, о ком шептали здесь и там, Что он готов влюбляться непрестанно, Так равнодушен был к ее глазам. Да, взор ее, к досаде многих дам, Сражал мужчин, целил и ранил метко, А он — юнец! — мальчишка по годам, И не просил того, за что кокетка Нередко хмурится, но гневается редко.33
Она не знала, что и Чайльд любил, Что в равнодушье. он искал защиты, Что подавлял он чувств невольный пыл И гордостью порывы их убиты, Что не было опасней волокиты И в сеть соблазна многих он завлек, Но все проказы ныне им забыты, И, хоть бы страсть в нем синий взор зажег, С толпой вздыхателей смешаться он не мог.34
Кто лишь вздыхает — это всем известно — Не знает женщин, их сердечных дел. Ты побежден, и ей неинтересно, Вздыхай, моли, но соблюдай предел. Иначе лишь презренье твой удел. Из кожи лезь — у вас не будет лада! К чему моленья? Будь остер и смел, Умей смешить, подчас кольни, где надо, При случае польсти, и страсть — твоя награда!35
Прием из жизни взятый, не из книг! Но многое теряет без возврата Кто овладел им. Цели ты достиг. Ты насладился, но чрезмерна плата: Старенье сердца, лучших сил утрата, И страсть сыта, но юность сожжена, Ты мелок стал, тебе ничто не свято, Любовь тебе давно уж не нужна, И, все мечты презрев, душа твоя больна.36
Но в путь! Иной торопит нас предмет. Немало стран пройти мы обещали, И не игре Воображенья вслед, А волею задумчивой печали. Мы стран таких и в сказках не встречали, И даже утописты наших дней{121} Такой картиной нас не обольщали, — Те чудаки, что исправлять людей Хотят при помощи возвышенных идей.37
Природа-мать, тебе подобных нет, Ты жизнь творишь ты создаешь светила. Я приникал к тебе на утре лет, Меня, как сына, грудью ты вскормила И не отвергла, пусть не полюбила. Ты мне роднее в дикости своей, Где власть людей твой лик не осквернила. Люблю твою улыбку с детских дней, Люблю спокойствие — но гнев еще сильней.38
Среди мудрейших в главы хрестоматий, Албания, вошел твой Искандер. Героя тезка{122} — бич турецких ратей — Был тоже рыцарь многим не в пример. Прекрасна ты, страна хребтов, пещер, Страна людей, как скалы, непокорных, Где крест поник, унижен калойер{123}, И полумесяц на дорогах горных Горит над лаврами средь кипарисов черных.39
Гарольд увидел скудный остров тот, Где Пенелопа, глядя вдаль, грустила, Скалу влюбленных над пучиной вод, Где скорбной Сафо влажная могила{124}. Дочь Лесбоса! Иль строф бессмертных сила От смерти не могла тебя спасти? Не ты ль сама бессмертие дарила! У лиры есть к бессмертию пути, И неба лучшего нам, смертным, не найти.40
То было тихим вечером осенним, Когда Левкады{125} Чайльд узнал вдали, Но мимо плыл корабль, и с сожаленьем На мыс глядел он. Чайльда не влекли Места, где битвы грозные прошли, Ни Трафальгар{126}, ни Акциум{127} кровавый. Рожденный в тихом уголке земли, Он презирал, пустой не бредя славой, Солдат-наемников и даже вид их бравый.41
Но вот блеснул звезды вечерней свет, И, весь отдавшись странному волненью, Гарольд послал прощальный свой привет Скале любви{128} с ее гигантской тенью. Фрегат скользил, как бы охвачен ленью, И Чайльд глядел задумчиво назад, Волны возвратной следуя движенью, Настроясь вновь на свой привычный лад. Но лоб его светлел, и прояснялся взгляд.42
Над скалами Албании{129} суровой Восходит день. Вот Пинд{130} из темных туч В тюрбане белом, черный и лиловый, Возник вдали. На склоне мшистых круч Селенья бледный освещает луч. Там лютый барс в расселинах таится, Орел парит, свободен и могуч. Там люди вольны, словно зверь и птица, И буря, Новый год встречая, веселится.43
И вот где Чайльд один! Пред ним края, Для христианских языков чужие. Любуясь ими, но и страх тая, Иной минует скалы их крутые. Однако Чайльд изведал все стихии, Не ищет гроз, но встретить их готов, Желаний чужд, беспечен, и впервые Дыша свободой диких берегов, И зной он рад терпеть, и холод их снегов.44
Вот Красный крест{131}, один лишь Крест всего, Посмешище приверженцев Ислама, Униженный, как те, кто чтит его. О Суеверье, как же ты упрямо! Христос, Аллах ли, Будда или Брама, Бездушный идол, бог — где правота? Но суть одна, когда посмотришь прямо: Церквам — доход, народу — нищета! Где ж веры золото, где ложь и суета?45
А вот залив, где отдан был весь мир За женщину{132}, где всю армаду Рима, Царей азийских бросил триумвир. Был враг силен, любовь — непобедима. Но лишь руины смотрят нелюдимо, Где продолжатель Цезаря{133} царил. О деспотизм, ты правишь нетерпимо! Но разве бог нам землю подарил, Чтоб мир лишь ставкою в игре тиранов был?46
От этих стен, от Города Побед{134} Чайльд едет в иллирийские долины{135}. В истории названий этих нет, Там славные не встретятся руины, Но и роскошной Аттики{136} картины, И дол Тампейский{137}, и тебя, Парнас, Затмил бы многим этот край пустынный, Не будь вы милой классикой для нас. Идешь — любуешься, — и все чарует глаз!47
Минуя Пинд, и воды Ахерузы{138}, И главный город, он туда идет, Где Произвол надел на Вольность узы, Где лютый вождь Албанию гнетет{139}, Поработив запуганный народ. Где лишь порой, неукротимо-дики, Отряды горцев с каменных высот Свергаются, грозя дворцовой клике, И только золото спасает честь владыки.48
О Зитца{140}! Благодатный монастырь! Какая тень! Как все ласкает взоры! Куда ни смотришь: вниз иль в эту ширь — Как лучезарно-радужны просторы! Все гармонично: небо, лес и горы, Нависших скал седые горбыли, Ручьев, по склонам вьющихся, узоры, Да водопада мерный шум вдали, И синевы потоп от неба до земли.49
Когда б уступы мрачных гор кругом Не высились громадою надменной, Мохнатый холм, увенчанный леском, Казался бы величественной сценой. В обители укрывшись белостенной, От суеты бытийственной храним, Живет монах, анахорет смиренный, И здесь невольно медлит пилигрим, Внимая голосам природы, как родным.50
Он забывает знойный, пыльный путь, Его листва объемлет вековая, А ветерок живит и нежит грудь И в сердце льет благоуханье рая. Внизу осталась толчея людская, Не может зной проникнуть в эту сень, До дурноты, до злости раздражая. Лежишь и смотришь, услаждая лень, Как день за утром встал, как вечер сменит день.51
Кругом — вулканов мертвая гряда, За ними Альп химерских седловина{141}, А там потоки, хижины, стада — Внизу живет и движется долина. Там сосны, тут стрельчатая раина, Чернеет легендарный Ахерон{142}, Река теней, — волшебная картина! И это входы в Тартар{143}? — нет, Плутон, Пусть рай закроется, меня не манит он!52
Не портят вида разные строенья. Янину скрыла ближних гор стена, Лишь там и здесь убогие селенья, Кой-где маячит хижина одна, А вон поляна горная видна, Пасутся козы, пастушок на круче. Простых забот вся жизнь его полна: Мечтает, спит, глядит, откуда тучи, Или в пещере ждет, чтоб минул дождь ревучий.53
Додона{144}, где твой лес, твой вещий ключ, Оракул твой и дол благословенный, Слыхавший Зевса голос из-за туч? Где храм его, для Греции священный? Их нет. Так нам ли, коль падут и стены, Роптать на то, что смертным Смерть грозит! Молчи, глупец! И мы, как боги, тленны. Пусть долговечней дуб или гранит, Всё — троны, языки, народы Рок сразит.54
Эпир прошли мы. Насмотревшись гор, Любуешься долинами устало. В такой нарядный, праздничный убор Нигде весна земли не одевала. Но даже здесь красот смиренных мало. Вот шумно льется речка с крутизны, Над нею лес колеблет опахала, И тени пляшут в ней, раздроблены, Иль тихо спят в лучах торжественной луны.55
За Томерит{145} зашло светило дня, Лаос{146} несется с бешеным напором, Ложится тьма, последний луч тесня, И, берегом сходя по крутогорам, Чайльд видит вдруг: подобно метеорам, Сверкают минареты за стеной. То Тепелена, людная, как форум, И говор, шум прислуги крепостной, И звон оружия доносит бриз ночной.56
Минуя башню, где гарем священный, Из-под массивной арки у ворот Он видит дом владыки Тепелены И перед ним толпящийся народ. Тиран в безумной роскоши живет: Снаружи крепость, а внутри палаты. И во дворе — разноплеменный сброд: Рабы и гости, евнухи, солдаты, И даже, среди них, «сантоны» — те, кто святы.57
Вдоль стен, по кругу, сотни три коней, На каждом, под седлом, чепрак узорный, На галереях множество людей, И, то ли вестовой или дозорный, Какой-нибудь татарин в шапке черной Вдруг на коня — и скачет из ворот. Смешались турок, грек, албанец горный, Приезжие с неведомых широт, А барабан меж тем ночную зорю бьет.58
Вот шкипетар{147}, он в юбке, дикий взор, Его ружье с насечкою богатой, Чалма, на платье золотой узор. Вот македонец — красный шарф трикраты Вкруг пояса обмотан. Вот в косматой Папахе, с тяжкой саблею, дели{148}. Грек, черный раб иль турок бородатый, — Он соплеменник самого Али, Он не ответит вам. Он — власть, он — соль земли.59
Те бродят, те полулежат, как гости, Следя за пестрой сменою картин. Там спорят, курят, там играют в кости, Тут молится Ислама важный сын. Албанец горд, идет, как властелин. Ораторствует грек, видавший много. Чу! С минарета кличет муэдзин, Напоминая правоверным строго: «Молитесь, бог один! Нет бога кроме бога!»60
Как раз подходит Рамазан, их пост. День летний бесконечен, но терпенье! Чуть смеркнется, с явленьем первых звезд, Берет Веселье в руки управленье. Еда — горою, блюда — объеденье! Кто с галереи в залу не уйдет? Теперь из комнат крики, хохот, пенье, Снуют рабы и слуги взад-вперед, И каждый что-нибудь приносит иль берет.61
Но женщин нет: пиры — мужское дело. А ей — гарем, надзор за нею строг. Пусть одному принадлежит всецело, Для клетки создал мусульманку бог! Едва ступить ей можно за порог. Ласкает муж, да год за годом дети, И вот вам счастья женского залог! Рожать, кормить — что лучше есть на свете? А низменных страстей им незнакомы сети.62
В обширной зале, где фонтан звенит, Где стены белым мрамором покрыты, Где все к усладам чувственным манит, Живет Али, разбойник именитый. Нет от его жестокости защиты, Но старчески-почтенные черты Так дружелюбно-мягки, так открыты, Полны такой сердечной доброты, Что черных дел за ним не заподозришь ты.63
Кому, когда седая борода Мешала быть, как юноша, влюбленным? Мы любим невзирая на года, Гафиз{149} согласен в том с Анакреоном{150}. Но на лице, годами заклейменном, Как тигра коготь, оставляет шрам Преступность, равнодушная к законам, Жестокость, равнодушная к слезам. Кто занял трон убийц, убийством правит сам.64
Однако странник здесь найдет покой, Тут все ему в диковинку, все ново, Он отдохнет охотно день-другой. Но роскошь мусульманского алькова, Блеск, мишура — все опостылит снова, Все было б лучше, будь оно скромней. И Мир бежит от зрелища такого, И Наслажденье было бы полней Без этой роскоши, без царственных затей.65
В суровых добродетелях воспитан, Албанец твердо свой закон блюдет. Он горд и храбр, от пули не бежит он, Без жалоб трудный выдержит поход. Он — как гранит его родных высот. Храня к отчизне преданность сыновью, Своих друзей в беде не предает И, движим честью, мщеньем иль любовью, Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью.66
Среди албанцев прожил Чайльд немало. Он видел их в триумфе бранных дней, Видал и в час, когда он, жертва шквала, Спасался от бушующих зыбей. Душою черствый в час беды черствей, Но их сердца для страждущих открыты — Простые люди чтут своих гостей, И лишь у вас, утонченные бритты, Так часто не найдешь ни крова, ни защиты.67
Случилось так, что ветром и волной Корабль Гарольда к Сулии помчало, Чернели рифы, и ревел прибой, Но капитан и не искал причала. Была гроза, и море бушевало, Однако люди больше волн и скал Боялись тут засады и кинжала, Который встарь без промаха карал, Когда незваный гость был турок или галл.68
Но все ж подплыть отважились, и что же — Их сулиоты{151} в бухту провели (Гостеприимней шаркуна-вельможи Рыбак иль скромный труженик земли), Очаг в хибарке и светец зажгли, Развесили одежды их сырые, Радушно угостили чем могли — Не так, как филантропы записные, Но как велят сердца бесхитростно-простые.69
Когда же дале Чайльд решил идти, Устав от гор, от дикой их природы, Ему сказали, что на полпути Бандитской шайкой заняты проходы, Там села жгут, там гибнут пешеходы! Чтоб лесом Акарнании скорей Пройти туда, где Ахелоя{152} воды Текут близ этолийских рубежей, Он взял в проводники испытанных мужей.70
Где Утракийский круглый спит залив{153} Меж темных рощ, прильнув к холмам зеленым, И не бушуют волны, отступив, Но в синий день сверкают синим лоном, Иль зыблются под звездным небосклоном, Где западные ветры шелестят, — Гарольд казался тихо умиленным, Там был он принят, как любимый брат, И радовался дню и ночи был он рад.71
На берегу огни со всех сторон, Гостей обходят чаши круговые. И кажется, чудесный видит сон, Тому, кто видит это все впервые. Еще краснеют небеса ночные, Но игры начинать уже пора. И паликары{154}, сабли сняв кривые И за руки берясь, вокруг костра Заводят хоровод и пляшут до утра.72
Поодаль стоя, Чайльд без раздраженья Следил за веселящейся толпой. Не оскорбляли вкуса их движенья, И не было вульгарности тупой Во всем, что видел он перед собой. На смуглых лицах пламя грозно рдело, Спадали космы черною волной, Глаза пылали сумрачно и смело, И все, что было здесь, кричало, выло, пело. Тамбурджи{155}, тамбурджи! Ты будишь страну, Ты, радуя храбрых, пророчишь войну. И с гор кимериец{156} на зов твой идет, Иллирии сын и смельчак сулиот. Косматая шапка, рубаха как снег. Кто может сдержать сулиота набег? Он, волку и грифу оставив стада, Свергается в дол, как с утеса вода. Ужель кимериец врага пощадит? Он даже друзьям не прощает обид. И месть его пуле, как честь, дорога — Нет цели прекрасней, чем сердце врага! А кто македонца осилит в бою? На саблю он сменит охоту свою. Вот жаркая кровь задымилась на ней, И шарф его красный от крови красней. Паргийским пиратам{157} богатый улов: Французам дорога на рынок рабов! Галеры хозяев своих подождут, Добычу в лесную пещеру ведут. Нам золото, роскошь и блеск ни к чему — Что трус покупает, я саблей возьму. Ей любо красавиц чужих отнимать, Пусть горько рыдает о дочери мать. Мне ласка красавицы слаще вина, Кипящую кровь успокоит она И в песне прославит мой подвиг и бой, Где пал ее брат иль отец предо мной, Ты помнишь Превезу?{158} О, сладостный миг! Бегущих мольбы, настигающих крик! Мы предали город огню и мечу, — Безвинным пощада, но смерть богачу! Кто служит визирю, тот знает свой путь. И жалость и страх, шкипетар, позабудь! С тех пор как Пророк удалился с земли, Вождей не бывало подобных Али. Мухтар{159}, его сын, — у Дуная-реки. Там гонят гяуров{160} его бунчуки{161}, Их волосы желты, а лица бледны. Из русских второй не вернется с войны. Так саблю вождя обнажай, селиктар{162}! Тамбурджи! твой зов это кровь и пожар. Клянемся горам, покидая свой дом: Погибнем в бою иль с победой придем!73
Моя Эллада, красоты гробница! Бессмертная и в гибели своей, Великая в паденье! Чья десница Сплотит твоих сынов и дочерей? Где мощь и непокорство прошлых дней, Когда в неравный бой за Фермопилы{163} Шла без надежды горсть богатырей? И кто же вновь твои разбудит силы И воззовет тебя, Эллада, из могилы?74
Когда за вольность бился Фразибул{164}, Могли ль поверить гордые Афины, Что покорит их некогда Стамбул И ввергнет в скорбь цветущие долины. И кто ж теперь Эллады властелины? Не тридцать их — кто хочет, тот и князь. И грек молчит, и рабьи гнутся спины, И, под плетьми турецкими смирясь, Простерлась Греция, затоптанная в грязь.75
Лишь красоте она не изменила, И странный блеск в глазах таит народ, Как будто в нем еще былая сила Неукротимой вольности живет. Увы! он верит, что не вечен гнет, Но веру он питает басней вздорной, Что помощь иноземная придет, И раздробит ярем его позорный, И вырвет слово «грек» из книги рабства черной.76
Рабы, рабы! Иль вами позабыт Закон, известный каждому народу? Вас не спасут ни галл, ни московит, Не ради вас готовят их к походу, Тиран падет, но лишь другим в угоду. О Греция! Восстань же на борьбу! Раб должен рам добыть себе свободу! Ты цепи обновишь, но не судьбу. Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу!77
Когда-то город силой ятаганов{165} Был у гяура отнят. Пусть опять Гяур османа{166} вытеснит, воспрянув, И будет франк{167} в серале{168} пировать, Иль ваххабит{169}, чей предок, словно тать, Разграбил усыпальницу Пророка, Пойдет пятою Запад попирать, — К тебе Свобода не преклонит ока, И снова будет раб нести ярмо без срока.78
Но как-никак, перед постом их всех К веселью тянет. Нужно торопиться: Ведь скоро всем, за первородный грех, Весь день не есть, потом всю ночь молиться. И вот, поскольку ждет их власяница, Дней пять иль шесть веселью нет преград. Чем хочешь, можешь тайно насладиться, Не то кидайся в карнавальный чад, Любое надевай — и марш на маскарад!79
Веселью, как безудержной стихии, Стамбул себя всецело отдает. Хотя тюрбаны чванствуют в Софии{170}, Хотя без храма греческий народ (Опять о том же стих мой слезы льет!), Дары Свободы славя в общем хоре, К веселью звал Афины их рапсод, Но лишь Притворство радуется в горе, И все же праздник бьет весельем на Босфоре.80
Беспечной, буйной суматохе в лад Звучит, меняясь, хор без перерыва. А там, вдали, то весла зашумят, То жалуются волны сиротливо. А вот промчался ветер от залива, И кажется, покинув небосвод, Владычица прилива и отлива{171}, Чтоб веселее праздновал народ, Сама, удвоив свет, сияет в глуби вод.81
Качает лодки чуткая волна, Порхают в пляске дочери Востока, Конечно, молодежи не до сна, И то рука, то пламенное око Зовут к любви, и страсть, не выждав срока, Касаньем робким сердце выдает. Любовь, любовь! Добра ты иль жестока, Пускай там циник что угодно врет, — И годы мук не жаль за дни твоих щедрот!82
Но неужели в вихре маскарада Нет никого, кто вспомнил бы о том, Что умерло с тобой, моя Эллада; Кто слышит даже в рокоте морском Ответ на боль, на слезы о былом; Кто презирает этот блеск нахальный И шум толпы, ликующей кругом; Кто в этот час, для Греции печальный, Сменил бы свой наряд на саван погребальный.83
Нет, Греция, тот разве патриот, Кто, болтовнею совесть успокоя, Тирану льстит, покорно шею гнет И с видом оскорбленного героя Витийствует и прячется от боя. И это те, чьих дедов в оны дни Страшился перс и трепетала Троя! Ты все им дать сумела, но взгляни: Не любят матери истерзанной они!84
Когда сыны Лакедемона{172} встанут И возродится мужество Афин, Когда сердца их правнуков воспрянут И жены вновь начнут рождать мужчин, Ты лишь тогда воскреснешь из руин. Тысячелетья длится рост державы, Ее низвергнуть — нужен час один, И не вернут ей отошедшей славы Ни дальновидный ум, ни злата звон лукавый,85
Но и в оковах ты кумир веков, К тебе — сердец возвышенных дороги, Страна людьми низвергнутых богов, Страна людей, прекрасных, точно боги. Долины, рощи, гор твоих отроги Хранят твой дух, твой гений, твой размах. Разбиты храмы, рушатся чертоги, Развеялся твоих героев прах, Но слава дел твоих еще гремит в веках.86
И ныне среди мраморных руин, Пред колоннадой, временем разбитой, Где встарь сиял воздушный храм Афин, Венчая холм{173}, в столетьях знаменитый, Иль над могилой воина забытой, Среди непотревоженной травы, Лишь пилигрим глядит на эти плиты, Отшельник, чуждый света и молвы, И, сумрачно вздохнув, как я, шепнет: увы!87
Но ты жива, священная земля, И так же Фебом пламенным согрета. Оливы пышны, зелены поля, Багряны лозы, светел мед Гимета{174}. Как прежде, в волнах воздуха и света Жужжит и строит влажный сот пчела. И небо чисто, и роскошно лето. Пусть умер гений, вольность умерла, — Природа вечная прекрасна и светла.88
И ты ни в чем обыденной не стала, Страной чудес навек осталась ты. Во всем, что детский ум наш воспитало, Что волновало юные мечты, Ты нам являешь верные черты Не вымысла, но подлинной картины. Пусть Время рушит храмы иль мосты, Но море есть, и горы, и долины, Не дрогнул Марафон{175}, хоть рухнули Афины.89
Не землю ты, не солнце в небесах, Лишь господина, став рабой, сменила. В бескрылом рабстве гений твой исчах, И только Слава крылья сохранила. Меж этих гор — персидских орд могила. Эллады нет, но слово «Марафон»{176}, С которым ты навек себя сроднила, Являет нам из глубины времен Теснину, лязг мечей, и кровь, и павших стоп,90
Мидян{177} бегущих сломанные луки, И гибель перса, и позор его, Холмы, и дол, и берегов излуки, И победивших греков торжество, Но где трофеи гнева твоего, Край, где Свободой Азия разбита? Ни росписей, ни статуй — ничего! Все вор унес, твоя земля разрыта, И топчут пыль коня турецкого копыта.91
И все же ты, как в древности, чудесен, Ты каждой гранью прошлого велик, Заветный край героев, битв и песен, Где родился божественный язык, Что и в пределы Севера проник И зазвучал, живой и юный снова, В сердцах горячих, на страницах книг, Искусства гордость, мудрости основа, Богов и светлых муз возвышенное слово.92
В разлуке мы тоскуем о родном, О доме, где в слезах нас провожали, Но одинокий здесь найдет свой дом И он вздохнет о родине едва ли. Все в Греции сродни его печали, Все родственней его родной земли. И прах богов не отряхнет с сандалий Кто был в краю, где Дельфы встарь цвели, Где бились перс и грек, и рядом смерть нашли.93
{178}
Он здесь для сердца обретет покой, Один бродя в магической пустыне, Но пусть не тронет хищною рукой Уже полурасхищенной святыни Народа, миром чтимого доныне, Пускай достойно имя «бритт» несет И, приобщась великой благостыни, Вернется под родимый небосвод, Где в Жизни и в Любви прибежище найдет.94
А ты, кто гнал тоску глухих ночей, Безвестные нанизывая строки, В шумихе современных рифмачей Не прозвучит твой голос одинокий. Пройдут судьбой отмеренные сроки, Другие лавр увядший подберут. Но что тебе хвалы или упреки Без них, без тех, кто был твой высший суд, Кого ты мог любить, кому вверял свой труд.95
Их нет, как нет, красавица, тебя, Любимая, кто всех мне заменила{179}, Кто все прощать умела мне, любя, И клевете меня не уступила. Что жизнь моя! Тебя взяла могила, Ты страннику не кинешься на грудь, Его удел — вздыхать о том, что было, Чего судьбе вовеки не вернуть, — Придет, войдет в свой дом и вновь — куда-нибудь.96
Возлюбленная, любящая вечно, Единственная! Скорбь не устает К былому возвращаться бесконечно. Твой образ даже время не сотрет. Хоть все похитил дней круговорот — Друзей, родных, тебя, кто мир вместила! О, смерть! Как точен стрел ее полет! Все, чем я жил, чудовищная сила Внезапно унесла, навеки поглотила.97
Так что ж, иль в омут чувственных утех К пирам вернуться, к светским карнавалам, Где царствует притворный, лживый смех, Где всюду фальшь — равно в большом и малом, Где чувство, мысль глушат весельем шалым, — Играть себе навязанную роль, Чтоб дух усталый стал вдвойне усталым, И, путь слезам готовя исподволь, С презреньем деланным в улыбке прятать боль!98
Что в старости быстрее всяких бед Нам сеть морщин врезает в лоб надменный? Сознание, что близких больше нет, Что ты, как я, один во всей вселенной. Склоняюсь пред Карающим смиренный, — Дворцы Надежды сожжены дотла. Катитесь дни, пустой, бесплодной сменой! Все жизнь без сожаленья отняла, И молодость моя, как старость, тяжела.«Паломничество Чайльд-Гарольда»
Песнь третья
Afin que cette application vous forçât de penser à autre chose; il n’ya en vérité de remède que celui-là et le temps.
Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776 [9].{180}{181}
1
Дочь сердца моего, малютка Ада{182}! Похожа ль ты на мать? В последний раз, Когда была мне суждена отрада Улыбку видеть синих детских глаз, Я отплывал, — то был Надежды час. И вновь плыву{183}, но все переменилось. Куда плыву я? Шторм встречает нас. Сон обманул… И сердце не забилось, Когда знакомых скал гряда в тумане скрылась.2
Как славный конь, узнавший седока, Играя, пляшут волны подо мною. Бушуйте, вихри! Мчитесь, облака! Я рад кипенью, грохоту и вою. Пускай дрожат натянутой струною И гнутся мачты в космах парусов! Покорный волнам, ветру и прибою, Как смытый куст, по прихоти валов Куда угодно плыть отныне я готов.3
В дни молодости пел я об изгое, Бежавшем от себя же самого. И снова принимаюсь за былое. Ношу с собой героя своего, Как ветер тучи носит, — для чего? Следы минувших слез и размышлений Отливом стерты, прошлое мертво, И дни влекутся к той, к последней смене Глухой пустынею, где ни цветка, ни тени.4
С уходом милой юности моей Каких-то струн в моей душе не стало, И лиры звук фальшивей и тусклей. Но если и не петь мне, как бывало, Пою, чтоб лира сон мой разогнала, Себялюбивых чувств бесплодный сон. И я от мира требую так мало: Чтоб автора забвенью предал он, Хотя б его герой был всеми осужден.5
Кто жизнь в ее деяниях постиг, Кем долгий срок в земной юдоли прожит, Кто ждать чудес и верить в них отвык, Чье сердце жажда славы не тревожит И ни любовь, ни ненависть не гложет, Тому остался только мир теней, Где мысль уйти в страну забвенья может, Где ей, гонимой, легче и вольней Меж зыбких образов, любимых с давних дней.6
Их удержать, облечь их в плоть живую, Чтоб тень была живее нас самих, Чтоб в слове жить, над смертью торжествуя, — Таким увидеть я хочу мой стих. Пусть я ничтожен — на крылах твоих, О мысль, твоим рожденьем ослепленный, Но вдруг прозрев незримо для других, Лечу я ввысь, тобой освобожденный, От снов бесчувственных для чувства пробужденный.7
Безумству мысли надобна узда. Я мрачен был, душой печаль владела. Теперь не то! В минувшие года Ни в чем не ставил сердцу я предела. Фантазия виденьями кипела, И ядом стал весны моей приход. Теперь душа угасла, охладела, Учусь терпеть неотвратимый гнет И не корить судьбу, вкушая горький плод.8
На этом кончим! Слишком много строф О той поре, уже невозвратимой. Из дальних странствий под родимый кров Гарольд вернулся, раною томимый, Хоть не смертельной, но неисцелимой. Лишь Временем он сильно тронут был. Уносит бег его неумолимый Огонь души, избыток чувств и сил, И, смотришь, пуст бокал, который пеной бил.9
До срока чашу осушив свою И ощущая только вкус полыни, Он зачерпнул чистейшую струю, Припав к земле, которой чтил святыни, — Он думал, ключ неистощим отныне, Но вскоре снова стал грустней, мрачней И понял вдруг в своем глубоком сплине, Что нет ему спасенья от цепей, Врезающихся в грудь все глубже, все больней.10
В скитаньях научившись хладнокровью, Давно считая, что страстями сыт, Что навсегда простился он с любовью И равнодушье, как надежный щит, От горя и от радости хранит, Чайльд ищет вновь средь вихря светской моды, В толкучке зал, где суета кипит, Для мысли пищу, как в былые годы, — Под небом стран чужих, среди чудес природы.11
Но кто ж, прекрасный увидав цветок, К нему с улыбкой руку не протянет? Пред красотой румяных юных щек Кто не поймет, что сердца жар не вянет? Желанье славы чьей души не ранит, Чьи мысли не пленит ее звезда? И снова Чайльд пустым круженьем занят И носится, как в прежние года, Лишь цель его теперь достойней, чем тогда.12
Но видит он опять, что не рожден Для светских зал, для чуждой их стихии, Что подчинять свой ум не может он, Что он не может мыслить, как другие, И хоть сжигала сердце в дни былые Язвительная мысль его, но ей Он мненья не навязывал чужие, И в гордости безрадостной своей Он снова ищет путь — подальше от людей.13
Среди пустынных гор его друзья, Средь волн морских его страна родная, Где так лазурны знойные края, Где пенятся буруны, набегая. Пещеры, скалы, чаща вековая — Вот чей язык в его душе поет. И свой родной для новых забывая, Он книгам надоевшим предпочтет Страницы влажные согретых солнцем вод.14
Он, как халдей{184}, на звезды глядя ночью И населяя жизнью небосвод, Тельца{185}, Дракона{186} видеть мог воочью. Он был бы счастлив за мечтой в полет И душу устремить. Но прах телесный Пылать бессмертной искре не дает, Как не дает из нашей кельи тесной, Из тяжких пут земных взлететь в простор небесный15
Среди людей молчит он, скучен, вял, Но точно сокол, сын нагорной чащи, Отторгнутый судьбой от вольных скал, С подрезанными крыльями сидящий И в яростном бессилии все чаще Пытающийся проволочный свод Ударами груди кровоточащей Разбить и снова ринуться в полет, — Так мечется в нем страсть, не зная, где исход.16
И вновь берет он посох пилигрима, Чтобы в скитаньях сердце отошло. Пусть это рок, пусть жизнь проходит мимо. Презренью и отчаянью назло Он призовет улыбку на чело. Как в миг ужасный кораблекрушенья Матросы хлещут спирт — куда ни шло! — И с буйным смехом ждут судеб свершенья, Так улыбался Чайльд, не зная утешенья.17
{187}
Ты топчешь прах Империи{188}, — смотри! Тут Славу опозорила Беллона{189}. И не воздвигли статую цари? Не встала Триумфальная колонна? Нет! Но проснитесь, — Правда непреклонна: Иль быть Земле и до скончанья дней Все той же? Кровь удобрила ей лоно, Но мир на самом страшном из полей С победой получил лишь новых королей{190}.18
О Ватерлоо{191}, Франции могила! Гарольд стоит над кладбищем твоим. Он бил, твой час, — и где ж Величье, Сила? Все — Власть и Слава — обратилось в дым. В последний раз, еще непобедим, Взлетел орел — и пал с небес пронзенный, И, пустотой бесплодных дней томим, Влачит он цепь над бездною соленой{192}, — Ту цепь, которой мир душил закабаленный.19
Урок достойный. Рвется пленный галл{193}, Грызет узду, но где триумф Свободы? Иль кровь лилась, чтоб он один лишь пал, Или, уча монархов чтить народы, Изведал мир трагические годы, Чтоб вновь попрать для рабства все права, Забыть, что все равны мы от природы? Как? Волку льстить, покончив с мощью Льва? Вновь славить троны? — Славь, но испытай сперва.20
То смерть не тирании — лишь тирана. Напрасны были слезы нежных глаз Над прахом тех, чей цвет увял так рано, Чей смелый дух безвременно угас. Напрасен был и страх, томивший нас, Мильоны трупов у подножья трона, Союз народов, что Свободу спас, — Нет, в миртах меч — вот лучший страж Закона. Ты, меч Гармодия, меч Аристогитона{194}!21
В ночи огнями весь Брюссель сиял.{195} Красивейшие женщины столицы И рыцари стеклись на шумный бал. Сверкают смехом праздничные лица. В такую ночь все жаждет веселиться, На всем — как будто свадебный наряд. Глаза в глазах готовы раствориться, Смычки блаженство томное сулят. Но что там? Странный звук! — Надгробный звон? Набат?22
Ты слышал? — Нет! А что? — Гремит карета, Иль просто ветер ставнями трясет. Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета, Настал любви и радости черед. Они ускорят времени полет. Но тот же звук! Как странно прогудело! И словно вторит эхом небосвод. Опять? Все ближе! А, так вот в чем дело! К оружью! Пушки бьют! И все вдруг закипело.23
В одной из зал стоял перед окном Брауншвейгский герцог{196}. Первый в шуме бала Услышал он тот странный дальний гром И, хоть кругом веселье ликовало, Он понял: Смерть беспечных вызывала! И, вспомнив, как погиб его отец, Вскочил, как от змеиного ужала, И на коня! И умер как храбрец! Он, кровью мстя за кровь, нашел в бою конец.24
Все из дворца на улицу спешат, И хмель слетает с тех, кто были пьяны. И бледны щеки те, что час назад От нежной лести были так румяны. Сердцам наносят тягостные раны Слова прощанья, страх глядит из глаз. Кто угадает жребий свой туманный, Когда в ночи был счастьем каждый час, Но ужасом рассвет пирующих потряс.25
Военные бегут со всех сторон, Проносятся связные без оглядки, Выходит в поле первый эскадрон, Командой прерван сон пехоты краткий, И боевые строятся порядки. А барабан меж тем тревогу бьет, Как будто гонит мужества остатки. Толпа все гуще, в панике народ, И губы бледные твердят: «Враг! враг идет!»26
Но грянул голос: «Кемроны, за мной!»{197} Клич Лохьела{198}, что, кланы созывая, Гнал гордых саксов с Элбина{199} долой; Подъемлет визг волынка боевая, Тот ярый дух в шотландцах пробуждая, Что всем врагам давать отпор умел, — То кланов честь, их доблесть родовая, Дух грозных предков и геройских дел, Что славой Эвана и Дональда{200} гремел.27
Вот принял их Арденн{201} зеленый кров, От слез природы влажные дубравы. Ей ведом жребий юных смельчаков; Как смятые телами павших травы, К сырой земле их склонит бой кровавый. Но май придет — и травы расцвели, А те, кто с честью пал на поле славы, Хоть воплощенной доблестью пришли, Истлеют без гробов в объятиях земли.28
День видел блеск их жизни молодой, Их вечер видел среди гурий бала, Их ночь видала собранными в строй, И сильным войском утро увидало. Но в небе туча огненная встала, Извергла дым и смертоносный град, И что цвело — кровавой грязью стало, И в этом красном месиве лежат Француз, германец, бритт — на брата вставший брат.29
Воспет их подвиг был и до меня,{202} Их новое восславит поколенье, Но есть один средь них — он мнe родня, — Его отцу нанес я оскорбленье{203}. Теперь, моей ошибки в искупленье, Почту обоих. Там он был в строю. Он грудью встретил вражье наступленье И отдал жизнь и молодость свою. Мой благородный друг, мой Говард, пал в бою.30
Все плакали о нем, лишь я не мог, А если б мог, так что бы изменилось? Но стоя там, где друг мой в землю слег, Где — вслед за ним увядшая — склонилась Акация, а поле колосилось, Приветствуя и солнце и тепло, — Я был печален: сердце устремилось От жизни, от всего, что вновь цвело, К тем, воскресить кого ничто уж не могло.31
Их тысячи — и тысячи пустот Оставил сонм ушедших за собою. Их не трубою Славы воззовет Великий день, назначенный судьбою, Но грозного архангела трубою. О, если б дать забвение живым! Но ведь и Слава не ведет к покою: Она придет, уйдет, пленясь другим, — А близким слезы лить о том, кто был любим.32
Но слезы льют с улыбкою сквозь слезы: Дуб долго сохнет прежде, чем умрет, В лохмотьях парус, киль разбили грозы, И все же судно движется вперед. Гниют подпоры, но незыблем свод, Зубцы ломает вихрь, но крепки стены, И сердце, хоть разбитое, живет И борется в надежде перемены. Так солнце застит мгла, но день прорвется пленный.33
Так — зеркало, где образ некий зрим: Когда стеклу пора пришла разбиться, В любом осколке, цел и невредим, Он полностью, все тот же, отразится. Он и в разбитом сердце не дробится, Где память об утраченном жива. Душа исходит кровью, и томится, И сохнет, как измятая трава, Но втайне, но без слов, — да и на что слова?34
В отчаянье есть жизнь — пусть это яд, — Анчара корни только ядом жили. Казалось бы, и смерти будешь рад, Коль жизнь тяжка. Но, полный смрадной гнили, Плод Горя всеми предпочтен могиле. Так яблоки на Мертвом море есть, В них пепла вкус, но там их полюбили. Ах, если б каждый светлый час зачесть, Как целый год, — кто б жил хотя б десятков шесть?35
Псалмист измерил наших дней число{204}, И много их, — мы в жалобах не правы, Но Ватерлоо тысячи смело, Прервав ужасной эпопеи главы. Его для поэтической забавы Потомки звучно воспоют в стихах: «Там взяли верх союзные державы, Там были наши прадеды в войсках!» Вот все, чем этот день останется в веках.36
Сильнейший там, но нет, не худший пал{205}. В противоречьях весь, как в паутине, Он слишком был велик и слишком мал, А ведь явись он чем-то посредине, Его престол не дрогнул бы доныне Иль не воздвигся б вовсе. Дерзкий пыл Вознес его и приковал к пучине, И вновь ему корону возвратил{206}, Чтоб, театральный Зевс, опять он мир смутил.37
Державный пленник, бравший в плен державы, Уже ничтожный, потерявший трон, Ты мир пугаешь эхом прежней славы. Ее капризом был ты вознесен, И был ей люб свирепый твой закон. Ты новым богом стал себе казаться, И мир, охвачен страхом, потрясен, Готов был заклеймить, как святотатца Любого, кто в тебе дерзнул бы сомневаться.38
Сверхчеловек, то низок, то велик, Беглец, герой, смиритель усмиренный, Шагавший вверх по головам владык, Шатавший императорские троны, Хоть знал людей ты, знал толпы законы, Не знал себя, не знал ты, где беда, И, раб страстей, кровавый жрец Беллоны, Забыл, что потухает и звезда И что дразнить судьбу не надо никогда.39
Но, презирая счастья перемены, Врожденным хладнокровием храним, Ты был незыблем в гордости надменной, И, мудрость это иль искусный грим, — Бесил врагов достоинством своим, Тебя хотела видеть эта свора Просителем, униженным, смешным, Но, не склонив ни головы, ни взора, Ты ждал с улыбкою спокойной приговора.40
Мудрец в несчастье! В прежние года Ты презирал толпы покорной мненье. Весь род людской ты презирал тогда, Но слишком явно выражал презренье. Ты был в нем прав, но вызвал раздраженье Тех, кто в борьбе возвысил жребий твой: Твой меч нанес тебе же пораженье. А мир — не стоит он игры с судьбой! И это понял ты, как все, кто шел с тобой.41
Когда б стоял и пал ты одинок, Как башня, с гор грозящая долинам, Щитом презренье ты бы сделать мог, Но средь мильонов стал ты властелином, Ты меч обрел в восторге толп едином, А Диогеном{207} не был ты рожден, Ты мог скорее быть Филиппа сыном{208}, Но, циник, узурпировавший трон, Забыл, что мир велик и что не бочка он.42
Спокойствие для сильных духом — ад. Ты проклят был: ты жил дерзаньем смелым, Огнем души, чьи крылья ввысь манят, Ее презреньем к нормам закоснелым, К поставленным природою пределам. Раз возгорясь, горит всю жизнь она, Гоня покой, живя великим делом, Неистребимым пламенем полна, Для смертных роковым в любые времена.43
Им порожден безумцев род жестокий, С ума сводящий тысячи людей: Вожди, сектанты, барды и пророки, Творцы систем, апостолы идей, Счастливцы? Нет! Иль счастье им не лгало? Людей дурача, всех они глупей. И жажды власти Зависть бы не знала, Узнав, как жалит их душевной муки жало.44
Их воздух — распря, пища их — борьба. Крушит преграды жизнь их молодая, В полете настигает их судьба, В их фанатизме — сила роковая. А если старость подошла седая И скуки и бездействия позор — Их смелый дух исчахнет, увядая: Так догорит без хвороста костер, Так заржавеет меч, когда угас раздор.45
Всегда теснятся тучи вкруг вершин, И ветры хлещут крутизну нагую. Кто над людьми возвысится один, Тому идти сквозь ненависть людскую. У ног он видит землю, синь морскую И солнце славы — над своим челом. А вьюга свищет песню колдовскую, И грозно тучи застят окоем: Так, яростный, как смерч, вознагражден подъем.46
Вернемся к людям! Истина таится В ее твореньях, да еще в твоих, Природа-мать! И там, где Рейн струится, Тебя не может не воспеть мой стих. Там средоточье всех красот земных. Чайльд видит рощи, горы и долины, Поля, холмы и виноград на них, И замки, чьи угасли властелины, Печали полные замшелые руины.47
Они, как духи гордые, стоят, И сломленные, высясь над толпою. В их залах ветры шалые свистят, Их башни дружат только меж собою, Да с тучами, да с твердью голубою. А в старину бывало здесь не так: Взвивался флаг, труба сзывала к бою. Но спят бойцы, истлел и меч и стяг, И в стены черные не бьет тараном враг.48
Меж этих стен гнездился произвол, Он жил враждой, страстями и разбоем. Иной барон вражду с соседом вел, Но мнил себя не богом, так героем, А впрочем, не хватало одного им: Оплаченных историку похвал Да мраморной гробницы, но, не скроем, — Иной, хоть маломощный, феодал Подчас величьем дел и помыслов блистал.49
В глухих трущобах, в замке одиноком Не каждый подвиг находил певца. Амур, в своем неистовстве жестоком, Сквозь панцири вторгался в их сердца, Эмблема дамы на щите бойца Тогда была как злобы дух ужасный. И войнам замков не было конца, И, вспыхнув из-за грешницы прекрасной, Глядел не раз пожар на Рейн, от крови красный,50
О Рейн, река обилья и цветенья, Источник жизни для своей страны! Ты нес бы вечно ей благословенье, Когда б не ведал человек войны, И никогда никем не сметены, Твои дары цвели, напоминая, Что знали рай земли твоей сыны. И я бы думал: ты посланник рая, Когда б ты Летой был… — Но ты река другая.51
Хоть сотни раз кипела здесь война, Но слава битв и жертвы их забыты. По грудам тел, по крови шла она, Но где они? Твоей волною смыты. Твои долины зеленью повиты, В тебе сияет синий небосклон, И все же нет от прошлого защиты. Его, как страшный, неотвязный сои, Не смоет даже Рейн, хоть чист и светел он.52
В раздумье дальше странник мой идет, Глядит на рощи, на холмы, долины. Уже весна свой празднует приход, Уже от этой радостной картины Разгладились на лбу его морщины. Кого ж не тронет зрелище красот? И то и дело, пусть на миг единый, Хотя не сбросил он душевный гнет, В глазах безрадостных улыбка вдруг мелькнет.53
И вновь к любви мечты его летят, Хоть страсть его в своем огне сгорела. Но длить угрюмость, видя нежный взгляд, Но чувство гнать — увы, пустое дело! В свой час и тот, чье сердце охладело, На доброту ответит добротой. А в нем одно воспоминанье тлело: О той одной, единственной, о той, Чьей тихой верности он верен был мечтой.54
Да, он любил (хотя несовместимы Любовь и холод), он тянулся к ней. Что привлекло характер нелюдимый, Рассудок, презирающий людей? Чем хмурый дух, бегущий от страстей, Цветенье первой юности пленило? Не знаю. — В одиночестве быстрей Стареет сердце, чувств уходит сила, И в нем, бесчувственном, одно лишь чувство жило.55
Она — дитя! — тем существом была, Которое не церковь с ним связала. Но связь была сильней людского зла И маску пред людьми не надевала. И даже сплетни многоликой жало, И клевета, и чары женских глаз — Ничто незримых уз не разрушало. И Чайльд-Гарольд стихами как-то раз С чужбины ей привет послал в вечерний час. Над Рейном Драхенфельс{209} вознесся, Венчанный замком, в небосвод, А у подножия утеса Страна ликует и цветет. Леса, поля, холмы и нивы Дают вино, и хлеб, и мед, И города глядят в извивы Широкоструйных рейнских вод. Ах, в этой радостной картине Тебя лишь не хватает ныне. Сияет солнце с высоты, Крестьянок праздничны наряды. С цветами, сами как цветы, Идут, и ласковы их взгляды. И красоте земных долин Когда-то гордые аркады И камни сумрачных руин Дивятся с каменной громады. Но нет на Рейне одного: Тебя и взора твоего. Тебе от Рейна в час печали Я шлю цветы как свой привет. Пускай они в пути увяли, Храни безжизненный букет. Он дорог мне, он узрит вскоре Твой синий взор в твоем дому. Твое он сердце через море Приблизит к сердцу моему, Перенесет сквозь даль морскую Сюда, где о тебе тоскую. А Рейн играет и шумит, Дарит земле свои щедроты, И всякий раз чудесный вид Являют русла повороты. Тут все тревоги, все заботы Забудешь в райской тишине, Где так милы земли красоты Природе-матери и мне. И мне! Но если бы при этом Твой взор светил мне прежним светом!56
Под Кобленцем{210} есть холм, и на вершине Простая пирамида из камней. Она не развалилась и доныне, И прах героя погребен под ней. То был наш враг Марсо{211}, но тем видней Британцу и дела его, и слава. Его любили — где хвала верней Солдатских слез, пролитых не лукаво? Он пал за Францию, за честь ее и право.57
Был горд и смел его короткий путь. Две армии — и друг и враг — почтили Его слезами. Странник, не забудь Прочесть молитву на его могиле! Свободы воин, был он чужд насилий Во имя справедливости святой, Для чьей победы мир в крови топили. Он поражал душевной чистотой. За это и любил его солдат простой.58
Вот Эренбрейтштейн{212} — замка больше нет. Его донжоны взрывом разметало. И лишь обломки — память прежних лет, Когда ни стен, ни каменного вала Чугунное ядро не пробивало. В дыму войны отсюда враг бежал. Но мир низверг твердыню феодала: Где град железный тщетно грохотал, Там хлещет летний дождь в проломы хмурых зал.59
Прощай, о Рейн! В далекий путь без цели От милых стран пришельца гонит рок. И те, кто вместе, жить бы здесь хотели, И тот, кто в целом мире одинок. И если бы оставить жертву мог Ужасный коршун самоугрызений — Так только здесь, где каждый уголок И дик и чуден, мил труду и лени, Обилен и богат, и щедр, как день осенний.60
И все ж прости! О, тщетное «прости»! Кто приникал к твоей струе кристальной, Не может образ твой не унести. И если он уйти решил, печальный, Тебе опять он кинет взор прощальный, Стремясь запечатлеть твои черты. Пусть Юг роскошней в мощи изначальной, Где в мире край, который слил, как ты, И славу прошлых дней, и мягкость красоты?61
Уютное величье, — отраженья Домов, церквей и башен городских. Средь рощ и пашен — белые селенья. Там пропасти, там зубья скал нагих — Предвосхищенье крепостей людских. Монастыри с готическим фасадом, А люди — как природа: здесь для них Веселье стало жизненным укладом, Хотя империи катятся в пропасть рядом.62
Но мимо, мимо! Вот громады Альп, Природы грандиозные соборы. Гигантский пик — как в небе снежный скальп. И, как на трон, воссев на эти горы, Блистает Вечность, устрашая взоры. Там край лавин, их громовой исход. Там для души бескрайные просторы, И там земля штурмует небосвод.А что же человек? Чего он, жалкий, ждет?
63
Но прежде чем подняться на высоты, Хочу равнинный восхвалить Морат{213}, Где бой пришельцам дали патриоты И где не покраснеешь за солдат, Хотя ужасен их трофеев склад. Враги свободы, здесь бургундцы пали. Они непогребенные лежат, Их памятником их же кости стали, И внемлет черный Стикс стенаньям их печали.64
Как Ватерлоо повторило Канны{214}, Так повторен Моратом Марафон. Там выиграли битву не тираны, А Вольность, и Гражданство, и Закон. Там граждане сражались не за трон, То не была над слабыми расправа, И не был там народ порабощен, Не проклинал «божественное право», Которым облачен тот, в чьих руках держава.65
В безлюдном одиночестве одна, Грустит колонна у стены замшелой. Величья гибель видела она, И смотрит в Вечность взгляд бесцветно-белый. Как человек от слез окаменелый, И все ж не ставший чувствовать слабей, Она дивится, что осталась целой, Когда Авентик{215}, слава древних дней, Нагроможденьем стал бесформенных камней.66
Здесь Юлия{216} — чья память да святится! — Служенью в храме юность отдала И, небом не услышанная жрица, Когда отца казнили, умерла. Его боготворила, им жила! Но суд закона глух к мольбе невинной, И дочь отцовской жизни не спасла. Без памятника холмик их пустынный, Где сердце спит одно, и прах и дух единый.67
Таких трагедий и таких имен Да не забудет ни один сказитель! Империи уйдут во тьму времен, В безвестность канут раб и победитель, Но высшей добродетели ревнитель В потомстве жить останется навек И взором ясным, новый небожитель, Глядит на солнце, чист, как горный снег, Забыв на высоте всего земного бег.68
Но вот Леман{217} раскинулся кристальный, И горы, звезды, синий свод над ним — Все отразилось в глубине зеркальной, Куда глядит, любуясь, пилигрим. Но человек тут слишком ощутим, А чувства вянут там, где люди рядом. Скорей же в горы, к высям ледяным, К тем мыслям, к тем возвышенным отрадам, Которым чужд я стал, живя с двуногим стадом.69
Замечу кстати: бегство от людей — Не ненависть еще и не презренье. Нет, это бегство в глубь души своей, Чтоб не засохли корни в небреженье Среди толпы, где в бредовом круженье — Заразы общей жертвы с юных лет — Свое мы поздно видим вырожденье, Где сеем зло, чтоб злом ответил свет, И где царит война, но победивших нет.70
Настанет срок — и счастье бросит нас, Раскаянье на сердце ляжет гнетом, Мы плачем кровью. В этот страшный час Все черным покрывается налетом, И жизни путь внезапным поворотом Уводит в ночь. Моряк в порту найдет Конец трудам опасным и заботам, А дух — уплывший в Вечность мореход — Не знает, где предел ее бездонных вод.71
Так что ж, не лучше ль край избрать пустынный И для земли — земле всю жизнь отдать Над Роною{218}, над синею стремниной, Над озером, которое, как мать, Не устает ее струи питать, — Как мать, кормя малютку дочь иль сына, Не устает их нежить и ласкать. Блажен, чья жизнь с Природою едина, Кто чужд ярму раба и трону властелина.72
Я там в себе не замыкаюсь. Там Я часть Природы, я — ее созданье. Мне ненавистны улиц шум и гам, Но моря гул, но льдистых гор блистанье! В кругу стихий мне тяжко лишь сознанье, Что я всего лишь плотское звено Меж тварей, населивших мирозданье, Хотя душе сливаться суждено С горами, звездами иль тучами в одно.73
Но жизнь лишь там. Я был в горах — я жил, То был мой грех, когда в пустыне людной Я бесполезно тратил юный пыл, Сгорал в борьбе бессмысленной и трудной. Но я воспрял. Исполнен силы чудной, Дышу целебным воздухом высот, Где над юдолью горестной и скудной Уже мой дух предчувствует полет, Где цепи сбросит он и в бурях путь пробьет.74
Когда ж, ликуя, он освободится От уз, теснящих крыл его размах, — От низкого что может возродиться В ничтожной форме — в жабах иль жуках, И к свету свет уйдет и к праху прах, Тогда узнаю взором ясновидца Печать бесплотной мысли на мирах. Постигну Разум, что во всем таится И только в редкий миг снисходит нам открыться.75
Иль горы, волны, небеса — не часть Моей души, а я — не часть вселенной? И, к ним узнав возвышенную страсть, Не лучше ль бросить этот мир презренный, Чем прозябать, душой отвергнув пленной Свою любовь для здешней суеты, И равнодушным стать в толпе надменной, Как те, что смотрят в землю, как скоты, Чья мысль рождается рабою темноты.76
Продолжим нить рассказа моего! Ты, мыслящий над пастью гроба черной О бренности, взгляни на прах того, Кто был как свет, как пламень жизнетворный. Он здесь рожден{219}, и здесь, где ветер горный Бальзамом веет в сердце, он созрел, К вершинам славы шел тропой неторной И, чтоб венчать бессмертьем свой удел, — О, глупость мудреца! — все отдал, чем владел.77
Руссо, апостол роковой печали, Пришел здесь в мир, злосчастный для него, И здесь его софизмы{220} обретали Красноречивой скорби волшебство. Копаясь в ранах сердца своего, Восторг безумья он являл в покровах Небесной красоты, и оттого Над книгой, полной чувств и мыслей новых, Читатель слезы лил{221} из глаз, дотоль суровых.78
Любовь безумье страсти в нем зажгла, — Так дуб стрела сжигает громовая. Он ею был испепелен дотла, Он не умел любить, не погибая. И что же? Не красавица живая, Не тень усопшей, вызванная сном, Его влекла, в отчаянье ввергая, — Нет, чистый образ, живший только в нем, Страницы книг его зажег таким огнем.79
Тот пламень — чувство к Юлии прекрасной, Кто всех была и чище и нежней, То поцелуев жар, увы, напрасный, Лишь отклик дружбы находивший в ней, Но, может быть, в унынье горьких дней Отрадой мимолетного касанья Даривший счастье выше и полней, Чем то, каким — ничтожные созданья! — Мы упиваемся в восторгах обладанья.80
Всю жизнь он создавал себе врагов, Он гнал друзей, любовь их отвергая. Весь мир подозревать он был готов. На самых близких месть его слепая Обрушивалась, ядом обжигая, — Так светлый разум помрачала тьма. Но скорбь виной, болезнь ли роковая? Не может проницательность сама Постичь безумие под маскою ума.81
И, молнией безумья озаренный, Как пифия на троне золотом{222}, Он стал вещать, и дрогнули короны, И мир таким заполыхал огнем, Что королевства, рушась, гибли в нем. Не так ли было с Францией, веками Униженной, стонавшей под ярмом, Пока не поднял ярой мести знамя Народ, разбуженный Руссо с его друзьями{223}.82
И страшен след их воли роковой. Они сорвали с Правды покрывало, Разрушив ложных представлений строй, И взорам сокровенное предстало. Они, смешав Добра и Зла начала, Все прошлое низвергли. Для чего? Чтоб новый трон потомство основало. Чтоб выстроило тюрьмы для него, И мир опять узрел насилья торжество{224}.83
Так не должно, не может долго длиться. Народ восстал, оковы сбросил он, Но не сумел в свободе утвердиться. Почуяв силу, властью ослеплен, Забыл он все — и жалость и закон. Кто рос в тюрьме, во мраке подземелий, Не может быть орлу уподоблен, Чьи очи в небо с первых дней глядели, — Вот отчего он бьет порою мимо цели.84
Чем глубже рана, тем упорней след. Пускай из сердца кровь уже не льется, Рубец остался в нем на много лет. Но тот, кто знал, за что с судьбою бьется, Пусть бой проигран, духом не сдается. Страсть притаилась и безмолвно ждет. Отчаянью нет места. Все зачтется В час торжества. Возмездие придет. Но Милосердье пусть проверит Мести счет.85
Леман! Как сладок мир твой для поэта, Изведавшего горечь бытия! От шумных волн, от суетного света К тебе пришел я, горная струя. Неси ж меня, заветная ладья! Душа отвергла сумрачное море Для светлых вод, и мнится, слышу я, Сестра, твой голос в их согласном хоре: «Вернись! Что ищешь ты в бушующем просторе?»86
Нисходит ночь. В голубоватой мгле Меж берегом и цепью гор окрестной Еще все ясно видно на земле. Лишь Юра{225}, в тень уйдя, стеной отвесной, Вся черная, пронзила свод небесный. Цветов неисчислимых аромат Восходит ввысь. Мелодией чудесной Разносится вечерний звон цикад, И волны шепчутся и плещут веслам в лад.87
По вечерам цикада веселится И жизнью детства шумного живет. Вот залилась и вдруг умолкла птица, Иль замечтавшись, иль уснув. А вот Неясный шепот от холмов идет. Нет, слух обманут! — Это льют светила (Как девушка о милом слезы льет) Росу, чтоб грудь земную напоила, Живущей в них души сочувственная сила.88
О звезды, буквы золотых письмен Поэзии небесной! В них таится И всех миров, и всех судеб закон. И тот, чей дух к величию стремится, К ним рвется ввысь, чтоб с ними породниться. В них тайна, ими движет Красота. И все, чем может человек гордиться, «Своей звездой» зовет он неспроста, — То честь и счастье, власть и слава, и мечта.89
Земля и небо смолкли. Но не сон — Избыток чувств их погрузил в мечтанье. И тишиною мир заворожен. Земля и небо смолкли. Гор дыханье, Движенье звезд, в Лемане — волн плесканье, — Единой жизнью все напоено. Все существа, в таинственном слиянье, В едином хоре, — говорят одно: «Я славлю мощь творца, я им сотворено».90
И, влившись в бесконечность бытия, Не одинок паломник одинокий, Очищенный от собственного «я», Здесь каждый звук, и близкий и далекий, Таит всемирной музыки истоки, — Дух Красоты, что в бег миров ввела И твердь земли, и неба свод высокий, И пояс Афродиты{226} создала, Которым даже Смерть побеждена была.91
Так чувствовали персы в оны дни, На высях гор верша богослуженье. Лицом к лицу с природою они В молитве принимали очищенье — Не средь колонн, не в тесном огражденье. Сравни тот храм, что строил грек иль гот, С молельнею под небом, в окруженье Лесов и гор, долин и чистых вод, Где не стеснен души возвышенный полет.92
Но как темнеет! Свет луны погас. Летят по небу грозовые тучи. Подобно блеску темных женских глаз, Прекрасен блеск зарницы. Гром летучий Наполнил все: теснины, бездны, кручи. Горам, как небу, дан живой язык, Разноречивый, бурный и могучий, Ликуют Альпы в этот грозный миг, И Юра в ночь, в туман им шлет ответный клик.93
Какая ночь! Великая, святая, Божественная ночь! Ты не для сна! Я пью блаженство грозового рая, Я бурей пьян, которой ты полна. О, как фосфоресцирует волна! Сверкая, пляшут капли дождевые. И снова тьма, и, вновь озарена, Гудит земля, безумствуют стихии, И сотрясают мир раскаты громовые.94
Здесь, между двух утесистых громад, Проложен путь беснующейся Роной. Утесы, как любовники, стоят, Когда они любовью оскорбленной И злобой, в пепле нежности рожденной, Как бездною, разделены навек, И май сердец, в цвету испепеленный, Две жизни ввергнул в вечный лед и снег И на сердечный ад изгнанников обрек.95
Где Рона буйно об утесы бьет, Там ярых бурь приют оледенелый. Их сонмы там — и там передает Одна другой пылающие стрелы. Вот вспыхнул сноп, извилистый и белый, И, раздвоившись, ринулся в пролет. Он понял: там Отчаянья пределы, Там все разрушил Времени полет, Так пусть же молния последнее убьет.96
Ночь, буря, тучи, взрывы молний, гром, Река, утесов черные громады, Душа, в грозе обретшая свой дом, — До сна ли здесь? — Грохочут водопады, И сердца струны откликаться рады Родным бессонной мысли голосам. Куда ты, буря, гонишь туч армады? Иль бурям сердца ты сродни? Иль там, Среди орлиных гнезд, твой облачный сезам?97
О, если бы нашел я воплощенье И выразил хотя б не все, хоть часть Того, что значит чувство, увлеченье, Дух, сердце, разум, слабость, сила, страсть. И если б это все могло совпасть В едином слове «молния» и властно Сказало бы, что жить дана мне власть, — О, я б заговорил! — но ждать напрасно: Как скрытый в ножнах меч, зачахнет мысль безгласно.98
Восходит утро, — утро, все в росе, Душисто, ярко и, как розы, ало, И так живит, рассеяв тучи все, Как будто смерти на земле не стало. Но вот и день! И снова все сначала: Тропою жизни — дальше в путь крутой! Лемана зыбь, деревьев опахала — Все будит мысль и говорит с мечтой, Вливая в путника отраду и покой.99
Кларан, Кларан! Приют блаженства милый! Твой воздух весь любовью напоен. Любовь дает корням деревьев силы, Снегов альпийских озаряет сон. Любовью предвечерний небосклон Окрашен, и утесы-великаны Хранят покой влюбленного, чтоб он Забыл и свет, и все его обманы, Надежды сладкий зов, ее крушений раны.100
В Кларане всё{227} — любви бессмертной след, Она везде, как некий бог, который Дарует тварям жизнь, добро и свет. Здесь трон его, ступени к трону — горы, Он радужные дал снегам уборы, Он в блеске зорь, он в ароматах роз, Его, ликуя, славят птичьи хоры, И шорох трав, и блестки летних рос, И веянье его смиряет ярость гроз.101
Все — гимн ему. И темных сосен ряд Над черной бездной — сень его живая, — И звонкий ключ, и рдяный виноград, И озеро, где нежно-голубая, К его стопам незримым припадая, Поет волна, и тень седых лесов, Где зелень, как Веселье, молодая, Ему и всем, кто с ним прийти готов, В безлюдной тишине дарит радушный кров.102
Там среди пчел и птиц уединенье, Мир многоцветен там и многолик, Там краткой жизни радостно кипенье, И бессловесный ярче слов язык. Вот сквозь листву горячий луч проник, В ручье проворном блики заблестели, И Красота во всем, и ты постиг, Что этот запах, краски, свист и трели — Все создала Любовь для некой высшей цели.103
Кто гнал любовь, здесь устремится к ней И тайн ее волшебных причастится, А любящий начнет любить сильней И не захочет с пустынью проститься, Куда людскому злу не докатиться. Любовь растет иль вянет. Лишь застой Несвойствен ей. Иль в пепел обратится, Иль станет путеводною звездой, Которой вечен свет, как вечен мира строй.104
Недаром здесь Руссо капризный гений Остановил мечты своей полет И приютил для чистых наслаждений Две избранных души. У этих вод Психеи{228} пояс распустил Эрот, Благословив для счастья эти склоны. Там тишина и нега. Там цветет Гармония. Над ложем светлой Роны Там Альп возносятся блистательные троны.105
Лозанна и Ферней{229}! Святой предел, Где двух титанов обитают тени, Где смертных вел тропой бессмертных дел На штурм небес отважившийся гений. Здесь разум на фундаменте сомнений Дерзнул создать мятежной мысли храм, И если гром не сжег ее творений, Так значит, не впервые небесам Улыбкой отвечать на все угрозы нам.106
Один из них Протей{230} был — вечно новый, Изменчивый, ни в чем не знавший уз, Шутник, мудрец, то кроткий, то суровый, Хронист, философ и любимец муз, Предписывавший миру мненья, вкус, Оружьем смеха исправлявший нравы, Как ветер вольный, истинный француз, Прямой, коварный, добрый, злой, лукавый, Бичующий глупцов, колеблющий державы,107
Другой{231} — пытлив, медлителен, глубок, Упорством мысли изощрял суждения, Оттачивал иронии клинок, Отдав труду ночей бессонных бденья, Насмешкой низвергал предубежденья, И — бог сарказма! — яростью глупцов Был ввергнут в ад на муки искупленья, — Там, если верить россказням попов, Для усомнившихся ответ па все готов.108
Мир спящим! Те, кто кары заслужили, Уже осуждены на небесах. Не нам судить того, кто спит в могиле! Но тайна тайн раскроется — и страх С надеждой вместе ляжет в тлен и прах. А прах, пусть не распался он покуда, Распасться должен, как и всё в гробах, Но если мертвый встанет, — верю в чудо! — Ему простится все, не то — придется худо,109
Но от людских созданий мне пора К созданьям божьим снова обратиться. Уже и так, по прихоти пера, Исписана не первая страница. Вон облаков несется вереница К альпийским льдам, сияющим вдали. Пора и мне к вершинам устремиться, В лазурь, куда их глетчеры ушли, Где духов неба ждут объятия земли.110
А дальше ты, Италия! Бессменно Векам несешь ты свет земли своей — От войн, пресекших дерзость Карфагена{232}, До мудрецов, поэтов и вождей, Чья слава стала славой наших дней. Империй трон, гробница их живая, Не стал твой ключ слабей или мутней. И, жажду знанья вечную питая, Из римских недр бежит его струя святая.111
Я с горьким чувством эту песню пел: Актерствовать, носить чужие лица, Знать, что собой остаться не сумел, И лицедейству каждый миг учиться, На самого себя ожесточиться, Скрывать — о боже! — чувство, мысль и страсть, Гнев, ненависть — все, чем душа томится, И ревности мучительную власть, — Вот что изведал я, что пало мне на часть.112
Не думайте, что это все — слова, Прием литературный, обрамленье Летящих сцен, намеченных едва, Картин, запечатленных мной в движенье, Чтоб вызвать в чьем-то сердце восхищенье; Нет, слава — это молодости бог, А для меня — что брань, что одобренье, Мне безразлично. Так судил мой рок: Забыт ли, не забыт — я всюду одинок.113
Как мир — со мной, так враждовал я с миром, Вниманье черни светской не ловил, Не возносил хвалу ее кумирам, Не слушал светских бардов и сивилл, В улыбке льстивой губы не кривил, Не раз бывал в толпе, но не с толпою, Всеобщих мнений эхом не служил, И так бы жил — но, примирясь с судьбою, Мой разум одержал победу над собою.114
Я с миром враждовал, как мир — со мной. Но, несмотря на опыт, верю снова, Простясь, как добрый враг, с моей страной, Что Правда есть, Надежда держит слово, Что Добродетель не всегда сурова, Не уловленьем слабых занята, Что кто-то может пожалеть другого, Что есть нелицемерные уста, И Доброта — не миф, и Счастье — не мечта.115
Дочурка Ада{233}! именем твоим В конце я песнь украшу, как в начале. Мне голос твой неслышен, взор незрим, Но ты мне утешение в печали. И где б мои стихи ни прозвучали, — Пускай нам вместе быть не суждено, — Из чуждых стран, из замогильной дали К тебе — хотя б мой прах истлел давно — Они придут, как вихрь, ворвавшийся в окно.116
Следить, как начинаешь ты расти, Знакомишься с вещами в удивленье, И первые шаги твои вести, И видеть первых радостей рожденье, Ласкать тебя, сажая на колени, Целуя глазки, щечки — таково, Быть может, и мое предназначенье? И сердце шепчет: да! Но что с того? Я это счастье знал — я потерял его.117
И все же ты со мною, ты не с ними, Ты будешь, ты должна меня любить! Пускай они мое бесчестят имя, Сведут в могилу, — им не разрубить Отца и дочь связующую нить. В дочерних венах всей их камарилье Кровь Байрона другой не заменить. И как бы тень мою ни очернили, Твоя любовь придет грустить к моей могиле.118
Дитя любви! Ты рождена была В раздоре, в помраченьях истерии, И ты горишь, но не сгоришь дотла, И не умрут надежды золотые, Как умерли мои во дни былые. Спи сладко! С этих царственных высот, Где воскресаешь, где живешь впервые, Тебя, дитя, благословляет тот, Кто от тебя самой благословенья ждет.«Паломничество Чайльд-Гарольда»
Песнь четвертая
Visto ho Toscana, Lombardia, Romagna, Quel monte che divide, e quel che serra Italia, e un mare e l’altro, che la bagna.
Ariosto, Satira III [10].{234}
Джону Хобхаузу{235}, эсквайру{236}.
Венеция, 2 января 1818 г.
Мой дорогой Хобхауз!
Восемь лет прошло между созданием первой и последней песни «Чайльд-Гарольда», и теперь нет ничего удивительного в том, что, расставаясь с таким старым другом, я обращаюсь к другому, еще более старому и верному, — который видел рождение и смерть того, второго, и пред которым я еще больше в долгу за все, что дала мне в общественном смысле его просвещенная дружба, — хотя не мог не заслужить моей признательности и Чайльд-Гарольд, снискавший благосклонность публики, перешедшую с поэмы на ее автора, — к тому, с кем я давно знаком и много путешествовал, кто выхаживал меня в болезни и утешал в печали, радовался моим удачам и поддерживал в неудачах, был мудр в советах и верен в опасностях, — к моему другу, такому испытанному и такому нетребовательному, — к вам.
Тем самым я обращаюсь от поэзии к действительности и, посвящая вам в завершенном или, по крайней мере, в законченном виде мою поэму, — самое большое, самое богатое мыслями и наиболее широкое по охвату из моих произведений, — я надеюсь повысить цену самому себе рассказом о многих годах интимной дружбы с человеком образованным, талантливым, надежным и честным. Таким людям, как мы с вами, не пристало ни льстить, ни выслушивать лесть. Но искренняя похвала всегда позволена голосу дружбы. И совсем не ради вас, и даже не для других, но только для того, чтобы дать высказаться сердцу, ни прежде, ни потом не встречавшему доброжелателя, союзника в битвах с судьбой, — я подчеркиваю здесь ваши достоинства, вернее преимущества, воздействие которых я испытал на себе. Даже дата этого письма, годовщина самого несчастного дня моей прошлой жизни{237}, — которая, впрочем, пока меня поддерживает ваша дружба и мои собственные способности, не может отравить мое будущее — станет отныне приятней нам обоим, ибо явится напоминанием о моей попытке выразить вам благодарность за неустанную заботу, равную которой немногим довелось повстречать, а кто встретил, тот безусловно начал лучше думать и обо всем человеческом роде, и о себе самом.
Нам посчастливилось проехать вместе, хотя и с перерывами, страны рыцарства, истории и легенды — Испанию, Грецию, Малую Азию и Италию; и чем были для нас несколько лет назад Афины и Константинополь, тем стали недавно Венеция и Рим. Моя поэма, или пилигрим, или оба вместе сопровождали меня с начала до конца. И может быть, есть простительное тщеславие в том, что я с удовольствием думаю о поэме, которая в известной степени связывает меня с местами, где она возникала, и с предметами, которые охотно описывала. Если она оказалась недостойной этих чарующих, незабываемых мест, если она слабее наших воспоминаний и непосредственных впечатлений, то как выражение тех чувств, которые вызывало во мне все это великое и прославленное, она была для меня источником наслаждений, когда писалась, и я не подозревал, что предметы, созданные воображением, могут внушить мне сожаление о том, что я с ними расстаюсь.
В последней песни пилигрим появляется реже, чем в предыдущих, и поэтому он менее отделим от автора, который говорит здесь от своего собственного лица. Объясняется это тем, что я устал последовательно проводить линию, которую все, кажется, решили не замечать. Подобно тому китайцу в «Гражданине мира» Голдсмита{238}, которому никто не хотел верить, что он китаец, я напрасно доказывал и воображал, будто мне это удалось, что пилигрима не следует смешивать с автором. Но боязнь утерять различие между ними и постоянное недовольство тем, что мои усилия ни к чему не приводят, настолько угнетали меня, что я решил затею эту бросить — и так и сделал. Мнения, высказанные и еще высказываемые по этому поводу, теперь уже не представляют интереса: произведение должно зависеть не от автора, а от самого себя. Писатель, не находящий в себе иных побуждений, кроме стремления к успеху, минутному или даже постоянному, успеху, который зависит от его литературных достижений, заслуживает общей участи писателей.
Мне хотелось коснуться в следующей песни, либо в тексте, либо в примечаниях современного состояния итальянской литературы, а может быть, также и нравов. Но вскоре я убедился, что текст, в поставленных мною границах, едва ли может охватить всю путаницу внешних событий и вызываемых ими размышлений. Что же касается примечаний, которыми я, за немногими исключениями, обязан вашей помощи, то их пришлось ограничить только теми, которые служат разъяснению текста.
Кроме того, это деликатная и не очень благодарная задача — говорить о литературе и нравах нации, такой несхожей с собственной. Это требует внимания и беспристрастия и могло бы вынудить нас — хотя мы отнюдь не принадлежим к числу невнимательных наблюдателей и профанов в языке и обычаях народа, среди которого недавно находились, — отнестись с недоверием к собственному суждению или, во всяком случае, отложить его, чтобы проверить свои познания. Разногласия партий, как в политике, так и в литературе, достигли или достигают такого ожесточения, что для иностранца стало почти невозможным сохранять беспристрастность. Достаточно процитировать — по крайней мере для моей цели — то, что было сказано на их собственном прекрасном языке: «Mi pare che in un paese tutto poetico, che vanta la lingua la più nobile ed insieme la più dolce, tutte tutte le vie diverse si possono tentare, e che sinche la patria di Alfieri e di Monti non ha perduto l’antico valore, in tutte essa dovrebbe essere la prima» [11].
Италия продолжает давать великие имена{239} — Канова, Монти, Уго Фосколо, Пиндемонте, Висконти, Морелли, Чиконьяра, Альбрицци, Медзофанти, Маи, Мустоксиди, Альетти и Вакка почти во всех отраслях искусства, науки и литературы обеспечивают нынешнему поколению почетное место, а кое в чем — даже самое высокое: Европа — весь мир — имеют только одного Канову. Альфиери где-то сказал{240}: «La pianta uomo nasce più robusta in Italia che in qualunque altra terra e che gli stessi atroci delitti che vi si commettono ne sorio una prova» [12]. He подписываясь под второй половиной этой фразы, поскольку она представляет собой опасную доктрину, истинность которой можно опровергнуть более сильными доказательствами, хотя бы тем, что итальянцы нисколько не свирепее, чем их соседи, я скажу, что должен быть преднамеренно слепым или просто невежественным тот, кого не поражает исключительная одаренность этого народа, легкость их восприятия, быстрота понимания, пламенность духа, чувство красоты, и, несмотря на неудачи многих революций, военные разрушения и потрясения Истории, — неугасимая жажда бессмертия, — «бессмертия свободы». Когда мы ехали вдвоем вокруг стен Рима и слушали бесхитростную жалобу певших хором крестьян: «Рим! Рим! Рим не тот, каким он был!», трудно было удержаться от сравнения этой грустной мелодии с вакхическим ревом торжествующих песен, которые несутся из лондонских таверн, напоминая о резне при Мон-Сен-Жан{241}, о том, как были преданы Генуя, Италия, Франция, весь мир{242} людьми, поведение которых вы сами описали в произведении, достойном лучших дней нашей истории{243}. А что до меня:
Non movero mai corda Ove la turba di sue ciance assorda[13].Тем, что выиграла Италия при недавнем перемещении наций, англичанам нет нужды интересоваться, пока они не убедятся в том, что Англия выиграла нечто гораздо большее, чем постоянная армия и отмена Habeas corpus{244}. Пока им достаточно заниматься собственными делами. Что касается их действий за рубежами и особенно на Юге, истинно говорю вам, они получат возмездие, и притом — в недалеком будущем.
Желая вам, дорогой Хобхауз, благополучного и приятного возвращения в страну, процветание которой никому не может быть дороже, чем вам, я посвящаю вам эту поэму в ее законченном виде и повторяю, что неизменно остаюсь
Вашим преданным
и любящим другом.
Байрон.
1
В Венеции на Ponte dei Sospiri{245}, Где супротив дворца стоит тюрьма, Где — зрелище единственное в мире! — Из волн встают и храмы и дома, Там бьет крылом История сама, И, догорая, рдеет солнце Славы Над красотой, сводящею с ума, Над Марком{246}, чей, доныне величавый, Лев перестал страшить и малые державы,2
Морей царица, в башенном венце{247}, Из теплых вод, как Анадиомена{248}, С улыбкой превосходства на лице Она взошла, прекрасна и надменна. Ее принцессы принимали вено{249} Покорных стран, и сказочный Восток В полу ей сыпал все, что драгоценно, И сильный князь, как маленький князек, На пир к ней позванный, гордиться честью мог.3
Но смолк напев Торкватовых октав{250}, И песня гондольера отзвучала, Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав, И не тревожит лютня сон канала. Лишь красота Природы не увяла. Искусства гибли, царства отцвели, Но для веков отчизна карнавала Осталась, как мираж в пустой дали, Лицом Италии и празднеством Земли.4
И в ней для нас еще есть обаянье: Не только прошлый блеск, не имена Теней, следящих в горестном молчанье, Как, дожей и богатства лишена{251}, К упадку быстро клонится она, — Иным завоевать она сумела Грядущие века и племена, И пусть ее величье оскудело, Но здесь возникли Пьер, и Шейлок, и Отелло{252}.5
Творенья Мысли — не бездушный прах. Бессмертные, они веков светила, И с ними жизнь отрадней, в их лучах Все то, что ненавистно и постыло, Что в смертном рабстве душу извратило, Иль заглушит, иль вытеснит сполна Ликующая творческая сила, И, солнечна, безоблачно-ясна, Сердцам иссохшим вновь цветы дарит весна.6
Лишь там, средь них, прибежище осталось Для верящих надежде, молодых, Для стариков, чей дух гнетет усталость И пустота. Как множество других, Из этих чувств и мой рождался стих, Но вещи есть, действительность которых Прекрасней лучших вымыслов людских, Пленительней, чем всех фантазий ворох, Чем светлых муз миры и звезды в их просторах.7
Их видел я, иль это было сном? Пришли как явь, ушли как сновиденья. Не знаю, что сказать о них в былом, Теперь они — игра воображенья. Я мог бы вызвать вновь без напряженья И сцен и мыслей, им подобных, рой. Но мимо! Пусть умрут без выраженья! Для разума открылся мир иной. Иные голоса уже владеют мной.8
Я изучил наречия другие, К чужим входил не чужестранцем я. Кто независим, тот в своей стихии, В какие ни попал бы он края, — И меж людей, и там, где нет жилья. Но я рожден на острове Свободы И Разума — там родина моя, Туда стремлюсь! И пусть окончу годы На берегах чужих, среди чужой Природы,9
И мне по сердцу будет та страна, И там я буду тлеть в земле холодной — Моя душа! ты в выборе вольна. На родину направь полет свободный, И да останусь в памяти народной, Пока язык Британии звучит, А если будет весь мой труд бесплодный Забыт людьми, как ныне я забыт, И равнодушие потомков оскорбит10
Того, чьи песни жар в сердцах будили, — Могу ль роптать? Пусть в гордый пантеон Введут других, а на моей могиле Пусть будет древний стих напечатлен: «Среди спартанцев был не лучшим он»{253}. Шипами мной посаженного древа — Так суждено! — я сам окровавлен, И, примирясь, без горечи, без гнева Я принимаю плод от своего посева,11
Тоскует Адриатика-вдова: Где дож, где свадьбы праздник ежегодный? Как символ безутешного вдовства, Ржавеет «Буцентавр»{254}, уже негодный. Лев Марка стал насмешкою бесплодной Над славою, влачащейся в пыли, Над площадью, где, папе неугодный, Склонился император{255}, и несли Дары Венеции земные короли.12
Где сдался шваб{256} — австриец{257} твердо стал. Тот был унижен, этот — на престоле. Немало царств низверг столетий шквал, Немало вольных городов — в неволе. И не один, блиставший в главной роли, Как с гор лавина, сброшенный судьбой, Народ великий гаснет в жалкой доле, — Где Дандоло{258}, столетний и слепой, У византийских стен летящий первым в бой!13
Пусть кони Марка{259} сбруей золотой И бронзой блещут в ясную погоду, Давно грозил им Дориа{260} уздой — И что же? Ныне Габсбургам в угоду Свою тысячелетнюю свободу Оплакивать Венеция должна; О, пусть уйдет, как водоросли в воду, В морскую глубь, в родную глубь она{261}, Коль рабство для нее — спокойствия цена.14
Ей был, как Тиру{262}, дан великий взлет, И даже в кличке выражена сила: «Рассадник львов»{263} прозвал ее народ — За то, что флаг по всем морям носила, Что от Европы турок отразила{264}. О древний Крит, великой Трои брат! В твоих волнах — ее врагов могила. Лепанто, помнишь схватку двух армад? Ни время, ни тиран тех битв не умалят.15
Но статуи стеклянные разбиты, Блистательные дожи спят в гробах, Лишь говорит дворец их знаменитый О празднествах, собраньях и пирах. Чужим покорен меч, внушавший страх, И каждый дом — как прошлого гробница. На площадях, на улицах, мостах Напоминают чужеземцев лица, Что в тягостном плену Венеция томится.16
Когда Афины шли на Сиракузы{265} И дрогнули, быть может, в первый раз, От рабьих пут лишь гимн афинской музы, Стих Еврипида, сотни граждан спас{266}. Их победитель, слыша скорбный глас Из уст сынов афинского парода, От колесницы их отпряг тотчас И вместе с ними восхвалил рапсода, Чьей лирою была прославлена Свобода,17
Венеция! Не в память старины, Не за дела, свершенные когда-то, Нет, цепи рабства снять с тебя должны Уже за то, что и доныне свято Ты чтишь, ты помнишь своего Торквато. Стыд нациям! Но Англии — двойной! Морей царица! Как сестру иль брата, Дитя морей своим щитом укрой. Ее закат настал, но далеко ли твой?18
Венецию любил я с детских дней, Она была моей души кумиром, И в чудный град, рожденный из зыбей, Воспетый Радклиф{267}, Шиллером{268}, Шекспиром, Всецело веря их высоким лирам, Стремился я, хотя не знал его. Но в бедствиях, почти забытый миром, Он сердцу стал еще родней того, Который был как свет, как жизнь, как волшебство.19
Я вызываю тени прошлых лет, Я узнаю, Венеция, твой гений. Я нахожу во всем живой предмет Для новых чувств и новых размышлений. Я словно жил в твоей поре весенней, И эти дни вошли в тот светлый ряд Ничем не истребимых впечатлений, Чей каждый звук, и цвет, и аромат Поддерживает жизнь в душе, прошедшей ад.20
Но где растут стройней и выше ели? На высях гор, где камень да гранит, И где земля от стужи и метели И от альпийских бурь не оградит. И древние утесы им не щит, Стволы их крепнут, корни в твердь пуская, И гор достоин их могучий вид. Им нет соперниц. И, как ель такая, И зреет и растет в борьбе душа людская.21
Возникла жизнь — ей бремя не стряхнуть. Корнями вглубь вонзается страданье В бесплодную, иссушенную грудь. Но что ж — верблюд несет свой груз в молчанье, А волк и при последнем издыханье Не стонет, — но ведь низменна их стать. Так если мы — высокие созданья, Не стыдно ли стонать или кричать? Наложим на уста молчания печать.22
Страданье иль убьет иль умирает. И вновь, невольник призрачных забот, Свой горький путь страдалец повторяет И жизни ткань из той же нити ткет. Другой, устав, узнав душевный гнет И обессилев, падает, в паденье Измяв тростник, неверный свой оплот. А третий мнит найти успокоенье, Чтоб вознестись иль пасть — в добре иль преступленье.23
Но память прошлых горестей и бед Болезненна, как скорпиона жало. Он мал, он еле видим, жгучий след, Но он горит — и надобно так мало, Чтоб вспомнить то, что душу истерзало. Шум ветра — запах — звук — случайный взгляд — Мелькнули — и душа затрепетала, Как будто электрический разряд Ее включает в цепь крушений, слез, утрат.24
Как? Почему? Но кто проникнуть мог Во тьму, где Духа молния родится? Мы чувствуем удар, потом ожог, И от него душа не исцелится. Пустяк, случайность — и всплывают лица, И сколько их, то близких, то чужих, Забытых иль успевших измениться, Любимых, безразличных, дорогих… Их мало, может быть, и все ж, как много их!25
Но в сторону увел я мысль мою. Вернись, мой стих, чтоб созерцать былое, Где меж руин руиной я стою, Где мертвое прекрасно, как живое, Где обрело величие земное В высоких добродетелях оплот, Где обитали боги и герои, Свободные — цари земли и вод, — И дух минувших дней вовеки не умрет.26
Республика царей — иль граждан Рима! Италия, осталась прежней ты, Искусством и Природою любима, Земной эдем, обитель красоты, Где сорняки прекрасны, как цветы, Где благодатны, как сады, пустыни, В самом паденье — дивный край мечты, Где безупречность форм в любой руине Бессмертной прелестью пленяет мир доныне.27
Взошла луна, но то не ночь — закат Теснит ее, полнебом обладая. Как в нимбах славы, Альп верхи горят. Фриулы{269} скрыла дымка голубая. На Западе, как радуга играя, Перемешал все краски небосвод, И день уходит в Вечность, догорая, И, отраженный в глуби синих вод, Как остров чистых душ, Селены{270} диск плывет,28
А рядом с ней звезда — как две царицы На полусфере неба. Но меж гор, На солнце рдея, марево клубится — Там ночи день еще дает отпор, И лишь природа разрешит их спор, А Бренты{271} шум, как плач над скорбной урной, Как сдержанный, но горестный укор, И льнет ее поток темно-лазурный К пурпурным розам, и закат пурпурный29
Багрянцем брызжет в синий блеск воды, И, многоцветность неба отражая, — От пламени заката до звезды, — Вся в блестках вьется лента золотая. Но вскоре тень от края и до края Объемлет мир, и гаснет волшебство. День — как дельфин, который, умирая, Меняется в цветах{272} — лишь для того, Чтоб стать в последний миг прекраснее всего.30
Есть в Аркуа{273} гробница на столбах, Где спит в простом гробу без украшений Певца Лауры одинокий прах. И здесь его паломник славит гений Защитника страны от унижений — Того, кто спас Язык в годину зла, Но ту одну избрал для восхвалений, Кто лавра соименницей была{274} И лавр бессмертия поэту принесла.31
Здесь, в Аркуа, он жил, и здесь сошел он В долину лет под кровлею своей. Зато крестьянин, гордым чувством полон, — А есть ли гордость выше и честней? — К могиле скромной позовет гостей И в скромный домик будет верным гидом. Поэт был сам и ближе и родней Селу в горах с широким, вольным видом, Чем пышным статуям и грозным пирамидам.32
И тот, кто смертность ощутил свою, Приволье гор, укромное селенье Иль пинию, склоненную к ручью, Как дар воспримет, как благословенье. Там от надежд обманутых спасенье, — Пускай жужжат в долинах города, Он не вернется в их столпотворенье, Он не уйдет отсюда никогда. Тут солнце празднично — в его лучах вода,33
Земля и горы, тысячи растений, Источник светлый, — всё твои друзья, Здесь мудрость — и в бездеятельной лени, Когда часы у светлого ручья Текут кристальны, как его струя. Жить учимся мы во дворце убогом, Но умирать — на лоне бытия, Где спесь и лесть остались за порогом, И человек — один и борется лишь с богом34
Иль с демонами Духа, что хотят Ослабить мысль и в сердце угнездиться, Изведавшем печаль и боль утрат, — В том сердце, что, как пойманная птица, Дрожит во тьме, тоскует и томится, И кажется, что ты для мук зачат, Для страшных мук, которым вечно длиться, Что солнце — кровь, земля — и тлен и смрад, Могила — ад, но ад — страшней, чем Дантов ад{275}.35
Феррара{276}! Одиночеству не место В широкой симметричности твоей{277}. Но кто же здесь не вспомнит подлых Эсте, Тиранов, мелкотравчатых князей, Из коих не один был лицедей — То друг искусства, просветитель новый, То, через час, отъявленный злодей, Присвоивший себе венок лавровый, Который до него лишь Дант носил суровый.36
Их стыд и слава — Тассо! Перечти Его стихи, пройди к ужасной клети, Где он погиб, чтобы в века войти, Его Альфонсо{278} кинул в стены эти, Чтоб, ослеплен, безумью брошен в сети, Больничным адом нравственно убит, Он не остался в памяти столетий, Но, деспот жалкий, ты стыдом покрыт, А славу Тассо мир еще и ныне чтит,37
Произнося с восторгом это имя, Твое же, сгнив, забылось бы давно, Когда бы злодеяньями своими, Как мерзкое, но прочное звено, В судьбу поэта не вплелось оно. И, облаченный княжеским нарядом, Альфонсо, ты презренен все равно, — Раб, недостойный стать с поэтом рядом, Посмевший дар его душить тюремным смрадом.38
Как бык, ты ел, — зачем? — чтоб умереть, — Лишь корм другой, роскошнее жилище. Его же нимб сиял и будет впредь Сиять все ярче, радостней и чище. Хоть гневу Круски дал он много пищи{279}, Хоть Буало{280} не видел в нем добра (Апологет стряпни французов нищей — Докучных, как зуденье комара, Трескучих вымыслов бессильного пера).39
Ты среди нас живешь священной тенью! Ты был, Торквато, обойден судьбой, Ты стал для стрел отравленных мишенью, Неуязвим и мертвый, как живой. И есть ли бард, сравнившийся с тобой? За триста лет поэтов много было, Но ты царишь один над их толпой. Так солнце есть, и никакая сила, Собрав его лучи, не повторит светила.40
Да! Только средь его же земляков Предшественники были, мой читатель, Не менее великие. Таков «Божественной комедии» создатель{281} Иль чудных небылиц изобретатель, Тот южный Скотт{282}, чей гений столь же смел, Кто, как романов рыцарских слагатель — Наш Ариосто северный, воспел Любовь, и женщину, и славу бранных дел.41
Был молнией на бюсте Ариосто Венец расплавлен и на землю сбит. Стихия дело разрешила просто: Железу лавром быть не надлежит. Как лавров Славы гром не сокрушит, Так сходство с лавром лишь глупца обманет. Но суеверье попусту дрожит: Рассудок трезвый по-другому взглянет — Гром освящает то, во что стрелою грянет.42
Зачем печать высокой красоты, Италия! твоим проклятьем стала? Когда б была не столь прекрасна ты, От хищных орд ты меньше бы страдала. Ужель еще стыда и горя мало? Ты молча терпишь гнет чужих держав! Тебе ль не знать могущество кинжала! Восстань, восстань — и, кровопийц прогнав, Яви нам гордый свой, вольнолюбивый нрав!43
Тогда бы ты, могуществом пугая, Ничьих желаний гнусных не влекла, И красота, доныне роковая, Твоим самоубийством не была. Войска бы не катились без числа В долины Альп глумиться над тобою. И ты б чужих на помощь не звала, Сама не в силах дать отпор разбою, — Твоих заступников не стала бы рабою.44
Я плавал в тех краях, где плавал друг Предсмертной образованности Рима, Друг Цицерона{283}. Было все вокруг Как в оны дни. Прошла Мегара{284} мимо, Пирей{285} маячил справа нелюдимо, Эгина{286} сзади. Слева вознесен, Белел Коринф{287}. А море еле зримо Качало лодку, и на всем был сон. Я видел ряд руин — все то, что видел он.45
Руины! Сколько варварских халуп Поставили столетья рядом с ними! И оттого, хотя он слаб и скуп, Останний луч зари, сиявшей в Риме, Он тем для нас прекрасней, тем любимей. Уже и Сервий лишь оплакать мог Все, от чего осталось только имя, Бег времени письмо его сберег, И в нем для нас большой и горестный урок.46
И вслед за ним я в путевой тетрадке Погибшим странам вздох мой посвятил. Он с грустью видел родину в упадке. Я над ее обломками грустил. В столетьях вырос длинный счет могил, На Рим великий буря налетела, И рухнул Рим{288}, и жар давно остыл В останках титанического тела. Но дух могучий зрим, и только плоть истлела.47
Италия! Должны народы встать За честь твою, раздоры отметая, Ты мать оружья, ты искусства мать, Ты веры нашей родины{289} святая. К тебе стремятся — взять ключи от рая — Паломники со всех земных широт. И верь, бесчестье матери карая, Европа вся на варваров пойдет И пред тобой в слезах раскаянья падет.48
Но вот нас манит мраморами Арно{290}. В Этрурии{291} наследницу Афин{292} Приветствовать мы рады благодарно, Среди холмов зеленых и долин, Зерна, и винограда, и маслин, Среди природы щедрой и здоровой, Где жизнь обильна, где неведом сплин, И к роскоши привел расцвет торговый, Зарю наук воззвав из тьмы средневековой.49
Любви богиня силой красоты Здесь каждый камень дивно оживила, И сам бессмертью причастишься ты, Когда тебя радушно примет вилла{293}, Где мощь искусства небо нам открыла Языческой гармонией резца, Которой и природа уступила, Признав победу древнего творца, Что создал идеал и тела и лица!50
Ты смотришь, ты не в силах с ней проститься, Ты к ней пришел — и нет пути назад! В цепях за триумфальной колесницей Искусства следуй, ибо в плен ты взят. Но этот плен, о, как ему ты рад! На что здесь толки, споры, словопренья, Педантства и бессмыслицы парад! Нам голос мысли, чувства, крови, зренья Твердит, что прав Парис{294} и лишни заверенья.51
Такой ли шла ты к принцу-пастуху, Такая ли к Анхизу{295} приходила? Такая ли, покорствуя греху, Ты богу битв{296} лукаво кровь мутила, Когда он видел глаз твоих светила, К твоей груди приникнув головой, А ты любви молила, ты любила, И поцелуев буре огневой Он отдавал уста, как раб смиренный твой.52
Но бог, любя, не пел любовных песен, Он в красках чувство выразить не мог. Он был, как мы, влюбленный, бессловесен, И смертному уподоблялся бог. Часов любви не длит упрямый рок, Но смертный помнит краски, ароматы, Сердечный трепет — вечности залог, И памятью и опытом богатый, Ужели он не бог, творец подобных статуй!53
Пусть, мудростью красуясь наживной, Художнической братьи обезьяна, Его эстетство — критик записной Толкует нам изгиб ноги и стана, Рассказывая то, что несказанно, Но пусть зеркал не помрачает он, Где должен без малейшего изъяна Прекрасный образ, вечно отражен, Примером царственным сиять для смертных жен.54
В священном Санта-Кроче{297} есть гробницы, Чьей славой Рим тысячекратно свят. И пусть ничто в веках не сохранится От мощи, обреченной на распад, Они его бессмертье отстоят. Там звездный Галилей{298} в одном приделе, В другом же, рядом с Альфиери, спят Буонарроти{299} и Макиавелли{300}, Отдав свой прах земле, им давшей колыбели.55
Они бы, как стихии, вчетвером Весь мир создать могли. Промчатся годы, И может рухнуть царственный твой дом, Италия! Но волею Природы Гигантов равных не дали народы, Царящие огнем своих армад. И, как твои ни обветшали своды, Их зори Возрожденья золотят, И дал Канову твой божественный закат.56
Но где ж, Тоскана, где три брата кровных?{301} Где Дант, Петрарка? Горек твой ответ! Где тот рассказчик ста новелл{302} любовных, Что в прозе был пленительный поэт? Иль потому он так пропал, их след, Что Смерть, как Жизнь, от нас их отделила? На родине им даже бюстов нет! Иль мрамора в Тоскане не хватило, Чтобы Флоренция сынов своих почтила?57
Неблагодарный город! Где твой стыд? Как Сципион, храним чужою сенью{303}, Изгнанник твой, вдали твой Данте спит{304}, Хоть внуки всех причастных преступленью Прощенья молят пред великой тенью. И лавр носил Петрарка не родной{305} — Он, обучивший сладостному пенью Всех европейских бардов, — он не твой, Хотя ограблен был, как и рожден, тобой{306}.58
Тебе Боккаччо завещал свой прах, Но в Пантеоне ль мастер несравненный? Напомнит ли хоть реквием в церквах, Что он возвел язык обыкновенный В Поэзию — мелодию сирены? Он мавзолея славы заслужил, Но и надгробье снял ханжа презренный{307}, И гению нет места средь могил, Чтобы и вздохом тень прохожий не почтил,59
Да, в Санта-Кроче величайших нет. Но что с того? Не так ли в древнем Риме, Когда на имя Брута лег запрет{308}, Лишь слава Брута стала ощутимей. И Данте сои валами крепостными Равенна благодарная хранит. И в Аркуа кустами роз живыми Певца Лауры смертный холм увит. Лишь мать-Флоренция об изгнанных скорбит.60
И что с того, что герцогам-купцам Воздвиглись пирамиды из агата, Порфира, яшмы, — это льстит глупцам! Когда роса ложится в час заката Иль веет ночь дыханьем аромата На дерн могильный — вот он, мавзолей Титанам, уходящим без возврата. Насколько он прекрасней и теплей Роскошных мраморов над прахом королей!61
Скульптура вместе с радужной сестрой Собор над Арно{309} в чудо превратила. Я свято чту искусств высокий строй, Но сердцу все ж иное чудо мило: Природа — море, облака, светила; Я рад воспеть шедевры галерей, Но даже то, что взор мой поразило, Не рвется песней из души моей. Есть мир совсем иной, где мой клинок верней,62
Где зыблется в теснине Тразимена, Где для мечты — ее желанный дом. Здесь победила хитрость Карфагена{310}, И, слишком рано гордый торжеством, Увидел Рим орлов своих разгром, Не угадав засаду Ганнибала, И, как поток, в ущелье роковом Кровь римская лилась и клокотала, И, рухнув, точно лес от буревала,63
Горой лежали мертвые тела, — Храбрейшим, лучшим не было спасенья, И жажда крови так сильна была, Что, видя смерть, в безумстве исступленья Никто не замечал землетрясенья{311}, Хотя бы вдруг разверзшийся провал, Усугубляя ужас истребленья, Коней, слонов и воинов глотал. Так ненависть слепа, и целый мир ей мал.64
Земля была под ними как челнок, Их уносивший в вечность без кормила, И руль держать никто из них не мог, Затем что в них бушующая сила Самой Природы голос подавила — Тот страх, который гонит вдаль стада, Взметает птиц, когда гроза завыла, И сковывает бледные уста, — Так, словно человек умолкнул навсегда.65
Как Тразимена изменилась ныне! Лежит, как щит серебряный, светла. Кругом покой. Лишь мирный плуг в долине Земле наносит раны без числа. Там, где лежали густо их тела, Разросся лес. И лишь одна примета Того, что кровь когда-то здесь текла, Осталась для забывчивого света: Ручей, журчащий здесь, зовется Сангвинетто{312}.66
А ты, Клитумн{313}, о светлая волна, Кристалл текучий, где порой, нагая, Купается, в струях отражена, Собой любуясь, нимфа молодая; Прозрачной влагой берега питая, О, зеркало девичьей красоты, О, благосклонный бог родного края, Забыв войну, растишь, и холишь ты Молочно-белый скот, и травы, и цветы.67
Лишь небольшой, но стильный, стройный храм, Как память лет, что в битвах отгремели, Глядит с холма, ближайшего к волнам, И видно, как в прозрачной их купели Гоняются и прыгают форели, А там, где безмятежна глубина, Нимфеи спят, колышась еле-еле, И, свежести пленительной полна, Пришельца сказками баюкает волна.68
Благословен долины этой гений! Когда, устав за долгий переход, Пьешь полной грудью аромат растений, И вдруг в лицо прохладою дохнет, И наконец ты, смыв и пыль и пот, Садишься в тень, на склон реки отлогий, Сама душа Природе гимн поет, Дарующей такой приют в дороге, Где далеко и жизнь, и все ее тревоги,69
Но как шумит вода! С горы в долину Гигантской белопенною стеной — Стеной воды! — свергается Велино{314}, Все обдавая бурей водяной. Пучина Орка{315}! Флегетон{316} шальной! Кипит, ревет, бурлит, казнимый адом, И смертным потом — пеной ледяной — Бьет, хлещет по утесистым громадам, Как бы глумящимся над злобным водопадом,70
Чьи брызги рвутся к солнцу и с небес, Как туча громоносная в апреле, Дождем струятся на поля, на лес, Чтобы они смарагдом зеленели, Не увядая. В тьму бездонной щели Стихия низвергается, и вот Из бездны к небу глыбы полетели, Низринутые в глубь с родных высот И вновь летящие, как ядра, в небосвод,71
Наперекор столбу воды, который Так буйно крутит и швыряет их, Как будто море, прорывая горы, Стремится к свету из глубин земных, И хаос бьется в муках родовых — Не скажешь: рек источник жизнедарный! Нет, он, как Вечность, страшен для живых, Зеленый, белый, голубой, янтарный, Обворожающий, но лютый и коварный.72
О, Красоты и Ужаса игра! По кромке волн, от края и до края, Надеждой подле смертного одра Ирида{317} светит, радугой играя, Как в адской бездне луч зари, живая, Нарядна, лучезарна и нежна, Над этим мутным бешенством сияя, В мильонах шумных брызг отражена, Как на Безумие — Любовь, глядит она.73
И вновь я на лесистых Апеннинах — Подобьях Альп. Когда б до этих пор Я не бывал на ледяных вершинах, Не слышал, как шумит под фирном бор И с грохотом летят лавины с гор, Я здесь бы восхищался непрестанно, — Но Юнгфрау мой чаровала взор, Я видел выси мрачного Монблана{318}, Громовершинную, в одежде из тумана,74
Химари{319} — и Парнас, и лёт орлов, Над ним как бы соперничавших славой, Взмывавших выше гор и облаков; Я любовался Этной{320} величавой, Я, как троянец, озирал дубравы Лесистой Иды{321}, я видал Афон, Олимп{322}, Соракт{323}, уже не белоглавый, Лишь тем попавший в ряд таких имен, Что был Горацием в стихах прославлен он,75
Девятым валом вставший средь равнины, Застывший на изломе водопад, — Кто любит дух классической рутины, Пусть эхо будит музыкой цитат. Я ненавидел этот школьный ад, Где мы латынь зубрили слово в слово, И то, что слушал столько лет назад, Я не хочу теперь услышать снова, Чтоб восхищаться тем, что в детстве так сурово76
Вколачивалось в память. С той поры Я, правда, понял важность просвещенья, Я стал ценить познания дары, Но, вспоминая школьные мученья, Я не могу внимать без отвращенья Иным стихам. Когда бы педагог Позволил мне читать без принужденья, — Как знать, — я сам бы полюбить их мог, Но от зубрежки мне постыл их важный слог.77
Прощай, Гораций{324}, ты мне ненавистен, И горе мне! Твоя ль вина, старик, Что красотой твоих высоких истин Я не пленен, хоть знаю твой язык. Как моралист, ты глубже всех постиг Суть жизни нашей. Ты сатирой жгучей Не оскорблял, хоть резал напрямик. Ты знал, как бог, искусства строй певучий, И все ж простимся — здесь, на Апеннинской круче.78
Рим! Родина! Земля моей мечты! Кто сердцем сир, чьи дни обузой стали, Взгляни на мать погибших царств — и ты Поймешь, как жалки все твои печали. Молчи о них! Пройди на Тибр и дале, Меж кипарисов, где сова кричит, Где цирки, храмы, троны отблистали, И однодневных не считай обид: Здесь мир, огромный мир в пыли веков лежит.79
О древний Рим! Лишенный древних прав, Как Ниобея{325} — без детей, без трона, Стоишь ты молча, свой же кенотаф{326}. Останков нет в гробнице Сципиона, Как нет могил, где спал во время оно Прах сыновей твоих и дочерей. Лишь мутный Тибр струится неуклонно Вдоль мраморов безлюдных пустырей. Встань, желтая волна, и скорбь веков залей!80
Пожары, войны, бунты, гунн и гот, — О, смерч над семихолмною столицей! И Рим слабел, и грянул страшный год: Где шли в цепях, бывало, вереницей Цари за триумфальной колесницей, Там варвар стал надменною пятой На Капитолий{327}. Мрачною гробницей Простерся Рим, пустынный и немой. Кто скажет: «Он был здесь», — когда двойною тьмой,81
Двойною тьмой — незнанья и столетий Закрыт его гигантский силуэт, И мы идем на ощупь в бледном свете; Есть карты мира, карты звезд, планет, Познание идет путем побед, Но Рим лежит неведомой пустыней, Где только память пролагает след. Мы «Эврика!» кричим подчас и ныне, Но то пустой мираж, подсказка стертых линий.82
О Рим! Не ты ль изведал торжество Трехсот триумфов!{328} В некий день священный Не твой ли Брут вонзил кинжал в того, Кто стать мечтал диктатором вселенной! Тит Ливий{329}, да Вергилий вдохновенный, Да Цицерон — в них воскресает Рим. Все остальное — прах и пепел бренный, И Рим свободный — он неповторим! Его блестящих глаз мы больше не узрим.83
Ты, кто орлов над Азией простер И рвался дальше в бранном увлеченье, Ты, Сулла{330}, чей победоносный взор Не разглядел, что Рим готовит мщенье: Народ — за кровь, сенат — за униженье (Один твой взгляд — и подчинялся он), — Ты все впитал: порок и преступленье, Но, Рима сын, храня небрежный тон, С улыбкой отдал то, что более, чем трон,84
Давало власть — диктаторское право. Ты мог ли знать, что Рим, его оплот, Возвысившая цезарей держава — Всесильный Рим, — когда-нибудь падет, Что в Рим царить не римлянин придет. Он — «Вечный град» в сознанье поколений, Он, крыльями обнявший небосвод, Не знающий проигранных сражений, Он будет варваром поставлен на колени!85
Как Сулла — первый корифей войны, Так первый узурпатор, от природы, Наш Кромвель{331}. Для величия страны, Для вечной славы и за миг свободы отдал мрачным преступленьям годы, Прогнал сенат и сделал плахой трон. Священный бунт! Но вам мораль, народы: В день двух побед был смертью награжден{332} Некоронованный наследник двух корон.86
В тот самый месяц, третьего числа, Отвергнув трон, но больше, чем на троне, Он опочил, и смерть к нему пришла, Чтобы в могильном упокоить лоне. Не в высшем ли начертано законе, Что слава, власть — предмет вражды людской — Не стоят нашей яростной погони, Что там, за гробом, счастье и покой. Усвой мы эту мысль — и станет жизнь другой.87
А ты, ужасный монумент Помпея, Пред кем, обрызгав кровью пьедестал, Под крик убийц пал Цезарь{333} и, слабея, Чтобы сыграть достойно свой финал, Закрывшись тогой, молча умирал, — В нагом величье, правда ль, в этом зале Ты алтарем богини мщенья стал? Мертвы ль вы оба? Что за роль играли? Быть может, кукол роль, хоть в плен царей вы брали?88
А ты, в кого ударил дважды гром, Доныне, о священная волчица{334}, Млеко побед, которым вскормлен Рем, Из бронзовых сосцов твоих сочится. Навек — музея древностей жилица, От жгучих стрел Юпитера черна, Чтоб вечно Рим тобою мог гордиться, Мать смелых! Вечно ты стоять должна И город свой хранить, как в оны времена.89
Храни его! Но тех людей железных Давно уж нет. Мир города воздвиг На их могилах. В войнах бесполезных Им подражало множество владык, Но их пугало то, чем Рим велик, И нет меж ними равного судьбою, Иль есть один, и он всего достиг, Но, честолюбец, вставший над толпою, Он — раб своих рабов{335} — низвергнут сам собою.90
Лжевластью ослепленный, он шагал, Поддельный Цезарь, вслед за неподдельным, Но римлянин прошел другой закал: Страсть и рассудок — все в нем было цельным. Он был могуч инстинктом нераздельным, Который все в гармонии хранит, Гость Клеопатры{336} — подвигам смертельным За прялкой изменяющий Алкид{337}, — Который вновь пойдет, увидит, победит{338},91
И вот он Цезарь вновь! — А тот, хотящий, Чтоб стал послушным соколом орел, Перед французской армией летящий, Которую путем побед он вел, — Тому был нужен Славы ореол, И это все. Он раболепство встретил, Но сердцем был он глух. Куда он шел? И в Цезари — с какою целью метил? Чем кроме славы жил? Он сам бы не ответил.92
Ничто иль все! Таков Наполеон. А не накличь он свой конец печальный, Он был бы, словно Цезарь, погребен, Чей прах топтать готов турист нахальный. И вот мечта об арке Триумфальной, Вот кровь и слезы страждущей Земли, — Потоп, бурлящий с силой изначальной! Мир тонет в нем, и нет плота вдали… О боже, не ковчег, хоть радугу пошли!93
Жизнь коротка, стеснен ее полет, В суждениях не терпим мы различий. А Истина — как жемчуг в глуби вод. Фальшив отяготивший нас обычай. Средь наших норм, условностей, приличий Добро случайно, злу преграды нет. Рабы успеха, денег и отличий, На мысль и чувство наложив запрет, Предпочитают тьму, их раздражает свет.94
И так живут в тупой, тяжелой скуке, Гордясь собой, и так во гроб сойдут. Так будут жить и сыновья и внуки И дальше рабский дух передадут, И в битвах за ярмо свое падут, Как падал гладиатор на арене. Не за свободу, не за вольный труд, — Так братья гибли: сотни поколений, Сметенных войнами, как вихрем — лист осенний.95
О вере я молчу — тут каждый сам Решает с богом, — я про то земное, Что так понятно, ясно, близко нам, — Я разумею, то ярмо двойное, Что нас гнетет при деспотичном строе, Хоть нам и лгут, что следуют тому, Кто усмирял надменное и злое, С земных престолов гнал и сон и тьму, За что одно была б вовек хвала ему.96
Ужель тирану страшны лишь тираны? Где он, Свободы грозный паладин, Каким, Минерва девственной саванны, Колумбия, был воин твой и сын?{339} Иль, может быть, такой в веках один, Как Вашингтон{340}, чье сердце воспиталось В глухих лесах, близ гибельных стремнин? Иль тех семян уж в мире не осталось И с жаждой вольности Европа расквиталась?97
Пьяна от крови, Франция в те дни Блевала преступленьем. Все народы Смутила сатурналия резни{341}, Террор, тщеславье, роскошь новой моды, — Так мерзок был обратный лик Свободы, Что в страхе рабству мир себя обрек{342}, Надежде вновь сказав «прости» на годы. Вторым грехопаденьем в этот век От Древа жизни был отторгнут человек.98
И все-таки твой дух, Свобода, жив, Твой стяг под ветром плещет непокорно, И, даже бури грохот заглушив, Пускай, хрипя, гремит твоя валторна. Ты мощный дуб, дающий лист упорно, Он топором надрублен, но цветет. И Вольностью посеянные зерна Лелеет Север, и настанет год, Когда они дадут уже не горький плод.99
Вот почернелый мрачный бастион{343}, Часть крепости, обрушиться готовой, Врагам отпор давал он испокон, Фронтон его, изогнутый подковой, Плюща гирляндой двадцативековой, Как Вечности венком, полузакрыт. Чем был, что прятал он в тот век суровый? Не клад ли в подземелье был зарыт? Нет, тело женщины, — так быль нам говорит.100
Зачем твой склеп — дворцовый бастион? И кто ты? Как жила? Кого любила? Царь или больше — римлянин был он? Красавиц дочек ты ему дарила, Иль вождь, герой, чья необорна сила, Тобой рожден был? Как ты умерла? Боготворимой? Да! Твоя могила Покоить низших саном не могла, И в ней ты, мертвая, бессмертье обрела.101
А муж твой — не любила ль ты чужого? Такие страсти знал и древний Рим. Была ль ты, как Корнелия{344}, сурова, Служа супругу, детям и родным И нет! сказав желаниям иным, Иль, как Египта дерзкая царица, Жила лишь наслаждением одним? Была грустна? Любила веселиться? Но грусть любви всегда готова в радость влиться.102
Иль, сокращая век твой, как скала Тебя давило горе непрестанно? Иль ты богов любимицей{345} была И оттого сошла в могилу рано? И туча, близясь грозно и туманно, Обрушила на жизнь твою запрет, А темный взор, порой блестевший странно, Был признаком чахотки с детских лет, И цветом юных щек был рощ осенних цвет?103
Иль старой умерла ты, пережившей Свой женский век, и мужа, и детей, Но даже снег, твой волос убеливший, Не обеднил густой косы твоей — Твоей короны в пору лучших дней, Когда Метеллой Рим любил хвалиться. Но что гадать! Меж римских богачей Был и твой муж, и знала вся столица, Что гордостью его была твоя гробница.104
Но почему, когда я так стою В раздумье пред гробницей знаменитой, Как будто древний мир я узнаю, Входящий в сердце музыкой забытой, Но не такой ликующей, открытой, А смутной, скорбной, как над гробом речь, И, сев на камень, хмелем перевитый, Я силюсь в звуки, в образы облечь Все, что могла душа в крушении сберечь, —105
Чтобы, из досок, бурей разметенных, Ладью Надежды зыбкой сколотив, Изведать снова злобу волн соленых, Грызущих берег в час, когда прилив Идет, их силы удесятерив, Но сам не знаю, — в ясный день, в ненастье, — Хотя давно я стал неприхотлив, Куда направлюсь, в ком найду участье, Когда лишь здесь мой дом, а может быть, и счастье.106
И все же в путь! Пусть голоса ветров, Ночною песней наполняя дали, Вбирают моря шум и крики сов, Которые здесь только что стонали В душистой тьме, на смолкшем Квиринале{346}, И, медленны — глаза как две свечи, — За Палатин бесшумно проплывали. Что стоят в этой сказочной ночи Все наши жалобы! Любуйся — и молчи!107
Плющ, кипарис, крапива да пырей, Колоны куски на черном пепелище. На месте храмов — камни пустырей, В подземной крипте{347} — пялящий глазищи, Неспящий филин. Здесь его жилище. Ему здесь ночь. А это — баня, храм? Пусть объяснит знаток. Но этот нищий Твердит: то стен остатки. — Знаю сам! А здесь был римский трон, — мощь обратилась в хлам.108
Так вот каков истории урок: Меняется не сущность, только дата. За Вольностью и Славой — дайте срок! Черед богатства, роскоши, разврата И варварства. Но Римом все объято, Он все познал, молился всем богам, Изведал все, что проклято иль свято, Что сердцу льстит, уму, глазам, ушам… Да что слова! Взгляни — и ты увидишь сам.109
Плачь, смейся, негодуй, хвали, брани. Для чувств любых тут хватит матерьяла. Века и царства — видишь, вот они! На том холме, где все руиной стало, Как солнце, мощь империи блистала. О маятник — от смеха и до слез, — О человек! Все рухнет с пьедестала. Где золотые кровли? Кто их снес? Где все, чьей волею Рим богател и рос?110
Обломок фриза, брошенный во рву, Увы! красноречивей Цицерона. Где лавр, венчавший Цезаря главу? Остался плющ — надгробная корона. Венчайте им меня! А та колонна? Траян увековечен в ней иль Тит{348}? Нет, Время, ибо Время непреклонно Меняет все. И там святой стоит, Где император был умерший не зарыт{349},111
А поднят в воздух. Глядя в небо Рима, В соседстве звезд обрел он вечный свет, — Последний, кто владел неколебимо Всем римским миром. Тем, кто шел вослед, Пришлось терять плоды былых побед. А он, как Македонец, невозбранно Свои владенья множил столько лет, Но без убийств, без пьяного дурмана, И мир доныне чтит величие Траяна.112
Где холм героев, их триумфов сцена, Иль та скала, где в предрешенный срок Заканчивала путь земной измена, Где честь свою вернуть изменник мог, Свершив бесстрашно гибельный прыжок. Здесь Рим слагал трофеи на вершине. Здесь партий гнев и камни стен прожег, И, пламенная, в мраморной пустыне Речь Цицеронова звучит еще доныне.113
Все Рим изведал: партий долгий спор, Свободу, славу, иго тирании — С тех пор, как робко крылья распростер, До той поры, когда цари земные Пред ним склонили раболепно выи, И вот померк Свободы ореол, И Рим узнал анархию впервые, — Любой подонок, захватив престол, Топтал сенаторов и с чернью дружбу вел.114
Но где последний Рима гражданин, Где ты, Риенци{350}, ты, второй Помпилий? Ты, искупитель тягостных годин Италии, ее позорных былей. Петрарки друг! В тебе трибуна чтили. Так пусть от древа Вольности листы Не увядают на твоей могиле! С тобой народ связал свои мечты. О рыцарь Форума, как мало правил ты!115
Эгерия{351}! Творенье ли того, Кто, для души прибежища не зная, Ей, как подругу, создал божество? Сама Аврора{352}, нимфа ль ты лесная, Или была ты женщина земная? Не все ль равно! Вовек тому венец, Кем рождена ты в мраморе живая! Прекрасной мыслью вдохновив резец, Ей совершенную и форму дал творец.116
И в элизийских брызгах родника Цветут и зреют тысячи растений. Его кристалл не тронули века, В нем отражен долины этой гений. Его зеленых, диких обрамлений Не давит мрамор статуй. Для ключа, Как в древности, нет никаких стеснений. Его струя, пузырясь и журча, Бьет меж цветов и трав, среди гирлянд плюща.117
Все фантастично! В яхонтах, в алмазах Вокруг ручья — холмов зеленых ряд, И ящериц проворных, быстроглазых, И пестрых птиц причудливый наряд. Они прохожим словно говорят: Куда спешишь? Останься, путник, с нами, Не торопись в твой город, в шум и чад!! Манят фиалки синими глазами, Окрашенными в синь самими небесами.118
Эгерия! Таков волшебный грот, Где смертного, богиня, ты встречала, Где ты ждала, придет иль не придет, И, звездное раскинув покрывало, Вас только ночь пурпурная венчала. Не здесь ли, в этом царстве волшебства, Впервые в мире дольном прозвучало, Как первого оракула слова, Моленье о любви, признанье божества.119
И ты склонялась к смертному на грудь, В земной восторг пролив восторг небесный, Чтобы в любовь мгновенную вдохнуть Бессмертный пламень страсти бестелесной. Но кто, какою силою чудесной Не затупит стрелу, отраву смыв — Пресыщенность и скуку жизни пресной, — И плевелы, смертельные для нив, Кто вырвет, луг земной в небесный обратив?120
Наш юный жар кипит, увы! в пустыне, Где бури чувства лишь сорняк плодят, Красивый сверху, горький в сердцевине, Где вреден трав душистых аромат, Где из деревьев брызжет трупный яд И все живое губит зной гнетущий. Там не воскреснет сердца юный сад, Сверкающий, ликующий, поющий, И не созреет плод, достойный райских кущей.121
Любовь! Не для земли ты рождена, Но верим мы в земного серафима, И мучеников веры имена — Сердец разбитых рать неисчислима. Ты не была и ты не будешь зрима, Но, к опыту скептическому глух, Какие формы той, кто им любима, Какую власть, закрыв и взор и слух, Дает измученный, усталый, скорбный дух!122
Он собственной отравлен красотою, Он пленник лжи. В природе нет того, Что создается творческой мечтою, Являя всех достоинств торжество. Но юность вымышляет божество, И, веруя в эдем недостижимый, Взыскует зрелость и зовет его, И гонится за истиною мнимой, Ни кисти, ни перу, увы! непостижимой.123
Любовь — безумье, и она горька. Но исцеленье горше. Чар не стало, И, боже! как бесцветна и мелка, Как далека во всем от идеала Та, чей портрет нам страсть нарисовала. Но сеять ветер сердце нас манит И бурю жнет, как уж не раз бывало, И наслажденья гибельный магнит Алхимией любви безумца вновь пьянит.124
Мы так больны, так тяжко нам дышать, Мы с юных лет от жажды изнываем. Уже на сердце — старости печать. Но призрак, юность обольстивший раем, Опять манит — мы ищем, мы взываем, Но поздно — честь иль слава — что они! Что власть, любовь, коль счастья мы не знаем! Как метеор, промчатся ночи, дни, И смерти черный дым потушит все огни.125
Немногим — никому не удается В любви свою мечту осуществить. А если нам удача улыбнется, Или потребность верить и любить Заставит все принять и все простить, Конец один: судьба, колдунья злая, Счастливых дней запутывает нить, И, демонов из мрака вызывая, В наш сон вторгается реальность роковая.126
О наша жизнь! Ты во всемирном хоре Фальшивый звук. Ты нам из рода в род Завещанное праотцами горе, Анчар гигантский, чей отравлен плод. Земля твой корень, крона — небосвод, Струящий ливни бед неисчислимых; Смерть, голод, рабство, тысячи невзгод, И зримых слез, и хуже — слез незримых, Кипящих в глубине сердец неисцелимых.127
Так будем смело мыслить! Отстоим Последний форт средь общего паденья. Пускай хоть ты останешься моим, Святое право мысли и сужденья, Ты, божий дар! Хоть с нашего рожденья Тебя в оковах держат палачи, Чтоб воспарить не мог из заточенья Ты к солнцу правды, — но блеснут лучи, И все поймет слепец, томящийся в ночи.128
Повсюду арки, арки видит взор, Ты скажешь: Рим не мог сойти со сцены, Пока не создал Колизей — собор Своих триумфов. Яркий свет Селены На камни льется, на ступени, стены, И мнится, лишь светильнику богов Светить пристало на рудник священный, Питавший столько будущих веков Сокровищами недр. И синей мглы покров129
В благоуханье ночи итальянской, Где запах, звук — все говорит с тобой, Простерт над этой пустошью гигантской. То сам Сатурн{353} всесильною рукой Благословил ее руин покой И сообщил останкам Рима бренным Какой-то скорбный и высокий строй, Столь чуждый нашим зданьям современным. Иль душу время даст их безразличным стенам?130
О Время! Исцелитель всех сердец, Страстей непримиримых примиритель, Философ меж софистов и мудрец, Суждений ложных верный исправитель. Ты украшаешь смертную обитель, Ты проверяешь Истину, Любовь, Ты знаешь все! О Время, грозный мститель, К тебе я руки простираю вновь И об одном молю, одно мне уготовь:131
Среди руин, где твой пустынный храм, Среди богов, вдали мирского шквала, Средь жертв, где в жертву приношу я сам Руины жизни, — пусть я прожил мало: Когда хоть раз во мне ты спесь видало, Отринь меня, мои страданья множь, Но если в бедах сердце гордым стало, А был я добр, нося в нем острый нож, Заставь их каяться за клевету и ложь.132
Зову тебя, святая Немезида{354}! О ты, кем взвешен каждый шаг людской, Кем ни одна не прощена обида, Ты, вызвавшая фурий злобный рой, Чтобы Ореста, яростной рукой Свершившего неслыханное дело{355}, Погнал к возмездью вопль их, свист и вой, Восстань, восстань из темного предела, Восстань и отомсти, как древле мстить умела.133
Когда б за грех моих отцов иль мой Меня судьба всезрящая карала. Когда б ответил оскорбленный мной Ударом справедливого кинжала! Но в прах безвинно кровь моя бежала, Возьми ее и мщеньем освяти! Я сам бы мстил, но мщенье не пристало Тому, кто хочет на другом пути… Нет, нет, молчу, но ты — проснись и отомсти!134
Не страх, не мука пресекла мой голос!.. Пред кем, когда испытывал я страх? Кто видел, как душа моя боролась И судорожно корчилась в тисках? Но месть моя теперь в моих стихах. Когда я буду тлеть, еще живые, Они, звуча пророчески в веках, Преодолев пространства и стихии, Падут проклятием на головы людские.135
Но как проклятье — Небо и Земля! — Мое прощенье я швырну в лицо им. Да разве я, пощады не моля, С моей судьбой не бился смертным боем? Я клеветы и сплетни стал героем, Но я простил, хоть очернен, гоним, Да, я простил, простясь навек с покоем, Я от безумья спасся тем одним, Что был вооружен моим презреньем к ним.136
Я все узнал: предательство льстеца, Вражду с приязнью дружеской на лике, Фигляра смех и козни подлеца, Невежды свист бессмысленный и дикий, И все, что Янус{356} изобрел двуликий, Чтоб видимостью правды ложь облечь, Немую ложь обученной им клики: Улыбки, вздохи, пожиманья плеч, Без слов понятную всеядной сплетне речь.137
Зато я жил, и жил я не напрасно! Хоть, может быть, под бурею невзгод, Борьбою сломлен, рано я угасну, Но нечто есть во мне, что не умрет, Чего ни смерть, ни времени полет, Ни клевета врагов не уничтожит, Что в эхе многократном оживет И поздним сожалением, быть может, Само бездушие холодное встревожит.138
Да будет так! Явись же предо мной, Могучий дух, блуждающий ночами Средь мертвых стен, объятых тишиной, Скользящий молча в опустелом храме, Иль в цирке, под неверными лучами, Где меж камней, перевитых плющом, Вдруг целый мир встает перед очами Так ярко, что в прозрении своем Мы отшумевших бурь дыханье узнаем.139
Здесь на потеху буйных толп когда-то, По знаку повелителя царей, Друг выходил на друга, брат на брата — Стяжать венок иль смерть в крови своей, Затем что крови жаждал Колизей. Ужели так? Увы, не все равно ли, Где стать добычей тленья и червей, Где гибнуть: в цирке иль на бранном поле. И там и здесь — театр, где смерть в коронной роли.140
Сраженный гладиатор предо мной. Он оперся на локоть. Мутным оком Глядит он вдаль, еще борясь с судьбой, Сжимая меч в бессилии жестоком. Слабея, каплет вязким черным соком, Подобно первым каплям грозовым, Из раны кровь. Уж он в краю далеком. Уж он не раб. В тумане цирк пред ним, Он слышит, как вопит и рукоплещет Рим —141
Не все ль равно! И смерть и эти крики — Все так ничтожно. Он в родном краю. Вот отчий дом в объятьях повилики. Шумит Дунай. Он видит всю семью, Играющих детей, жену свою. А он, отец их, пал под свист презренья, Приконченный в бессмысленном бою! Уходит кровь, уходят в ночь виденья… О, скоро ль он придет, ваш, готы, праздник мщенья!142
Здесь, где прибой народов бушевал, Где крови пар носился над толпою, Где цирк ревел, как в океане шквал, Рукоплеща минутному герою, Где жизнь иль смерть хулой иль похвалою Дарила чернь, — здесь ныне мертвый сон. Лишь гулко над ареною пустою Звучит мой голос, эхом отражен, Да звук шагов моих в руинах будит стоп.143
В руинах — но каких! Из этих глыб Воздвиглось не одно сооруженье, Но издали сказать вы не могли б, Особенно при лунном освещенье, Где тут прошли Грабеж и Разрушенье. Лишь днем, вблизи, становится ясней, Расчистка то была иль расхищенье И чем испорчен больше Колизей: Воздействием веков иль варварством людей.144
Но в звездный час, когда ложатся тени, Когда в пространстве темно-голубом Плывет луна, на древние ступени Бросая свет сквозь арку иль в пролом, И ветер зыблет медленным крылом Кудрявый плющ над сумрачной стеною, Как лавр над лысым Цезаря челом, Тогда встают мужи передо мною, Чей гордый прах дерзнул я попирать пятою.145
«Покуда Колизей неколебим, Великий Рим стоит неколебимо. Но рухни Колизей — и рухнет Рим, И рухнет мир, когда не станет Рима». Я повторяю слово пилигрима, Что древле из Шотландии моей Пришел сюда. Столетья мчатся мимо, Но существуют Рим и Колизей, И Мир — притон воров, клоака жизни сей.146
Храм всех богов — языческий, христов, Простой и мудрый, величаво-строгий, Не раз он видел, как из тьмы веков, Взыскуя света, ищет мир дороги, Как все течет: народы, царства, боги. А он стоит, для веры сохранен, И дом искусств, и мир в его чертоге, Не тронутом дыханием времен. О гордость зодчества и Рима — Пантеон{357}!147
Ты памятник искусства лучших дней, Ограбленный и все же совершенный. Кто древность любит и пришел за ней, Того овеет стариной священной Из каждой ниши. Кто идет, смиренный, Молиться, для того здесь алтари. Кто славы чтитель — прошлой, современно, — Броди хоть от зари и до зари И на бесчисленные статуи смотри.148
{358}
Но что в темнице кажет бледный свет? Не разглядеть! И все ж заглянем снова, Вот видно что-то… Чей-то силуэт… Что? Призраки? Иль бред ума больного? Нет, ясно вижу старика седого И юную красавицу… Она, Как мать, пришла — кормить отца родного. Развились косы, грудь обнажена. Кровь этой женщины нектаром быть должна.149
То Юность кормит Старость молоком, Отцу свой долг природный отдавая. Он не умрет забытым стариком, Пока, здоровье в плоть его вливая, В дочерних жилах кровь течет живая — Любви, Природы жизнетворный Нил, Чей ток щедрей, чем та река святая. Пей, пей, старик! Таких целебных сил В небесном царствии твой дух бы не вкусил.150
У сердца и от сердца тот родник, Где сладость жизни пьет дитя с пеленок. И кто счастливей матери в тот миг, Когда сосет и тянет грудь ребенок, Весь теплый, свежий, пахнущий спросонок. (Все это не для нас, не для мужчин!) И вот росток растет и слаб и тонок, А чем он станет — знает бог один. Ведь, что ни говори, но Каин — Евы сын.151
И меркнет сказка Млечного Пути Пред этой былью, чистой, как светила, Которых даже в небе не найти. Природа верх могущества явила В том, что сама закон свой преступила, И, в сердце божье влиться вновь спеша, Кипит струи живительная сила, И ключ не сякнет, свежестью дыша, — Так возвращается в надзвездный мир душа.152
Вот башня Адриана{359}, — обозрим! Царей гробницы увидав на Ниле, Он наградил чужим уродством Рим, Решив себе на будущей могиле Установить надгробье в том же стиле, И мастеров пригнал со всех сторон, Чтоб монумент они соорудили. О, мудрецы! — и замысел смешон, И цель была низка, — и все ж колосс рожден.153
{360}
Но вот собор — что чудеса Египта, Что храм Дианы{361} — здесь он был бы мал! Алтарь Христа, под ним святого крипта. Святилище Эфеса я видал — Бурьяном зарастающий портал, Где рыщут вкруг шакалы и гиены. Софии храм передо мной блистал, Чаруя всей громадой драгоценной, Которой завладел Ислама сын надменный.154
Но где, меж тысяч храмов и церквей, Тебя достойней божия обитель? С тех пор как в дикой ярости своей, В святой Сион{362} ворвался осквернитель И не сразил врага небесный мститель, Где был еще такой собор? — Нигде! Недаром так дивится посетитель И куполу в лазурной высоте, И этой стройности, величью, красоте.155
Войдем же внутрь — он здесь не подавляет, И здесь огромно все, но в этот миг Твой дух, безмерно ширясь, воспаряет, Он рубежей бессмертия достиг И вровень с окружающим велик. Так он в свой час на божий лик воззрится, И видевшего святости родник Не покарает божия десница, Как не карает тех, кто в этот храм стремится.156
И ты идешь, и все растет кругом. Так — что ни шаг, то выше Алых вершины. В чудовищном изяществе своем Он высится столикий, но единый, Как все убранство, статуи, картины, Под грандиозным куполом, чей взлет Не повторит строитель ни единый, Затем, что в небесах его оплот, А зодчеству других земля его дает.157
Взор не охватит все, но по частям Он целое охватывает вскоре. Так тысячами бухт своим гостям Себя сначала раскрывает море. От части к части шел ты и в соборе, И вдруг, о чудо! сердцем ты постиг Язык пропорций в их согласном хоре — Магической огромности язык, В котором лишь сумбур ты видел в первый миг.158
Вина — твоя! Но смысл великих дел Мы только шаг за шагом постигаем. Кто словом слабым выразить умел То сильное, чем дух обуреваем? И, жалкие, бессильно мы взираем На эту мощь взметенных к небу масс, Покуда вширь и ввысь не простираем И мысль и чувство, дремлющие в нас, И лишь тогда весь храм охватывает глаз.159
Так не спеши — да приобщишься к свету! Сей храм, он мысли может больше дать, Чем сто чудес пресыщенному свету, Чем верующим — веры благодать. Чем все, что в прошлом гений мог создать. И то познаешь, то поймешь впервые, Что ни придумать, ни предугадать, — Ты россыпи увидишь золотые, Всего высокого источники святые.160
И дальше — в Ватикан! Перед тобой Лаокоон{363} — вершина вдохновенья. Неколебимость бога пред судьбой, Любовь отца и смертного мученья — Все здесь! А змеи — как стальные звенья Тройной цепи, — не вырвется старик, Хоть каждый мускул полон напряженья, Дракон обвил, зажал его, приник, И все страшнее боль, и все слабее крик.161
Но вот он сам, поэтов покровитель, Бог солнца, стреловержец Аполлон{364}. Он смотрит, лучезарный победитель, Как издыхает раненый дракон. Прекрасный лик победой озарен, Откинут стан стремительным движеньем. Бессмертный, принял смертный облик он, Трепещут ноздри гневом и презреньем, — Так смотрит только бог, когда пылает мщеньем.162
В прекрасных формах — это нимфы сон, Любовный сон, — любовь такими снами В безумие ввергает дев и жен. О, в этих формах, явлен небесами, Весь идеал прекрасного пред нами, Сияющий нам только в редкий час, Когда витает дух в надмирном храме, И мыслей вихрь — как сонмы звезд вкруг нас, И бога видим мы, и слышим божий глас.163
И если впрямь похитил Прометей Небесный пламень{365} — в этом изваянье Богам оплачен долг за всех людей. Но в мраморе — не смертного дыханье, Хоть этот мрамор — смертных рук созданье, — Поэзией сведен с Олимпа к нам, Он целым, в первозданном обаянье, Дошел до нас наперекор векам И греет нас огнем, которым создан сам.164
Но где мой путешественник? Где тот, По чьим дорогам песнь моя блуждала? Он что-то запропал и не идет. Иль сгинул он и стих мой ждет финала? Путь завершен, и путника не стало, И дум его, а если все ж он был, И это сердце билось и страдало, — Так пусть исчезнет, будто и не жил. Пускай уйдет в ничто, в забвенье, в мрак могил,165
Где жизнь и плоть — все переходит в тени, Все, что природа смертному дала, Где нет ни чувств, ни мыслей, ни стремлений, Где призрачны становятся тела, На всем непроницаемая мгла, И даже слава меркнет, отступая Над краем тьмы, где тайна залегла, Где луч ее темней, чем ночь иная, И все же нас влечет, желанье пробуждая166
Проникнуть в бездну, чтоб узнать, каким Ты будешь среди тлена гробового, Ничтожней став, чем когда был живым. Мечтай о славе, для пустого слова Сдувай пылинки с имени пустого, — Авось в гробу ты сможешь им блеснуть. И радуйся, что не придется снова Пройти тяжелый этот, страшный путь, — Что сам господь тебе не силах жизнь вернуть.167
Но чу! Из бездны точно гул идет, Глухой и низкий, непостижно странный, Как будто плачет гибнущий народ От тягостной, неисцелимой раны, Иль стонет в бездне духов рой туманный. А мать-принцесса{366} мертвенно-бледна. В ее руках младенец бездыханный, И, горя материнского полна, Груди к его губам не поднесет она.168
Дочь королей, куда же ты спешила? Надежда наций, что же ты ушла? Иль не могла другую взять могила, Иль менее любимой не нашла? Лишь два часа ты матерью была, Сама над мертвым сыном неживая. И смерть твое страданье пресекла, С тобой надежду, счастье убивая — Все, чем империя гордилась островная.169
Зачем крестьянок роды так легки, А ты, кого мильоны обожали, Кого любых властителей враги, Не пряча слез, к могиле провожали, Ты, утешенье Вольности в печали, Едва надев из радуги венец, Ты умерла. И плачет в тронном зале Супруг твой, сына мертвого отец. Какой печальный брак! Год счастья — и конец!170
И стал наряд венчальный власяницей, И пеплом — брачный плод. Она ушла Почти боготворимая столицей, Та, кто стране наследника дала. И нас укроет гробовая мгла, Но верилось, что выйдет он на форум Пред нашими детьми и, чуждый зла, Укажет путь их благодарным взорам, Как пастухам — звезда. Но был он метеором.171
И горе нам, не ей! Ей сладок сон, — Изменчивость толпы, ее влеченья, Придворной лести похоронный звон, Звучащий над монархами с рожденья До той поры, пока в восторге мщенья Не кинется к оружию народ, Пока не взвесит рок его мученья И, тяжесть их признав, не возведет Позорящих свой трон владык на эшафот.172
Грозило ль это ей? О, никогда! Сама вражда пред нею отступила. Была добра, прекрасна, молода, Супруга, мать — и все взяла могила! Как много уз в тот день судьба разбила От трона и до нищенских лачуг! Как будто здесь землетрясенье было, И цепью электрическою вдруг Отчаянье и скорбь связали все вокруг,173
Но вот и Неми{367}! Меж цветов и трав Покоится овал его блестящий, И ураган, дубы переломав, Подняв валы в пучине моря спящей, Ослабевает здесь, в холмистой чаще, И даже рябь воды не замутит, Как ненависть созревшая, хранящей Спокойствие, бесчувственной на вид, — Так кобра — вся в себе, — свернувшись в кольца, спит.174
Вон там, в долине, плещется Альбано, Там Тибр блестит, как желтый самоцвет, Вон Лациум{368} близ моря-океана, Где «Меч и муж»{369} Вергилием воспет, Чтоб славил Рим звезду тех грозных лет{370}. Там, справа, Туллий{371} отдыхал от Рима, А там, где горный высится хребет, Та мыза, что Горацием любима, Где бард растил цветы, а время мчалось мимо.175
Но к цели мой подходит пилигрим, И время кончить строфы путевые. Простимся же с приятелем моим! Последний взгляд возлюбленной стихии, На чьи валы туманно-голубые Мы в этот час глядим с Альбанских гор. О море Средиземное! Впервые В проливе Кальп{372} ты наш пленило взор, И на Эвксинский Понт{373} нас вывел твой простор176
У синих Симплегад{374}. Прошло немного, Зато каких тяжелых, долгих лет! Какая нами пройдена дорога И скольких слез храним мы горький след! Но без добра недаром худа нет. Мы также не остались без награды: По-прежнему мы любим солнца свет, Лес, море, небо, горы, водопады, Как будто нет людей, что все испортить рады.177
О, если б кончить в пустыни свой путь С одной — прекрасной сердцем и любимой, — Замкнув навек от ненависти грудь, Живя одной любовью неделимой. О море, мой союзник нелюдимый, Ужели это праздная мечта? И нет подруги для души гонимой? Нет, есть! и есть заветные места! Но их найти — увы, задача не проста.178
Есть наслажденье в бездорожных чащах, Отрада есть на гарной крутизне, Мелодия в прибое волн кипящих И голоса в пустынной тишине. Людей люблю, природа ближе мне. И то, чем был, и то, к чему иду я, Я забываю с ней наедине. В себе одном весь мир огромный чуя, Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.179
Стремите, волны, свой могучий бег! В простор лазурный тщетно шлет армады Земли опустошитель, человек. На суше он не ведает преграды, Но встанут ваши темные громады, И там, в пустыне, след его живой Исчезнет с ним, когда, моля пощады, Ко дну пойдет он каплей дождевой Без слез напутственных, без урны гробовой.180
Нет, не ему поработить, о море, Простор твоих бушующих валов! Твое презренье тот узнает вскоре, Кто землю в цепи заковать готов. Сорвав с груди, ты выше облаков Швырнешь его, дрожащего от страха, Молящего о пристани богов, И, точно камень, пущенный с размаха, О скалы раздробишь и кинешь горстью праха.181
Чудовища, что крепости громят, Ниспровергают стены вековые — Левиафаны боевых армад, Которыми хотят цари земные Свой навязать закон твоей стихии, — Что все они! Лишь буря заревет, Растаяв, точно хлопья снеговые, Они бесследно гибнут в бездне вод, Как мощь Испании, как Трафальгарский флот.182
Ты Карфаген, Афины, Рим видало, Цветущие свободой города. Мир изменился — ты другим не стало. Тиран поработил их, шли года, Грозой промчалась варваров орда, И сделались пустынями державы. Твоя ж лазурь прозрачна, как всегда. Лишь диких воли меняются забавы, Но, точно в первый день, царишь ты в блеске славы.183
Без меры, без начала, без конца, Великолепно в гневе и в покое, Ты в урагане — зеркале Творца. В полярных льдах и в синем южном зное Всегда неповторимое, живое, Твоим созданьям имя — легион, С тобой возникло бытие земное. Лик Вечности, Невидимого трон, Над всем ты царствуешь, само себе закон.184
Тебя любил я, море! В час покоя Уплыть в простор, где дышит грудь вольней, Рассечь руками шумный вал прибоя — Моей отрадой было с юных дней. И страх веселый пел в душе моей, Когда гроза внезапно налетала. Твое дитя, я радовался ей, И, как теперь в дыханье буйном шквала, По гриве пенистой рука тебя трепала.185
Мой кончен труд, дописан мой рассказ, И гаснет, как звезда перед зарею, Тот факел, о который я не раз Лампаду поздней зажигал порою. Что написал, то написал, — не скрою, Хотел бы лучше, но уж я не тот, Уж, верно, старость кружит надо мною, Скудеет чувств и образов полет, И скоро холодом зима мне в грудь дохнет.186
Прости! Подходит срок неумолимо, И здесь должны расстаться мы с тобой. Прости, читатель, спутник пилигрима! Когда его признаний смутный рой В тебе хоть отзвук находил порой, Когда хоть раз им чувства отвечали, Я рад, что посох взял избранник мой. Итак, прощай! отдав ему печали, — Их, может быть, и нет, — ищи зерно морали.Дон-Жуан Перевод Т. Гнедич
{375}
Посвящение
1
Боб Саути! Ты — поэт, лауреат И представитель бардов, — превосходно! Ты ныне, как отменный тори, аттестован: это модно и доходно. Ну как живешь, почтенный ренегат? В Озерной школе все, что вам угодно, Поют десятки мелких голосов, Как «в пироге волшебном хор дроздов{376};2
Когда пирог подобный подают На королевский стол и разрезают, Дрозды, как полагается, поют». Принц-регент{377} это блюдо обожает. И Колридж-метафизик{378} тоже тут, Но колпачок соколику мешает: Он многое берется объяснять, Да жаль, что объяснений не понять.3
Ты дерзок, Боб! Я знаю, в чем тут дело: Ведь ты мечтал, с отменным мастерством Всех крикунов перекричав умело, Стать в пироге единственным дроздом. Силенки ты напряг довольно смело, Но вмиг на землю сверзился потом. Ты залететь не сможешь высоко, Боб! Летать крылатой рыбе нелегко, Боб!4
А Вордсворт наш в своей «Прогулке»{379} длительной — Страниц, пожалуй, больше пятисот — Дал образец системы столь сомнительной, Что всех ученых оторопь берет. Считает он поэзией чувствительной Сей странный бред; но кто там разберет, Творенье это — или не творенье, А Вавилонское столпотворенье!5
Да, господа, вы в Кезике{380} своем Людей получше вас всегда чурались, Друг друга вы читали, а потом Друг другом изощренно восхищались. И вы сошлись, естественно, на том, Что лавры вам одним предназначались. Но все-таки пора бы перестать За океан озера принимать{381}.6
А я не смог бы до порока лести Унизить самолюбие свое, — Пусть заслужили вы потерей чести И славу, и привольное житье. В акцизе служит Вордсворт{382} — всяк при месте; Ваш труд оплачен — каждому свое. Народ вы жалкий, хоть поэты все же И на парнасский холм взобрались тоже. [14]7
Вы лаврами скрываете пока И лысины и наглость, но порою Вы все-таки краснеете слегка. Нет, я вам не завидую; не скрою — Я не хотел бы вашего венка! Притом ведь лавры получают с бою: Мур{383}, Роджерс, Кэмбел, Крабб и Вальтер Скотт — Любой у вас всю славу отобьет.8
Пусть я с моею музой прозаичной Хожу пешком — а ваш-то конь крылат! По да пошлет вам бог и слог приличный, И славу, и сноровку. Как собрат, Я воздаю вам должное — обычный Прием, которым многие грешат! — Едва ль, на современность негодуя, Хвалу потомков этим заслужу я.9
Но тот, кто лавры хочет получить Лишь от потомства, должен быть скромнее: Он сам себе ведь может повредить, Провозгласив подобную идею. Порой эпоха может породить Титана, но как правило — пигмеи Все претенденты. Им, читатель мой, Один конец — бог ведает какой!10
Лишь Мильтон, злоязычьем уязвленный, Взывал к возмездью Времени — и вот, Судья нелицемерный, непреклонный, Поэту Время славу воздает. Но он не лгал — гонимый, угнетенный, Не унижал таланта, ибо тот, Кто не клевещет, кто не льстит, не гнется, Всю жизнь тираноборцем остается{384}.11
О, если б мог восстать, как Самуил{385}, Он, сей старик, пророк, чей голос властный Сердца монархов страхом леденил! О, если б он воскрес, седой и страстный! Глаза слепые он бы обратил На злобных дочерей. Но и несчастный Не льстил бы он ни трону, ни венцу, И не тебе, моральному скопцу, [15]12
Преступник Каслрей{386} — лукавый, ловкий, Ты холеные руки обагрил В крови Ирландии. С большой сноровкой Ты в Англии свободу придушил. Готовый на подлейшие уловки, Ты тирании ревностно служил, Надетые оковы закрепляя И яд, давно готовый, предлагая. [16]13
Когда ты говоришь парадный вздор{387}, И гладкий и пустой до омерзенья, Льстецов твоих — и тех смолкает хор. Все нации с усмешкою презренья Следят, как создает словесный сор Бессмысленного жернова круженье, Который может миру доказать, Что даже речь способна пыткой стать.14
Гнусна твоя бездарная работа: Одно старье латать, клепать, чинить. Всегда страшит твоих хозяев что-то, И это — повод нации душить. Созвать конгресс{388} пришла тебе охота, Чтоб цепи человечества скрепить. Ты создаешь рабов с таким раденьем, Что проклят и людьми и провиденьем,15
Ну, что о сущности твоей сказать? Имеешь ты (или, верней, Оно) Две цели: удушать и угождать. Кого и как — такому все равно: Привык он, как Евтропий{389}, услужать. В нем, правда, есть достоинство одно — Бесстрашие, но это уж не смелость, А просто чувств и сердца омертвелость.16
Куда бы я глаза ни обратил, Везде я вижу цепи. О Италия! Ведь даже римский дух твой погасил Сей ловкий шут, презренная каналия! Он ранами Ирландию покрыл, Европа вся в кровавой вакханалии, Везде рабы и троны, смрад и тьма, Да Саути — их певец, плохой весьма.17
Но, сэр лауреат, я все ж дерзаю Сей скромный труд тебе преподнести. Особой лести я не обещаю — Я ближе к вигам и всегда почти Цвет желто-голубой{390} предпочитаю. До ренегатства мне не дорасти, Хоть без него живется многим худо — Тем, кто не Юлиан{391} и не Иуда…Песнь первая
{392}
1
Ищу героя! Нынче что ни год Являются герои, как ни странно. Им пресса щедро славу воздает, Но эта лесть, увы, непостоянна: Сезон прошел — герой уже не тот. А посему я выбрал Дон-Жуана: Ведь он, наш старый друг, в расцвете сил Со сцены прямо к черту угодил.2
Хок, Фердинанд и Гренби — все герои,{393} И Кемберленд-мясник и Кеппел тут; Они потомством Банко предо мною, Как пред Макбетом, в сумраке встают{394}, «Помет одной свиньи», они толпою По-прежнему за славою бегут, А слава — даже слава Бонапарта — Есть детище газетного азарта.3
Варнав, Бриссо, Дантон, и Кондорсе,{395} Марат, и Петион, и Лафайет — Вот Франция во всей своей красе, (А все-таки забывчив праздный свет.) Жубер и Ош, Марсо, Моро, Дезэ — Смотрите-ка: им просто счету нет! Недавно их венчали лавры славы, Но не приемлют их мои октавы.4
Наш Нельсон{396} — сей британский бог войны — Достоин славы гордого угара, Но вместе с ним давно погребены И лавры и легенды Трафальгара. Нам силы сухопутные нужны, И моряки встревожены недаром: Великих адмиралов имена Забыл король, забыла вся страна!5
И до и после славного Ахилла Цвели мужи, не худшие, чем он, Но песнь поэта нам не сохранила Ни славы их, ни доблестных имен. И потому мне очень трудно было В тумане новых и былых времен Найти героя вовсе без изъяна — И предпочел я все же Дон-Жуана!6
Гораций говорил, что «medias res»[17]{397} Для эпоса — широкая дорога. Что было раньше, волею небес Поэт потом покажет понемногу, Влюбленных приведя под сень древес, В пещеру или к пышному чертогу, За ужином, в саду или в раю — Где он посадит парочку свою.7
Таков обычный метод, но не мой: Мой метод — начинать всегда с начала, Мой замысел и точный и прямой, В нем отступлений будет очень мало. Начну я просто первою главой (Каких бы мне трудов она ни стала). Я вам хочу подробно описать Отца и мать героя, так сказать.8
В Севилье он родился. Город, славный Гранатами и женщинами. Тот Бедняк, кто не был в нем, — бедняк подавно. Севилья лучшим городом слывет. Родители Жуана благонравно И неизменно жили круглый год Над речкою, воспетой целым миром И называемой Гвадалкивиром.9
Его отец — Хосе, понятно, «дон», Идальго{398} чистокровный, без следа Еврейско-маврской крови, — был рожден От грандов, не робевших никогда. Не всякий граф, маркиз или барон Был на коне так ловок, господа, Как дон Хосе, зачавший Дон-Жуана, Зачавшего (об этом, впрочем, рано)…10
{399}
Его мамаша столь была умна, Такими отличалась дарованьями, Что повсеместно славилась она И всех ученых затмевала знаньями. Их честь была весьма уязвлена, И затаенной зависти стенаньями Отметили они наперебой Инесы превосходство над собой.11
Творенья Лопе вдоль и поперек И Кальдерона{400} знала эта дама: Когда актер припомнить роль не мог, Она ему подсказывала прямо. Добро бы ей Финэгл{401} в том помог: Но сам Финэгл, позабыв рекламу И лавочку прикрыв, глядел, дивясь, Как у Инесы память развилась.12
Она имела ум математический, Держалась величаво до жеманности, Шутила редко, но всегда аттически{402}, Была высокопарна до туманности, Чудила и морально и физически И даже одевалась не без странности: Весною в шелк, а летом в канифас — Все это бредни, уверяю вас!13
Она латынь (весь «Pater noster»[18]) знала И греческие буквы превзошла, Французские романчики читала, Но одолеть прононса не могла. Родным испанским занималась мало; В ее речах царила полумгла, Ее сужденья на любые темы Являли теоремы и проблемы…14
Еврейский и английский языки Инеса без труда постигла тоже: Она считала, что они «близки» И в некоторых случаях похожи. Читая песнопенья и стихи, Она вопрос обдумывала все же — Не одного ли корня, что Эдем, Известное британское «god damn»? [19]15
Она была живое поученье, Мораль и притча с головы до ног, И походила в этом отношенье На Ромили{403}: он был ужасно строг, Когда судил чужие прегрешенья, А сам себе советом не помог: Самоубийцей став сентиментальным, Провозглашен был просто ненормальным.16
Как миссис Триммер{404} книжки поучительные, Как Эджуорт{405} ожившие романы, Как Целебса{406} супруга умилительная, Она была моральна и жеманна. Едва ли в ней черту предосудительную Нашла бы даже зависть. Как ни странно, Она была вот тем-то и страшна, Что всех пороков женских лишена.17
Она настолько нравственной была И к слову искушенья непреклонной, Что ангела-хранителя могла Освободить от службы гарнизонной. Точнее были все ее дела Хронометров завода Гаррисона{407}. Я б мог сравнить ее высокий дар С твоим лишь маслом, дивный Макассар! [20]18
Она была бесспорно совершенна, — Но к совершенству свет и глух и нем. Недаром прародители вселенной Хранительный покинули Эдем: Они в раю (скажу вам откровенно) И целоваться не могли совсем! А дон Хосе, прямой потомок Евы, Любил срывать плоды с любого древа.19
Хосе, беспечный смертный, не любил Речей мудреных и людей ученых, Куда хотел и с кем хотел ходил, Не замечая взоров возмущенных; Но за его поступками следил Синклит ходжей, клеймить пороки склонных, И двух его любовниц называл, Хотя одна — и то уже скандал!20
Инеса, несомненно, знала цену Своим высоким и моральным качествам, Но и святая не снесет измены И даже может отказаться начисто Бороться с чёртом; кротости на смену Тогда приходят разные чудачества, А коль святая станет ревновать, То тут супругу уж несдобровать.21
Совсем нетрудно справиться с мужчиной, Коль он неосторожен и не прав: Он хочет ускользнуть с невинной миной, Но тут его хватают за рукав. Он следует за гневной «половиной», Она ж, во утвержденье дамских прав, Хватает веер, а в руке прелестной Он хуже всякой плетки, как известно{408}.22
Мне очень, очень жаль, что за повес Выходят замуж умные девицы. Но что же делать, если бедный бес Ученым разговором тяготится? (Я ближних соблюдаю интерес, Со мной такой ошибки не случится; Но вы, увы, супруги дам таких, Признайтесь: все под башмачком у них!)23
Хосе нередко ссорился с женою. Дознаться, «почему» и «отчего», Пытались все друзья любой ценою, Хоть это не касалось никого. Злословия порок всему виною! Но я вполне свободен от него: Супругов я улаживаю ссоры, Но сам-то я женюсь весьма не скоро.24
Я пробовал вмешаться. Я имел Отличные намеренья, признаться, Но как-то я ни разу не сумел До них ни днем, ни ночью достучаться: Дом словно вымер, словно онемел. Один лишь раз (прошу вас не смеяться!) Жуан случайно среди бела дня Ведро помоев вылил на меня.25
Он был похож на юркую мартышку — Хорошенький, кудрявый, озорной. Родители любили шалунишку, И только в этой прихоти одной Они сходились. Надо бы мальчишку Учить и жучить, но они со мной Советоваться вовсе не хотели И портили сынишку как умели.26
Итак — я не могу не пожалеть — Супруги жили плохо и уныло, Мечтая каждый рано овдоветь. Со стороны, однако, трудно было Их внутреннюю распрю разглядеть: Они держались вежливо и мило, Но вот огонь прорвался, запылал — И явно обнаружился скандал.27
{409}
Инеса к медицине обратилась, Стремясь безумье мужа доказать, Потом она с отчаянья пустилась Его в дурных инстинктах упрекать, Но все-таки ни разу не решилась Прямые доказательства назвать: Она считала (так она твердила), Что честно перед богом поступила.28
Она вела старательно учет Его проступкам; все его записки Цитировать могла наперечет (К шпионству души любящие близки). Все жители Севильи круглый год Инесе помогали в этом сыске: Уж бабушка на что стара была — А ведь и та чего-то наплела!29
Инеса созерцала без волненья, Подобно женам Спарты прошлых лет, Казнимого супруга злоключенья, Надменно соблюдая этикет. От клеветы и злобного глумленья Несчастный погибал, а льстивый свет В ее великолепном равнодушии С восторгом отмечал великодушие.30
Прощаю осторожное терпенье Моим друзьям, которые молчат, Когда по мере сил и разуменья Вокруг меня завистники кричат: Юристы не такое поведенье Названьем «malus animus»[21] клеймят: Мы мстительность пороком полагаем, Но если мстит другой — не возражаем.31
А если наши старые грешки, Украшенные ложью подновленной, Всплывут наружу, — это пустяки: Во-первых, ложь — прием традиционный, К тому же господа клеветники, Увлечены враждой неугомонной, Не замечают, что из года в год Шумиха только славу создает.32
Сперва друзья пытались их мирить, И родственники думали вмешаться. А я, уж если правду говорить, Советовал бы вам не обращаться Ни к тем и ни к другим. Большую прыть Явили и законники, признаться, В надежде гонораров. Только вдруг — Скончался неожиданно супруг!33
Скончался. Умер. О его кончине Жалели горячо и стар и млад По той весьма естественной причине, Что рассуждать о ближнем всякий рад. Мне намекал юрист в высоком чине: Процесс-то был скандалами богат. Любители острот и диффамаций Лишились самой лучшей из сенсаций.34
Он умер. Вместе с ним погребены И сплетни и доходы адвоката; Любовницы пошли за полцены, Одна — еврею, а одна — аббату. Дом продан, слуги все разочтены, И, как ни принял свет сию утрату, Оставил он разумную жену Его грехи обдумывать — одну.35
Покойный дон Хосе был славный малый — Могу сказать: его я лично знал, — Он образ жизни вел довольно шалый, Но я его за то не осуждал: Он был горяч, игра его пленяла, И страсти он охотно уступал. Не всем же жить в таком унылом стиле, Как Нума{410}, именуемый Помпилий!36
Но, какова бы ни была цена Его грехам, он пострадал довольно, И вся его искуплена вина. Подумайте, ему ведь было больно, Что жизнь его и честь осквернена Женой и светской чернью сердобольной. Он понял — кроме смерти, для него Уже не остается ничего.37
Он умер, не оставив завещанья, И стал Жуан наследником всего — И сплетен, и долгов, и состоянья, А маменька почтенная — его Опекуном. Такое сочетанье Ролей не удивило никого: Единственная мать уже по чину Надежный друг единственному сыну.38
Умнейшая из вдов, немало сил Инеса приложила и старания, Чтоб сын ее семьи не посрамил, Которою гордилась вся Испания, Жуан, как подобает, изучил Езду верхом, стрельбу и фехтование, Чтоб ловко проникать — святая цель — И в женский монастырь, и в цитадель.39
Инеса постоянно хлопотала И очень беспокоилась о том, Чтоб воспитанье сына протекало Отменно добродетельным путем: Руководила и во все вникала С большим педагогическим чутьем. Жуан отлично знал науки многие, Но, боже сохрани, — не биологию!40
Все мертвые постиг он языки И самые туманные науки, Которые от жизни далеки, Как всякий бред схоластики и скуки; Но книжек про житейские грешки Ему, конечно, не давали в руки, И размноженья каверзный закон Был от его вниманья утаен.41
Трудненько было с классиками им: Ведь боги и богини резво жили И, не в пример испанцам молодым, Ни панталон, ни юбок не носили. Педантов простодушием своим Смущали и Гомер, и сам Вергилий; Инеса, что совсем не мудрено, Боялась мифологии давно.42
Мораль Анакреона очень спорна{411}, Овидий был распутник, как вы знаете, Катулла{412} слово каждое зазорно. Конечно, оды Сафо{413} вы читаете, И Лонгин[22] восхвалял ее упорно, Но вряд ли вы святой ее считаете. Вергилий чист, но написал же он Свое «Formosum Pastor Corydon»[23]{414}.43
Лукреция{415} безбожие опасно Для молодых умов, а Ювенал{416}, Хотя его намеренья прекрасны, Неправильно пороки обличал: Он говорил о ближних столь ужасно, Что просто грубым слог его бывал! И, наконец, чей вкус не оскорбляло Бесстыдство в эпиграммах Марциала{417}?44
Жуан, конечно, классиков зубрил, Читая только школьные изданья, Из коих мудрый ментор удалил Все грубые слова и описанья. Но, не имея смелости и сил Их выбросить из книги, в примечанья Их вынес, чтоб учащиеся вмиг Их находили, не листая книг. [24]45
Как статуи, они стояли рядом, Казалось, педагогика сама Их выстроила праздничным парадом Для юного пытливого ума, Покамест новый ментор мудрым взглядом Их не пошлет в отдельные дома, По разным клеткам, строчкам и куплетам, Где место им назначено поэтом.46
Фамильный требник{418} их украшен был Картинками, какими украшали Такие книжки. Но излишний пыл Художники при этом допускали: Не раз глазком молящийся косил На многие занятные детали. Инеса этот требник берегла, Но Дон-Жуану в руки не дала.47
Читал он поученья, и гомилии{419}, И жития бесчисленных святых, Отчаянные делавших усилия Для обузданья слабостей своих (Их имена известны в изобилии). Блаженный Августин{420}, один из них, Своим весьма цветистым «Искушеньем» Внушает зависть юным поколеньям.48
Но Августина пламенный рассказ Был запрещен Жуану: этим чарам Поддаться может юноша как раз. Инеса, осторожная недаром, Обычно с сына не спускала глаз, Служанкам доверяла только старым, — Что и при муже делала она. Сия метода женская умна!49
Итак, мой Дон-Жуан все рос да рос, В шесть лет — прелестный мальчик, а в двенадцать Мог, если ставить правильно вопрос, Уже прелестным юношей считаться. Конечно, он не знал греховных грез И был способен много заниматься: Все дни он проводил, покорен, тих, В кругу седых наставников своих.50
В шесть лет он был ребенок очень милый И даже, по ребячеству, шалил; В двенадцать приобрел он вид унылый И был хотя хорош, но как-то хил, Инеса горделиво говорила, Что метод в нем натуру изменил. Философ юный, несмотря на годы, Был тих и скромен, будто от природы.51
Признаться вам, доселе склонен я Не доверять теориям Инесы. С ее супругом были мы друзья; Я знаю, очень сложные эксцессы Рождает неудачная семья, Когда отец — характером повеса, А маменька — ханжа. Не без причин В отца выходит склонностями сын!52
Я сплетничать не буду, но сказать Хочу со всею честностью моею: Когда б хотел я сына воспитать (А я его, по счастью, не имею!), Не согласился б я его отдать В Инесин монастырь; всего скорее Послал бы я мальчишку в пансион, Где подросту учиться мог бы он.53
Там все-таки, скажу без хвастовства я, Как следует учили нас, ребят. Я греческие буквы забываю, Но многое я помню — verbum sat! [25] — И многое отлично понимаю. Я, в сущности, конечно, не женат, Но сыновей возможных воспитание Обдумывал как следует заранее.54
В шестнадцать лет младой испанец наш Был строен, ловок, хорошо сложён; Догадлив и умен почти как паж, Почти мужчиной мог назваться он; Но маменька его впадала в раж При этой мысли, подавляя стон: Уж в самом слове «зрелость», ей казалось, Ужасное значенье заключалось!55
Среди ее бесчисленных друзей (Чьи качества описывать не стану) Была и донна Юлия. Ей-ей, Красавица без всякого изъяну! Все прелести присущи были ей, Как сладость — розе, горечь — океану, Венере — пояс, Купидону — лук… (Как Купидону лук! Преглупый звук!)56
Ее глаза, блиставшие пленительно, Могли на предков-мавров{421} намекать. В Испании оно предосудительно, Но факты невозможно отрицать! Когда Гренада пала и стремительно Пустились мавры в Африку бежать, Прабабка донны Юлии осталась В Испании и вскоре обвенчалась57
С одним идальго. Кровь ее и род Упоминать, я думаю, не лестно: Досадного скрещения пород Не любят наши гранды, как известно, А потому они из года в год Берут себе в супруги повсеместно Своих племянниц, теток и кузин, Что истощает род не без причин.58
Но это нечестивое скрещенье Восстановило плоть, испортив кровь. Гнилое древо вновь пошло в цветенье; Наследники дородны стали вновь, А дочери — так просто загляденье. (Мне, впрочем, намекали, что любовь, Законом не стесненная нимало, Прабабке нашей донны помогала!)59
Сей обновленный род и цвел и рос, Давал побеги, листики и почки. Ему последний отпрыск преподнес Прекрасный дар в лице последней дочки: Она была прелестней всяких грез (Я говорил об этом с первой строчки), Милее розы и нежней зари И замужем была уж года три.60
Ее глаза (охотник я до глаз!) Таили пламя гордости и счастья, Как темный полированный алмаз. В них было все: и солнце и ненастье; А главное, мелькало в них не раз Какое-то — не то что сладострастье, А тайное движение мечты, Разбуженной сознаньем красоты.61
На лоб ее прекрасный и открытый Ложились кольца шелковых волос, Румянец озарял ее ланиты, Как небеса — зарницы теплых гроз; Она была стройна, как Афродита: А статность — я хочу сказать всерьез — Особенно в красавицах ценю я: Приземистых толстушек не терплю я.62
Вполне корректен был ее супруг Пятидесяти лет. Оно обычно, Но я бы променял его на двух По двадцать пять. Ты скажешь: неприлична Такая шутка? Полно, милый друг, — Под южным солнцем все звучит отлично! Известно, у красавиц не в чести Мужья, которым больше тридцати.63
Печально, а придется допустить, Что вечно это солнце озорное Не хочет бедной плоти пощадить: Печет, и жжет, и не дает покоя. Вы можете поститься и грустить, Но сами боги в результате зноя Нам подают губительный пример. Что смертным — грех, то Зевсу — адюльтер!64
О, нравственные северные люди! О, мудрый климат, где любой порок Мороз и успокоит и остудит! Снег, я слыхал, Антонию{422} помог… На севере любовников не судят, Но с них берут порядочный налог Судейские, признавшие недаром Порок довольно выгодным товаром.65
Муж Юлии, Альфонсо, я слыхал, Был — по своим годам — мужчина в силе; Их брак довольно мирно протекал, Зазорного о них не говорили. Он никогда жену не упрекал, Но подозрения его томили: Он, говоря по правде, ревновал, Но признаков того не подавал.66
В нежнейшей дружбе — странный род влеченья! — С Инесой донна Юлия была, Она, однако, не любила чтенья, Пера же просто в руки не брала. Но, впрочем, я слыхал предположенье (Хотя молва завистлива и зла), Что в юности Альфонсо и Инеса Окутывались облаком Зевеса{423}.67
И, сохраняя дружбу прежних дней — Конечно, в форме сдержанной и милой, — Инеса (этот метод всех умней) Его супругу нежно полюбила: Нежней сестры она бывала с ней И вкус Альфонсо каждому хвалила, — И сплетня, как живуча ни была, А укусить Инесу не могла.68
Я сам не разобрался, видит бог, Как Юлия все это принимала. Спокойно, без волнений и тревог Ее существованье протекало, И вымысел смутить ее не мог, И ревности она не понимала: Не разрешала пагубных проблем И не делилась тайнами ни с кем.69
Жуан любил, играя, к ней ласкаться. И в этом ничего плохого нет: Когда ей — двадцать, а ему — тринадцать, Такие ласки терпит этикет. Но я уже не стал бы улыбаться, Когда ему шестнадцать стало лет, Ей — двадцать три, а три коротких года Меняют все у южного народа!70
И он переменился и она: Они при встречах стали молчаливы, Он был смущен, а донна — холодна, И только взоры их красноречивы. Она понять бы, кажется, должна Значенье сей тревоги справедливой, А не видавший моря Дон-Жуан Не сознавал, что видит океан!71
Но холодность ее дышала тайной, И так тревожно нежная рука Руки Жуана словно бы случайно Касалась осторожно и слегка, Что юноша тоской необычайной Томился — бессознательно пока! Прикосновенья магия простая Опасней волшебства, я так считаю.72
Она не улыбалась, но подчас Так ласково глаза ее блестели, Как будто скрытой нежности запас Жуану передать они хотели. Очаровать одним сияньем глаз Все женщины умеют и умели. Сама невинность прячется за ложь — Так учится притворству молодежь!73
Но страсти беспокойное движенье Нельзя ни подавить, ни даже скрыть, Как в темном небе бури приближенье. Напрасно вы стараетесь хитрить, Подделывать улыбки, выраженья, Неискренние речи говорить: Насмешка, холод, гнев или презренье — Все это маски только на мгновенье.74
Украдкой разгорающийся взор, Запретного румянца трепетанье, Рукопожатья ласковый укор, Смятенье встреч, томленье ожиданья, Невинной страсти тайный разговор — Прелюдия любви и обладанья. Но ежели любовник — новичок, То для развязки надобен толчок.75
Да, Юлии прекрасной состояние Опасно было — что и говорить, — Во имя веры, чести, воспитания Она его сперва хотела скрыть, Потом решила — странное желание, Способное Тарквиния{424} смутить, — Святой мадонны попросить защиты, Поскольку тайны женщин ей открыты.76
Она клялась Жуана не встречать, Но с маменькой его в беседе чинной Невольно не могла не примечать, Кто открывает двери из гостиной. Не он… Опять не он… Не он опять! Вняла мадонна женщине невинной, Но Юлия, внезапно став грустней, Решила впредь не обращаться к ней.77
Должна ли добродетельная леди Пугливо убегать от искушенья? Уверенная в доблестной победе, Она его встречает без смущенья: В спокойных встречах, и в живой беседе, И в дружеском, живом нравоученье Она докажет юноше стократ, Что он ничуть не более, чем брат.78
И даже если все же (бес хитер!) Проснется в сердце чувство поневоле, — Легко перебороть подобный вздор Раз навсегда простым усильем воли. Пусть о любви напрасно молит взор: Простой отказ — одно мгновенье боли! Красавицы! Рекомендую вам Сей хитрый способ верности мужьям.79
Притом ведь есть же чистая любовь, Какую сам Платон{425} провозглашает, Какую херувимы всех сортов И пожилые дамы воспевают, — Гармония духовных голосов, Когда сердца друг друга понимают. От этакой гармонии, друзья, Не прочь бы с донной Юлией и я.80
В дни юности, далекой от порока, Влюбленность безыскусна и чиста: Сперва целуют руку, после щеку, А там, глядишь, — встречаются уста. Я это говорю не для упрека, Я верю, что невинна красота, Но если нарушают меру эту, — Моей вины, читатель, в этом нету!81
Итак, решила Юлия моя, Любви запретной воли не давая, Жуану преподать — сказал бы я: Святую дружбу. Как на лоне рая, Он мог бы, чистой страсти не тая, Быть счастлив, безмятежно расцветая, И даже обучиться, — но чему — И ей неясно было и ему.82
В кольчуге благородного решенья, Она теперь уверена была, Что ей уже не страшно искушенье, Что честь ее упорна, как скала, И что она, отбросив опасенья, Предаться чувству нежному могла К тому, о ком мечты ее пленяли… (Была ль она права, увидим дале!)83
Что ничего плохого в этом нет, Она не сомневалась ни мгновенья: Жуан — дитя! Ему шестнадцать лет! К чему запреты, тайны, подозренья? Безгрешен сердца чистого совет. (Ведь жгли же христиане без стесненья Друг друга, ибо так, любой считал, И всякий бы апостол поступал.)84
А ежели б Альфонсо вдруг скончался?.. Хотя и в тайниках заветных грез Подобный случай ей не представлялся: Он вызвал бы потоки горьких слез! А если б он возможен оказался… (Для рифмы добавляю «inter nos»[26], Точнее — «entre nous»[27], чтоб ясно стало, Что по-французски Юлия мечтала.)85
Но если б это все-таки стряслось (Лет через семь — и то не будет поздно). — Жуан бы подучился и подрос И мог бы жизнь рассматривать серьезно, И нашей донне долго б не пришлось Томиться вдовьей долей многослезной: Их дружбы серафическая{426} связь Естественно бы в нежность развилась.86
А что об этом думал мой Жуан? Волненьем непонятным пламенея, Он видел все сквозь розовый туман, Восторженный, как томная Медея{427} Овидия, на грани новых стран. Он ожидал, предчувствием пьянея, Что очень скоро с ним произойдет Какой-то коренной переворот.«Паломничество Чайльд-Гарольда»
87
Задумчивый, тревожный, молчаливый, В тени дубрав блуждая как во сне, Своей тоской печальной и счастливой Томился он в блаженной тишине. (Живых страстей приют красноречивый — Уединенье нравится и мне. Точней — уединенье не монаха, А нежащегося в гареме шаха.)88
«Когда, Любовь, о божество весны, Сливаешь ты покой и упоенье, — Ты царствуешь! Тебе покорены Блаженство и святое вдохновенье!»[28]{428} Стихи поэта этого сильны, Но странное он выражает мненье, «Сливая» «упоенье» и «покой» — Я помеси не видывал такой!89
Мне непонятно это сочетанье: Поэт хотел заметить, может быть, Что в мирном, безопасном состоянье Привыкли мы и кушать и любить… Об «упоенье» да еще «слиянье» Я даже не решаюсь говорить — Но о «покое» — возражаю смело: «Покой» в минуту страсти портит дело!90
Жуан мечтал, блуждая по лугам, В зеленых рощах солнечного лета, Он радовался чистым ручейкам, И птичкам, и листочкам в час рассвета. Так пищу идиллическим мечтам Находят все любезные поэты, Один лишь Вордсворт не умеет их Пересказать понятно для других.91
Он (но не Вордсворт, а Жуан, понятно) Прислушивался к сердцу своему, И даже боль была ему приятна И как бы душу нежила ему. Он видел мир — прекрасный, необъятный, Дивился и печалился всему И скоро вдался (сам того не чуя), Как Колридж, — в метафизику прямую.92
Он думал о себе и о звездах, О том, кой черт зажег в какой-то день их, О людях, о великих городах, О войнах, о больших землетрясениях, Терялся в фантастических мечтах, В заоблачных носился похождениях, Вздыхая о луне, о царстве фей И о глазах красавицы своей.93
Иным присуще с отроческих лет Такое свойство мыслить и томиться, Но кто любовью тайною согрет, Тот может этой страсти научиться. Жуан привык, как истинный поэт, В заоблачные сферы уноситься, И томной жажде встретить идеал Пыл юной крови очень помогал.94
Он любовался листьями, цветами, В дыханье ветра слышал голоса, Порою нимфы тайными путями Его вели в дубравы и леса. Он, увлеченный неявными мечтами, Опаздывал на два, на три часа К обеду — но не сетовал нимало: Еда его почти не занимала!95
Порою он и книги открывал Великих Гарсиласо и Боскана{429}: Какой-то сладкий ветер навевал От их страниц мечты на Дон-Жуана, В его груди волненье вызывал Их нежный бред, как сила талисмана. Так вызывают бури колдуны В наивных сказках милой старины.96
Жуан бродил, уединясь от света, Не понимая собственных стремлений. Ни томный сон, ни вымысел поэта Не утоляли смутных вожделений: Ему хотелось плакать до рассвета, На чью-то грудь склонившись в умиленье (А может, и еще чего-нибудь, О чем я не решаюсь намекнуть).97
От Юлии укрыться не могли Его томленье и его скитанья. Они, быть может, даже разожгли В ее умильном сердце состраданье, Но странно, что они не привлекли Инесы неусыпного вниманья. Она ему не стала докучать Вопросами и предпочла молчать.98
Хочу отметить странное явленье: Известно, что ревнивые мужья, Жену подозревая в нарушенье… Какая это заповедь, друзья? Седьмая ли? Восьмая ль? Я в сомненье! И вы забыли — так же, как и я! Короче говоря — в своей тревоге Мужья легко сбиваются с дороги.99
Хороший муж, как правило, ревнив, Но часто ошибается предметом: С невинным он угрюм и неучтив, А окружает лаской и приветом Какого-нибудь друга, позабыв, Что все друзья коварны в мире этом. А после друга и жену клянет, Но собственной вины не признает.100
Недальновидны часто и родные: Не в силах уловить их зоркий взгляд Того, о чем подружки озорные Шутливо и лукаво говорят, И только результаты роковые — Явленье непредвиденных внучат — Повергнет, в семьях порождая грозы, Папашу — в ярость, а мамашу — в слезы.101
Но где была Инеса, не пойму! Признаться, я имею подозренье, Что не случайно сыну своему Она не запретила «искушенья», Полезного и сердцу и уму, А также укреплявшего сомненье Альфонсо относительно цены Красивой и молоденькой жены.102
Случилось это вечером, весной, — Сезон, вы понимаете, опасный Для слабой плоти. А всему виной Предательское солнце — это ясно! Но летом и под хладною луной Сердца горят. Да что болтать напрасно: Известно, в марте млеет каждый кот, А в мае людям маяться черед.103
Двадцатого случилось это мая… Вы видите: любитель точных дат, И день и месяц я упоминаю. Ведь на полях веков они пестрят, Как станции, где, лошадей меняя, Перекладные фатума гостят Часок-другой, а после дале мчатся, А, богословы смотрят и дивятся!104
Случилось это все часу в седьмом, Двадцатого, как я заметил, мая. Как гурия в раю, в саду своем Сидела томно Юлия младая. (Все краски для картины мы найдем, Анакреона-Мура{430} изучая. Он заслужил и славу и венец. Я очень рад: храни его творец!)105
Но Юлия сидела не одна. Как это вышло — посудите сами… Оно, конечно, молодость, весна… Но — языки держите за зубами! — С ней был Жуан. В том не моя вина. Они сидели рядом. Между нами, Скажу вам, что не следовало им В такую ночь весною быть одним.106
Как нежно рдело на ее щеках Ее мечты заветное волненье! Увы, Любовь, весь мир в твоих руках: Ты — слабых власть и сильных укрощенье! И мудрость забываем мы и страх, Волшебному покорны обольщенью, И часто, стоя бездны на краю, Всё в невиновность веруем свою!107
О чем она вздыхала? О Жуане, О том, что он наивен и хорош, О нежном, платоническом романе, О глупости навязчивых святош, Она вздыхала (я скажу заране) О том, что воли сердца не поймешь, О том, что мужу, как уже известно, Давно за пятьдесят, коль молвить честно.108
«В пятидесятый раз я вам сказал!» — Кричит противник, в споре свирепея. «Я пятьдесят куплетов написал», — Вещает бард, и публика робеет: Ох, как бы он их все не прочитал! При слове «пятьдесят» любовь мертвеет… Лишь пятьдесят червонцев, спору нет, — Поистине прекраснейший предмет!109
Спокойную и честную любовь К Альфонсо донна Юлия питала И никаких особенных грехов Покамест за собой не замечала. Не торопясь в ней разгоралась кровь, Руки Жуана юного сначала Она коснулась словно бы своей — Ну разве только чуточку нежней,110
Его другую руку, как ни странно, Она нашла на поясе своем, — И вот начало каждого романа, Что мы из каждой книжки узнаем! Но как могла мамаша Дон-Жуана Оставить эту парочку вдвоем? Она-то как за ними не следила? Моя мамаша б так не поступила!111
Затем прелестной Юлии рука Жуана руку ласково пожала, Как будто бы, не ведая греха, Продлить прикосновенье приглашала. Все было платонически пока: Она б, как от лягушки, убежала От мысли, что такие пустяки Рождают и проступки и грешки.112
Что думал Дон-Жуан, не знаю я, Но что он сделал, вы поймете сами: Он, пылкого восторга не тая, Коснулся дерзновенными устами Ее щеки. Красавица моя В крови своей почувствовала пламя, Хотела убежать… хотела встать… Но не могла ни слова прошептать.113
А солнце село. Желтая луна Взошла на небо — старая колдунья; На вид она скромна и холодна, Но даже двадцать первого июня{431} За три часа наделает она Таких проказ в иное полнолунье, Каких за целый день не натворить: У ней на это дьявольская прыть!114
Вы знаете опасное молчанье, В котором растворяется Душа, Как будто замирая в ожиданье: Природа безмятежно хороша, Леса, поля в серебряном сиянье, Земля томится, сладостно дыша Влюбленной негой и влюбленной ленью, В которой нет покоя ни мгновенья.115
Итак: не разжимая жарких рук, Жуан и донна Юлия молчали; Они слыхали сердца каждый стук И все-таки греха не замечали. Они могли расстаться… Но вокруг Такую прелесть взоры их встречали, Что… что… (Бог знает что! Боюсь сказать! Уж я не рад, что принялся писать!)116
Платон! Платон! Безумными мечтами Ты вымостил опасные пути! Любое сердце этими путями До гибели возможно довести. Ведь все поэты прозой и стихами Вреда не могут столько принести, Как ты, святого вымысла угодник! Обманщик! Плут! Да ты ведь просто сводник!117
Да… Юлия вздыхала и молчала, Пока уж стало поздно говорить. Слезами залилась она сначала, Не понимая, как ей поступить, Но страсти власть кого не поглощала? Кто мог любовь и разум помирить? Она вздохнула, вспыхнула, смутилась, Шепнула: «Ни за что!» — и… согласилась!118
Я слышал — Ксеркс{432} награду обещал За новое в науке наслажденья… Полезная задача, я б сказал, И, несомненно, стоит поощренья. Но лично я, по скромности, считал Любовь за некий вид отдохновенья: Нововведений не ищу я — что ж? И старый способ, в сущности, хорош.119
Приятно наслаждаться наслажденьем, Хотя оно чревато, говорят, Проклятьем ада. С этим убежденьем Стараюсь я уж много лет подряд Исправиться, но с горьким сожаленьем Я замечаю каждый листопад, Что грешником я оказался снова, Но я исправлюсь — я даю вам слово!120
У музы я прощенья попрошу За вольность. Не пугайся, образцовый Читатель! Грех, которым согрешу, Есть только маленькая вольность слова. Я в стиле Аристотеля{433} пишу. У классиков устав весьма суровый; Вот почему, предвидя злой укор, Я о прощенье поднял разговор.121
А вольность в том, что я предполагаю В читателе способность допустить, Что после ночи на исходе мая (Что я уже успел изобразить) Младой Жуан и Юлия младая Успели лето целое прожить. Стоял ноябрь. Но дата мне сомнительна: Не разглядеть в тумане позволительно!122
Отрадно в полночь под луною полной Внимать октав Торкватовых размер, Когда адриатические волны Веслом и песней будит гондольер; Отраден первых звезд узор безмолвный; Отрадно после бури, например, Следить, как выступает из тумана Мост радуги на сваях океана!123
Отраден честный лай большого пса, Приветствующий нас у двери дома, Где просветлеют лица и сердца Навстречу нам улыбкою знакомой; Отрадны утром птичьи голоса, А вечером — ручья живая дрема; Отраден запах трав, и тень ветвей, И первый лепет наших малышей!124
Отраден сбор обильный винограда, Вакхического буйства благодать; Отрадно из ликующего града В обитель сельской лени убегать; Скупому — груды золота отрада, Отцу — отрада первенца обнять, Грабеж — солдату, моряку — награда, А мщенье — сердцу женскому отрада.125
Отрадно неожиданно узнать О смерти старца, чье существованье Нас, молодежь, заставило вздыхать О преизрядной сумме завещанья: Иные тянут лет по двадцать пять, А мы — в долгах, в надеждах, в ожиданье — Даем под их кончину векселя, Процентами евреев веселя.126
Весьма отрадно славу заслужить — Чернилами иль кровью, все едино: Отрадно ссорой дружбу завершить, Когда к тому имеется причина; Отрадно добродетель защитить, Отрадно пить изысканные вина, Отраден нам родного неба свет, Уроки и забавы детских лет.127
Но выше всех отрад — скажу вам прямо — Пленительная первая любовь, Как первый грех невинного Адама, Увы, не повторяющийся вновь! Как Прометей, бунтующий упрямо, Украв огонь небесный у богов, Мы познаем блаженство — пусть однажды, — Впервые утолив святую жажду.128
Конечно, человек — престранный зверь, И странное находит примененье Своим чудесным склонностям. Теперь У всех экспериментом увлеченье: Мы все стучимся в запертую дверь. Таланты процветают, без сомненья: Сперва поманят истиной, а там Исподтишка и ложь подсунут вам.129
Открытий много, и тому причина — Блестящий гений и пустой карман: Тот делает носы, тот — гильотины. Тот страстью к костоправству обуян. А все-таки — открытие вакцины Снарядам антитеза. В ряде стран Врачи от оспы ловко откупаются: Она болезнью бычьей заменяется.130
Мы хлеб теперь картофельный печем, Мы трупы заставляем ухмыляться Посредством гальванизма, с каждым днем У нас благотворители плодятся, Мы новые проекты создаем, У нас машины стали появляться. Покончили мы с оспой — очень рад! И сифилис, пожалуй, устранят!131
Он из Америки явился к нам, Теперь его обратно отправляют. Растет народонаселенье там, Его и поубавить не мешает Войной или чумой: ведь все друзьям Цивилизация предоставляет. Какая ж из общественных зараз Опаснейшей является для нас?132
Наш век есть век прекрасных разговоров, Убийства тела и спасенья душ, Изобретений и ученых споров. Сэр Хэмфри Дэви{434} — сей ученый муж — Изобретает лампы для шахтеров. Мы посещаем полюсы к тому ж. И все идет на пользу человечью: И Ватерлоо, и слава, и увечья.133
Непостижимо слово «человек»! И как постичь столь странное явленье? Пожалуй, сам он знает меньше всех Своих земных путей предназначенье. Мне очень жаль, что наслажденье — грех, А грех — увы! — нередко наслажденье. Любой из нас идет своим путем, Живет и умирает… А потом?134
Ну что «потом»? Ни вы, ни я не знаем. Спокойной ночи! Ждет меня рассказ. Стоял ноябрь, туманы нагоняя; Надвинув башлыки до самых глаз, Белели горы. В скалы ударяя, Ревел прибой. И в очень ранний час, Покорное режиму неизменно, Ложилось солнце — скромно и степенно.135
Была, как часовые говорят, «Глухая ночь», когда кричит сова, И воет ветер, и в печи горят Приветливо и весело дрова И путника усталого манят, Как солнечного неба синева… (Люблю огонь, шампанское, жаркое, Сверчков, и болтовню, и все такое!)136
В постели донна Юлия была; Спала, наверно. Вдруг у самой двери Ужасная возня произошла… Я, правда, в жизнь загробную не верю, Но мертвых разбудить она могла, Я заявляю вам, не лицемеря. Потом раздался голос: «Ах, творец! Сударыня! Сударыня! Конец!137
Сударыня! Хозяин за дверями, Сюда ведет полгорода с собою! Ах, я не виновата перед вами! Я не спала! Вот горе-то какое! Откройте им скорей! Откройте сами! Они уже на лестнице; гурьбою Идут сюда! Но убежать легко: Он молод, и окно невысоко!..»138
Но в этот миг Альфонсо показался В толпе друзей, средь факелов и слуг; Никто из них ничуть не постеснялся Прелестной донне причинить испуг; У многих лоб уже давно чесался От шалостей хорошеньких супруг, — Примеры заразительны такие: Простишь одну — начнут шалить другие!139
Не понимаю, как и отчего Безумное закралось подозренье, Но грубости идальго моего Не нахожу я даже извиненья. Ревнивец безрассудный! От кого, Чему и где искал он подтвержденья, Ворвавшись в дом с толпой ретивых слуг? Тому, что он — обманутый супруг.140
Проснулась донна Юлия и стала Вздыхать, стонать и жалобно зевать, А верная Антония ворчала, Что донне помешали почивать. Она поспешно взбила одеяло, Подушки взгромоздила на кровать, Чтоб показать ревнивому герою, Что на кровати, точно, спали двое —141
Служанка с госпожой. Не без причин Красавицы пугливы. В самом деле: Страшась и привидений и мужчин, Разумно спать вдвоем в одной постели, Пока не возвратится господин. А он еще последние недели Приходит очень поздно, как на грех, Ворча, что «возвратился раньше всех»!142
Тут наша донна голос обрела: «В уме ль вы, дон Альфонсо? Что случилось? Какая вас причуда привела? Что с перепою ночью вам приснилось? Зачем до свадьбы я не умерла? Я жертвою чудовища явилась! Ищите же! Но я вам не прощу!..» Альфонсо мрачно молвил: «Поищу!»143
И он и все, кто с ним пришел, искали: Комоды перерыли, сундуки, Нашли белье и кружевные шали, Гребенки, туфли, тонкие чулки (Чем женщины от века украшали Часы безделья, неги и тоски), Потом еще потыкали с отвагой Во все диваны и портьеры шпагой.144
Иные заглянули под кровать И там нашли… не то, чего хотели, Окно открыли, стали толковать, Что и следов не видно, в самом деле! Посовещались шепотом опять И комнату вторично оглядели, Но странно: ни один не мог смекнуть, Что и в постель бы надо заглянуть!145
«Ищите всюду! — Юлия кричала. — Отныне ваша низость мне ясна! Как долго я терпела и молчала, Такому зверю в жертву отдана! Смириться попыталась я сначала! Альфонсо! Я вам больше не жена! Я не стерплю! Я говорю заранее! И суд и право я найду в Испании!146
Вы мне не муж, Альфонсо! Спору нет — Вам и названье это не пристало! Подумайте! Вам трижды двадцать лет! За пятьдесят — и то уже немало! Вы грубостью попрали этикет! Вы чести осквернили покрывало! Вы негодяй, вы варвар, вы злодей, — Но вы жены не знаете своей!147
Напрасно, вам доставить не желая Ревнивого волненья, вопреки Советам всех подруг, себе взяла я Глухого старика в духовники! Но даже он однажды, отпуская Мои невинно-детские грехи, С улыбкою сказал шутливо все же, Что я на дам замужних не похожа!148
Из юношей Севильи никого Моим кортехо я не называла. Что видела я в жизни? — Ничего! Бои быков, балы да карнавалы! Суровой честью нрава моего Я всех моих поклонников пугала! Сам граф О’Рилли{435} мной отвергнут был, Хоть он Алжир геройски покорил[29].149
Не мне ль певец прославленный Каццани Шесть месяцев романсы распевал И не меня ль прекрасный граф Корньяни{436} Испанской добродетелью назвал? У ног моих бывали англичане, Граф Строганов к любви моей взывал, Лорд Кофихаус{437}, не вымолив пощады, Убил себя вином в пылу досады!150
А как в меня епископ был влюблен? А герцог Айкр? А дон Фернандо Нуньес? Так вот каков удел покорных жен: Нас оскорбляет бешеный безумец — К себе домой нахально, как в притон, Приводит он ораву с грязных улиц! Ну что же вы стоите? Может быть, Жену вы пожелаете избить?151
Так вот зачем вчера вы толковали, Что будто уезжаете куда-то! Я вижу, вы законника призвали: Подлец молчит и смотрит виновато! Такую массу глупостей едва ли Придумали бы вы без адвоката! Ему же не нужны ни вы, ни я, — Лишь низменная выгода своя!152
Вы комнату отлично перерыли, — Быть может, он напишет протокол? Не зря ж ему вы деньги заплатили! Прошу вас, сударь, вот сюда, за стол! А вы бы, дон Альфонсо, попросили, Чтоб этот сброд из комнаты ушел: Антонии, я вижу, стыдно тоже! (Та всхлипнула: «Я наплюю им в рожи!»)153
Ну что же вы стоите? Вот комод! В камине можно спрятаться! В диване! Для карлика и кресло подойдет! Я больше говорить не в состоянье! Я спать хочу! Уже четыре бьет! В прихожей поискали бы! В чулане! Найдете — не забудьте показать: Я жажду это диво увидать!154
Ну что ж, идальго? Ваши подозренья Пока вы не успели подтвердить? Скажите нам хотя бы в утешенье: Кого вы здесь надеялись открыть? Его происхожденье? Положенье? Он молод и прекрасен, может быть? Поскольку мне уж больше нет спасенья, Я оправдаю ваши опасенья!155
Надеюсь, что ему не пятьдесят? Тогда бы вы не стали торопиться, Свою жену ревнуя невпопад!.. Антония!! Подайте мне напиться!! Я на отца похожа, говорят: Испанке гордой плакать не годится! Но чувствовала ль матушка моя, Что извергу достанусь в жертву я!156
Быть может, вас Антония смутила: Вы видели — она спала со мной, Когда я вашей банде дверь открыла! Хотя бы из пристойности одной На будущее я бы вас просила, Когда обход свершаете ночной, Немного подождать у этой двери И дать одеться нам по крайней мере!157
Я больше вам ни слова не скажу, Но пусть мое молчанье вам покажет, Как втайне я слезами исхожу, Как тяжело печаль на сердце ляжет! Я вашего поступка не сужу! Настанет час — и совесть вам подскажет, Как был он глуп, и жалок, и жесток!.. Антония! Подайте мне платок!..»158
Она затихла, царственно бледна, С глазами, пламеневшими мятежно, Как небо в бурю. Темная волна Ее волос, рассыпанных небрежно, Ей затеняла щеки. Белизна Ее атласных плеч казалась снежной. Откинувшись в подушки, чуть дыша, Она была как ангел хороша.159
Синьор Альфонсо был весьма сконфужен. Антония, по комнате носясь, Косилась на осмеянного мужа, Управиться с уборкой торопясь. Отряд ревнивцев был обезоружен, Их ловкая затея сорвалась; Один лишь адвокат, лукавый малый, Не удивлялся этому нимало.160
Насмешливо приглядывался он К Антонии, мелькавшей суетливо. В проступке был он твердо убежден И ожидал довольно терпеливо, Когда он будет вскрыт и подтвержден. Давно он знал, что искренне правдивы Лишь наши лжесвидетели, когда Владеют ими страх или нужда.161
Но дон Альфонсо вид имел унылый И подлинно достойный сожаленья, Когда из нежных уст супруги милой Выслушивал упреки и глумленья. Они его хлестали с дикой силой, Как частый град равнины и селенья, И он, улик не видя никаких, Был обречен покорно слушать их!162
Он даже попытался извиняться, Но Юлия тотчас же принялась Стонать, и задыхаться, и сморкаться; И, в этом усмотрев прямую связь С истерикой, решил ретироваться Наш дон, Альфонсо, на жену косясь, И, бурные предвидя объясненья С ее родней, набрался он терпенья.163
Он слова три успел пробормотать, Но ловкая Антония умело Его смутила: «Что тут толковать! Мне, сударь, и без вас немало дела! Синьора умирает!» — «Наплевать! — Пробормотал Альфонсо. — Надоело!» И, сам не зная, как и почему, Он сделал, что приказано ему.164
За ним ушел, провалом огорчен, Его угрюмый posse comitatus{438}, Всех позже — адвокат; у двери он Пытался задержаться? адвокату Смущаться не пристало, но смущен Он был, что в доказательствах — hiatus! [30] Антония могла его теперь Без церемоний выставить за дверь.165
Как только дверь закрылась, — о, стенанье! О, женщины! О, ужас! О, позор! О, лживые прекрасные созданья, Как может мир вам верить до сих пор! — Произнесу ль ужасное признанье? Едва лишь дверь закрылась на запор, Как Дон-Жуан, невидимый доселе, Слегка примятый, вылез из постели!166
Он спрятан был и ловко и умно, Но где и как — я обсуждать не смею: Среди пуховиков не мудрено Упаковать предмет и покрупнее. Оно, наверно, душно и смешно, Но я ничуть Жуана не жалею, Что мог он утонуть в волнах перин, Как в бочке Кларенс, сей любитель вин{439}.167
И наконец жалеть его не след, Поскольку он грешил по доброй воле И сам, нарушив божеский завет, Себе готовил горестную долю. Но, право, никому в шестнадцать лет Раскаянье не причиняет боли, И лишь за шестьдесят и бес и бог Подводят нашим шалостям итог!168
Как выглядел Жуан — мы не видали, Но в Библии легко об этом справиться: Врачи царю Давиду{440} прописали Взамен пиявки юную красавицу. В достойном старце силы заиграли Живей, и не замедлил он поправиться. Однако я не знаю, как Давид, — А Дон-Жуан имел унылый вид!169
Но каждая минута драгоценна: Альфонсо возвратится! Как тут быть? Антония, умевшая мгновенно Разумные советы находить, На этот раз не знала совершенно, Как новую атаку отразить. А Юлия молчала, отдыхая, К щеке Жуана губы прижимая.170
Жуан уже прильнул к ее губам И плечи ей поглаживал устало, О страхе позабыв. «Да полно вам! — Антония сердито прошептала. — Поди служи подобным господам! До глупостей ли нынче? Все им мало! Мне этого красавчика пора Упрятать в шкаф до самого утра!171
Я вся еще дрожу! Помилуй бог! Ведь этакая вышла суматоха! И — да простится мне! — такой щенок Виновник был всего переполоха! Ох, я боюсь, хозяин очень строг! Не кончились бы шутки наши плохо! Я потеряю место, — ну, а вы Останетесь как раз без головы!172
И что за вкус? Ну, будь мужчина статный, Лет двадцати пяти иль тридцати, Оно, пожалуй, было бы понятно, — А то мальчишка, господи прости! Ну, лезьте в шкаф и стойте аккуратно — Хозяин может в комнату войти; Не шаркайте ногами, не сопите, А главное — пожалуйста, не спите!»173
Но тут Альфонсо — грозный господин — Ее прервал внезапным появленьем. На этот раз он был совсем один И потому с угрюмым нетерпеньем Ей сделал знак уйти. Не без причин На госпожу взглянула с сожаленьем Антония, потом свечу взяла И, сделав книксен, вежливо ушла.174
Альфонсо постоял минуты две И принялся опять за извиненья: Он лепетал о ветреной молве И о своем нелепом поведенье, О смутных снах, о шуме в голове; Ну, словом, речь его была смешенье Риторики и несуразных фраз, В которых он мучительно увяз.175
Но Юлия, не говоря ни слова, Ему внимала. Женщина молчит, Когда оружье у нее готово, Которое супруга поразит! В семейных ссорах, в сущности, не ново, Что тот приемлет равнодушный вид, Кто за намек твой на одну измену Тебя уликой в трех сразит мгновенно!176
Она могла бы многое сказать По поводу известного романа Инесы и Альфонсо. Но молчать Она предпочитала. Разве странно, Что ради сына, уважая мать, Она щадила уши Дон-Жуана? А может быть, другим развлечена, Про эту связь не вспомнила она.177
Но я еще причину угадал Ее вполне разумного молчанья: Альфонсо никогда не намекал (Из робости, а может — по незнанью!), К кому он нашу донну ревновал, Инесы допустив упоминанье, Она могла б по верному пути Его на след Жуана навести!178
В столь щекотливом деле очень вреден Один намек. Молчанье — это такт. (Для рифмы нужен «такт» — язык наш беден, Октава — тиранический контракт!) Мне хочется сказать, что наши леди Умеют «замолчать» опасный факт. Их ложь умна, изящна, интересна — И даже им к лицу, коль молвить честно!179
Они краснеют — это им идет, И мы им верим, хоть они и лживы. Притом же отвечать им не расчет: Они обычно так красноречивы, Вздыхая, так кривят прелестный рот И опускают глазки так красиво, Потом слезу роняют, а потом — Мы вместе с ними ужинать идем.180
Итак, Альфонсо каялся. Меж тем Красавица, ему не доверяя, Его еще простила не совсем, И, о пощаде полной умоляя, Стоял он перед ней уныл и нем, Как изгнанный Адам у двери рая, Исполнен покаянья и тоски. И вдруг… наткнулся он на башмаки!181
Ну что же — возразите вы — не чудо Увидеть в спальне дамский башмачок! Увы, друзья, скрывать от вас не буду: То были башмаки для крупных ног! Альфонсо покраснел. Мне стало худо! Я, кажется, от страха занемог! Альфонсо, форму их проверив тщательно, Вскипел и разъярился окончательно.182
Он выбежал за шпагою своей, А наша донна к шкафу подбежала: «Беги, мой милый друг, беги скорей! — Она, открывши дверцы, прошептала. — В саду темно, не видно сторожей, На улицах еще народу мало!! Я слышу, он идет! Спеши! Спеши! Беги! Прощай, звезда моей души!»183
Совет, конечно, был хорош и верен, Но слишком поздно был преподнесен И потому, как водится, потерян. Досадой и волненьем потрясен, Одним прыжком Жуан уж был у двери, Но тут с Альфонсо повстречался он: Тот был в халате и во гневе яром, Но сбил его Жуан одним ударом.184
Свеча потухла. Кто-то закричал, Антония вопила: «Воры! Воры!» Никто из слуг на крик не отвечал. Альфонсо, озверевший от позора, Жестокою расправой угрожал. Жуан в припадке пылкого задора Как турок на Альфонсо налетел: Он жертвою быть вовсе не хотел.185
Альфонсо шпагу выронил впотьмах. Чего Жуан, по счастью, не заметил. Будь эта шпага у него в руках, Давно б Альфонсо не было на свете. Они, тузя друг друга впопыхах, Барахтались, как маленькие дети. Ужасный час, когда плохой жене Грозит опасность овдоветь вдвойне!186
Мой Дон-Жуан отважно отбивался, И скоро кровь ручьями полилась Из носа мужа. Он перепугался И выпустил соперника, смутясь. Но, к сожаленью, рыцарь мой остался, Из цепких рук его освободясь, — Как молодой Иосиф{441} из Писания, В решительный момент без одеяния!187
Тут прибежали слуги. Стыд и страх! Какое зрелище предстало взору: В крови синьор, Антония в слезах, И в обмороке юная синьора! Следы жестокой схватки на коврах: Осколки ваз, оборванные шторы. Но Дон-Жуан проворен был и смел И за калитку выскочить успел.188
Тут кончу я. Не стану воспевать, Как мой Жуан, нагой, под кровом ночи (Она таких готова покрывать!) Спешил домой и волновался очень, И что поутру стали толковать, И как Альфонсо, зол и озабочен, Развод затеял. Обо всем как есть В газетах все вы можете прочесть.189
Расскажет вам назойливая пресса, Как протекал процесс и сколько дней, Какие были новые эксцессы, Что говорят о нем и что о ней. (Среди статей, достойных интереса, Гернея{442} стенограмма всех точней: Он даже побывал для этой цели В Мадриде, как разведать мы успели.)190
Инеса, чтобы как-нибудь утих Ужасный шум великого скандала. (В Испании уж не было таких Со времени нашествия вандала!), Двенадцать фунтов свечек восковых Святой Марии-деве обещала, А сына порешила отослать В чужих краях забвенья поискать.191
Он мог бы там набраться новых правил, Узнать людей, усвоить языки, В Италии б здоровье он поправил, В Париже излечился б от тоски. Меж тем Альфонсо Юлию отправил Замаливать в монастыре грехи. Я чувств ее описывать не стану, Но вот ее посланье к Дон-Жуану.192
«Ты уезжаешь. Это решено И хорошо и мудро, — но ужасно! Твое младое сердце суждено Не мне одной, и я одна несчастна! Одно искусство было мне дано: Любить без меры! Я пишу неясно, Но пятна на бумаге не следы Горячих слез: глаза мои горды.193
Да, я любила и люблю — и вот Покоем, честью и души спасеньем Пожертвовала страсти. Кто поймет, Что это я пишу не с огорченьем? Еще теперь в душе моей живет Воспоминанье рядом со смиреньем. Не смею ни молить, ни упрекать, Но, милый друг, могу ли не вздыхать?194
В судьбе мужчин любовь не основное, Для женщины любовь и жизнь — одно, В парламенте, в суде, на поле боя Мужчине подвизаться суждено. Он может сердце вылечить больное Успехами, почетом, славой, но Для нас одно возможно излеченье: Вновь полюбить для нового мученья!195
Ты будешь жить, ласкаем, и любим, Любя, лаская и пленяя многих, А я уйду с раскаяньем моим В молчанье дней молитвенных и строгих. Но страсти пыл ничем непобедим: Я все еще горю, я вся в тревоге! Прости меня! Люби меня! Не верь Моим словам: все кончено теперь!196
Да, я слаба и телом и душой, Но я способна с мыслями собраться. Как волны океана под грозой, Мои мечты покорные стремятся Лишь к одному тебе. Одним тобой Могу я жить, дышать и наслаждаться: Так в компасе настойчивый магнит К заветной точке рвется и дрожит.197
Все сказано, но у меня нет силы Проститься навсегда с моей весной. Я так тебя любила, друг мой милый, Такой жестокий жребий предо мной! Зачем меня страданье не убило? Мне суждено остаться вновь одной, Разлуку пережить и удалиться, Тебя любить и о тебе молиться!»198
Она писала это billet doux[31] На листике с каемкой золотою: Казалось, было ей невмоготу Скрепить письмо печатью вырезною С девизом нежным «Elle vous suit partout»[32]{443}, Что означает: «Я всегда с тобою», С подсолнечником, верности цветком, Который всем любовникам знаком.199
Вот первое Жуана приключенье. О новых я не смею продолжать: Мне нужно прежде умное сужденье И вкусы нашей публики узнать: Их милость укрепляет самомненье, А их капризам надо потакать. Но если одобренье заслужу я, То через год даю главу вторую,200
Эпической была наречена Моя поэма. В ней двенадцать книг, Любовь, страданья, бури и война, И блеск мечей, и тяжкий лязг вериг, Вождей, князей, героев имена, Пейзажи ада, замыслы владык: Все без обмана, в самом лучшем стиле, Как нас Гомер с Вергилием учили.«Паломничество Чайльд-Гарольда»
201
Давно мы с Аристотелем друзья: Сей vademecum[33] каждому годится. Его поэтов дружная семья Влюбленно чтит, им хор глупцов гордится. Прозаик любит белый стих, но я За рифму: дело мастера боится! А у меня запас всегда готов Сравнений, и цитат, и острых слов.202
Есть у меня отличие одно От всех, писавших до меня поэмы, Но мне заслугой кажется оно: Ошибки предков замечаем все мы, И эту доказать не мудрено: Они уж слишком украшают тему, За вымыслом блуждая вкривь и вкось, А мне вот быть правдивым удалось!203
А ежели вы склонны сомневаться, Узнаете вы правду из газет, Могу и на историю сослаться, На оперу, на драму, на балет; Да наконец, уж если признаваться, Я расскажу вам (это не секрет!): Я видел сам недавно, как в Севилье Жуана черти в бездну утащили!{444}204
Уж если я до прозы снизойду, То заповеди напишу поэтам: Я всех моих собратий превзойду, Подобным занимавшихся предметом, Всем вкусам я итоги подведу И назову сей ценный труд при этом: «Лонгин с бутылкой», или «Всяк пиит Будь сам себе закон и Стагирит{445}».205
{446}
Чти Мильтона и Попа{447}: никогда Не подражай мужам Озерной школы: Их Вордсворт — безнадежная балда, Пьян Колридж, а у Саути слог тяжелый; У Кэмбела стихи — одна вода, А трудный Крабб — соперник невеселый; От Роджерса ни строчки не бери И с музой Мура флирта не твори.206
Не пожелай от Созби{448} ни Пегаса, Ни музы, ни всего его добра, Не клевещи на ближних для прикрасы И сплетнями не оскверняй пера, Пиши без принуждения, без гримасы, Пиши, как я (давно уже пора!), Целуй мою лозу, а не желаешь — Ты на своей спине ее узнаешь!207
Уж если вы хотите утверждать, Что этот мой рассказ лишен морали, То мне придется искренне сказать, Что вы его ни разу не читали! Рассказ мой весел, не хочу скрывать. (Я враг нравоучительной печали!) В двенадцатой же песне я хотел Изобразить всех грешников удел.208
Но тем из вас, чей извращенный разум, Улик и сплетен разбирая хлам, Все доводы опровергая разом, Не веря мне и собственным глазам, Твердит про «аморальную заразу», — Я вам скажу — пиитам и попам: «Вы просто лжете, дорогие сэры! Точнее — заблуждаетесь без меры!»209
{449}
Я рад во вкусе бабушек писать? Я ссориться с читателем не смею, Мне все же лавры хочется стяжать Эпической поэмою моею. (Ребенку надо что-нибудь сосать, Чтоб зубки прорезались поскорее!) Я, чтоб читатель-скромник не бранил, «Британский вестник» бабушкин купил.210
Я взятку положил в письмо к издателю И даже получил его ответ: Он мило обещал (хвала создателю!) Статью — хвалебных отзывов букет! Но если он (что свойственно приятелю) Обманет и меня, и целый свет И желчью обольет меня язвительно, — Он деньги взял с меня, ему простительно.211
Но верю я: священный сей союз Меня вполне спасет от нападенья, И ублажать журналов прочих вкус Не стану в ожиданье одобренья! Они не любят наших юных муз, И даже в «Эдинбургском обозренье» Писатель, нарушающий закон, Весьма жестокой каре обречен.212
«Non ego hoc ferrem calida juventa»[34]{450}, — Гораций говорил, скажу и я: Лет семь тому назад — еще до Бренты — Была живее вспыльчивость моя: Тогда под впечатлением момента Удары все я возвращал, друзья. Я б это дело втуне не оставил, Когда Георг, по счету третий, правил.213
Но в тридцать лет седы мои виски, Что будет в сорок — даже и не знаю: Поглядывать я стал на парики. Я сердцем сед! Еще в начале мая Растратил я хорошие деньки, Уж я себя отважным не считаю: Я как-то незаметно промотал И смелости и жизни капитал.214
О, больше никогда на сердце это Не упадет живительной росой Заветный луч магического света, Рождаемый восторгом и красой! Подобно улью пчел, душа поэта Богата медом — творческой весной; Но это все — пока мы сами в силах Удваивать красу предметов милых!215
О, никогда не испытаю я, Как это сердце ширится и тает, Вмещая все богатства бытия, И гневом и восторгом замирает. Прошла навек восторженность моя. Бесчувственность меня обуревает, И вместо сердца слышу все ясней Рассудка мерный пульс в груди моей.216
Минули дни любви. Уж никогда Ни девушки, ни женщины, ни вдовы Меня не одурачат, господа! Я образ жизни избираю новый: Все вина заменяет мне вода, И всех страстей отбросил я оковы, Лишь скупости предаться я бы мог, Поскольку это — старческий порок. [35]217
Тщеславию я долго поклонялся, Но божествам Блаженства и Печали Его я предал. Долго я скитался, И многие мечты меня прельщали; Но годы проходили, я менялся. О, солнечная молодость! Не я ли Растрачивал в горячке чувств и дум На страсти — сердце и на рифмы — ум…218
В чем слава? В том, чтоб именем своим Столбцы газет заполнить поплотнее. Что слава? Просто холм, а мы спешим Добраться до вершины поскорее. Мы пишем, поучаем, говорим, Ломаем копья и ломаем шеи, Чтоб после нашей смерти помнил свет Фамилию и плохонький портрет!219
Египта царь Хеопс{451}, мы знаем с вами, Для памяти и мумии своей Себе воздвиг над многими веками Гигантский небывалый мавзолей. Он был разграблен жадными руками, И не осталось от царя царей, Увы, ни горсти праха. Так на что же Мы, грешные, надеяться-то можем?220
Но все же, философию ценя, Я часто говорю себе: увы, Мы — существа единственного дня, И наш удел — удел любой травы! Но юность и у вас и у меня Была приятна, согласитесь вы! Живите же, судьбу не упрекая, Копите деньги, Библию читая!..221
Любезный мой читатель (а верней — Любезный покупатель), до свиданья! Я жму вам руку и на много дней Вам искренне желаю процветанья. Мы встретимся, пожалуй, попоздней, Коль явится на то у вас желанье. (Я от собратьев отличаюсь тем, Что докучать я не люблю совсем!)222
{452}
«Иди же, тихий плод уединенья! Пускай тебя по прихоти несет Веселых вод спокойное теченье, И мир тебя когда-нибудь найдет!» Уж если Боб{453} находит одобренье И Вордсворт понят — мой теперь черед! Четыре первых строчки не считайте Моими: это Саути, так и знайте!Песнь вторая
{454}
1
О вы, друзья, кому на обученье Цвет молодежи всех народов дан, — Секите всех юнцов без сожаленья Во исправленье нравов разных стран! Напрасны оказались наставленья Мамаши образцовой, и Жуан, Чуть только на свободе очутился, Невинности и скромности лишился.2
Начни он просто школу посещать, Учись он ежедневно и помногу, Он не успел бы даже испытать Воображенья раннюю тревогу. О, пламенного климата печать! О, ужас и смятенье педагога! Как был он тих, как набожен! И вот В шестнадцать лет уж вызвал он развод.3
По правде, я не слишком удивлен, Все к этому вело, судите сами: Осел-наставник, величавый тон Мамаши с философскими мозгами, Хорошенькая женщина и дон Супруг, слегка потрепанный годами, — Стеченье обстоятельств, как назло, Неотвратимо к этому вело.4
Вокруг своей оси весь мир кружится: Мы можем, восхваляя небеса, Платить налоги, жить и веселиться, Приспособляя к ветру паруса, Чтить короля, у доктора лечиться, С попами говорить про чудеса, — И мы за это получаем право На жизнь, любовь и, может быть, на славу.5
Итак, поехал в Кадис мой Жуан. Прелестный город; я им долго бредил. Какие там товары южных стран! А девочки! (Я разумею — леди!) Походкою и то бываешь пьян, Не говоря о пенье и беседе, — Чему же уподобит их поэт, Когда подобных им на свете нет!6
Арабский конь, прекрасная пантера, Газель или стремительный олень — Нет, это все не то! А их манеры! Их шали, юбки, их движений лень! А ножек их изящные размеры! Да я готов потратить целый день, Подыскивая лучшие сравненья, Но муза, вижу я, иного мненья.7
Она молчит и хмурится. Постой! Дай вспомнить нежной ручки мановенье, Горячий взор и локон золотой! Пленительно-прекрасное виденье В душе, сияньем страсти залитой! Я забывал и слезы и моленья, Когда они весною при луне Под «фаццоли»[36] порой являлись мне.8
Но ближе к делу. Маменька послала Жуана в Кадис, чтобы блудный сын Пустился года на три — срок немалый — В чужие страны странствовать один. Таким путем Инеса отрывала Его от всех, казалось ей, причин Грехопадений всяческих: не скрою, Был для нее корабль — ковчегом Ноя{455}.9
Жуан велел лакею своему Упаковать баулы кочевые. Инесе стало грустно — потому, Что уезжал он все-таки впервые На долгий срок. Потом она ему Вручила на дорогу золотые Советы и монеты; наш герой Из этих двух даров ценил второй.10
Инеса между тем открыла школу Воскресную для озорных детей, Чей нрав неукротимый и тяжелый Сулил улов для дьявольских сетей. С трех лет младенцев мужеского пола Здесь розгами стегали без затей. Успех Жуана в ней родил решенье Воспитывать второе поколенье.11
И вот готов к отплытью Дон-Жуан; Попутный ветер свеж, и качка злая; Всегда в заливе этом океан, Соленой пеной в путников швыряя, Бурлит, чертовской злобой обуян. Уж я-то нрав его отлично знаю! И наш герой на много-много дней Прощается с Испанией своей.12
Когда знакомый берег отступает В туманы моря, смутная тоска Неотвратимо нас обуревает — Особенно, конечно, новичка. Все берега, синея, исчезают, Но помню я — как снег и облака, Белея, тают берега Британии{456}, Нас провожая в дальние скитания.13
Итак, Жуан на палубе стоял. Ругались моряки, скрипели реи, Выл ветер, постепенно исчезал Далекий город, пятнышком чернея. Мне от морской болезни помогал Всегда бифштекс. Настаивать не смею, Но все же, сэр, примите мой совет; Попробуйте, худого в этом нет.14
Печально он на палубе стоял, Взирая на Испанию родную. Любой солдат, который покидал Свою отчизну, знает боль такую; Любой душой и сердцем трепетал, Любой в минуту эту роковую, Забыв десятки гнусных лиц и дел, На шпиль церковный горестно глядел.15
Он оставлял любовницу, мамашу И, что важней, не оставлял жены. Он сильно горевал, и — воля ваша — Вы все ему сочувствовать должны: И нам, испившим опытности чашу, Часы прощанья все-таки грустны, Хоть чувства в нас давно оледенели, — А наш красавец плакал в самом деле.16
Так плакали Израиля сыны{457} У Вавилонских рек о днях счастливых, — И я б заплакал в память старины, Да муза у меня не из плаксивых. Я знаю, путешествия нужны Для юношей богатых и пытливых: Для упаковки им всего нужней Листки поэмы ветреной моей.17
Жуан рыдал, и слез текли ручьи Соленые — в соленое же море. «Прекрасные — прекрасной»{458}, — ведь сии Слова произносила в Эльсиноре Мать принца датского, цветы свои На гроб Офелии бросая. В горе, Раскаяньем томимый и тоской, Исправиться поклялся наш герой.18
«Прощай, моя Испания, — вскричал он. — Придется ль мне опять тебя узреть? Быть может, мне судьба предназначала В изгнанье сиротливо умереть! Прощай, Гвадалкивир! Прощайте, скалы, И мать моя, и та, о ком скорбеть Я обречен!» Тут вынул он посланье И перечел, чтоб обострить страданье.19
«Я не могу, — воскликнул Дон-Жуан, — Тебя забыть и с горем примириться! Скорей туманом станет океан И в океане суша растворится, Чем образ твой — прекрасный талисман — В моей душе исчезнет; излечиться Не может ум от страсти и мечты!» (Тут ощутил он приступ тошноты.)20
«О Юлия! (А тошнота сильнее.) Предмет моей любви, моей тоски!.. Эй, дайте мне напиться поскорее! Баттиста! Педро! Где вы, дураки?.. Прекрасная! О боже! Я слабею! О Юлия!.. Проклятые толчки!.. К тебе взываю именем Эрота!» Но тут его слова прервала… рвота.21
Он спазмы ощутил в душе (точней — В желудке), что, как правило, бывает, Когда тебя предательство друзей, Или разлука с милой угнетает, Иль смерть любимых — и в душе твоей Святое пламя жизни замирает. Еще вздыхал бы долго Дон-Жуан, Но лучше всяких рвотных океан.22
Любовную горячку всякий знает: Довольно сильный жар она дает, Но насморка и кашля избегает, Да и с ангиной дружбы не ведет. Недугам благородным помогает, А низменных — и в слуги не берет! Чиханье прерывает вздох любовный, А флюс для страсти вреден безусловно.23
Но хуже всех, конечно, тошнота. Как быть любви прекрасному пыланью При болях в нижней части живота? Слабительные, клизмы, растиранья Опасны слову нежному «мечта», А рвота для любви страшней изгнанья! Но мой герой, как ни был он влюблен, Был качкою на рвоту осужден.24
Корабль, носивший имя «Тринидада», В Ливорно шел; обосновалось там Семейство по фамилии Монкада — Родня Инесе, как известно нам. Друзья снабдить Жуана были рады Письмом, которое повез он сам, О том, чтобы за ним понаблюдали и С кем нужно познакомили в Италии.25
Его сопровождали двое слуг И полиглот-наставник, дон Педрилло, — Веселый малый, но морской недуг Его сломил: всю ночь его мутило! В каюте, подавляя свой испуг, Он помышлял о береге уныло, А качка, все сдвигая набекрень, Усиливала страшную мигрень.26
Да, ветер положительно крепчал, И к ночи просто буря разыгралась. Хоть экипаж ее не замечал, Но пассажирам все-таки не спалось. Матросов ветер вовсе не смущал, Но небо испугало. Оказалось, Что паруса приходится убрать, Из опасенья мачты потерять.27
{459}
В час ночи шквал ужасный налетел, Швырнул корабль с размаху, как корыто; Открылась течь, и остов заскрипел, Большая мачта оказалась сбита. Корабль весь накренился и осел, Как раненый, не чающий защиты; И скоро, в довершение беды, Набралось в трюмах фута три воды.28
Часть экипажа, устали не зная, Взялась за помпы, прочие меж тем Пробоину искали, полагая, Что можно бы заткнуть ее совсем. Напрасный труд: упрямая и злая Вода, наперекор всему и всем, Просачивалась буйно сквозь холстину, Тюки белья, атласа и муслина.29
Ничто б несчастным не могло помочь — Ни стоны, ни молитвы, ни проклятья, И все ко дну пошли бы в ту же ночь, Когда б не помпы. Вам, мои собратья, Вам, мореходы Англии, не прочь Чудесные их свойства описать я: Ведь помпы фирмы Мэнна — без прикрас! — Полсотни тонн выкачивают в час.30
С рассветом буря стала утихать И даже течь как будто ослабела. Матросы, не решаясь отдыхать, Насосами работали умело. Но к ночи ветер поднялся опять, И море беспокойно заревело, А ураган, набравшись новых сил, Корабль одним ударом накренил.31
Измученный, лежал он без движенья, На палубы нахлынула вода. (Картин пожаров, битв и разрушенья Не забывают люди никогда, Но, хоть рождают боль и сожаленье Разбитые сердца и города, Всем уцелевшим, как давно известно, О катастрофе вспомнить интересно.)32
Матросы, топором вооружась, Грот-мачту торопливо подрубили, Но, как бревно, лежал, не шевелясь, Как будто ослабевший от усилий, Больной корабль; тревожно суетясь, Фок-мачту и бушприт они свалили — И, как старик, что превозмог недуг, Корабль с усильем выпрямился вдруг.33
Естественно, что в час такой плачевный Всех пассажиров ужас обуял: И аппетит их, и покой душевный Жестокой бури приступ нарушал. Ведь даже и матросы, к повседневной Опасности привыкнув, каждый шквал Встречают смело, только дозой грога И рома ободренные немного.34
Ничто так не способно утешать, Как добрый ром и пламенная вера: Матросы, собираясь умирать, И пили и молились свыше меры; А волны продолжали бушевать, Клубились тучи в небе мутно-сером, И, вторя вою океана, ввысь Проклятья, стоны и мольбы неслись.35
Но Дон-Жуан один не растерялся, Находчивость сумел он проявить: Он вынул пистолет и попытался Безумство на борту остановить, И экипаж ему повиновался; Они страшились пули, может быть, Сильней, чем волн, хоть моряки считают, Что во хмелю тонуть им подобает.36
Идти ко дну готовясь через час, Они просили грогу. Но упорно Жуан им отвечал: «Меня и вас Погибель ждет, но умирать позорно В обличье скотском!» Власти подчинясь, Ему внимали пьяницы покорно, И сам Педрилло, выбившись из сил, Напрасно грогу у него просил.37
Старик несчастный был разбит совсем: Он жаловался громко, и молился, И каялся в грехах, и клялся всем, Что он теперь вполне переродился; Теперь, не отвлекаемый ничем, В науки б он прилежно погрузился, Никто его не мог бы соблазнить Для Дон-Жуана Санчо Пансой быть.38
Потом опять надежда появилась — К рассвету ветер несколько утих. Но с прежней силой течь возобновилась; Усилий не жалея никаких, Команда вновь за помпы ухватилась, А два десятка слабых и больных На солнце сели, кости прогревая И к парусам заплаты пришивая.39
Желая течь хоть как-нибудь унять, Они под киль поддели парусину. Пусть кораблю без мачт не совладать С разгулом урагана и пучины, Но никогда не нужно унывать, Встречая даже страшную кончину! Хоть умирать приходится лишь раз, Но как — вот это беспокоит нас!40
Швыряли волны их и ветры били По воле и по прихоти своей. Матросы и руля не укрепили, И отдыха не знали много дней, Но ждали все же наступленья штиля (Надежда подкрепляет всех людей). Корабль, конечно, плыл еще куда-то, Но по сравненью с уткой — плоховато.41
Пожалуй, ветер стал ослабевать, Зато корабль держался еле-еле, И все, кто начал это сознавать, Насупились и явно оробели; Притом воды им стало не хватать. Напрасно в телескоп они глядели: Ни паруса, ни полосы земли — Лишь море предвечернее вдали.42
А к ночи снова буря разыгралась, И в трюме и на палубе опять Вода, как накануне, показалась. Все знали, что теперь несдобровать. Все помпы отказали. Оставалось На жалость волн и бури уповать, — А волны столь же к жалости способны, Как люди в дни войны междоусобной.43
Вот плотник, со слезами на глазах, Измученный, явился к капитану. Он был силен, хотя уже в годах, Не раз уж он по злому океану Отважно плавал, и отнюдь не страх Его заставил плакать, — но не странно, Что он заплакал: он семью имел И в страшный час детей своих жалел.44
Корабль тонул. Мольбы и заклинания, Все пассажиры начали кричать: По сотне свеч угодникам заранее Несчастные старались обещать. Иные в этом хаосе стенания Спешили шлюпки на море спускать, Один к Педрилло бросился в смятенье, Прося хоть у него благословенья.45
Иные наряжались, торопясь, Как будто на воскресное гулянье; Иные рвали волосы, крестясь, И плакали, кляня существованье; Иные, в лодке плотно умостясь, Утешились на время от сознанья, Что лучше корабля хороший челн Противиться способен гневу волн.46
Но, к сожаленью, в этом состоянье, Усталые от страха и тоски, Они тащили в диком состязанье Куда попало кадки и тюки. Ведь, даже умирая, о питанье Мечтают люди, смыслу вопреки! Но в катер погрузили очень мало: Мешок с галетами и бочку сала.47
Зато в баркас успели взять и ром, И хлеб, слегка подмоченный, и мясо — Свинину и говядину; притом Воды бочонок взяли для баркаса И даже пять огромных фляг с вином — По существу, немалые запасы! Хотя при обстоятельствах таких И на неделю б не хватило их.48
Все остальные лодки потеряли В начале шторма. Впрочем, и баркас Был в жалком состоянье и едва ли Мог долго продержаться. Но сейчас Не думали об этом: все мечтали За борт скорее прыгнуть, чтобы час Урвать у жизни: всем уж ясно стало, Что лодок для спасенья не хватало.49
Вот сумерки, как лиловатый дым, Над водною пустыней опустились; Ночь надвигалась облаком густым, И лица всё бледнее становились: За этой пеленой, казалось им, Черты чего-то гневного таились. Двенадцать дней их страх сводил с ума, Теперь его сменила смерть сама.50
Кто в силах был — трудились над плотом: Нелепая затея в бурном море; Хотя смешного мало было в том, Но остальные, облегчая горе, Над ними насмехались. Крепкий ром Подогревал веселье. В страшной своре Полубезумцев, полумертвецов Их дикий смех казался визгом псов.51
К восьми часам бочонки, доски, реи — Всё побросали в море, что могли. По небу тучи, сумрачно темнея, Скрывая звезды, медленно ползли. От корабля отчалив поскорее, Как можно дальше лодки отошли. Вдруг черный остов дрогнул, накренился И как-то сразу в воду погрузился.52
И тут вознесся к небу страшный крик Прощанья с жизнью. Храбрые молчали, Но вой трусливых был смертельно дик; Иные, в волны прыгая, рыдали, И волны жадно поглощали их, И снова пасть пучины разевали. Так в рукопашной схватке в жажде жить Спешат враги друг друга задушить.53
Вот над могучим воем урагана Еще один последний общий стон Рванулся в тьму полночного тумана И снова, громом бури заглушен, Умолк в пустыне черной океана; Но ветер доносил со всех сторон Лишь крики одиноких утопавших — Агонию пловцов ослабевавших.54
Нагруженные лодки отошли Заранее, но те, кто были в них, Едва ли верить искренне могли Теперь в спасенье бренных тел своих, Куда бы волны их ни понесли. В баркасе только тридцать было их, А в катере лишь девять поместилось, Погрузка неразумно проводилась.55
Все прочие — душ около двухсот — Расстались с христианскими телами. Утопленник недель по восемь ждет, Носимый океанскими волнами, Пока святая месса не зальет Чистилища безжалостное пламя; А месса нынче, что ни говори, Обходится порою франка в три!56
Жуан помочь Педрилло постарался Спуститься своевременно в баркас; Несчастный педагог повиновался (Он весь дрожал, не осушая глаз). Жуан отлично всем распоряжался; Он, верно б, и своих лакеев спас, Но вот беда — Баттиста, он же Тита, Погиб из-за пристрастья к aqua vita[37].57
И Педро не был вовремя спасен По вышеупомянутой причине: На катер неудачно прыгнул он С кормы — и канул в пенистой пучине, Неведеньем блаженно упоен. Вино, в его виновное кончине, Жестокость волн смягчило для него: Он утонул — и больше ничего.58
К отцу хранил герой наш уваженье — Его собачку он с собою вез. Опасности почуяв приближенье, Метался и скулил несчастный пес. Обычно катастрофы и крушенья Предчувствует собачий умный нос! Схватив собачку эту, вместе с нею Жуан мой в лодку прыгнул, не робея.59
Деньгами второпях наполнил он Свои карманы и карман Педрилло — Наставник, истощен и потрясен, Повиновался робко и уныло; Но твердо верил наш отважный дон В свое спасенье, молодость и силы, А потому в такой ужасный час Собачку и наставника он спас.60
А ночь ревела, ветер бесновался, Громады волн вставали с двух сторон, И парус то испуганно вздувался, То опадал, от ветра защищен Стеной воды, и на корму бросался Обрушившийся вал. Сквозь свист и стон Они друг друга слышать перестали, Промокли все до нитки, все устали.61
Разбитый катер вдруг нырнул во мрак, И больше тень его не появлялась. Баркас еще держался на волнах; Из одеял к веслу какой-то парус Приделали матросы кое-как. Но всем собратьев гибель вспоминалась, Всем было жалко сала и галет, Доставшихся акулам на обед.62
Вот солнце встало пламенно-багровое — Предвестник верный шторма; тут одна Возможность — бурю вытерпеть суровую И ждать, чтоб успокоилась она. Всем ослабевшим — средство образцовое — По ложке дали рому и вина С заплесневелым хлебом; все устали. И все в лохмотьях жалких замерзали.63
Их было тридцать, сбившихся толпой, Оборванных и дремлющих устало: Иной сидел с покорностью тупой, Иной лежал, иного даже рвало; От холода и сырости ночной Их лихорадка лютая трепала, И только небо покрывало их — Измученных, голодных и больных.64
Мне говорили, что желанье жить Способно и продлить существованье: Больные могут волей победить Любое тяжкое заболеванье, Предохраняя жизненную нить От ножниц Парки{460}. Страха трепетанье Опасно смертным — робкий человек Свой краткий укорачивает век.65
Но старички, живущие на ренту, Живут, как я заметил, дольше всех И внуков, ожидающих момента Кончины их, частенько вводят в грех. Но, впрочем, за хорошие проценты Дают нам под наследство без помех По векселям ростовщики-евреи, Хотя они всех кредиторов злее.66
В открытом море эта жажда жить Обуревает нас: ни сила шквала, Ни буря не способны победить Сердца пловцов, упорные, как скалы. С опасностью и случаем шутить — Удел матросов; так всегда бывало — И аргонавты, и библейский Ной Спасались этой жаждою одной!67
Но люди плотоядны от рожденья, Как тигр или акула; с юных лет Желудки их привыкли, к сожаленью, Иметь мясное блюдо на обед. Конечно, аппарат пищеваренья И овощной приемлет винегрет, Но трудовой народ привык, признаться, Свининой и говядиной питаться.68
На третий день попали моряки В глубокий штиль — прозрачный, тихокрылый. Как в солнечной лазури голубки, По океану судно их скользило. Распаковав корзинки и мешки, Они поспешно подкрепили силы, Не думая о том, что, может быть, Им каждой крошкой нужно дорожить.69
Последствия легко предугадать: Провизию довольно быстро съели, И выпили вино, и стали ждать, Что ветер их погонит прямо к цели. Баркасом было трудно управлять: Одно весло на всех они имели, Припасов не имея никаких. Какая ж участь ожидала их?70
Четыре дня стояла тишина И паруса висели бездыханно. В спокойствии младенческого сна Едва качались волны океана, А голод рос, как грозная волна. На пятый день собачку Дон-Жуана Убили, вопреки его мольбам, И тут же растащили по кускам.71
Иссохшей шкуркой на шестые сутки Питались все, но продолжал поститься Жуан: ему мешали предрассудки Папашиной собачкой подкрепиться. Но, побежденный спазмами в желудке, Решил передней лапкой поделиться С Педрилло: тот и половинку съел, И на вторую жадно посмотрел.72
Семь дней без ветра солнце пожирало Бессильные недвижные тела, Простертые как трупы. Даль пылала: В ней даже тень прохлады умерла. Ни пищи, ни воды уже не стало, И молчаливо, медленно росла Предвестием неотвратимых бедствий В их волчьих взорах мысль о людоедстве.73
И вот — один товарищу шепнул, Другой шепнул соседу осторожно, И шепот их в зловещий тихий гул Стал разрастаться грозно и тревожно. Никто не знал, кто первый намекнул На то, что все скрывали, сколь возможно, И вдруг решили жребии метать: Кому судьба для братьев пищей стать,74
Они уж накануне раскромсали Все кожаные шапки и ремни И съели. Пищи взоры их искали, Хотели мяса свежего они. Бумаги, впрочем, сразу не достали, Поэтому — о муза, не кляни Жестоких! — у Жуана взяли силой На жребии письмо подруги милой.75
Пришла минута жребии тянуть, И на одно короткое мгновенье Мертвящую почувствовали жуть Все, кто мечтал о страшном насыщенье. Но дикий голод не давал заснуть Вгрызавшемуся в сердце их решенью, И, хоть того никто и не желал, На бедного Педрилло жребий пал.76
Он попросил их только об одном: Чтоб кровь ему пустили; нужно было Ему лишь вену вскрыть — и мирным сном Забылся безмятежно наш Педрилло. Он умер как католик; веру в нем Недаром воспитанье укрепило. Распятье он поцеловал, вздохнул И руку для надреза протянул.77
Хирургу вместо платы полагалось Кусок отличный взять себе, но тот Лишь крови напился; ему казалось, Что как вино она из вены бьет. Матросы съели мясо. Что осталось — Мозги, печенка, сердце, пищевод — Акулам за борт выброшено было. Таков удел несчастного Педрилло.78
Матросы съели мясо, я сказал, За исключеньем тех, кого действительно Сей вид мясоеденья не прельщал. Жуан был в их числе: неудивительно — Уж если он собачку есть не стал, Считая, что сие предосудительно, Не мог он, даже голодом томим, Позавтракать наставником своим!79
И он был прав. Последствия сказались Обжорства их в конце того же дня: Несчастные, безумствуя, метались, Кощунствуя, рыдая и стеня, В конвульсиях по палубе катались, Прося воды, судьбу свою кляня, В отчаянье одежды раздирали — И, как гиены, с воем умирали,80
От этого несчастья их число, Я полагаю, сильно поредело. Но те, кому покамест повезло В живых остаться, думали несмело, Кого бы снова скушать; не пошло На пользу им сознанье злого дела И зрелище жестокой смерти тех, Кто объедался, позабыв про грех.81
Всех толще был помощник капитана, И все о нем подумывали, — но Прихварывал он что-то постоянно; Еще соображение одно Спасло его от гибели нежданно: Ему преподнесли не так давно По дружбе дамы в Кадисе вскладчину Подарок, удручающий мужчину.82
Педрилло уж никто не доедал: На аппетит усердных едоков Невольный страх порядком повлиял. Жуан, ко всем превратностям готов, Куски бамбука и свинца жевал; Когда же случай им послал нырков И пару альбатросов на жаркое, — Покойника оставили в покое.83
Пусть те, кого шокирует из вас Удел Педрилло, вспомнят Уголино{461}: Тот, кончив свой трагический рассказ, Грыз голову врага. Сия картина В аду ничуть не оскорбляет глаз; Тем более уж люди неповинны, Когда они друзей своих едят В минуты пострашней, чем Дантов ад.84
Лишь ночью ливнем тучи разразились. Как трещины засушливой земли, Страдальцев губы жаждою кривились, Ловили капли влаги, как могли. Когда б вы в Малой Азии родились Иль без воды дней десять провели, — В колодец вы мечтали бы спуститься, Где, как известно, истина таится.85
Дождь ливмя лил, но эта благодать Жестокой жажды их не облегчала, Пока не догадались разостлать На палубе остатки одеяла; Его, понятно, стали выжимать И воду пили жадно, одичало, Впервые ощущая, может быть, Насколько велико блаженство пить.86
Глотая воду, как земля сухая, Их губы оставались горячи, Их языки чернели, опухая, В иссохшем рту, как в доменной печи. Так, о росинке нищих умоляя, В аду напрасно стонут богачи! И если это правда, то действительно Доктрина христианства утешительна.87
Среди скитальцев были два отца Измученных и два печальных сына. Один держался бодро до конца, Но умер вдруг, как будто без причины. Старик отец взглянул на мертвеца, Перекрестился истово и чинно, «Да будет воля божья!» — произнес И попрощался с первенцем без слез.«Паломничество Чайльд-Гарольда»
88
Второй ребенок слабеньким казался, Он был изнежен и немного хил, Но долго мальчик смерти не сдавался, Поддерживал в нем дух остатки сил. Отцу ребенок слабо улыбался И слово утешенья находил, Когда в чертах отца, с надеждой споря, Мелькала тень разлуки — ужас горя.89
И, наклонясь над мальчиком своим, Не отрывая глаз, отец унылый Следил за ним, ухаживал за ним. Когда страдальцев ливнем оживило, Ребенок был уж вовсе недвижим, Но взор померкший радость озарила, Когда из тряпки в рот ему отец Хоть каплю влаги выжал наконец.90
Ребенок умер. Пристально и странно Смотрел отец на хладный этот прах, Как будто труп, простертый бездыханно, Еще очнуться мог в его руках. Когда же, став добычей океана, Поплыл мертвец, качаясь на волнах, — Старик упал и встать уж не пытался, Лишь изредка всем телом содрогался.91
Вдруг радуга у них над головой, Прорезав облака над мглою моря, На крутизне воздвиглась голубой. Все стало сразу ярче, словно споря Сияньем с этой аркою цветной; Как плещущее знамя на просторе, Горел ее прекрасный полукруг; Потом поблекнул и растаял вдруг.92
Как ты хорош, хамелеон небесный, Паров и солнца дивное дитя! Подернут дымкой пурпур твой чудесный, Все семицветье светом золотя, — Так полумесяцы во тьме окрестной Горят, над минаретами блестя. (Но, впрочем, синяки при боксе тоже С его цветами, несомненно, схожи!)93
Все ободрились: радугу они Считали добрым предзнаменованьем: И римляне и греки искони Подобным доверяли указаньям. В тяжелые и горестные дни Полезно это всем; когда страданьем Измучен ум, — приятно допустить, Что радуга спасеньем может быть.94
Вдруг белая сверкающая птица, Как будто голубь, сбившийся с пути, Над ними стала медленно кружиться, Казалось, уж готовая почти Для отдыха на мачту опуститься, Как будто ночь хотела провести Среди людей, — и птицы появленье Им показалось признаком спасенья.95
И все-таки хочу отметить я: Сей голубь очень мудро поступил, Что дальше от двуногого зверья Найти себе пристанище решил: Будь даже тем он голубем, друзья, Который Ною милость возвестил, Насытились бы им, как пищей редкой, — Им и его оливковою веткой{462}.96
С приходом ночи ветер разыгрался, Но был спокоен звездный небосвод. В неведомом пространстве продвигался Скитальцев жалких обветшалый бот. То им казалось — берег рисовался В туманной мгле на грани синих вод; То слышался им дальний шум прибоя, То грохот пушек, словно с поля боя.97
К рассвету ветер сразу ослабел. Вдруг вахтенный воскликнул возбужденно, Что долгожданный берег засинел В дали, зари сияньем освещенной. Никто поверить этому не смел: Скалистый берег, светлый, озаренный, — Уже не сон, мерещившийся им; Он был реален, видим, достижим!98
Иные разрыдались от волненья, Иные, не решаясь говорить, Глядели вдаль в тупом недоуменье, Еще не смея ужас позабыть; Иной шептал творцу благословенья (Впервые в долгой жизни, может быть!); Троих будить настойчиво пытались, Но трупами лентяи оказались.99
Днем раньше на волнах они нашли Большую черепаху очень ценной Породы, к ней тихонько подплыли, Поймали и насытились отменно. День жизни этим все они спасли, Притом же им казалось несомненно, Что так внезапно, в столь тяжелый час Их провиденье, а не случай спас.100
Гористый берег быстро вырастал, К нему несли и ветер и теченье, Куда — никто доподлинно не знал, Догадки возникали и сомненья. Так долго ветер их бросал и гнал, Что были все в большом недоуменье: Кто эти горы Этною считал, Кто — Кипром, кто — грядой родосских скал.101
А между тем теченье неуклонно Их к берегу желанному несло. Они, как призраки в ладье Харона{463}, Не двигались, не брались за весло; Им даже бросить трех непогребенных В морские волны было тяжело, — А уж за ними две акулы плыли И, весело резвясь, хвостами били,102
Жестокий голод, жажда, зной и хлад Измученных страдальцев обглодали, Ужасен был их облик и наряд: Их матери бы даже не узнали! Их ветер бил, хлестали дождь и град, Их леденили ночи, дни сжигали, Но худшим злом был все-таки понос, Который им Педрилло преподнес.103
Все приближался берег отдаленный, Еще недавно видимый едва; Уже дышала свежестью зеленой Его лесов веселая листва. Скитальцев взор, страданьем воспаленный, Слепила волн и неба синева, Они не смели верить, что нежданно Спаслись от хищной пасти океана.104
Казалось, берег был безлюдно-тих, Одни буруны пенились у скал; Но так истосковалось сердце их, Что рифов устрашающий оскал Кипеньем волн косматых и седых Ни одного гребца не испугал: Стремительно они на скалы ринулись — И, что вполне понятно, опрокинулись.105
Но мой Жуан свои младые члены Не раз в Гвадалкивире омывал, — В реке сей славной плавал он отменно И это ценным качеством считал; Он переплыл бы даже, несомненно, И Геллеспонт{464}, когда бы пожелал, — Что совершили, к вящей нашей гордости, Лишь Экенхед, Леандр и я — по молодости.106
Жуан, хоть был измучен и устал, Отважился с волнами состязаться. Страшась акул, он силы напрягал, Чтоб как-нибудь до берега добраться. Трех спутников он сразу потерял: Два вовсе не смогли передвигаться, А к третьему акула подплыла И, за ногу схватив, уволокла.107
Но наш герой держался еле-еле И вдруг увидел длинное весло; Хоть руки у Жуана ослабели И плыть ему уж было тяжело, Весло схватил он, и к желанной цели Его и эту щепку понесло, То плыл он, то барахтался, то бился — И на песок беспомощно свалился.108
Впился ногтями цепко он в песок, Сквозь бред соображая через силу, Что океан ревел у самых ног То дико, то угрюмо, то уныло, Бесясь, что утащить его не мог Обратно в ненасытную могилу. Жуан лежал недвижен, слаб и нем. Да, он от смерти спасся, — но зачем?109
С усилием он попытался встать. Но тут же на колени опустился. Тревожным взором начал он искать Товарищей, с которыми сроднился, Но хладный страх объял его опять; Один лишь труп с ним рядом очутился, — На берегу чужом, у хмурых скал, Казалось, погребенья он искал.110
Заметив это вздувшееся тело, Жуан подумал, что узрел свой рок. В его глазах все сразу потемнело, Все поплыло — и скалы и песок; Рука, весло сжимая, помертвела, И, стройный, как весенний стебелек, Поник он вдруг, бессильный и безгласный, Как лилия увядшая, прекрасный.111
Как долго он на берегу лежал, Не знал Жуан — он потерял сознанье И времени совсем не замечал: Сквозь тяжкие, но смутные страданья Он, пробиваясь к жизни, ощущал Биенье крови, пульса трепетанье, Мучительно томясь. За шагом шаг Смерть отступала, как разбитый враг.112
Глаза открыл он и закрыл устало В недоуменье. Чудилось ему, Что лодку то качало, то бросало, И с ужасом он вспомнил — почему, И пожалел, что смерть не наступала. И вдруг над ним сквозь сон и полутьму Склонился лик прекрасный, как виденье, Лет восемнадцати, а то и менее.113
Все ближе, ближе… Нежные уста, Казалось, оживляющим дыханьем Его согреть хотели; теплота Ее руки с заботливым вниманьем Касалась щек его, висков и рта С таким любовным, ласковым желаньем В нем снова жизнь и чувства воскресить, Что мой герой вздохнул — и начал жить.114
Тогда его полунагое тело Плащом прикрыли, голову его Поникшую приподняли несмело; Жуан, еще не помня ничего, К ее щеке прижался, помертвелый, И, из кудрей питомца своего Рукою нежной влагу выжимая, Задумалась красавица, вздыхая.115
Потом его в пещеру отнесла Она вдвоем с прислужницей своею. Хоть та постарше госпожи была, Но позадорней, да и посильнее. Костер она в пещере развела, И перед ним предстала, словно фея, Девица — или кем бы там она Ни оказалась, — девственно стройна.116
На лбу ее монеты золотые Блестели меж каштановых кудрей, И две косы тяжелые, густые Почти касались пола. И стройней Была она и выше, чем другие; Какое-то величье было в ней, Какая-то надменность; всякий знает, Что госпоже надменность подобает.117
Каштановыми были, я сказал, Ее густые волосы; но очи — Черны как смерть; их мягко осенял Пушистый шелк ресниц темнее ночи. Когда прекрасный взор ее сверкал, Стрелы быстрей и молнии короче, — Подумать каждый мог, ручаюсь я, Что на него бросается змея,118
Лилейный лоб, румянец нежно-алый, Как небо на заре; капризный рот… Такие губки увидав, пожалуй, Любой о милых радостях вздохнет! Она красой, как статуя, сияла. А впрочем, присягну: искусство лжет, Что идеалы мраморные краше, Чем юные живые девы наши!119
Я говорю вам это неспроста, Я даже под присягой утверждаю: Одной ирландской леди красота{465} Увянет незамеченной, я знаю, Не оживив ни одного холста; И если злое время, все меняя, Морщинами сей лик избороздит, — Ничья нам кисть его не сохранит!120
Такою же была и эта фея; Хоть не испанским был ее наряд — Попроще, но поярче, веселее. Испанки избегают, говорят, Материй ярких — хитрая затея! Но как они таинственно шуршат Баскинами{466} и складками мантильи — Веселые прелестницы Севильи!121
Но наша дева в пестрые цвета Была с большим уменьем разодета. Все было ярко в ней — и красота, И золото, и камни-самоцветы. И кружевная тонкая фата, И поясок, и кольца, и браслеты, И туфельки цветные; но — ей-ей! — Чулок на ножках не было у ней!122
Костюм ее служанки был скромнее, Из пестрых тканей, более простых; Фата была, понятно, погрубее, И серебро монет в кудрях густых (Оно приданым числилось за нею, Как водится у девушек таких). Погуще, но короче были косы. Глаза живее, но чуть-чуть раскосы!123
Они с изобретательным стараньем Кормили Дон-Жуана каждый час. Всем женщинам — пленительным созданьям — Естественно заботиться о нас. Бульон какой-то с редкостным названьем Ему варили; уверяю вас: Таких бульонов даже в дни Ахилла С самим Гомером муза не варила!124
Но мне пора вам рассказать, друзья, Что вовсе не принцессы девы эти. (Я не люблю таинственности, я Не выношу манерности в поэте!) Итак, одна красавица моя — Прислужница, как всякий мог заметить: Вторая — госпожа. Отец ее Живет уловом: каждому свое!125
Он в юности был рыбаком отличным — И, в сущности, остался рыбаком, Хотя иным уловом необычным Он занимался на море тайком. Мы числим контрабанду неприличным Занятием, а грабежи — грехом. Но не понес за грех он наказанья, А накопил большое состоянье.126
Улавливал он в сети и людей, Как Петр-апостол, — впрочем, скажем сразу, Немало он ловил и кораблей, Товарами груженных до отказу, Присваивал он грузы без затей, Не испытав раскаянья ни разу, Людей же отбирал, сортировал — И на турецких рынках продавал.127
Он был по крови грек, и дом красивый Имел на диком острове Циклад{467}. И жил свободной жизнью и счастливой, Поскольку был достаточно богат. Не нам судить, читатель мой пытливый, В каких он прегрешеньях виноват, Но дом украсил он лепной работой, Картинами, резьбой и позолотой.128
Имел он дочь-красавицу. За ней Приданого готовил он немало, Но дочь его Гайдэ красой своей Богатства блеск бесспорно затмевала. Как деревцо, в сиянье вешних дней Она светло и нежно расцветала И нескольким искателям в ответ Уже сказала ласковое «нет».129
И вот, гуляя вечером однажды, Жуана на песке она нашла, Бессильного от голода и жажды. Конечно, нагота его могла Смутить девицу — это знает каждый, Но жалость разом все превозмогла. Нельзя ж, чтоб умер он, такой пригожий, И главное — с такою белой кожей!..130
Но просто взять его в отцовский дом, Она считала, будет ненадежно: Ведь в помещенье, занятом котом, Больных мышей лечить неосторожно, Старик владел практическим умом, И υοδς[38] бы подсказал ему, возможно, Юнца гостеприимно подлечив, Его продать, поскольку он красив.131
И вот она, служанки вняв совету (Служанкам девы любят доверять), Жуана отнесла в пещеру эту И там его решила посещать. Их жалость возрастала; дива нету: Ведь жалость — это божья благодать, Она — сказал апостол Павел здраво — У райских врат на вход дает нам право!132
Костер они в пещере развели, Насобирав поспешно и любовно Все, что на берег волны принесли, — Обломки весел, мачты, доски, бревна. Во множестве здесь гибли корабли, И рухляди трухлявой, безусловно, По милости господней, так сказать, Хватило бы костров на двадцать пять.133
Ему мехами ложе застелили; Гайдэ не пожалела ничего, Чтоб все возможные удобства были К услугам Дон-Жуана моего. Его вдобавок юбками накрыли И обещали навестить его С рассветом, принеся для угощенья Хлеб, кофе, яйца, рыбу и печенье.134
Когда они укутали его, Заснул он сразу; так же непробудно Спят мертвецы, бог знает отчего: Наверно, просто им проснуться трудно. Не вспоминал Жуан мой ничего, И горе прошлых лет, довольно нудно В проклятых снах терзающее нас, Не жгло слезой его закрытых глаз.135
Жуан мой спал, а дева наклонилась, Поправила подушки, отошла. Но оглянулась: ей вообразилось — Он звал ее во сне. Она была Взволнована, и сердце в ней забилось. Сообразить красотка не смогла, Что имени ее, уж без сомненья, Еще не знал Жуан мой в то мгновенье.136
Задумчиво пошла она домой И Зое очень строго приказала Молчать. И та отлично смысл простой Задумчивости этой разгадала. Она была — пойми, читатель мой, — Двумя годами старше, что не мало, Когда познанье мы прямым путем Из рук природы-матери берем.137
Застало утро нашего героя В пещере крепко спящим. И пока Ни солнца луч, блестевший за горою, Ни дальнее журчанье ручейка Не нарушали мирного покоя; Он отсыпался как бы за века Страданий (про такие же страданья Писал мой дед в своем «Повествованье»{468}).138
Но сон Гайдэ был беспокоен — ей Сжимало грудь. Она вздыхала странно, Ей бредились обломки кораблей И, на песке простерты бездыханно, Тела красавцев. Девушке своей Она мешала спать и встала рано, Перебудив разноплеменных слуг, Ее капризный нрав бранивших вслух.139
Гайдэ тотчас же слугам объявила, Что непременно хочет видеть, как Восходит в небе яркое светило: Явленье Феба — это не пустяк! Блестит роса, щебечут птицы мило, Природа ночи сбрасывает мрак, Как женщины свой траур по мужчине — Супругу иль иной какой скотине.140
Друзья, люблю я солнце наблюдать, Когда оно встает; совсем недавно Всю ночь себя заставил я не спать, Что, по словам врачей, неблагонравно. Но если ты желаешь обладать Здоровьем и червонцами, — исправно Вставай с зарей и, проживя сто лет, Потомкам завещай вставать чуть свет.141
Прекрасная Гайдэ зарю встречала, Сама свежей зари. К ее щекам Тревожно кровь от сердца приливала. Так реки снежных Альп — я видел сам — Преобразуются, встречая скалы, В озера, что алеют по утрам; Так море Красное всегда прекрасно, А впрочем, море Красное не красно.142
К пещере, лани: трепетной быстрей, Она спустилась легкими стопами. Казалось, солнце радовалось ей; Сама Аврора влажными устами Ей улыбалась, как сестре своей: Их за сестер вы приняли бы сами, Но смертной прелесть заключалась в том, Что в воздухе не таяла пустом.143
Гайдэ вошла в пещеру торопливо, Но робко; мой Жуан беспечно спал Сладчайшим сном. Она была пуглива, И на мгновенье страх ее объял. Она над ним склонилась терпеливо, Прислушалась, как тихо он дышал, И потеплее бережно укрыла, Чтоб утренняя свежесть не вредила.144
Как серафим над праведным, она Над мирно спавшим нежно наклонилась, А юноша лежал в объятьях сна, И ровно ничего ему не снилось. Но Зоя, как всегда оживлена, С яичницей и завтраком возилась, Отлично зная — отдадим ей честь, — Что эта парочка попросит есть.145
Нуждаются же в пище все созданья, А странники — подавно. И притом, Не будучи в любовном состоянье, Она-то ведь на берегу морском Продрогла и поэтому питанье Доставила проворно: фрукты, ром, Мед, рыбу, яйца, кофе и печенье — Чудеснейшее вышло угощенье!146
Жуана собралась она будить, Когда была яичница готова, Но госпожа ее остановить Успела жестом, не сказав ни слова. Предоставляя завтраку остыть, Второй готовить Зоя стала снова, Чтоб госпожу свою не волновать И мирный сон Жуана не прервать.147
Недвижно, распростертый, исхудалый, Жуан как умирающий лежал, И лик его бескровный и усталый Недавние страданья отражал; И только на щеках румянец алый, Как грустный отблеск вечера, пылал, А спутанные кудри увлажненные Блестели моря свежестью соленою.148
Гайдэ над ним склонилась ниже. К ней Он, как младенец к матери, прижался. Как ива, он поник и, мнилось ей, Как дремлющее море, наслаждался. Расцветшей розы мягче и нежней, Он лебедем измученным казался; От бед он, правда, пожелтел, — а все ж, Ей-богу, и таким он был хорош!149
Глаза открыл он и заснул бы снова, По нежный женский образ помешал Ему закрыть глаза; хотя больного Глубокий сон по-прежнему прельщал, Но мой красавец нрава был такого: Он и во храме взоры обращал Не на святых косматых лица злые, А лишь на облик сладостный Марии.150
На локоть опираясь, он привстал. Она смутилась, очи опустила, В ее лице румянец заиграл, И ласково она заговорила; Красноречиво взор ее сиял, Когда слова она произносила, И понял он, не понимая слов, Что лучший завтрак для него готов.151
Да, мой Жуан не понимал ни слова По-гречески, но это не беда. Он голоса прелестного такого Не слыхивал нигде и никогда; Мелодия божественно простого Звучанья, величава и горда, Таилась в этих звуках непонятных, И сладостных, и мягких, и приятных.152
Ему казалось, он проснулся вдруг От музыки таинственного звука, Не зная сам — не греза ль этот звук И не рассеется ль она от стука Какого-нибудь сторожа, а стук — Противнейшая вещь и даже мука Для тех, кто утром спит, а по ночам Любуется на звезды и на дам.153
Итак, Жуан внезапно пробудился От сна, который бреду был сродни; В нем аппетит могучий появился. Приятный запах Зоиной стряпни Над ним туманным облаком кружился, И этот запах, как в былые дни, В нем возбудил желанье пообедать. Точней — бифштекса сочного отведать.154
Говядины на этих островах, Где нет быков, понятно, не водилось; Одних овец и коз во всех домах Зажаривать на праздник приходилось. Случалось это редко: на скалах Лишь несколько домишек там ютилось. Но остров, о котором речь идет, Имел сады, и пастбища, и скот.155
Я вспомнил, о говядине мечтая, Про Минотавра{469} странный древний миф: Все наши моралисты Пасифаю Сурово осуждают, заклеймив За то, что лик коровий приняла и Носила, но заметим, рассудив, — Она лишь поощряла скотоводство, Чтоб на войне дать Криту превосходство.156
Мы знаем: англичане искони Любители говядины и пива, Но пиво всякой жидкости сродни, И суть не в пиве, говоря правдиво, Но и войны любители они, А это стоит дорого; не диво, Что бритт и Крит обожествляют скот, Пригодный для убоя круглый год.157
Но к делу! Ослабевший мой герой, На локоть опершись, глядел устало На пышный стол: ведь пищею сырой Он подкреплялся в море и немало Благодарил всевышнего порой За крысу, за ремень; на что попало Он с жадностью набросился б теперь, Как поп, акула или хищный зверь.158
Он ел, ему подкладывала снова Она, как мать, любуясь на него, — Для пациента милого такого Она не пожалела б ничего. Но Зоя рассудить могла толково (Хотя из книг не ведала того), Что голодавшим надо осторожно И есть и пить — не то ведь лопнуть можно.159
И потому решительно весьма За дело эта девушка взялась: Конечно, госпожа ее сама Заботливо о юноше пеклась, — Но хватит есть. Нельзя сходить с ума, Своим желаньям слепо подчинясь: Ведь даже лошадь, если б столько съела, На следующий день бы околела!160
Затем, поскольку был он, так сказать, Почти что гол, — штанов его остатки Сожгли. Жуана стали одевать В турецком вкусе. Но, ввиду нехватки Чалмы с кинжалом, можно посчитать — Он был одет как грек. Про недостатки Не будем говорить, но подчеркнем: Шальвары были чудные на нем!161
Затем Гайдэ к Жуану обратилась; Ни слова мой герой не понимал, Но слушал так, что дева оживилась, Поскольку он ее не прерывал, И с протеже своим разговорилась, В восторге от немых его похвал, Пока, остановившись на мгновенье, Не поняла, что он в недоуменье.162
И вот тогда пришлось прибегнуть ей К улыбкам, жестам, говорящим взорам, И мой Жуан — оно всего верней — Ответствовал таким же разговором Красноречивым. Он души своей Не утаил, и скоро, очень скоро В его глазах ей как бы просветлел Мир дивных слов — залог прекрасных дел.163
Он изъяснялся пальцами, глазами, Слова за нею робко повторял, Ее язык и — вы поймете сами — Ее прелестный облик изучал. Так тот, кто наблюдал за небесами По книге, часто книгу оставлял, Чтоб видеть звезды. Взор ее блестящий Был азбукой Жуана настоящей.164
Приятно изучать чужой язык Из женских уст, когда нам горя мало, Когда и ментор юн и ученик (Со мной такое в юности бывало!). Улыбкой дарит нежный женский лик Успехи и ошибки поначалу, А там — сближенья уст, пожатья рук, — И вот язык любви усвоен вдруг!165
Вот потому-то я случайно знаю Испанские, турецкие слова, По-итальянски меньше понимаю, А по-английски лишь едва-едва Умею изъясняться: изучаю Я сей язык по Блеру{470}, раза два В неделю проповедников читая, Но их речей не помню никогда я.166
О наших леди мне ли говорить? Ведь я изгнанник общества и света: И я, как все, был счастлив, может быть; И я, как все, изведал боль за это. Всему удел извечный — проходить, И злость моя, живая злость поэта На ложь друзей, врагов, мужей и жен, Прошла сама, растаяла как сон!167
Но возвратимся к нашему Жуану. Он повторял слова чужие, но Как солнце все обогревает страны, Так чувство зажигает всех одно (Включая и монашек). Я не стану Скрывать: он был влюблен — не мудрено! — В свою благотворительницу нежную, И страсть его была не безнадежною.168
Когда герой мой сладко почивал, К нему в пещеру утром, очень рано, Взглянуть, как сей птенец беспечно спал, Она являлась словно бы нежданно; Так бережно, что он и не слыхал, Разглаживала кудри Дон-Жуана, Касалась губ его, и лба, и щек, Как майской розы южный ветерок.169
Так с каждым утром выглядел свежей Мой Дон-Жуан, заметно поправляясь: Здоровье украшает всех людей, Любви отличной почвою являясь; Безделье же для пламени страстей Любовных лучше пороха, ручаюсь! Притом Церера{471} с Вакхом, так сказать, Венере помогают побеждать…170
Пока Венера сердце заполняет — Поскольку сердце нужно для любви, — Церера вермишелью подкрепляет Любовный жар и в плоти и в крови, А Вакх тотчас же кубки наливает. Покушать любят все, но назови, Кто — Пан{472}, Нептун{473} иль сам Зевес нас балует И яйцами и устрицами жалует,171
Итак, Жуан, проснувшись, находил Купанье, завтрак и к тому ж сиянье Прекраснейших очей — живых светил, Способных вызвать сердца трепетанье В любом. Но я об этом уж твердил, А повторенье — хуже наказанья. Ну, словом, искупавшись, он спешил К своей Гайдэ и с нею кофе пил.172
Так был он юн и так она невинна, Что он ее купаньем не смущал; Ей мнилось — он мечта или картина. Ее ночные грезы посещал Уж года два, как будто беспричинно, Заветный милый образ, идеал, Сулящий счастье, — а при полном счастье Двоих персон желательно участье.173
Она влюбленно восхищалась им, С восторгом целым миром любовалась, От нежных встреч всем существом своим Восторженно и смутно волновалась; Готовая навек остаться с ним При мысли о разлуке ужасалась. Он был ее сокровищем; она Была впервые в жизни влюблена.174
Красавица Жуана посещала Весь месяц ежедневно и притом Была так осторожна поначалу, Что догадаться не могли о нем. Но вот ее папаша снял с причала Свои суда, спеша не за руном И не за Ио{474}, а за кораблями, Груженными товаром и рабами,175
Тут наступил ее свободы час: Ведь матери Гайдэ давно не знала И, проводив отца, могла сейчас Располагать собою как желала. Так женщины замужние у нас Запретом не стесняются нимало (О христианских странах говоря, Где под замком не держат женщин зря).176
Теперь ее дневные посещенья И разговоры стали подлинней; Он мог уже составить предложенье: «Пойдемте погулять!» Немало дней Он пролежал в пещере без движенья, Как сломленный цветок, но рядом с ней Он оживал и, вместе с ней гуляя, Закаты созерцал, луну встречая.177
А остров был безлюден и уныл: Вверху — скалистый, а внизу — песчаный. Его конвой утесов сторожил, И лишь местами пристанью желанной Он моряка усталого манил. Прибой ревел упорный, непрестанный; Лишь в летний длинный день, истомой пьян, Как озеро был ясен океан.178
И, окаймляя брег лишь легкой пеной Шампанского, клубилась рябь волны. Когда вином, души росой священной, Бокалы ослепительно полны, Что лучше этой влаги драгоценной? Пускай твердят про трезвость болтуны, — Пью за вино, за женщин, за веселье, А проповедь послушаем с похмелья.179
Разумный человек обычно пьет, — Что в нашей жизни лучше опьяненья? Всечасно упивается народ Любовью, славой, золотом и ленью. Без опьяненья жизни сладкий плод Казался б просто кислым, без сомненья. Так пей же всласть на жизненном пиру, Чтоб голова болела поутру.180
Затем, проснувшись, прикажи лакею Подать холодной содовой воды. Сам Ксеркс, великий царь, сию затею Одобрил бы; ни южные плоды, Ни ключ в пустыне не сравнится с нею: Разгула, скуки, праздности следы Смывает разом, как поток могучий, Глоток воды прохладной и шипучей.181
А берег — я ведь, помнится, писал Про берег — он, что изредка бывало, Как небеса, спокойно отдыхал: Песок и даже волны — все дремало. Лишь чайки крик молчанье нарушал, Да плеск дельфина, да, дробясь о скалы, Сердилось море, что ему невмочь Ничтожную преграду превозмочь.182
Красавица папашу проводила И, ничьего надзора не страшась, Теперь к Жуану чаще приходила, А Зоя, беспрестанно суетясь, Вставала с солнцем, воду приносила, Ей заплетала косы и подчас За это получать бывала рада Поношенные шали и наряды.183
Был тихий час, когда спокойно-алое Садится солнце за грядою гор, И вся земля, притихшая, усталая, Молчит и ждет, вперяя в небо взор, И полукругом дремлющие скалы и Немого моря ласковый простор — Все спит, и в небе розовом, широком Одна звезда сияет светлым оком.184
Безмолвно и задумчиво блуждали По берегу песчаному они. Ракушки, камни пестрые блистали Под их ногами в ласковой тени, Прибрежные пещеры открывали Им свой приют, готовый искони, И, за руки держась, они в молчанье Дивились неба алому сиянью.185
Они смотрели в розовую высь, В пурпурном океане отраженную, Смотрели вдаль, где облака вились, Всплывающей луной посеребренные. И ветер стих, и волны улеглись. В глаза друг другу, как завороженные, Они взглянули: их сердца зажглись, И в поцелуе губы их слились.186
О, долгий, долгий поцелуй весны! Любви, мечты и прелести сиянье В нем, словно в фокусе, отражены. Лишь в юности, в блаженном состоянье, Когда душа и ум одним полны, И кровь как лава, и в сердцах пыланье, Нас потрясают поцелуи те, Которых сила в нежной долготе.187
Я разумею длительность; признаюсь — Свидетель бог, — их поцелуй был длительным, Но он им показался, я ручаюсь, Мгновеньем небывало ослепительным. Они молчали оба, наслаждаясь От всей души мгновеньем упоительным Слияния; так пчелка чистый мед, Прильнув к цветку прекрасному, сосет.188
Они уединились — не уныло, Не в комнате, не в четырех стенах: И море, и небесные светила, Безмолвие песков, и гротов мрак — Все их ласкало, нежило, томило. Они, обнявшись, наслаждались так, Как будто были в этот час блаженный Бессмертными одни во всей вселенной.189
Они одни на берегу глухом Ничьих ушей и глаз не опасались, Лишь друг для друга внятным языком В полунамеках нежных изъяснялись. Язык живой любви нам всем знаком: Его слова во вздохах выражались. С тех пор как Ева пала в первый раз, Язык любви привычен стал для нас.190
Гайдэ и не клялась и не просила Ответных клятв, еще совсем не зная Супружеских обетов, и любила, Опасностей любви не понимая. Неведенье в ней так безгрешно было, Что к другу, словно пташка молодая, Она прильнула без докучных слов, Вся — преданность и верная любовь!191
Она любила и была любима, Как вся природа диктовала ей; Боготворя, была боготворима. Их души в этом пламени страстей То задыхались, то неутолимо Взмывали снова к радости своей, Сердца влюбленных бились, пламенели, Как будто розно биться не умели,192
Ах, в этот светлый одинокий час Они так юны были, так прекрасны, Так далеки от посторонних глаз, Так им сердца подсказывали властно Извечное решенье, каждый раз Влекущее геенны{475} дождь ужасный На головы влюбленных, сиречь — тех, Кто друг для друга кладезь всех утех!193
Увы, Жуан! Увы, Гайдэ! Едва ли Кто знал прекрасных грешников таких! Лишь наши прародители вначале В раю чуть-чуть напоминали их. О страшном Стиксе многие слыхали, Слыхала и Гайдэ, но в этот миг — Как раз, когда бы вспомнить нужно было — Она про эти страхи позабыла.194
Мерцает лунный свет в глазах у них, На шее у него ее рука Белеет, а в кудрях ее густых Его рука, несмелая пока, Блуждает и трепещет. Сладкий миг! Они, как два влюбленных голубка, Казались парой самою античною: Полунагие, нежные, лиричные.195
Затем Жуан, немного утомясь, Уснул в ее объятьях безмятежно, Она, над милым юношей склонясь, Его к своей груди прижала нежно И то глядела на небо, молясь, То на того, чей сон она прилежно Хранила на груди, упоена Всем, чем была душа ее полна.196
Младенец нежный, на огонь взирающий Иль матери своей сосущий грудь; Молящийся, икону созерцающий, Араб, сумевший щедростью блеснуть, Пират, добычу в море настигающий, Скупец, в сундук сующий что-нибудь, — Блаженны, но блаженство несравнимое Смотреть, как спит создание любимое!197
Как мирен и прекрасен этот сон! В нем нашей жизни счастье заключается, Недвижен, тих и томно-нежен он, В нем безотчетно радость отражается, И мнится, в светлый солнечный затон Все прожитое мирно погружается. Как смерти неподвижность нам страшна, И как прекрасна неподвижность сна!198
Итак, она любимым любовалась Наедине с любовью и луной, И океан в душе ее, казалось, Устало бился темною волной. На берег голый полночь опускалась Покоем, негой, страстью, тишиной, А звезды в небе толпами стояли И на пылавший лик ее взирали.199
Увы, любовь! Для женщин искони Нет ничего прекрасней и опасней: На эту карту ставят жизнь они, Что страсти обманувшейся несчастней? Как горестны ее пустые дни! А месть любви — прыжка пантер ужасней! Страшна их месть! Но, уверяю вас, Они страдают сами, муча нас!«Паломничество Чайльд-Гарольда»
200
И вспомните, как часто мы, мужчины, Несправедливы к женщинам! Не раз, Обманывая женщин без причины, Мы учим их обманывать и нас. Скрывая сердца боль от властелина, Они молчат, пока приходит час Замужества, а там — супруг унылый, Любовник, дети, церковь и… могила.201
Иных любовная утешит связь, Иных займут домашние заботы, Иные, на фортуну осердясь, Бегут от положенья и почета, Ни у кого из старших не спросясь, Но этим не спасаются от гнета Условностей и, перестав чудить, Романы принимаются строчить{476}.202
Гайдэ — как дочь наивная природы И неподдельной страсти — родилась Под знойным солнцем юга, где народы Живут, любви законам подчинясь, Избраннику прекрасному на годы Она душой и сердцем отдалась, Не мысля, не тревожась, не робея; Он с нею был — и счастье было с нею!203
Ах, счастье душ блаженно-молодых! Как бьется сердце в нежные мгновенья! Пускай мы платим дорого за них, Но безрассудно мудрости стремленье Вредить упорством доводов своих Алхимии блаженства — без сомненья Нравоученья ценны, но не смог Сам Каслрей{477} ввести на них налог.204
Час пробил! Их сердца соединились На берегу среди суровых скал. Над ними звезды яркие светились, И океан обетам их внимал. Их чувства тишиною освятились, Их дух уединенья обвенчал, Они дышали счастьем, принимая Друг друга за детей земного рая.205
Любовь! Сам Цезарь был твоим ценителем{478}, Рабом — Антоний{479}, Флавий{480} — знатоком, Катулл — учеником, Назон — учителем, А Сафо — синим ревностным чулком. (Всем изощренным древности любителям Скалы Левкадской миф давно знаком!) Любовь! Ты — зла богиня! Я немею, Но дьяволом назвать тебя не смею!206
Ты не щадишь супружеских цепей, Рогами украшаешь лбы великих: И Магомет, и Цезарь, и Помпей, Могучие и славные владыки, — Их судьбы поражают всех людей, Все времена их знают, все языки; Но, как геройство их ни воспевать, — Всех можно рогоносцами назвать.207
И Эпикур{481} в рядах твоих сторонников, И Аристипп{482} — адептам нет числа, Но вольная доктрина беззаконников Лишь на пути разврата увлекла. Боюсь, утащит черт твоих поклонников, А то их вера всем бы подошла! Ешь, пей, люби и не грусти нимало — Таков девиз царя Сарданапала{483}.208
Но как же мой Жуан? Ужели он Так быстро мог забыть о донне Юлии? Вопрос труднейший! Я весьма смущен; Ответить сразу на него могу ли я? Всему виной луна, я убежден; Весь грех от полнолуний: ну, усну ли я, Когда чертовский этот свет опять Зовет о новых радостях вздыхать?209
Непостоянства я не признаю, Противны, гадки, мерзки мне натуры, Меняющие вечно суть свою, Как ртуть от перемен температуры. Но нынче в маскараде — не таю — Попал в ловушку хитрого Амура: Хорошенькое личико и мне Внушило чувства, гнусные вполне.210
Но Мудрость мне велит угомониться: «Ах, Мудрость! — я вздыхаю. — Как мне быть? Ах, милая! Могу ли я решиться Ее глаза и зубки позабыть? Замужняя она или девица? Мне нужно знать, чтоб сердце усмирить!» Но Мудрость головою покачала И «перестань!» торжественно вскричала.211
И я, понятно, сразу перестал. Непостоянство в том и заключается, Что прелести природной идеал Всегда восторгом общим награждается: Тот ставит божество на пьедестал, Тот статуям прекрасным поклоняется, Прелестный новый облик каждый раз Стремленье к идеалу будит в нас.212
Платон пас поучает, что сознание — Способностей тончайших глубина, Прекрасного живое познавание, В котором глубь небес отражена. И точно: жизнь без мысли — прозябание! Глазам на мир глядящего дана Способность видеть мир, поскольку все же И мы из праха огненного тоже.213
Но если б нам всегда один предмет Казался и желанным и прекрасным, Как Ева в дни, когда не ведал свет Других, мы прожили б в покое ясном Свой век, не испытав жестоких бед, Не тратя денег. Мой совет — всечасно Единственную женщину любить, Чтоб сердце, да и печень, сохранить!214
На свод небесный все сердца похожи: В них ночь сменяет день, как в небесах, Их облака и молнии тревожат, Пугает гром и сотрясает страх; Но разразиться буря эта может Простым дождем: зато у нас в глазах Британский климат, и любые грозы Весьма легко перекипают в слезы.215
А печень — нашей желчи карантин, Но функции прескверно выполняет: В ней первая же страсть, как властелин, Такую тьму пороков вызывает, В ней злоба, зависть, мстительность и сплин Змеиные клубки свои свивают, Как из глубин вулкана, сотни бед Из недр ее рождаются на свет,216
Тем временем я кончил, написав, Как в первой песни этого романа, Две сотни с лишком строф, точней — октав. В поэме мной задумано по плану Двенадцать или, может, двадцать глав. Кладу перо. Гайдэ и Дон-Жуану Желаю наслаждаться и у всех Читателей моих иметь успех!Песнь третья
{484}
1
О муза, ты… et cetera[39]. Жуана Уснувшим на груди оставил я, В которой страсти сладостная рана Едва открылась. Счастье бытия Гайдэ вдыхала кротко; ни обмана, Ни яда злых предчувствий не тая, Она следила в нежном упоенье Невинных дней спокойное теченье.2
Увы, любовь, зачем таков закон, Что любящих пути всегда фатальны? Зачем алтарь блаженства окружен Конвоем кипарисов погребальных? Зачем цветок прекрасный обречен Пленять сердца любовников печальных И погибать от любящей руки, Покорные роняя лепестки?3
Лишь в первой страсти дорог нам любимый. Потом любовь уж любят самоё, Умея с простотой неоценимой, Как туфельку, примеривать ее! Один лишь раз любим неповторимый, Преобразивший наше бытие, Затем число любимых возрастает, И это милой леди не мешает.4
Не знаю я, винить ли в том мужчин Иль женщин, но уж так всегда выходит: Коль сделаться ханжой ей нет причин — Она себе любовников находит. Конечно, первый у нее один, Но время и другим она отводит. Уж ежели с одним она грешна — Одним не ограничится она,5
Я признаю с великим сожаленьем, Испорчен род людской — да, это так: Единым порожденные стремленьем, Не ладят меж собой любовь и брак! Сродни вину, без всякого сомненья, Печальный уксус, но какой чудак Напиток сей и трезвый и унылый — Способен пить, болтая с музой милой!6
Какой-то есть особенный закон Внезапного рожденья антипатий: Сперва влюбленный страстью ослеплен, Но в кандалах супружеских объятий Неотвратимо прозревает он И видит — все нелепо, все некстати! Любовник страстный — чуть не Аполлон, А страстный муж докучен и смешон!7
Мужья стыдятся нежности наивной, Притом они, конечно, устают: Нельзя же восхищаться непрерывно Тем, что нам ежедневно подают! Притом и катехизис заунывный Толкует, что семейственный уют И брачные утехи с нашей милой Терпеть обречены мы до могилы.8
Любую страсть и душит и гнетет Семейных отношений процедура: Любовник юный радостью цветет, А юный муж глядит уже понуро. Никто в стихах прекрасных не поет Супружеское счастье; будь Лаура Повенчана с Петраркой — видит бог, Сонетов написать бы он не мог!9
Комедии всегда венчает брак, Трагедии — внезапная кончина, Грядущую судьбу скрывает мрак, И этому имеется причина — Не смеет поэтический чудак Пускаться в столь опасные пучины! Обряды описав, любой пиит О «Смерти» и о «Даме» уж молчит{485}.10
Лишь двух поэтов музы мне назвали: Про ад и рай, про брак и про семью Лишь Дант и Мильтон{486} много написали, Да плохо жизнь устроили свою: До времени тревоги и печали Их счастье отравили, не таю! Но Беатриче, да и Ева тоже На жен поэтов этих не похожи.11
Ученые мне говорили строгие (Да только я не всем им доверял!), Что будто Алигьери теологию Под видом Беатриче представлял. Поэт, конечно, волен мысли многие Преобразить в абстрактный идеал, Изображая в образах мистических Высокий круг наук математических.12
С Гайдэ обвенчан не был Дон-Жуан. Моей вины, читатель, в этом нету, А если ты моралью обуян И ею докучать намерен свету, — То просто брось опасный мой роман Про парочку безнравственную эту; Зачем же, портя сон себе и кровь, Читать про незаконную любовь?13
Невинному восторгу их желаний, Их наслажденьям не было конца, Красавица, пьянея от свиданий, Не думала о строгости отца. (Впервые обретя предмет мечтаний, Неутомимы юные сердца!) Пирату-папе и во сне не снилось, Как сильно дочь его переменилась!14
Все флаги он в морях подстерегал И грабил. Но к нему не будем строги: Будь он министром, всякий бы сказал, Что просто утверждает он налоги! Он был скромней и скромно занимал Свой пост; морей бескрайние дороги, Как честный сборщик, не шалея сил, Он вдоль и поперек исколесил15
Его в последнем рейсе задержала Большая буря и большой улов. Пришлось добычу выследить сначала, А после брать десятками голов. Но в бухте, где погода не мешала, Он сосчитал и выстроил рабов, Ошейники надел и цену мелом И чернокожим выставил и белым!16
Десяток он на Матапане{487} сбыл, Тунисскому агенту сдал десяток, Больного старикашку утопил (Закон любой торговли прост и краток!), С богатых для начала получил Значительного выкупа задаток И, заковав попарно остальных, На рынок в Триполи{488} отправил их.17
Он рассмотрел и неживой товар, Назначенный для ярмарки Леванта{489}, И отобрал поднос и пять гитар, Духи, шелка, гребенки, шпильки, банты, Тарелки, чайник, туфель восемь пар И пару кастаньет из Аликанте{490}, — Как любящий отец, он был не прочь Порадовать единственную дочь.18
Он выбрал также дога, и макаку, И кошку с целым выводком котят, Двух пестрых попугаев, и собаку, Которую три месяца назад Какой-то бритт, заехав на Итаку{491}, Оставил у крестьянина; пират В одну большую клетку поместил их, Чтоб вал морской нечаянно не смыл их,19
Закончив неотложные дела, Он к берегу направился, скучая По дочери, которая цвела, Дары гостеприимства расточая И прочие прекрасные дела Без ведома папаши совершая… Он обогнул уступы острых скал И в бухте за горой на якорь стал.20
На берег он сошел без промедленья: Таможня и унылый карантин С него не попросили объясненья Особых обстоятельств и причин. Матросы, по его распоряженью, К разгрузке приступили, как один, И сбросили проворными руками Балласт, оружье и тюки с шелками.21
Старик взошел на холм и, глядя вдаль, Увидел дом родной в лучах заката, И возвращенья смутная печаль Проникла в сердце хмурое пирата. В подобный час нам прошлой жизни жаль: Предчувствие свиданья, страх утраты, И боль разлуки прежней, и любовь — Все чувства наши вспыхивают вновь!22
Домой из дальних странствий возвращаясь, Тревожатся папаши и мужья; И, право, я ничуть не удивляюсь Такому состоянию, друзья! Красавицам я льстить не собираюсь, Ведь знаете отлично вы и я: Супруга в одиночестве — смелее, А дочь — глядишь, и влюбится в лакея.23
Не все мужья, как славный Одиссей, В объятья Пенелопы попадают, Не все супруги ждут своих мужей И холодно любовников встречают: Порой, застыв пред урною своей, Скиталец потрясенный замечает, Что друг — отец детей его жены, И свой же Аргус{492} рвет ему штаны!24
И холостяк имеет огорченья: Его невеста, скукой истомясь, За богача выходит, к сожаленью! Обманутый поклонник, возвратясь, Сперва коварной выразит презренье, Потом угомонится, превратись Хоть в cavalier servente[40], но с досады В стихах клеймит неверность без пощады.25
Но даже вы, которые давно Имеете liaison [41] (названье это Невинной дружбе исстари дано С замужней леди. От упреков света Гименом{493} охраняется оно), Но даже вы послушайтесь совета! Надолго уезжать и вам не след, Поскольку верной дружбы в мире нет.26
Но Ламбро, предприимчивый пират, Утонченный знаток морской охоты, Увидев дом, был, несомненно, рад, Хотя не отдавал себе отчета В движеньях сердца. Был он грубоват, Но проявлял нежнейшую заботу О дочери, хотя глагол «любить» Не смог бы как философ объяснить.27
Он увидал густую зелень сада И дом красивый, солнцем залитой, Родных дерев тенистую прохладу, Цветущую веселой суетой; Оружья блеск и яркие наряды, Как бабочки, сверкали пестротой; Он услыхал ручья веселый лепет, И дальний лай собак, и листьев трепет.28
Но скоро озадачило его Небудничное это оживленьем: Из рощи доносилось до него Веселое пиликанье и пенье, Еще не понимая ничего, Он слушал, подавляя удивленье, Гитары, барабан и — громче всех! — Столь непривычный на Востоке смех.29
Спустившись по тропинке до ограды, Пират раздвинул заросли кустов И увидал цветистые наряды Веселых, разгулявшихся рабов. Как дервиши{494}, кружились до упаду Гуляки наподобие волчков В пиррическом неукротимом танце{495}, Которым увлекаются левантцы.30
Как будто нить жемчужин дорогих, Гречанки в хороводе танцевали; Волнами кудри шелковые их На мраморные плечи ниспадали (Способные с десяток молодых Поэтов обольстить); они порхали Под пение подруги молодой, Ей как бы вторя в пляске хоровой.31
Вокруг подносов гости остальные Сидели, ноги под себя поджав, Потягивая вина дорогие И кушая отличнейший пилав; Гранаты, апельсины наливные, Живой десерт приветливых дубрав, Изнеженной потворствовали лени, Свисая с веток прямо на колени.32
Рога барана, белого как снег, Ребята разукрасили венками: Овечий патриарх — предмет утех — Покорно наклоненными рогами Бодался как бы в шутку. Детский смех Звенел вокруг. Спокойными шагами Он шел за детворой, как чинный друг, И, как ягненок, ел из детских рук!33
Их нежных лиц веселое пыланье, Горячий чистый блеск их черных глаз, Их грации живой очарованье Невольно поразило бы и вас! Невинные счастливые созданья Заставили б философа не раз Вздохнуть о том, что и они с годами Состарятся, — увы! — как все мы с вами.34
Какой-то карлик бойко толковал Кружку седых курильщиков почтенных О чудесах завороженных скал, О тайниках и кладах драгоценных, О том, каких волшебниц он встречал — Супругов превращающих мгновенно В рогатый скот (хотя такой рассказ Не удивил бы никого из нас!).35
Ну, словом все земные развлеченья, Приятные для уха и для глаза, — Вино и танцы, музыка и пенье, Веселые персидские рассказы, — Все было там; но с чувством отвращенья Взирал на них пират: он понял сразу, Что отощает в самый краткий срок От этакого пира кошелек.36
О боги! Как ничтожен человек! Какие беды смертных поджидают! Счастливейшим за весь железный век Денечек золотой перепадает! Все наслажденья переходят в грех И, как сирены, в бездну увлекают; Пират пришел и пировавших пыл, Как одеялом пламя, потушил.37
Старик не тратил слов и не терялся: Желая дочь приездом удивить, Тайком поближе к дому он подкрался, Дабы врасплох пирующих накрыть! Стоял он долго молча и старался Все высмотреть, понять и оценить И удивлялся дочери желанию Собрать такую шумную компанию.38
Не ведал он, что слух прошел о том, Как будто он погиб, — и три недели Был в трауре его унылый дом. (Все люди лгут, и лгут без всякой цели — В особенности греки.) Но потом Все лица оживились, посвежели, Гайдэ забыла слезы, расцвела И как хозяйка дело повела.39
Отсюда — танцы, музыка, похмелье, И рис, и мясо, и обилье вин, Прислуги праздной пьяное безделье, Какого старый строгий господин Не допустил бы; буйное веселье И женщин охватило и мужчин, Кипела жизнь, хотя Гайдэ сначала Все время только страсти посвящала.40
Вам кажется, читатели, что он Вспылил при виде праздничной оравы? Что был он справедливо возмущен? Вы, верно, ожидаете по праву, Что был и кнут и карцер применен, Что учинил он грозную расправу И все penchants[42] пиратские свои По-царски проявил в кругу семьи?41
Но вы ошиблись: Ламбро отличался От озорных любителей разбоя — Как джентльмен, пристойно он держался И мог, как дипломат, владеть собою. Мне жаль, что он чрезмерно увлекался Опасностями, риском и борьбою: Вращаясь в высшем свете, был бы он Всеобщим уваженьем окружен.42
Он подошел к пирующей компании И по плечу любезно потрепал Ближайшего — и выразил желание Узнать, куда он, собственно, попал И в честь чего такое ликование? Но грек уже совсем не понимал Простейших слов и, весело кивая, Смеялся, новый кубок наливая.43
Мотнув отяжелевшей головой, Он протянул бокал с улыбкой пьяной И молвил: «Я пустою болтовней Не занимаюсь! Наливай стаканы!» Второй сказал, икая: «Пей и пой! Хозяин умер — я грустить не стану! Спроси-ка у хозяйки, милый мой, Кто новый наш хозяин молодой!»44
Гуляки, по случайности, не знали, С кем говорили. Ламбро побледнел, Его глаза зловеще засверкали, Но он порывом гнева овладел; Он попросил, чтоб гости рассказали, Откуда сей наследник залетел, Каких он лет и званья — этот самый Смельчак — и сделал ли Гайдэ он дамой.45
«Не знаю я, — рассказчик отвечал, — Откуда он — да мне какое дело? Таким вином никто не угощал, И жирен этот гусь — ручаюсь смело! Ты лучше бы соседа поспрошал: Он сплетничает бойко и умело И, болтовню с приятелем любя, Послушает охотно сам себя!»46
Мой Ламбро проявил (судите сами) И сдержанность, и редкое терпенье: С французскими он мог бы образцами Воспитанности выдержать сравненье. Скорбя душою и скрипя зубами, Выслушивал он глупое глумленье Обжор и пьяниц, за его столом Его же перепившихся вином.47
А если человек повелевает Покорными и судьбы их вершит, Заковывает в цепи, убивает И даже взором подданных страшит, То сдержанность его нас удивляет, Коль самого себя он усмирит; Но, усмирив, он гвельфу{496} уподобится И права править смертными сподобится!48
И наш пират имел горячий нрав, Но, будучи в серьезном настроенье, Умел, как притаившийся удав, Готовить на добычу нападенье. Не делал он, терпенье потеряв, Ни одного поспешного движенья; Но если раз удар он наносил, — Второй удар уже не нужен был!49
Расспросы прекратив, томимый думой, Тропинкой потайной прошел он в дом: Среди веселья общего и шума Совсем никто не вспоминал о нем. Была ль еще в душе его угрюмой Любовь к Гайдэ — не нам судить о том, Но мертвецу, вернувшемуся к жизни, Не по себе на столь веселой тризне»50
Когда бы воскресали мертвецы (Что, бог даст, никогда не приключится), Когда бы все супруги и отцы Могли к своим пенатам возвратиться, Мы все — неуловимые лжецы, Умеющие в траур облачиться И плакать над могилами — увы! — От воскресений плакали бы вы.51
Вошел он в дом, уже ему чужой. Невыносимо скорбное мгновенье! Переживать больнее час такой Для каждого, чем смерти приближенье. Очаг могилой сделался глухой, Погасло все — желанья, впечатленья, Надежды, чувства, страсти дней былых, И грустно видеть серый пепел их.52
Он в дом вошел бездомный и унылый (Без любящего сердца дома нет!), И вспомнил он, как на краю могилы, Все радостные дни минувших лет: Здесь солнце счастья некогда светило, Здесь милый взор и радостный привет Невинной нежной дочери когда-то Ласкали чувства старого пирата…53
Характером он был немного дик, Но вежлив и приятен в обращенье, Весьма умерен в прихотях своих; В одежде, в пище, даже в поведенье, Умел он быть отважным в нужный миг И выносить суровые лишенья, — И, чтоб рабом в стране рабов не стать, Решил он сам других порабощать.54
Любовь к наживе и привычка к власти, Суровые опасности войны, Морские бури, грозные напасти, С которыми они сопряжены, В нем развили наклонности и страсти, Такие, что обидчикам страшны. Он был хорошим другом, но, понятно, Знакомство с ним могло быть неприятно!55
Эллады гордый дух таился в нем: С героями Колхиды несравненной Он мог бы плыть за золотым руном, Бесстрашный, беззаботный, дерзновенный. Он был строптив и выносил с трудом Позор отчизны попранной, презренной И скорбной. Человечеству в укор Он вымещал на всех ее позор,56
Но ионийской{497} тонкостью взыскательной Его прекрасный климат наделил: Он как-то поневоле, бессознательно Картины, танцы, музыку любил, Он комнаты украсил очень тщательно И тайную отраду находил В прозрачности ручья, в цветах и травах И в прелестях природы величавых.57
Но лучшие наклонности его В любви к прекрасной дочери сказались; Они в душе пирата моего С ужасными делами сочетались. Без этих чувств, пожалуй, ничего В нем не было гуманного: остались Одни лишь злые страсти — в гневе он Был, как Циклоп{498}, безумьем ослеплен.58
Всегда страшна для пастуха и стада Тигрица, потерявшая тигрят; Ужасны моря пенные громады, Когда они бушуют и гремят, Но этот гнев о мощные преграды Скорее разобьет свой шумный ад, Чем гнев отца — немой, глубокий, черный, Из всех страстей особенно упорный.59
Мы знаем: легкомыслие детей — Удел всеобщий, но удел печальный, — Детей, в которых утро наших дней На склоне лет мечтой сентиментальной Мы любим воскрешать, когда грустней Нас греет солнце ласкою прощальной, А дети беззаботно каждый раз В кругу болезней оставляют нас!60
Но мне по сердцу мирная картина: Семья, здоровьем пышущая мать (Когда дочурку кормишь или сына, При этом нежелательно тощать), Люблю я у горящего камина Румяных ангелочков наблюдать И дочерей вокруг приятной леди, Как около червонца — кучку меди!61
{499}
Старик вошел в калитку, постоял, Не узнанный никем, у двери зала; Под равномерный шорох опахал Чета счастливцев юных пировала. И серебро, и жемчуг, и коралл, И бирюза посуду украшала, А на столы причудливой резьбы Златые чаши ставили рабы.62
Обед необычайный и обильный Из сотни блюд различных состоял (Пред ними б даже самый щепетильный И тонкий сибарит не устоял!). Там — суп шафранный, там и хлеб ванильный, И сладостный шербет благоухал, Там были поросята, и ягнята, И виноград, и сочные гранаты!63
В хрустальных вазах розовели там Плоды и очень пряные печенья, Там кофе подавали всем гостям В китайских тонких чашках (украшенья Из тонкой филиграни по краям Спасали от ожогов), к сожаленью — Отнюдь не по рецепту англичан, — Был в этом кофе мускус и шафран.64
Цветные ткани стены украшали; По бархату расшитые шелками, Цветы на них гирляндами лежали, И золото широкими лучами Блистало по бордюру, где сияли Лазурно-бирюзовыми словами Отрывки гладью вышитых стихов Персидских моралистов и певцов.65
Повсюду, по обычаю Востока, Такие изреченья по стенам О «суете сует» и «воле рока» В веселый час напоминают нам, Как Валтасару{500} — грозный глас пророка, Как черепа — Мемфису{501}: мудрецам Внимают все, но голос наслажденья Всегда сильней разумного сужденья!66
Раскаяньем охваченный порок, Поэт унылый, спившийся с досады, Ударом пораженный старичок, Просящий у всевышнего пощады, Красавица в чахотке — вот урок Превратности судьбы, но думать надо, Что глупое обжорство не вредней Вина, любви и буйных кутежей.67
На шелковом узорчатом диване Покоились Гайдэ и Дон-Жуан. Как величавый трон, на первом плане Две трети помещенья сей диван Роскошно занимал; цветные ткани Пылали, как пунцовый океан, И солнца диск лучами золотыми Сиял, шелками вышитый, над ними.68
Ковров персидских пестрые цветы И яркие индийские циновки, Фарфор и мрамор редкой красоты Усугубляли роскошь обстановки; Газели, кошки, карлики, шуты Пускали в ход лукавые уловки, Чтоб одобрение сильных заслужить И лакомый кусочек получить!69
Там зеркала огромные сияли И столики с узором дорогим Из кости, перламутра и эмали, Бордюром окаймленные витым; Они узором редкостным блистали Из черепахи с золотом литым, И украшали их весьма картинно Шербет во льду и редкостные вина.70
{502}
Но я займусь моей Гайдэ: она Носила две джеллики{503} — голубую И желтую; вздымалась, как волна, Сорочка, грудь скрывая молодую: Как в облаках прекрасная луна, Она фату накинула цветную, И украшал жемчужин крупных ряд Пунцово-золотой ее наряд,71
На мраморных руках ее блистали Широкие браслеты без замка, Столь гибкие, что руки облегали Свободно и упруго, как шелка, Расстаться с ними как бы не желали, Сжимая их любовно и слегка; Металл чистейший на нежнейшей коже Казался и прекрасней и дороже. [43]72
Как подобает дочери владык, Гайдэ на ноги тоже надевала Браслеты; на кудрях ее густых Блистали звезды; складки покрывала Застежка из жемчужин дорогих На поясе под грудью закрепляла; Атлас ее шальвар, пурпурно-ал, Прелестнейшую ножку обвивал. [44]73
Ее волос каштановые волны — Природный и прелестнейший наряд — Спускались до земли, как позлащенный Лучом зари альпийский водопад; Но локон, сеткой шелковой стесненный, Порою трепетал, свободе рад, Когда ее лицо, как опахало, Дыханье ветра вешнего ласкало.74
Она несла с собою жизнь и свет, Прекрасна, как невинная Психея; Небесной чистотой счастливых лет Она цвела, как юная лилея; Казалось, даже воздух был согрет Сияньем чудных глаз ее. Пред нею Восторженно колена преклонить Кощунством не сочтется, может быть!75
Напрасно, по обычаю Востока, Она свои ресницы начернила: Горячий блеск пленительного ока Их бахрома густая не затмила. Клянусь я небом и звездой пророка, Напрасно хна восточная покрыла Ей розовые ногти: и без хны Они прекрасны были и нежны!76
Известно: белизну и нежность кожи Восточная подчеркивает хна, Но для Гайдэ, я отмечаю все же, Она была, бесспорно, не нужна: На гордый блеск снегов была похожа Ее груди и шеи белизна. Шекспир сказал: «Раскрашивать лилею{504} И золотить червонец я не смею!»77
Жуана белый плащ прозрачен был, И самоцветы сквозь него мерцали, Как Млечный Путь из маленьких светил, И золотой узор на черной шали Горел огнем; чалму его скрепил Огромный изумруд — и трепетали Алмазы полумесяца над ним Сияньем беспокойным и живым.78
Их развлекали плясками девицы, И евнухи, и карлы, и поэт — Последний мог успехами гордиться И думать, что гремит на целый свет. Вельможе не приходится скупиться, Коль хочет быть как следует воспет: Поэтам и за лесть и за сатиры Отлично платят все владыки мира!79
Он, вопреки привычке прежних дней, Бранил былое, восхищаясь новым, За сытный пудинг со стола царей Стал антиякобинцем образцовым{505}. Он поступился гордостью своей, Свободной волей и свободным словом, И пел султана, раз велел султан, — Правдив, как Саути, и, как Крэшоу{506}, рьян!80
Он изменялся, видя измененья, Охотно, как магнитная игла: Но чересчур вертлявой, без сомненья, Его звезда полярная была! За деньги, а порой за угощенье Он прославлял «великие дела» И лгал с такой готовностью и жаром, Что лавры заслужил себе не даром.81
Он был талантлив, если ренегат Способен быть талантливым: к несчастью, Все «vates irritabiles»[45] хотят Признанья и похвал из жажды власти! Но где же мы, читатель?! Виноват! Простите, бросил я в разгаре страсти И третьей песни наших молодых В роскошном островном жилище их.82
Поэт, весьма умелый и занятный, Любимец многочисленных гостей, Их забавлял игрой весьма приятной И мелодичной песнею своей: Порой они считали непонятной Причудливую вязь его речей, Но шумно выражали одобренье, — Ведь таково общественное мненье!83
Набравшись вольнодумнейших идей В своих блужданьях по различным странам, Он был среди порядочных людей Пришельцем досточтимым и желанным. Он мог, как в ранней юности своей, Прикрывшись поэтическим туманом, Почти без риска правду говорить — И ухитряться все же высшим льстить.84
Он знал арабов, франков и татар, Он видел разных наций недостатки, Он знал народы, как купцы — товар: Изъяны их, и нравы, и повадки. Он был хитер, хотя еще не стар, И понял, что на лесть все люди падки И принцип основной уменья жить — Что «в Риме надо римлянином быть»{507}.85
Умела петь по вкусу разных стран Его весьма покладистая муза: «God save the king! [46]{508}» — он пел для англичан И «Çа ira![47]{509}» — для пылкого француза. Он знал и высшей лирики дурман И не чуждался хладного союза С разумностью; бывал, как Пиндар{510}, он Талантлив, изворотлив и умен.86
Треченто{511} воспевал бы он в Италии, Для бриттов написал бы песен том, В Германии (прославила де Сталь{512} ее!) При Гете б состоял учеником; Он сочинил бы в знойной Португалии Баллады о герое молодом, В Париже — песни по последней моде, А для Эллады — нечто в этом роде: «О, светлый край златой весны, Где Феб родился, где цвели Искусства мира и войны, Где песни Сафо небо жгли! Блестит над Аттикой весна, Но тьмою жизнь омрачена. Теосских и хиосских муз{513} Певцы — любовник и герой — Бессмертных радостей союз Бессмертной славили игрой, Но на прекрасных островах Забыт ваш глас, молчит ваш прах! Холмы глядят на Марафон, А Марафон — в туман морской, И снится мне прекрасный сон — Свобода Греции родной. Могила персов! Здесь врагу Я покориться не могу! На гребни саламинских скал{514} Владыка сумрачно глядел, И корабли свои считал, И войску строиться велел; Но солнце село, день угас, — И славы Ксеркса пробил час! Но вот и ты, моя страна, Безгласно смотришь на закат; Героев песня не слышна, Сердца геройские молчат! Коснусь ли робкою рукой Бессмертной лиры золотой? Но на останках славных дел Я услыхал священный зов, Я песню вольности запел В толпе закованных рабов; Стыдись за греков, и красней, И плачь о Греции своей! Но стыдно слезы проливать, Где предки проливали кровь! Земля! Верни, верни опять Великой Спарты храбрецов! С одною сотой прежних сил Вернем мы славу Фермопил! Но ты молчишь — и все молчат! О нет! Усопших голоса, Как буря дальняя, звучат И будят горы и леса: «Вперед! Вперед! Не бойся тьмы! Молчат живые, а не мы!» Вотще взывает к ним война: Забыта честь и смелый бой, Лишь кровь самосского вина{515} Струится в кубок золотой, И вакханалий дерзкий рев Глушит призывы мертвецов. Пиррийский танец есть у вас, Но Пирровой фаланги{516} нет; Пустой обычай тешит глаз, Но умер прадедов завет. Ужели Кадма{517} письменам Достаться суждено рабам? Пускай зальет печали пыл Вина самосского фиал: Анакреон его любил, Когда тирана воспевал. Но сей тиран был Поликрат{518} И эллинам по крови брат. Таким тираном Херсонес Гордится; славный Мильтиад{519}, Могуч и смел, как Геркулес, Свободы доблестный солдат: Он тоже цепи надевал, Но их народ не разрывал! Над морем, у сулийских скал, На диком паргском берегу, Дорийцев{520} гордых я встречал, Не покорившихся врагу: В их жилах Гераклидов{521} кровь Научит их делам отцов! Не верьте франкам{522} — шпагу их Легко продать, легко купить; Лишь меч родной в руках родных Отчизну может защитить! Не верьте франкам: их обман Опасней силы мусульман! Налейте ж кубок мне полней, Я вижу пляску наших дев, Я вижу черный блеск очей — Но в сердце слезы, боль и гнев: Ведь каждой предстоит судьба Быть скорбной матерью раба! Я с высоты сунийских скал{523} Смотрю один в морскую даль: Я только морю завещал Мою великую печаль! Я бросил кубок! Я один, Страна рабов, — тебе не сын!»87
Так пел — вернее, так бы должен петь! — Наш современный эллин, внук Орфея. (С Орфеем состязаться надо сметь! Мы все великих праотцев слабее.) Поэта чувства могут разогреть Сердца людей. Но, право, я робею: Все эти чувства — так устроен свет, — Как руки маляра, меняют цвет!88
Слова весьма вещественны: чернила, Бессмертия чудесная роса! Она мильоны мыслей сохранила И мудрецов почивших голоса С мильонами живых соединила. Как странно поступают небеса С людьми: клочок бумаги малоценной Переживет поэта непременно!89
Исчезнет прах, забудется могила, Умрет семья, и даже весь народ В преданьях хронологии унылой Последнее пристанище найдет; Но вдруг из-под земли ученый хилый Остатки манускрипта извлечет — И строчки возродят померкший разум, Века забвенья побеждая разом!90
«Что слава?» — усмехается софист. Ничто и Нечто, облако, дыханье! Известно, что историк-казуист Ее распределяет по желанью. Приам воспет Гомером, Хойлем{524} — вист, Прославленного Мальборо{525} деянья Забыли бы мы все, когда б о нем Написан не был Кокса толстый том.91
Джон Мильтон — князь поэзии у нас: Учен, умерен, строг — чего вам боле? Тяжеловат бывает он подчас, Но что за дар! И что за сила воли! А Джонсон{526} сообщает, что не раз Сего любимца муз стегали в школе, Что был он скучный муж, хозяин злой И брошен был хорошенькой женой!92
Имели Тит и Цезарь недостатки, О приключениях Бернса знает мир, Лорд Бэкон{527} брал, как полагают, взятки, Стрелял чужих оленей сам Шекспир{528}, И Кромвеля поступки были гадки, — Любой великой нации кумир Имеет нежелательные свойства, Вредящие традициям геройства!93
Не каждый же, как Саути, моралист, Болтавший о своей «Пантисократии»{529}, Или как Вордсворт, что, душою чист, Стих приправлял мечтой о демократии! Когда-то Колридж был весьма речист, Но продал он теперь газетной братии Свой гордый пыл и выбросил, увы, Модисток Бата вон из головы.94
Их имена теперь являют нам Ботани-бэй{530} моральной географии; Из ренегатства с ложью пополам Слагаются такие биографии. Том новый Вордсворта — снотворный хлам, Какого не бывало в типографии, «Прогулкой» называется и мне, Ей-богу, омерзителен втройне!95
Он сам нарочно мысль загромождает (Авось его читатель не поймет!), А Вордсворта друзья напоминают Поклонников пророчицы Сауткотт{531}: Их речи никого не поражают — Их все-таки народ не признает. Плод их таланта, как видали все вы, — Не чудо, а водянка старой девы!96
Но я грешу обильем отступлений, А мне пора приняться за рассказ; Такому водопаду рассуждений Читатель возмущался уж не раз. Теряя нить забавных приключений, Я прихожу в парламентский экстаз, — Мне в сторону увлечься очень просто, Хоть я не так велик, как Ариосто!97
Longueurs [48]— у нас такого слова нет, Но, что ценней, есть самое явленье; Боб Саути, наш эпический поэт Украсил им бессмертные творенья. Таких longueurs еще не видел свет! Я мог бы доказать без затрудненья, Что эпопеи гордые свои Построил он на принципах ennui[49].98
«Гомер порою спит»{532}, — сказал Гораций, Порою Вордсворт бдит, сказал бы я. Его «Возница»{533}, сын унылых граций, Блуждает над озерами, друзья, В тоске неудержимых ламентаций: Ему нужна какая-то «ладья»{534}! И, слюни, словно волны, распуская, Он плавает, отнюдь не утопая.99
Пегасу трудно «Воз» такой тащить, Ему и не взлететь до Аполлона; Поэту б у Медеи попросить Хоть одного крылатого дракона! Но ни за что не хочет походить На классиков глупец самовлюбленный: Он бредит о луне, и посему Воздушный шар годился бы ему.100
«Возы», «Возницы», «Фуры»{535}! Что за вздор! О, Поп и Драйден! До чего дошли мы! Увы, зачем всплывает этот сор Из глубины реки невозмутимой? Ужели глупых Кэдов приговор{536} Над вами прозвучал неумолимо? Смеется туповатый Питер Белл{537} Над тем, кем сотворен Ахитофель{538}!101
Но кончен пир, потушены огни, Танцующие девы удалились, Замолк поэт, и в розовой тени На бледном небе звезды засветились, И юные любовники одни В глубокое молчанье погрузились. Ave Maria! Дивно просветлен Твой тихий час! Тебя достоин он!102
Ave Maria! Благодатный миг! Благословенный край, где я когда-то Величье совершенное постиг Прекрасного весеннего заката! Вечерний звон был благостен и тих, Земля молчала, таинством объята, Затихло море, воздух задремал, Но каждый лист молитвой трепетал.103
Ave Maria! — это час любви! Ave Maria! — это час моленья! Благословенье неба призови И сына твоего благоволенье Для смертных испроси! Глаза твои Опущены и голубя явленье Предчувствуют — и светлый образ твой Мне душу озаряет, как живой.104
Придирчивая пресса разгласила, Что набожности мне недостает; Но я постиг таинственные силы, Моя дорога на небо ведет. Мне служат алтарями все светила, Земля, и океан, и небосвод — Везде начало жизни обитает, Которое творит и растворяет.105
О, сумерки на тихом берегу, В лесу сосновом около Равенны{539}, Где угрожала гневному врагу Твердыня силы цезарей надменной! Я в памяти доселе берегу Преданья Адриатики священной: Сей древний бор — свидетель славных лет — Боккаччо был и Драйденом воспет!106
Пронзительно цикады стрекотали, Лесной туман вставал со всех сторон, Скакали кони, травы трепетали, И раздавался колокола звон, И призраки в тумане возникали, И снился мне Онести странный сон: Красавиц ужас, гончие собаки И тени грозных всадников во мраке!107
О Геспер{540}! Всем отраду ты несешь — Голодным ужин и приют усталым, Ты птенчикам пристанище даешь, Ты открываешь двери запоздалым, Ты всех под кровлю мирную зовешь, Ты учишь всех довольствоваться малым, Всех сыновей земли под кров родной Приводишь ты в безмолвный час ночной. [50]108
О сладкий час раздумий и желаний! В сердцах скитальцев пробуждаешь ты Заветную печаль воспоминаний, И образы любимых и мечты; Когда спокойно тающий в тумане Вечерний звон плывет из темноты — Что эта грусть неведомая значит? Ничто не умерло, но что-то плачет! [51]109
Когда погиб поверженный Нерон{541}, Рычал, ликуя, Рим освобожденный: «Убит! Убит убийца! Рим спасен! Воскрешены священные законы!» Но кто-то, робким сердцем умилен, На гроб его с печалью затаенной Принес цветы и этим подтвердил, Что и Нерона кто-нибудь любил. [52]110
Нерон… но это снова отступленье; Нерон и всякий родственный ему Нелепый шут венчанный — отношенья К герою не имеют моему! Я собственное порчу сочиненье — И осрамлюсь по случаю сему! (Мы в Кембридже смеялись над бедняжками И звали отстающих «деревяшками».)111
Но докучать я не желаю вам Эпичностью моей — для облегченья Я перережу песню пополам, Чтоб не вводить людей во искушенье! Я знаю, только тонким знатокам Заметно будет это улучшенье: Мне Аристотель дал такой совет. (Читай его «Ποιητική»[53]{542}, поэт!)Песнь четвертая
{543}
1
Поэму начинать бывает трудно, Да и кончать задача нелегка: Пегас{544} несется вскачь — смотри, как чудно! А вскинется — и сбросит седока! Как Люцифер, упрямец безрассудный, Мы все грешим гордынею, пока Не занесемся выше разуменья, Тем опровергнув наше самомненье.2
Но время всех умеет примирить, А разные напасти научают Людей — и даже черта, может быть, — Что безграничным разум не бывает. Лишь в юности горячей крови прыть Стремит мечты и мысли затмевает; Но, приближаясь к устью наших дней, Мы думаем о сущности страстей,3
Я с детства знал, что я способный малый, И укреплял в других такое мненье; Я заслужил, когда пора настала, Признание и даже одобренье. Теперь моя весна уже увяла, Давно остыл огонь воображенья, И превращает правды хладный блеск Минувших дней романтику в бурлеск.4
Теперь, когда смеюсь над чем-нибудь, Смеюсь, чтоб не заплакать, а вздыхаю Лишь потому, что трудно не вздохнуть: Апатию свою оберегая, Должны мы сердце в Лету окунуть! Фетида{545}, в Стиксе первенца купая, Его оберегла от бед и зол, Но я бы воды Леты предпочел.5
Меня винят в нападках постоянно На нравы и обычаи страны. Из каждой строчки этого романа Такие мысли якобы ясны. Но я не строил никакого плана, Да мне и планы вовсе не нужны; Я думал быть веселым — это слово В моих устах звучит, пожалуй, ново!6
Боюсь, для здравомыслящих людей Звучит моя поэма экзотически; Лукавый Пульчи{546}, милый чародей, Любил сей жанр ирои-сатирический Во дни бесстрашных рыцарей и фей, Невинных дев и власти деспотической. Последняя найдется и у нас, Но прочих всех давно иссяк запас.7
Почти о современниках пишу я; Правдиво ль я изображаю их? Не повторю ль ошибку роковую Пристрастных ненавистников моих? И все же я не слишком негодую: Нужна ж свобода слова и для них! Но Аполлон меня за ухо тянет И просит говорить о Дон-Жуане.8
Оставил я героя моего Наедине с его подругой милой. Остановилось время для него И на минуту косу опустило. Оно не поощряет никого И никогда влюбленных не любило, Но ими любовалось от души: Уж очень были оба хороши!9
Их лиц испортить не могли морщины, Их старость не могла бы оскорбить, Не смела бы седая паутина Их шелковые волосы покрыть. В них для недуга не было причины, В них не было того, что может гнить: Увянуть пальма юная не может, Ее одна лишь буря уничтожит.10
Опять они одни! О, райский миг! Наедине им скучно не бывало, В разлуке же любовников моих Ужасная тоска обуревала: Так жалок усыхающий родник И дерево, которое увяло В разлуке с корнем; так печально-тих Ребенок, что оторван от родных.11
О, сердце, сердце! О, сосуд священный, Сосуд тончайший! Трижды счастлив тот, Кому рука фортуны дерзновенной Его одним ударом разобьет! Ни долгих лет, ни горести бессменной, Ни тяжести утрат он не поймет, — Но жизнь, увы, цепляется упорно За тех, кто жаждет смерти непритворно.12
«Богов любимцы долго не живут!» — Сказал мудрец. Утрат они не знают, Для них друзья и дружба не умрут, Их юность и любовь не увядают. В конце концов в могиле отдохнут И те, кто слишком долго избегает Могилы; но прекрасней доли нет, Как сей покинуть мир во цвете лет! [54]13
Гайдэ и мой Жуан не помышляли О смерти, ибо небо и земля Их безмятежным светом окружали; Холмы, долины, рощи и поля Их молодое счастье отражали, Как будто с ними радости деля. В очах друг друга, в зеркале блаженства, Они читали только совершенство.14
Доверчивая юная любовь, Сияющая кроткой благодатью, Улыбка глаз, понятная без слов, Восторг прикосновенья и пожатья, Язык влюбленных птиц, язык богов, О коем ни малейшего понятья Нет у того, кому уже давно Все нежное и чуждо и смешно!15
Они блаженству верили, как дети, И солнце детства улыбалось им: Мир дел житейских в истинном их свете Был чужд наивным душам молодым. Как мотыльки, как эльфы на рассвете, Счастливые мгновеньем золотым, Они любовью только и дышали И ни часов, ни дней не замечали!16
Менялись луны, созерцая их, Их радости безмолвно освещая, Любуясь на счастливцев молодых И ночи их улыбкою встречая. Ведь чувственность для чистых душ таких Лишь часть самой любви; не пресыщает Их обладанье — злейший враг любви, — Не охлаждая страсти в их крови.17
О, дивная, о, редкая и дивная Мечта любви, в которой сердце пьет Блаженство наслажденья непрерывное, Забыв уродство жизненных забот — Интриги, страсти, сплетни заунывные, Побеги, браки, мелочный расчет, Когда печать Гимена прикрывает Позор, который все подозревают!18
Но горьких истин и жестоких слов Я не люблю: вернусь к чете прекрасной. Ни дней не замечая, ни часов, Тревогой не смущаемы напрасной, Они цвели. Десятки мудрецов Романтикой ненужной и опасной Зовут такую глупость, господа (Но втайне ей завидуют всегда).19
Болезненное это состоянье От юности бывает и от чтенья; Но и без книг невинные созданья Покорствуют сердечному влеченью. Он получил «святое» воспитанье, Она не отличалась просвещеньем И расточала нежности свои, Как голуби весной и соловьи.20
Пред ними тихий вечер догорал: Прекрасный час, любимый час влюбленных, Казалось, их любовь благословлял С небес невозмутимых и бездонных: Однажды их сердца околдовал Подобный час и, страстью просветленных, На несколько мгновений, может быть, О всех и вся заставил позабыть!21
Но странно — безотчетное смятенье По их блаженству светлому прошло, Как облака немое отраженье, Как пламени тревожное крыло, Как ветра незаметное движенье На струнах арфы. Как-то тяжело Вздохнул Жуан, охваченный тоскою. И взор Гайдэ вдруг заблистал слезою.22
Ее проникновенный ясный взгляд Следил за исчезающим светилом, Как будто это был весны закат, Как будто это счастье уходило. Жуан влюбленный, нежностью объят, Следил за нею, и его томила Тревога безотчетная, и он Печалью беспричинной был смущен.23
Она Жуану тихо улыбнулась Улыбкой, навевающей печаль, Потом, нахмурив брови, отвернулась И побледнела, вглядываясь в даль. Жуан спросил: «О чем тебе взгрустнулось?» Она ему ответила: «Мне жаль Минувшего и жутко от сознанья, Что не переживу я расставанья!»24
Жуан хотел расспрашивать. Она Устами губы милого закрыла И злую тень пророческого сна Горячим поцелуем победила. Сей метод лучше действия вина: Я пробовал целительную силу Обоих; результаты их — увы! — Боль сердца или только головы.25
Порой жестокое недомоганье Вино и женщины приносят нам, За радости нас облагая данью. Какое предпочесть — не знаю сам, Но я скажу, потомству в назиданье, Проблему изучив по всем статьям, Что лучше уж с обоими спознаться, Чем ни одним из них не наслаждаться!26
Счастливцы со слезами на глазах Молчали долго, нежностью объяты; Все чувства сочетались в их сердцах — Ребенка, друга, любящего брата. Парили души, будто на крылах, Восторгом страсти радостной богаты, И счастье жить, любить и обладать Их вдохновляло жизнь благословлять.27
Зачем, соединив сердца и руки, Не умерли влюбленные тогда? Ни хладных лет, ни горечи разлуки Они бы не узнали никогда! Унылый мир жестокости и скуки И скорбная печаль была чужда Их нежным душам, пылким и прекрасным, Как песни Сафо, пламенным и страстным.28
Им нужно бы скрываться от людей И петь, как соловьи в зеленой чаще, Не ведая пороков и страстей. Избранники свободы настоящей Живут одни: чуждается друзей Орел, высоко на небе парящий, Вороны же и галки — шумный люд, — Как мы, добычу стаями клюют.29
Прекрасная Гайдэ с моим Жуаном На ложе нег вкушали сладкий сон, Но тайную тревогу, как ни странно, Порою ощущал невольно он. Как ручеек в саду благоуханном, Ее уста шептали; как бутон Прекрасной розы, забываясь дремой, Она дышала счастьем и истомой.30
Как ветер беспокоит иногда Поток альпийский сладким дуновеньем, Так наших душ глубокая вода, Встревоженная странным сновиденьем, Таинственно томится, и тогда, Озарена чудесным; просветленьем, Бесчувственна, но, чувством смущена, Не глядя, видит вечное она.31
Гайдэ приснилось, что в ночи туманной Она к скале прикована. Вокруг Ревут и воют волны океана, Хватая жертву тысячами рук. Вот поднялись до уст; ей душно, странно, Ее томит мучительный испуг, Вот захлестнули голову… О боже! Но умереть никак она не может!32
Затем она как будто бы одна Идет босая: острые каменья Изрезали ей ноги, но она Должна идти, идти за смутной тенью В покрове белом; ужаса полна, Гайдэ глядит на странное виденье: Оно молчит, и движется вперед, И подойти поближе не дает!33
Сменился сон: пред ней пещеры своды В уборе сталактитов ледяных; Века и молчаливая природа Неутомимо выточили их. Ей косы растрепала непогода, И слезы из очей ее немых Обильно льются на крутые скалы И сразу превращаются в кристаллы.34
И тут же, хладен, тих и недвижим И странно бледен, как морская пена (Когда-то словом ласковым одним Она его будила неизменно!), Лежал Жуан, и жалобно над ним Рыдало море голосом сирены: Заставить это сердце биться вновь Уж больше не могла ее любовь!35
И, странно, ей внезапно показалось, Что облик дорогого мертвеца Менялся: в нем как будто прояснялось Усталое лицо ее отца И взгляд его недобрый; испугалась Гайдэ при виде этого лица, Проснулась — и увидела, бледнея, Что он, ее отец, стоит пред нею!36
Она вскочила с воплем и пред ним Упала; счастье, ужас и смятенье Узнать того, кто прежде был любим, А ныне стал оплаканною тенью, Боролись в ней с отчаяньем немым Тревоги, недоверья, опасенья За милого. (Я тоже пережил Подобный миг, но я его забыл.)37
Услышав крик отчаянный любимой, Проснулся мой прекрасный Дон-Жуан И, храбростью горя неукротимой, Схватил тотчас же острый ятаган. Но Ламбро, до поры невозмутимый, Сказал с презреньем: «Глупый мальчуган! Смирить твою отвагу озорную Десятку сотен сабель прикажу я!»38
Но тут Гайдэ воскликнула опять: «Ведь это мой отец! О, милый, милый! Ему я ноги буду целовать! Он нас простит, как небо нас простило! Отец! Позволь судьбу благословлять, Которая тебя нам возвратила! Сорви обиду сердца своего На мне одной, но пощади его!»39
Старик стоял спокоен, строг и прям, Его глаза светились странным светом. Я думаю, он был взволнован сам И медлил с окончательным ответом. Наш юный друг, и вспыльчив и упрям, Хотел блеснуть отвагой в деле этом; Он за себя решился постоять И собирался с честью умирать.40
«Отдай оружье!» — Ламбро молвил строго. Жуан сказал: «Без боя не отдам!» Старик суровый побледнел немного И возразил: «Тогда смотри ты сам, За кровь твою я не отвечу богу!» И тут, от слов переходя к делам, Свой пистолет он вынул из кармана И взвел курок, прицелясь в Дон-Жуана.41
Как странно звук взведенного курка Внимательное ухо поражает, Когда, прищурясь, нас издалека Приятель у барьера поджидает, Где нас от рокового тупика Едва двенадцать ярдов отделяют! Но кто имел дуэлей больше двух, Тот потеряет утонченный слух.42
Нацелился пират; еще мгновенье — И роковой конец бы наступил И песне и Жуану, без сомненья. Но крик Гайдэ отца остановил: «Виновна я! Убей без сожаленья Меня одну! Он вовсе не просил Моей любви! Смотри! Его люблю я! Как ты, бесстрашна я, и с ним умру я!»43
Вот только что бессильно перед ним Она слезами горькими рыдала, Но он молчал, угрюм и недвижим. И вот она опомнилась и встала, Бледна, стройна, строга, как серафим Разгневанный. Теперь она сияла Отвагой; взор ее ужасен был, Но руку Ламбро не остановил.44
Так друг на друга черными очами Они глядели молча; что за сходство! В неукротимом взоре то же пламя, В осанке та же сила превосходства. Он был упрям, она — еще упрямей. В ней сказывалось крови благородство; Так может гнев и жажда отомстить Ручную львицу вмиг преобразить.45
Их сходство проявлялось и в повадке, И в блеске глаз, и даже в форме рук, Они имели те же недостатки И те же добродетели — и вдруг Все вспыхнуло в жестокой этой схватке; Ведь ни один привычный светлый звук, Ни милые слова, ни слезы счастья Немыслимы, когда бушуют страсти.46
Отец угрюмый помолчал немного. Потом, смотря на дочь, заговорил: «Не я ему показывал дорогу, Не я ему несчастье причинил! Свидетель бог, я поступил не строго: Никто б такой обиды не простил, Не совершив убийства. Все деянья Влекут награду или наказанье!47
Пускай он сдастся! Или я готов Тебе поклясться этой головою, Что голову его, не тратя слов, Снесу вот этой самою рукою!» Тут свистнул он, и двадцать молодцов Покорною, но шумною толпою Вбежали. Он сказал им: «Мой приказ: Схватить или убить его тотчас!»48
К себе рванул он дочь, ей руку сжав, Меж тем Жуана стража окружила, Осиным роем на него напав. Напрасно билась, напрягая силы, Гайдэ в руках отца: как злой удав, Ее держал он. От нее закрыла Жуана стая хищников, но он Еще боролся, битвой увлечен.49
Один бежал с разбитой головой, Другой упал с разрубленным плечом, Но третий ловко нашего героя Ударил быстро вынутым ножом; И тут уж все накинулись гурьбою На юношу. Кровь полилась ручьем Из нанесенной ятаганом раны На голове несчастного Жуана.50
Они его связали в тот же миг И унесли из комнаты. Тогда же Им подал знак безжалостный старик, И мой красавец под надзором стражи Был переправлен на пиратский бриг, Где был он в трюм немедленно посажен, И строго приказали часовым Неутомимо наблюдать за ним.51
Как странен мир, читатель дорогой! Признаться, мне ужасно неприятно, Что человек богатый, молодой, Красивый, и воспитанный, и знатный, Изранен, связан буйною толпой И, по капризу воли непонятной, Отправлен в море только оттого, Что полюбила девушка его!52
Но я почти в патетику впадаю, Растроганный китайской нимфой слез, Лирической Кассандрой{547} — музой чая! Я раскисаю, как молокосос, Когда четыре чашки выпиваю! Но чем же утешаться, вот вопрос? Мне вина, несомненно, не под силу, А чай и кофе — чересчур унылы,53
Когда не оживляет их Коньяк — Прелестная наяда Флегетона. Увы! Ее пленительных атак Не терпит мой желудок воспаленный! Я прибегаю к пуншу: как-никак Довольно слаб сей друг неугомонный Бесед полночных, но и он подчас Недомоганием наделяет нас!54
Оставил я несчастного Жуана Израненным, страдающим уныло, Но не сравнится боль телесной раны С отчаяньем Гайдэ; ведь не под силу Таким сердцам смиряться пред тираном. Из Феса мать ее происходила — Из той страны, где, как известно всем, Соседствуют пустыня и Эдем.55
Там осеняют мощные оливы Обложенные мрамором фонтаны, Там по пустыне выжженной, тоскливой Идут верблюдов сонных караваны, Там львы рычат, там блещет прихотливо Цветов и трав наряд благоуханный, Там древо смерти источает яд, Там человек преступен — или свят!56
Горячим солнцем Африки природа Причудливая там сотворена, И кровь ее горячего народа Игрой добра и зла накалена. И мать Гайдэ была такой породы: Ее очей прекрасных глубина Таила силу страсти настоящей, Дремавшую, как лев в зеленой чаще.57
Конечно, дочь ее была нежней: Она спокойной грацией сияла; Как облака прекрасных летних дней, Она грозу безмолвно накопляла; Она казалась кроткой, но и в ней, Как пламя, сила тайная дремала И, как самум, могла прорваться вдруг, Губя и разрушая все вокруг.58
В последний раз видала Дон-Жуана Гайдэ поверженным, лишенным сил, Видала кровь, текущую из раны На тот же пол, где только что ходил Ее Жуан, прекрасный и желанный! Ужасный стон ей кровь заледенил, Она в руках отца затрепетала И, словно кедр надломленный, упала.59
В ней что-то оборвалось, как струна. Ей губы пеной алою покрыла Густая кровь. Бессильная, она И голову и руки опустила, Как сломанная лилия, бледна: Напрасна трав целительная сила В подобный миг, когда уже навек Теряет связи с жизнью человек. [55]60
И так она лежала много дней, Безжизненная, словно не дышала, Но смерть как будто медлила — и в ней Уродство тленья все не проступало И на лицо причудливых теней Не налагало; светлое начало Прекрасной жизни, юная душа, В ней оставалась нежно-хороша.61
Как в мраморном бессмертном изваянье, Одна лишь скорбь навек застыла в нем, Так мраморной Киприды обаянье От вечности своей еще нежней. Лаокоона страстные терзанья Прославлены недвижностью своей, И образ гладиатора страдающий Живет в веках, бессмертно умирающий.62
И вот она очнулась наконец, Но странное то было пробужденье: Так к жизни пробуждается мертвец; Ему все чуждо. Ни одно явленье Уже не воскресит таких сердец, В которых только боли впечатленье Еще осталось — смутное пока. На миг вздремнула Фурия-тоска.63
Увы, на все она глядела лица Бесчувственно, не различая их, Была не в силах даже удивиться, Не спрашивала даже о родных; В ней даже сил уж не было томиться: Ни болтовня подруг ее былых, Ни ласки их — ничто не воскресило В ней чувств, уже сроднившихся с могилой.64
Она своих не замечала слуг И на отца как будто не глядела, Не узнавала никого вокруг И ничего уж больше не хотела. Беспамятство — причудливый недуг — Над нею, как заклятье, тяготело. И только иногда в ее глазах Являлась тень сознанья, боль и страх!65
Арфиста как-то в комнату позвали: Настраивал довольно долго он Свой инструмент, и на него вначале Был взор ее тревожный устремлен. Потом, как будто прячась от печали, Она уткнулась в стенку, словно стон Тая. А он запел о днях далеких. Когда тиранов не было жестоких.66
Такт песни отбивала по стене Она устало пальцами. Но вскоре Запел арфист о солнце, о весне И о любви. Воспоминаний море Открылось перед нею, как во сне, — Вся страсть, все счастье, все смятенье горя, — И хлынула из тучи смутных грез Потоком горным буря горьких слез.67
Но были то не слезы облегченья: Они взметнули вихрь в мозгу больном, Несчастная вскочила и в смятенье, На всех бросаясь в бешенстве слепом, Без выкриков, без воплей, в исступленье, Метаться стала в ужасе. Потом Ее связать пытались, даже били, Но средств ее смирить не находили.68
В ней память лишь мерцала; тяжело И смутно в ней роились ощущенья; Ничто ее заставить не могло Взглянуть в лицо отца хоть на мгновенье. Меж тем на все вокруг она светло Глядела в бредовом недоуменье, Но день за днем не ела, не пила И, главное, ни часу не спала.69
Двенадцать дней, бессильно увядая, Она томилась так — и как-то вдруг Без стонов наконец душа младая Ушла навек, закончив жизни круг. И вряд ли кто, за нею наблюдая, Из нежных опечаленных подруг Заметил миг, когда застыли веки И взора блеск остекленел навеки.70
Так умерла она — и не одна: В пей новой жизни брезжило начало, Дитя греха безгрешное, весна, Которая весны не увидала И в землю вновь ушла, не рождена, Туда, где все, что смято, что увяло, Лежит, — и тщетно свет свой небо шлет На мертвый сей цветок и мертвый плод!71
Конец всему! Уж никогда отныне Не прикоснутся к ней печаль и стыд; Не суждено ей было, как рабыне, Сносить года страданий и обид! Прекрасен был, как неба купол синий, Ее блаженства краткого зенит, И мирно спит она во тьме могилы На берегу, где отдыхать любила.72
И остров этот стал угрюм и тих: Безлюдные жилища исчезают, Лишь две могилы средь лугов пустых Пришельцу иногда напоминают О ней и об отце ее, но их Никто не ищет и не замечает, Лишь волны гимном траурным гремят, Скорбя о ней — красавице Циклад.73
Но греческие девушки порой Ее со вздохом в песне поминают, Да, коротая ночь, старик иной Ее отца рассказом воскрешает: Его отвагой и ее красой Туманные легенды наполняет О том, что мстит любовь себе самой, Платя за счастье страшною ценой.74
Но бросим эту тему тем не менее. Безумных я описывать боюсь, По правде говоря — из опасения, Что тронутым и сам я покажусь! Притом весьма капризное творение Моя подруга муза; я вернусь К Жуану: он, захваченный врагами, Октав уж двадцать как оставлен нами.75
Изранен, «связан, скован, заточен»{548}, Два дня лежал Жуан, с судьбой не споря, На третий день совсем очнулся он И увидал себя в открытом море. Вдали синел священный Илион, Но мой герой в таком был сильном горе, Что Илиона видеть не хотел И на сигейский мыс{549} не поглядел.76
Над Геллеспонтом — символ гордой силы, Надменно озирая острова, Стоит курган бесстрашного Ахилла, — Гипотеза ученых такова! А рядом — неизвестная могила; Кого — о том не ведает молва. (Когда б герои эти живы были, Они бы всех живущих перебили!)77
Равнины невозделанный простор, Курганы без надгробий, без названья, Вершина Иды над цепями гор И берегов Скамандра{550} очертанья; Здесь обитала Слава с давних пор, Здесь древности покоются преданья, Но кто тревожит Илиона прах? Стада овец и сонных черепах!78
Печальные селенья, кипарисы, В пустынном поле — ржанье табунов; Пастух, едва ль похожий на Париса{551}, Глазеет на приезжих болтунов, Мечтающих о родине Улисса{552} Со школьных лет. И, набожно-суров, Повсюду турок с трубкой восседает; Ну, а фригийцы где?{553} А черт их знает!79
Итак, Жуан печально созерцал, Удел раба предчувствуя уныло, Лазурь морскую, и уступы скал, И греков горделивые могилы. Вопросов он пока не задавал, Его потеря крови изнурила, Да и ответы стражи для него Не значили бы ровно ничего,80
Он увидал товарищей по плену, Артистов — итальянцев молодых; Они-то рассказали откровенно Подробности превратностей своих: Как водится, в Сицилию на сцепу Спешила из Ливорно труппа их. Их продал импресарио пирату — И взял за это небольшую плату!81
Один из них особенно болтал; Он buffo [56] был и buffo оставался, Он искренне, сердечно хохотал И беззаботным комиком держался; Он распродажи пленных ожидал И в шуточках веселых изощрялся, Меж тем как тенор сумрачно грустил, А примадонна выбилась из сил.82
«Однажды ночью, — комик говорил, — Макиавелли сей, наш импресарио, Сигналом чей-то бриг остановил У берега: Corpo di Caio Mario! [57] Потом нас на корабль пересадил, Без всякого намека на salario; [58] Но если любит пение султан, То мы легко наполним свой карман!83
Конечно, примадонна старовата, И хрипоте подвержена подчас, И стала петь, пожалуй, плоховато; Зато подруга тенора у нас Одарена природою богато; Она на карнавале прошлый раз Отбила графа юного Чиконья У старой принчипессы{554} из Болоньи!84
Хорош у нас балетный персонал: Пленяет всеми качествами Нини, Пятьсот цехинов прошлый карнавал Доставил хохотушке Пелегрини. (Нетрудно столь ничтожный капитал Растратить беззаботной балерине!) А вот гротеска{555} — эта бы могла Очаровать и души и тела!85
Солисткам фигурантки уступают, Но миленькие личики и тут Невольно покупателей пленяют И сбыт на рынке, видимо, найдут! Одна, положим, шест напоминает, Хоть в ней талант и чувства признают, Но с этакой фигурой где же взяться Изяществу, чтоб в танцах отличаться?86
Мужчин у нас хороших нет совсем; У musico[59] вот голос петушиный (Конечно, бас дается нам не всем, И есть тому особые причины), Но евнухом устроиться в гарем Способен сей талантливый мужчина, — Хоть пана третий пол всегда ценил, Но петь любимцев он не научил. [60]87
У тенора — излишек аффектации, А бас, как бык, рычит и завывает, Не признает ни нот, ни пунктуации; Хоть наша примадонна замечает В нем редкое богатство интонации, Однако точно так же распевает, Тревожа мирный сон полей и сел, Рулады исполняющий осел.88
Не позволяет сдержанность моя Упоминать о собственном таланте, Но вы видали чуждые края И слышали вы имя Раукоканти{556}? Так знайте: Раукоканти — это я! Когда вы в Луго будете, достаньте Себе билет, и небом поклянусь, Еще я перед вами отличусь.89
Наш баритон — заносчивый мальчишка, Играет плохо, не умеет петь, Но искренне уверен, хвастунишка, Что мог бы в целом мире прогреметь! Едва годится слабый голосишко Для уличного пенья! Жаль смотреть! Изображая страсть и муки ада, Зубами он скрежещет без пощады!»90
Здесь Раукоканти пламенный рассказ Нарушило пиратов появленье, И пленники услышали приказ Спуститься в трюм. Со вздохом сожаленья Увидели они в последний раз Под ясным небом в дымке отдаленья Веселый танец ярко-голубых Свободных и счастливых волн морских.91
Затем сказали им, что в Дарданеллы Придет его величества фирман{557} (Без коего не обойдется дело В стране богохранимой мусульман!), Там закуют их прочно и умело И повезут, как стаю обезьян, В Константинополь, где раба на рынке Купить и выбрать легче, чем ботинки!92
Когда попарно их сковали всех: С мужчинами мужчин, а даму с дамой, Нечетными остались, как на грех (Игра судьбы капризной и упрямой!), Мой бедный Дон-Жуан и… (право, смех! Порою шутка совместима с драмой!) Цветущая красотка: мой герой Прикован был к вакханке молодой!93
К несчастью, Раукоканти поместили В одной упряжке с тенором: они Друг друга, несомненно, не любили — На сцене все враждуют искони! Но эти двое дня не проводили Без ярых словопрений, хоть сродни Они друг другу были почему-то: «Arcades ambo» [61], id est [62]— оба плуты!94
Партнершею героя моего Была красотка родом из Анконы, Прекрасное, живое существо, В отличном смысле слова «bella donna»[63]. Во всех улыбках — блеск и торжество, Глаза черны как уголь и бездонны, И каждое движенье, каждый взгляд — Залог неописуемых услад!95
Но тщетно эти прелести взывали К печальному Жуану: словно мгла, Ему глаза и сердце застилали Тоска и боль; руки его не жгла Ее рука, его не волновали Прикосновенья, полные тепла, Ее округлых плеч и рук прекрасных, Для молодых людей всегда опасных!96
В анализ углубляться нам не след, Но факт есть факт: Жуан был сердцем верен Возлюбленной своей. На свете нет Такой любви — уж в этом я уверен! «Мечтами о снегах, — гласит поэт, — Жар пламени не может быть умерен»{558}. Но мой герой страдал, и мукой он Был от греховных мыслей защищен.97
Здесь мог бы я увлечься описаньем, Не слишком скромным. В юности моей Я избегал с особенным стараньем Такого искушения, ей-ей! Но критика злорадным замечаньем Меня тревожит: якобы скорей Протиснется верблюд в ушко игольное, Чем мой роман в семейство богомольное!98
Но все равно — уступчив нравом я! Я знаю: Смоллет, Прайор, Ариосто И Фильдинг{559} — эта славная семья — Стеснялись мало, выражались просто. Вести войну словесную, друзья, Умел и я, провозглашая тосты Задорные, противников дразнить И беззаботно ссоры заводить.99
Я был драчлив, — мальчишки любят драки! — Но ныне становлюсь миролюбив: Пускай шумят и спорят забияки! Пройдет ли мой успех, пока я жив, Иль сохранится, как маяк во мраке, Густой туман столетий победив, — Шуршанье трав в полночный час унылый Не прекратится над моей могилой.100
Поэты, нам известные сейчас, Избранниками славы и преданья Живут среди людей один лишь раз, Но имени великого звучанье Столетий двадцать катится до нас, Как снежный ком. Чем больше расстоянье, Тем больше глыба, но она всегда Не что иное, как скопленье льда.101
Увы, читатель, слава номинальна, И номинальны славных имена: Невоскресимый прах молчит печально, Ему, наверно, слава не нужна. Все погибает слепо и фатально — Ахилл зарыт, и Троя сожжена, И будущего новые герои Забудут Рим, как мы забыли Трою.102
Сметает время даже имена Великих дел; могилу ждет могила. Весну сменяет новая весна, Века бледнеют, все теряет силы, Бесчисленных надгробий имена Становятся безжизненно-унылы С теченьем лет, и так же, как живых, Пучина смерти поглощает их,103
Нередко я вечернею порою Смотрю на холм с надломленной колонной И вспоминаю юношу-героя: Как умер он, прекрасно вдохновленный Своею славой. Как он жил борьбою Равенны, благородно-возмущенной! О, юный де Фуа!{560}[64] И он — и он На скорое забвенье обречен!104
Обычно все могилу посещают, Где Данта прах покоится смиренно; Ее священным нимбом окружает Почтенье обитателей Равенны, Но будет время: память обветшает, И том терцин, для нас еще священный, Утонет в Лете, где погребены Певцы для нас безгласной старины.105
Все памятники кровью освящаются, Но скоро человеческая грязь К ним пристает — и чернь уж их чуждается, Над собственною мерзостью глумясь! Ищейки за трофеями гоняются В болоте крови. Славы напилась Земля на славу, и ее трофеи Видений ада Дантова страшнее!106
Но барды есть! Конечно, слава — дым, Хоть люди любят запах фимиама: Неукротимым склонностям таким Поют хвалы и воздвигают храмы. Воюют волны с берегом крутым И в пену превращаются упрямо: Так наши мысли, страсти и грехи, Сгорев, преображаются в стихи,107
Но если вы немало испытали Сомнений, приключений и страстей, Тревоги и превратности познали И разгадали с горечью людей, И если вы способны все печали Изобразить в стихах, как чародей, — То все же не касайтесь этой темы; Пускай уж мир лишается поэмы!108
О вы, чулки небесной синевы{561}, Пред кем дрожит несмелый литератор, Поэма погибает, если вы Не огласите ваше «imprimatur»![65] В обертку превратит ее, увы, Парнасской славы бойкий арендатор! Ах, буду ль я обласкан невзначай И приглашен на ваш кастальский чай{562}?109
А разве «львом» я быть не в силах боле? Домашним бардом, баловнем балов? Как Йорика скворец{563}, томясь в неволе, Вздыхаю я, что жребий мой суров; Как Вордсворт, я взропщу о грустной доле Моих никем не читанных стихов; Воскликну я: «Лишились вкуса все вы!» Что слава? Лотерея старой девы!110
Глубокой, темной, дивной синевой Нас небеса ласкают благосклонно — Как синие чулки, чей ум живой Блистает в центре каждого салона! Клянусь моей беспечной головой, Подвязки я видал того же тона{564} На левых икрах знатных англичан; Подвязки эти — власти талисман!111
За то, что вы, небесные созданья, Читаете поэмы и стишки, Я опровергну глупое преданье, Что носите вы синие чулки! Не всякую натуру портит знанье, Не все богини нравом столь жестки: Одна весьма ученая девица Прекрасна и… глупа, как голубица.112
Скиталец мудрый Гумбольдт{565}, говорят (Когда и где — потомству неизвестно), Придумал небывалый аппарат Для измеренья синевы небесной И плотности ее. Я буду рад Измерить — это очень интересно — Вас, о миледи Дафна, ибо вы Слывете совершенством синевы!113
Но возвращаюсь к нашему рассказу. В Константинополь пленников привез Пиратский бриг. На якорь стал он сразу. Ему местечко в гавани нашлось. Чумы, холеры и другой заразы В столицу он как будто не занес, Доставив на большой стамбульский рынок Черкешенок, славянок и грузинок,114
Иных ценили дорого: одна Черкешенка, с ручательством бесспорным Невинности, была оценена В пятнадцать сотен долларов. Проворно Ей цену набавляли, и цена Росла; купец накидывал упорно, Входя в азарт, пока не угадал, Что сам султан девицу покупал,115
Двенадцать негритянок помоложе Довольно высоко ценились тут. Увы, освобожденных чернокожих, На горе Уилберфорсу{566} продают, Притом теперь значительно дороже! (С пороком воевать — напрасный труд Порок больших расходов не боится. А добродетель чахнет — и скупится!)116
У каждого особая судьба: Кого купил паша, кого — евреи, Кто примирился с участью раба, Кто утвердился в должности лакея, А женщины — ведь женщина слаба — Надеялись достаться поскорее Нестарому визирю и мечтать Его женой или рабыней стать!117
Но позже все подробно расскажу я, Все приключенья точно передам. Пока перо на время отложу я; Глава длинна, я понимаю сам; Я сам на многословье негодую, Но докучаю вежливым друзьям. Теперь пора: оставим Дон-Жуана, Как Оссиан, «до пятого дуана{567}».Песнь пятая
{568}
1
Когда прелестно и медоточиво Поют поэты о любви своей И спаривают рифмы прихотливо, Как лентами Киприда — голубей, — Не спорю я, они красноречивы; Но чем творенье лучше, тем вредней: Назон{569} и сам Петрарка, без сомнений, Ввели в соблазн десятки поколений.2
Но я и не хочу изображать Любовные дела в приятном свете, Я буду строго факты излагать, Имея поучение в предмете; Моралью буду я опровергать Мечты и страсти пагубные эти, И (только бы не выдал мой Пегас!) Я критиков порадую не раз.3
Реки морской живые берега[66], Дворцами испещренные богато, Софии купол, гордые снега Олимпа, и военные фрегаты, И рощи кипарисов, и луга — Я эти страны пел уже когда-то: Они уже пленяли, не таю, Пленительную Мэри Монтегью{570}.4
Ах, я пристрастен к имени «Мария»!{571} Мне был когда-то дорог этот звук; Я снова вижу дали золотые В тумане элегических разлук, Оно живит мои мечты былые, Оно меня печалит, милый друг, — А я пишу рассказ весьма холодный, От всяческой патетики свободный,5
Играли волны, ветер пробегал, Торжественно вдали синели горы, От Азии Европу отделял Поток могучий пенного Босфора, И открывалась за грядою скал Седая даль эвксинского простора И злой прибой. Из всех морских пучин Опаснейшая — все-таки Эвксин!6
Стояла осень; ночи нарастают В такую пору и темнеют дни, И беспощадно Парки обрывают Рыбачьи жизни. О, не мы одни, Когда нас буря в море настигает, Исправиться клянемся искони! Но мертвый клятвы выполнить не в силах, А спасшийся, глядишь, — и позабыл их.7
На рынке было множество рабов Различных наций. Сумрачно стояли Продрогшие бедняги у столбов, Друзей, родных, свободу вспоминали, Кляли свой плен со скрежетом зубов. Лишь негры, как философы, молчали И огорчались меньше всех других: Семь шкур уже не раз спускали с них.8
Мой Дон-Жуан, по молодости лет, Превратности встречать бы должен смело, Но грустно он глядел на белый свет И смахивал слезинки то и дело. Он ослабел от раны, спору нет, А может быть, душа его болела: Объятья милой на ярмо раба Сменить — едва ль завидная судьба!9
Такое бы и стоика сломало, А он держался твердо как-никак, И вся его осанка подтверждала, Что он и дворянин и не бедняк. Притом его одежда привлекала Барышников и попросту зевак: Прикидывали опытные люди, Что выкуп за него хороший будет.10
Итак, базар невольничий пестрел То белыми, то черными телами, И, выбирая кто и что хотел, Купцы как будто рылись в старом хламе. Герой мой молча в сторону смотрел, Но тут мужчина с серыми глазами, Лет тридцати, еще в расцвете сил, Его вниманье вдруг остановил.11
Имел он статный рост и крупный нос, Румянец свежий при отличной коже, Красивый отблеск вьющихся волос, Хороший лоб, и рот, и зубы тоже. Он, видимо, немало перенес И ранен был, но не утратил все же Того sang froid[67], с которым истый бритт Бесстрастно на вселенную глядит.12
Он тоже сразу обратил вниманье На юношу, прекрасного собой, И, ощутив подобье состраданья, Чужой тотчас же занялся судьбой. Он пригляделся к этому созданью, Еще не искушенному борьбой, И угадал живых страстей кипенье И полное отсутствие терпенья.13
«Послушайте-ка, юноша! Сейчас В толпе рабов, несчастной и презренной, Куда судьба забросила и нас, — Одни лишь мы, пожалуй, джентльмены! А потому в такой опасный час Должны мы быть знакомы непременно. Я буду вам полезен, может быть. Вы кто по крови, я хотел спросить?»14
Жуан сказал: «Испанец!» Тот ответил: «Я так и знал, что вы не жалкий грек, — Ваш гордый взгляд я сразу же заметил. Что ж! На фортуну жаловаться грех, Причудница играет всем на свете: Сейчас — удар, а через час — успех. Она со мной не лучше поступила, Но, признаюсь, меня не удивила!»15
«Простите, сэр, — Жуан его спросил, — Что привело вас в это состоянье?» «Шесть турок, цепь и превосходство сил!» «Простите мне нескромное желанье Узнать, откуда вы?» — «О, я служил В войсках у русских: получил заданье Суворова взять Видин{572}, а взамен, Как видите, был взят врагами в плен».16
«А есть у вас друзья?» — «Помилуй бог! Они меня покамест не тревожат! Ну вот, я рассказал вам все, что мог, Теперь и вы расскажете, быть может?» «Увы, исполнен горестных тревог Рассказ мой долгий! Боль мне сердце гложет!» «Тогда молчите: горестный рассказ, Коль долог он, печальней во сто раз.17
Не падайте же духом! В ваши годы Фортуна, как любовница, мила; Взвалить на вас все беды и невзгоды Она никак надолго не могла. Нельзя сердиться на закон природы; Превратны наши судьбы и дела! Смиримся же; таков рассудка голос: Серпа желаньям не перечит колос!»18
«О, я грущу не о судьбе своей! — Вздохнул Жуан. — Я плачу о любимой!» И в темной глубине его очей Блеснула боль тоски неутолимой. «О, как сильна печаль души моей! О, как жесток мой рок неумолимый! Я перенес такое, видит бог, Чего никто бы вынести не мог!19
Я страшную утрату испытал!..» И он умолк, расплакаться не смея. «Я так и думал, — друг его сказал, — Что ваш печальный случай связан с нею: Я тоже слезы лил и трепетал, А посему сочувствовать умею. Одна моя супруга умерла, Другая убежала, в чем была,20
А третья…» — «Как, — Жуан воскликнул, — третья? Вы в тридцать лет имели уж троих?» «А много ли для нашего столетья? Ведь только две, как видите, в живых! Притом успел сердечно пожалеть я И осчастливить каждую из них!» «Ну, третья что ж? Она сбежала тоже?» «Нет, тут уж я сбежал, прости мне боже!»21
«Вы хладнокровны, сэр!» — сказал Жуан. «А как же! — Англичанин усмехнулся. — Вначале всех нас манит океан. Но кто потом на берег не вернулся? Я знал восторгов сладостный обман, Но от него я вовремя очнулся. Былых иллюзий я не узнаю — Они, как змеи, сняли чешую.22
Согласен я, что чешуя другая Бывает и пестрей, но каждый раз Она сползает, медленно линяя, И новая уже ласкает глаз. Сперва любовь нас ловит, ослепляя, Но не одна любовь прельщает нас: Злопамятство, упрямство, жажда славы — Приманок много для любого нрава».23
Жуан вздохнул: «Вы правы, может быть; Но умные слова и размышленья Не в силах нашу долю изменить!» «Нет, юный друг мой, я иного мненья, — Сказал британец, — нужно находить Осмысленную цель в любом явленье; Нас обучает рабства тяжкий гнет, Как исполнять честнее роль господ!»24
Жуан вздохнул: «Увы! Я все усвоил И выдержать экзамен был бы рад! «Ну что ж! — его британец успокоил. — Изменчива фортуна, говорят: Вполне возможно, что еще с лихвою Нас боги через год вознаградят. Мне только надоел ярлык на шее, И я б хотел быть проданным скорее!25
Сейчас, конечно, нам не повезло, Но в этом и возможность улучшенья; Мы все рабы, коли на то пошло, — Рабы страстей, капризов, наслажденья. Со временем душевное тепло И доброта в нас гибнут, к сожаленью. Искусство жить, коль правду вам сказать, В том, чтоб о наших ближних не страдать».26
Меж тем старик, на вид немного странный, Из тех, кого прозвали «третий пол», Разглядывая пристально Жуана, К приятелям вплотную подошел. Так на чужих коней глядят цыганы, Портной — на ткани, на овцу — орел, Служители тюрьмы — на арестанта, На деньги — ростовщик, на женщин — франты.27
Нет, на рабов глядят еще смелей! Себе подобных покупать отрадно. Но если приглядеться почестней — И Власть, и Красота до денег жадны И нет непродающихся людей: Наличный счет — хозяин беспощадный! Всяк получает за свои грешки — Иной короны, а иной пинки.28
Но евнух их рассматривал недаром И, наконец, прицениваться стал. Барышник торговался с истым жаром, Божился, клялся, в сторону плевал И цену набивал своим товарам, Как будто бы скотину продавал. Процесс торговли далеко не всякий Сумел бы отличить от буйной драки,29
Но скоро крики перешли в ворчанье, И спорщики достали кошельки, И серебра приятное журчанье Плеснуло звоном на ладонь руки. Монеты были разного названья, И долго их считали старики. И вот, закончив сделку аккуратно, Купец ушел — обедать, вероятно.30
Не знаю, как и сколько кушал он И каково его пищеваренье; Я думаю, он мог бы быть смущен, Продав себе подобных. Без сомненья, Любой из нас бывает удручен, Когда в желудке чувствует стесненье, Пожалуй, это самый худший час Из всех, какими сутки мучат нас!31
Вольтер не соглашается со мною: Он заявляет, что его Кандид{573}, Покушав, примиряется с судьбою И на людей по-новому глядит. Но кто не пьян и не рожден свиньею — Того пищеваренье тяготит, В том крови учащенное биенье Рождает боль, тревогу и сомненья,32
И правильно сказал Филиппов сын, Великий Александр, что акт питанья, Над коим человек не господин, В нас укрепляет смертности сознанье. Духовностью гордиться нет причин, Когда рождают радость и страданье Какой-то суп, говядины кусок — Желудочный в конечном счете сок!33
На той неделе — в пятницу как раз — Я собирался выйти на прогулку. Я шляпу взял. Уж был девятый час. Вдруг за окном раскатисто и гулко Раздался выстрел. Выбежав тотчас, Я тут же, в двух шагах от переулка, Равенны коменданта увидал, Убитого, наверно, наповал.34
Пять пуль его, беднягу, уложили; За что — теперь уж поздно толковать! Я слуг позвал. Они его втащили Ко мне и положили на кровать. Но я напрасно не щадил усилий: Убитый начинал уж остывать. Жизнь кончилась довольно глупой дракой С каким-то итальянским забиякой!35
Я знал его при жизни и глядел В раздумье на лицо его немое: Я видывал десятки мертвых тел, Но не встречал подобного покоя. Он словно бы заснул, устав от дел, С закинутою навзничь головою. И мне казалась, бледность мертвеца Лишь бледностью усталого лица.36
«Так это смерть? Но что ж она такое? Скажи мне!» Он молчит! «Ответь!» Молчит! Еще вчера он выглядел героем, Имел хороший вид и аппетит, Его команды слово громовое В ушах солдата все еще звучит, — А завтра он предстанет батальонам При гуле барабанов похоронном!37
Вот на него внимательно глядят Те, кто еще вчера его боялся; Они еще поверить не хотят, Что командир от власти отказался. Хороший офицер, храбрец и хват, За Бонапарта смело он сражался, И вот на грязной улице убит И, словно бык зарезанный, лежит.38
Былые затянувшиеся раны И кровь его последних, свежих ран На мертвом теле выглядели странно, — Я все стоял, раздумьем обуян. До самой смерти я не перестану Допрашивать усопших! Но туман Непроницаем, неподвижно-серый, — И для сомнений наших, и для веры.39
Был человек, и нет его — смотри! Что жизненный процесс остановило? Какого-то свинца кусочка три. Вода, земля, огонь, любая сила — Все разуму подвластно! Мы — цари! Но плохо нас природа защитила: Любое вещество не то что в час — В одно мгновенье истребляет нас,40
Но где ж мои герои? Евнух черный Их погрузил в каик, уселся сам, Гребцы взмахнули веслами проворно, И лодка полетела по волнам. Как узники, бесчувственно-покорны, Друзья молчали. Негр велел гребцам Причалить у стены глухой и сонной, Рядами кипарисов осененной.41
Угрюмый негр в калитку постучал, Железная калитка отворилась, Он дал им знак идти и зашагал. Тропинка чуть заметная змеилась Сквозь заросли густые. Негр молчал. Ночная мгла давно уже спустилась, И по такому странному пути Лишь ощупью могли они идти.42
Для чащи экзотических растений — Жасминов, лавров, пальм et cetera — Я мог бы вам придумать тьму сравнений; Но нынче много этого добра Разводят в парниках своих творений Поставщики базара и двора, — А все затем, что одному поэту{574} Пришла причуда странствовать по свету!43
И вот в глубокой мгле и тишине Возникла мысль у моего героя (Она могла прийти и вам и мне!): «Старик, наверно, слаб, а нас-то двое! Мы можем безнаказанно вполне Освободиться от его конвоя…» «Пристукнем негра!» — другу он шепнул И даже руку было протянул.44
«Да, — отвечал британец, — а потом? Подумайте: ведь если нас поймают, Нас освежуют попросту живьем! Варфоломея{575} участь не прельщает Меня ни в коей мере. И притом Я голоден. Желудок мой страдает, И за бифштекс охотно, как Исав{576}, Я откажусь от первородных прав.45
Мы, верно, очень близко от жилья— Старик идет спокойно и бесстрастно; Он знает, что вокруг — его друзья И что тропинка эта безопасна! Догадка подтверждается моя: Вы видите на небе отблеск красный? Мы повернули вправо наконец. Черт побери! Смотрите-ка — дворец!»46
И в самом деле — ярко освещенный, Глазам моих друзей предстал дворец, Причудливый, цветистый, золоченый, Безвкусицы турецкой образец. Родник искусств Эллады угнетенной В чужих руках, увы, иссяк вконец: Раскраска вилл на берегу Босфора Напоминает ширмы или шторы!47
Подливок и пилава аромат Их оживлял по мере приближенья. Хорошему жаркому всякий рад, И моего героя настроенье Исправилось. Участливый собрат Ему шепнул: «Оставьте все сомненья! Поужинаем плотно, а потом О вылазке подумаем вдвоем!»48
Тот действует на чувство, тот — на страсти, Порою даже доводы умны, Иному нужен кнут, иному — сласти, Иному даже правила нужны; Но я чужой не подчиняюсь власти: Рассудку рассужденья не страшны! К тому же и ораторы, признаться, Никак не могут кратко выражаться.49
Но я не собираюсь отрицать, Что сила слова, красоты и лести, Как сила денег, может возбуждать Все чувства — от предательства до чести. Но что способно так объединять Все ощущенья радостные вместе, Как звонкий гонг, который в должный час К принятью пищи приглашает нас?50
У турок для обеденного часа Ни гонга, ни звонков, понятно, нет, Поклоны слуг по правилам танцкласса Не возвещают, что несут обед, Но, чуя запах жареного мяса, Жуан и друг его узрели свет И сразу огляделись деловито В пророческом экстазе аппетита.51
Итак, пока решив не бунтовать, Они за негром поспешили смело. Не знал он, что недавно, так сказать, На волоске судьба его висела. Он им велел немного подождать; Большая дверь на петлях заскрипела, И взору их торжественно предстал Во всем восточном блеске пышный зал.52
Я был когда-то мастер описаний, Но в наши дни — увы! — любой болван Отягощает публики вниманье Красотами природы жарких стран. Ему — восторг, издателю — страданье, Природе ж все равно, в какой роман, Путеводитель, стансы и сонеты Ее вгоняют чахлые поэты.53
Халатами пестрел огромный зал. Кто занят был беседою с друзьями, Кто собственное платье созерцал, Кто попросту размахивал руками, Кто трубку драгоценную сосал И любовался дыма завитками, Кто в шахматы играл, а кто зевал, А кто стаканчик рома допивал.54
На евнуха и купленную пару Гяуров поглядели стороной Гулявшие как будто по бульвару Беспечные лентяи. Так иной, Рассеянно блуждая по базару, Увидя жеребца, его ценой Рассеянно займется на мгновенье, Не придавая этому значенья.55
Они, однако, миновали зал И много комнат маленьких и странных. В одной из них печально бормотал Фонтан, забытый в сумерках туманных, И женский взор внимательный блистал Из-за дверей узорно-филигранных, Настойчиво допрашивая тьму: Кого ведут? Куда? И почему? [68]56
Роскошные, но тусклые лампады Над арками причудливых дверей Неясно освещали анфилады Высоких золоченых галерей. В вечерний час для сердца и для взгляда Нет ничего грустней и тяжелей, Чем пышного безлюдного покоя Молчанье неподвижно-роковое.57
Кому бывать случалось одному В лесу, в толпе, в пустыне, в океане — В великом одиночестве, — тому Понятно все его очарованье. Но кто знавал немую полутьму Пустых, огромных, величавых зданий, Тот знает, что на камне хладных плит Походка смерти явственно звучит.58
Спокойный час домашнего досуга, Вино, закуска, славный аппетит, Камин и книга, друг или подруга — Вот все, чем англичанин дорожит; В осенний вечер от такого круга И рампы блеск его не отвратит. Но я по вечерам в пустынном зале Брожу один и предаюсь печали!59
Великое творя, мы подтверждаем Ничтожество свое: огромный храм Стоит века, но зодчих мы не знаем, Бессмертным воскуряя фимиам. Гробницы мы и домы воздвигаем Вотще с тех пор, как согрешил Адам, И оставляем все-таки преданье О Вавилонской башне без вниманья!60
Нас Вавилон пленяет до сих пор: Там роскошь небывалая царила. Там царь царей Навуходоносор{577} Травой питался, святость Даниила{578} Там усмиряла львов, умильный взор Там на Пирама Фисба{579} обратила; Там, совершая громкие дела, Семирамида{580} славная жила!61
Историки царицу упрекали В неблаговидной нежности к коню{581}. Конечно, чудеса всегда бывали, Но все же я историков виню; Не конюха ль они предполагали? Пресечь ошибку надо на корню. А впрочем, прихоти не знают меры: Любовь впадает в ереси, как вера!62
Скептические люди в наши дни Твердят упрямо, но довольно вяло, Что это всё побасенки одни, Что Вавилона вовсе не бывало. Евреям верить не хотят они{582}, Но им евреи тоже верят мало. Однако ведь нашел же Клавдий Рич{583} На месте Вавилона свой кирпич!63
Прекрасными и краткими стихами Гораций хорошо изобразил, Что строящие забывают сами О беспощадной близости могил. Мы все идем различными путями, Но цель одну нам рок определил: Что «at sepulchri immemor struis domos»[69]{584} — Могила ожидает за углом нас!64
Но вот они пришли в покой пустынный, Дивясь его роскошной пестроте. Казалось, ткани, вазы и картины Соперничали в редкой красоте; Все, чем искусство тешит господина, Покорное причуде и мечте, Все было здесь — самой природы сила Здесь ремесла искусству уступила.65
Здесь было все, что смертному дано: Диваны драгоценные такие, Что сесть на них, казалось бы, грешно; Ковры необычайно дорогие, Сверкавшие, как сказочное дно, Где ярко блещут рыбки золотые; Чтоб чудную их ткань не повредить, По ним бы надо плыть, а не ходить,66
Сапог ступать не смел и не хотел На эти звезды, луны и растенья, Но равнодушный евнух не глядел На роскошь, причинявшую волненье Моим друзьям. Он молча повертел Какой-то ключик в темном углубленье И, дверцу потянув что было сил, Глубокий шкаф пред ними отворил.67
И в глубине явилось их очам Роскошное скопленье одеяний, Какие, сообразно должностям И положенью, носят мусульмане. Отличный гардероб, скажу я вам, — Великолепный выбор пестрых тканей; Но негр вопрос заранее решил И перед бриттом платье положил.68
Тот мог и облачиться и обуться: Он получил роскошные штаны, Которые не лопнут, не протрутся Из-за своей восточной ширины, И туфли, в коих трудно не споткнуться; Кафтан, кинжал значительной цены — Все прелести надменного эфенди{585}, Турецкого изысканного денди!69
Пока он эти вещи надевал, Его приятель новый, негр Баба, Обоим намекал и пояснял, Что в Турцию их привела судьба; Что тот, кто упираться бы не стал, Мог избежать бы участи раба, Себе открыв дорогу к процветанью При помощи обряда обрезанья!70
Он намекнул, что был бы очень рад Их видеть правоверными. Понятно, Их не заставят совершить обряд; Но прозелиты, очень вероятно, Высоких удостоятся наград. В ответ британец молвил деликатно, Что чтит он сам, как все мы чтить должны, Обычаи столь праведной страны.71
«Подобное решенье, — он сказал, — Серьезно, и его обдумать надо. Я, впрочем, никогда не порицал Столь древнего почтенного обряда, И, может быть…» Но тут его прервал Жуан, метавший пламенные взгляды: «Нет, нет! Уж за себя я постою! Скорей отрежут голову мою!72
Я сам отрежу тысячи голов…» «Позвольте мне, — заметил англичанин, — Хотя бы досказать десяток слов: Сэр, добрый ваш совет немного странен, Однако я принять его готов… Но в данный миг мой разум затуманен; Поужинав, я обещаю вам, Что свой ответ немедля передам!»73
Затем спокойно негр неторопливый Перед Жуаном платье положил, Достойное принцессы, но строптивый Жуан не склонен к маскараду был. Ногою христианской, горделивой Он сей наряд с презреньем отстранил. Когда же негр велел поторопиться, Он отвечал: «Старик! Я не девица!»74
«Что ты такое — мне заботы нет! — Сказал Баба. — Ты делай, что велю я!» «Но наконец, — Жуан ему в ответ, — Зачем ломать комедию пустую?» «Вопросы задавать тебе не след, — Заметил негр, — однако намекну я: Все постепенно разъяснится, но Мне попусту болтать запрещено».75
«Нет! — возразил Жуан. — Для пустяка Одеждою не посрамлю я пола! Я докажу, сильна моя рука!» «Эх, — молвил негр, — вот нрав какой тяжелый! Ну, не дури, послушай старика! А то конец ведь будет невеселый: Таких я кликну молодцов сюда, Что станешь ты бесполым навсегда.76
Тебе костюм я лучший предложил; Конечно, женский, но тому причина Особая, как я и объяснил». «Но, — возразил Жуан, — ведь я мужчина, И отроду я юбок не носил! Куда мне к черту эта паутина!» (Он молвил эти дерзкие слова Про лучшие на свете кружева.)«Дон-Жуан»
77
Он все же взял, ругаясь и вздыхая, Предметы, незнакомые для нас: Шальвары, шали — я всего не знаю; Ну, словом, — всякий бархат и атлас. Но с непривычки, юбку надевая, Запутался или, точней, увяз. (Для рифмы я поставил слово это; Она тиранит каждого поэта!)78
Увяз он, несомненно, потому, Что с юбками имел он дела мало, И это обстоятельство ему Поспешно одеваться помешало. Но негр помог герою моему: Поправил шаль, одернул покрывало, Потом, шагов на десять отступив, Решил, что сей наряд весьма красив!79
Еще одно возникло затрудненье — Что волосы Жуана не длинны; Но негр ему принес в одно мгновенье На выбор косы разной толщины, Затем ему велел для соблюденья Ансамбля расчесать их, как должны То делать девы, ниткою жемчужной Их перевить и умастить, как нужно.80
И, облаченный в женственный наряд, При помощи подстрижки и подкраски Он стал почти что девушкой на взгляд. «Да это превращенье словно в сказке! — Вскричал Баба, — Отличный маскарад! Теперь я проведу вас без опаски!» В ладони он ударил, и пришли Четыре негра как из-под земли.81
«Отныне, сэр, извольте удалиться; Поужинать вам слуги подадут, А эта христианская девица Последует за мною. Как, и тут Упрямство? Сэр, чего она боится? Не на съеденье львам ее ведут; Мы во дворце, где правоверных око Провидит кущи райские пророка!82
Они тебе не станут делать зла!..» Жуан ответил: «Радуюсь за них! Моя рука довольно тяжела, Хотя на вид, быть может, я и тих. Куда бы нас игра ни завела, Я не боюсь обидчиков моих, А тех, кто оскорбит мое обличье, Я научу и чести и приличью!»83
«Молчи, тупица! — негр ему сказал. — Иди за мной скорее, бога ради!» С улыбкой англичанин созерцал Красавицу в причудливом наряде. «Счастливый путь! Я, кажется, попал В магический дворец к Шехеразаде. Сей черный повелитель тайных сил Нас в девушку и турка обратил!»84
«Как следует покушать вам желаю, — Сказал Жуан, — и весело пожить!» «Мне жаль, — британец молвил, — не скрываю, Вас потерять из виду. Может быть, Мы встретимся! Прощайте, дорогая; Желаю вам невинность сохранить!» «Ну, ну, — баском ответила красавица, — Со мною сам султан — и тот не справится!»85
Итак, они расстались. Мой герой Пошел за негром. Эхо трепетало На мраморных полах в тиши ночной, На темных сводах золото блистало; И вот вдали причудливой стеной Возникла тень гигантского портала, И фимиама сладостный туман Повеял им навстречу, как дурман.86
Литые двери бронзы золоченой Являли взору множество картин: Там разгорался бой ожесточенный Меж конниками яростных дружин, Там преклонял колена побежденный, Как в дни, когда великий Константин{586}, К себе пересадивший славу Рима, Еще держал бразды неоспоримо.87
Могучее величье пирамид Напоминали взору двери эти, А по бокам — ужасные на вид, Уродливей всего, что есть на свете, — Два карлика сидели. Как гранит, Над ними двери высились. Заметьте, Величье выражается во всем — В гвоздях и петлях; гвоздь вопроса в том![70]88
Лишь только подойдя вплотную, вы Испуганно отшатывались. Боже! Какие губы мертвой синевы! Какой оттенок черно-серой кожи! Какая форма страшной головы! Какие злые, мерзостные рожи! Чудовища чудовищной цены; Они владыке каждому нужны!89
Они еще к тому же были немы, Но совершали грозные дела: Хранить и отворять врата гарема Их страшная обязанность была. Они же разрешали все проблемы Искорененья дерзостного зла — В их длинных пальцах быстрая веревка Виновных успокаивала ловко.90
Им евнух подал знак без лишних слов, И дверь тяжелую они открыли, Но иглы их безжалостных зрачков И негра и Жуана просверлили, И хоть герой наш был из смельчаков, Но чувства в нем от ужаса застыли, Когда холодный, скользкий, злобный взгляд В него впивался, как змеиный яд.91
Баба его успел предостеречь: «Сдержи себя, своей же пользы ради. Иди за мной, не расправляя плеч, И не держись, как будто на параде. Остерегайся взоры их привлечь; Умей держаться в девичьем наряде — Иди ленивее, гляди нежней, А главное — веди себя скромней!92
Глаза у них опаснее, чем шило; Не приведи их боже твой наряд Насквозь увидеть; никакие силы Тебя — да и меня! — не защитят! Босфор весьма надежная могила, И до рассвета нас с тобой казнят — Зашьют в мешок, и, с волнами не споря, Отправимся мы в Мраморное море!» [71]93
Жуана эти бодрые слова Смирили — и покорно, в самом деле, Вошел он в зал, где у него едва От роскоши глаза не заболели: Разбросанные всюду как трава, Несметные сокровища блестели В таком обилье пышной пестроты, Что затмевали сказки и мечты!94
Богатства блеск и вкуса недостаток Обычны для Востока, но — увы! — Я западных дворцов видал с десяток, И все они, признаться, таковы! На всем какой-то фальши отпечаток: Картины плохи, статуи мертвы, Но грубую дешевую работу Обильно искупает позолота.95
В подушках утопая, как в цветах, Под пологом раскинувшись лениво, С улыбкой самовластья на устах Лежала дама. Евнух торопливо, Не поднимая глаз, повергся в прах И потянул Жуана; терпеливо Ему повиновался мой герой, Забавной озадаченный игрой.96
Красавица с подушек поднялась, Как из пушистой пены Афродита. Перед огнем ее пафосских глаз{587} Тускнели и сапфир и хризолиты. Поцеловав руки ее атлас И край ее одежды, деловито Ей что-то евнух на ухо сказал И жестом на Жуана указал.97
Ее движений, голоса и стана, Подобных совершенству божества, Подробно я описывать не стану — Бессильны тут сравненья и слова; Притом у вас из зависти к султану Могла бы закружиться голова, Когда бы описанье вышло живо… А посему молчу красноречиво!98
Ей было лет, пожалуй, двадцать семь: Преклонный возраст для ее народа! Но есть краса, которую совсем Не искажают годы и природа. Мария Стюарт{588}, как известно всем, Блистала красотой такого рода, Нинон Ланкло{589} уже седой была, А подурнеть до смерти не смогла!99
Девицы в одинаковых нарядах (Так евнух нарядил и Дон-Жуана) Ловили волю царственного взгляда, Как нимфы, окружавшие Диану. (Сие сравненье углублять не надо, И я его отстаивать не стану.) Как я уже сказал, Гюльбея, встав, Им знак дала, на двери указав.100
Прелестный рой покорно удалился. Жуан стоял, дыханье затая, И приключенью странному дивился. В какие-то волшебные края, Ему казалось, он переселился, Где чудеса реальны… (Лично я Никак не вижу смысла в скромном даре Известного нам всем «nil admirari»[72]{590}.)101
«Не удивляться ничему на свете — Наука благоденствия для всех!»{591} (Увы, я знаю, Мерри{592}, речи эти; А в текстах Крича{593} сомневаться грех.) Гораций эту истину отметил, А Поп — пересказал ее для всех. Но если б удивляться мы не стали, Ни Попа б мы, ни древних не читали.102
Баба велел Жуану не зевать, Приблизиться, и преклонить колено, И ножку госпожи поцеловать; Но гордый мой герой вскипел мгновенно, Ужасно заупрямился опять И негру заявил весьма надменно: «Я туфель не целую никому — Пожалуй, только папе одному{594}!»103
Баба сказал: «Напрасно я учу Тебя добру — с тобою сладу нету! Послушай! Я с тобою не шучу!» «Да я самой невесте Магомета Поцеловать туфли не захочу!» (Пойми, читатель, силу этикета: Король и мещанин, мудрец и плут Его законы знают и блюдут!)104
Он, как Атлант{595}, был тверд и несгибаем, Не слушая потока гневных слов; В его груди бурлила, закипая, Кастильских предков пламенная кровь, И, гордо честь отцов оберегая, Он жизнью был пожертвовать готов. «Ну, — молвил негр, — с тобою просто мука! Не хочешь ногу — поцелуй хоть руку!»105
На этот благородный компромисс Жуан уже не мог не согласиться. Любые дипломаты бы сдались, Признав, что дольше спорить не годится. Итак, мой несговорчивый Парис Решил совету негра подчиниться, — Тем более что признавал он сам Обычай ручки целовать у дам!106
Он подошел к руке ее атласной И неохотно губы приложил К душистой коже, тонкой и прекрасной. Он был сердит, рассеян и уныл — И потому тревоги сладострастной От этого ничуть не ощутил, Хотя такой руки прикосновенье Все прошлые стирает увлеченья.107
Красавица взглянула на него И удалиться евнуху велела Небрежным жестом в сторону его. Баба Жуану, как бы между делом, Успел шепнуть: «Не бойся ничего!» — И вышел бодро, весело и смело, Как будто он во славу высших сил Благое дело честно совершил!108
Едва Баба исчез — преобразилось Ее доселе гордое чело: Оно тревогой страсти озарилось И трепетным румянцем расцвело. Так в небе — только солнце закатилось — Заря сияет пышно и светло. В ней спорили в немом соревнованье Полутомленье, полуприказанье.109
В ней было все, чем страшен слабый пол, Все дьявольские чары сатаны, С какими он однажды подошел Смутить покой Адамовой жены. Никто бы в ней изъяна не нашел: В ней был и солнца блеск, и свет луны, Ей только кротости недоставало — Она и полюбив повелевала.110
Властительно в ней выражалась власть: Она как будто сковывала цепью; Как иго вы испытывали страсть, Взирая на ее великолепье. Конечно, плоть всегда готова пасть Во прах, но, как орел над вольной степью, Душа у нас свободна и горда И не приемлет плена никогда.111
В ее улыбке нежной и надменной, В самом ее привете был приказ, И своеволье ножки совершенной Ступало не случайно и не раз По шеям и сердцам толпы плененной. За поясом ее, смущая глаз, Блистал кинжал, что подобает сану Избранницы великого султана.112
«Внемли и повинуйся!» — вот закон, Который бессловесные творенья, Покорно окружающие трон, Усвоили от самого рожденья: Ее капризам не было препон, И не было узды ее «хотенью». А будь она крещеной — спору нет, Она б и больше натворила бед!113
Когда чего-нибудь хотелось ей, — Желаемое сразу приносили, За исполнение всех ее затей Любые суммы золотом платили. Но даже деспотичностью своей Она была мила; ее любили И женщины и всё прощали ей — Все, кроме красоты, сказать точней.114
Жуан — ее последняя причуда — Замечен ею из окна; тотчас Искать его по городу повсюду, Купить его немедля — был приказ. Баба его нашел (скрывать не буду — Он потакал красавице не раз) И, действуя по тщательному плану, Переодел рабынею Жуана.115
Но как она, султанова жена, Решилась на такое приключенье? Почем я знаю! Не моя вина, Что не имеют жены уваженья К мужьям венчанным; всем одна цена! Обманывают всех без исключенья Супругов — и монархов и князьков: Уж такова традиция веков.116
Но ближе к теме! Видя по всему, Что дело приближается к развязке, Она в лицо герою моему Взглянула без особенной опаски. Он был «приобретен», а посему Она его спросила — не без ласки, Но несколько надменно, может быть: «Умеешь ли ты, юноша, любить?»117
В другое время моего Жуана Такой вопрос легко б воспламенил, Но в нем была свежа живая рана: Свою Гайдэ еще он не забыл, И сей вопрос любимицы султана В нем только боль утраты разбудил; И он залился горькими слезами, Что очень глупо, согласитесь сами.118
Гюльбея удивилась — не слезам: Их женщины охотно проливают, Но юноши прекрасного глазам Их влажный блеск никак не подобает! Лишь тот, кто пытку слез изведал сам, Тот знает — слезы женщин быстро тают, А наши, как расплавленный свинец, Впиваются в расщелины сердец!119
Она б его утешить постаралась, Но не могла понять, с чего начать. Ведь ей ни разу в жизни не случалось Себе подобных в горе утешать! К ней горе никогда не приближалось, И очень трудно было ей понять, Что кто-нибудь, глаза ее встречая, Способен плакать, их не замечая.120
Но женщины природа такова, Что зрелище смятенья и страданья Диктует ей участия слова В любой стране, при всяком восиитанье. В ней жалость изначальная жива, Она — самаритянка{596} по призванью. Глаза Гюльбеи, бог весть отчего, Слезой блеснули, глядя на него.121
Но слезы, как и все на этом свете, Иссякли, — а Жуан не мог забыть, Что он еще султанше не ответил, Умеет ли он подлинно любить. Она была красива, он заметил; Но он не мог досаду подавить: Он был пред этой женщиной надменной В смешном наряде — и к тому же пленный!122
Гюльбея озадачена была (Впервые, может быть, за двадцать лет!); Она сама ведь всем пренебрегла И дерзостно нарушила запрет, Когда герою нашему дала Столь милый и приятный tête-à-tête[73]. Меж тем уже минут минуло двадцать, А он не помышлял повиноваться.123
О джентльмены! Я хотел сказать, Что в случаях подобных промедленье Под солнцем юга принято считать За самое плохое поведенье. Красавицу заставить ожидать — Да это даже хуже преступленья; Здесь несколько мгновений, может быть, Способны репутацию сгубить.124
Жуан был смел и мог бы быть смелее, Но старая любовь проснулась в нем. Напрасно благородная Гюльбея С ним говорила властно, как с рабом, — Невежливо он обошелся с нею, А все-таки, признаться, поделом! Красавица краснела и бледнела И на него внимательно глядела.125
Она Жуана за руку взяла С улыбкой благосклонной и усталой, Но искра гнева взор ее зажгла: Любви его лицо не выражало. Она вздохнула, встала, отошла И наконец — последнее, пожалуй, Чем можно гордой женщине рискнуть, — Жуану просто бросилась на грудь.126
Опасный миг! Но гордость, боль и горе Как сталь его хранили: он вздохнул И с царственной надменностью во взоре Божественные руки разомкнул. В ее глаза, лазурные как море, Он холодно и пристально взглянул. «Красавица! — воскликнул он. — В неволе Не брачутся орлы, — а я тем боле!127
Спросила ты — умею ль я любить? Умею, но, прости меня, — другую! Мне стыдно платье женское носить! Под крышею твоей едва дышу я! Любовь — удел свободных! Подчинить Султанской власти чувство не могу я! Сгибаются колени, взоры льстят, И руки служат, — но сердца молчат».128
Для европейца это очень ясно, Она ж привыкла искренне считать, Что прихоти владыки все подвластно, Что даже эта прихоть — благодать! Рабы невозмутимы и безгласны, Не могут и не смеют возражать — Вот бытия простое пониманье В наивном императорском сознанье.129
К тому ж (как я успел упомянуть) Она была красива несомненно, Ей стоило на смертного взглянуть — И он терял свободу совершенно. Итак, двойное право посягнуть На полное господство над вселенной Давали ей и красота и сан; И вдруг — не покорился Дон-Жуан!130
Скажите вы, которые хранили В невинности свои младые лета, Как вас напрасно вдовушки ловили И как вас ненавидели за это. Припомните досаду их усилий, Стесненную кольчугой этикета, — Тогда поймете вы всего верней Ужасный гнев красавицы моей.131
Трагедию мы знаем не одну, Поэты их изображали щедро. Припомните Пентефрия жену, И леди Буби, и царицу Федру{597}: Похожи на морскую глубину Их гневных душ бушующие недра — И это вам поможет, может быть, Моей Гюльбеи лик вообразить!132
Прекрасный гнев тигрицы разъяренной И львицы, у которой взяли львят, — Сравню ли с гневом женщины влюбленной, Когда ее утешить не хотят! И это гнев, по-моему, законный: Не все ль равно — что потерять ребят, Что потерять желанное мгновенье, Когда возможно их возникновенье.133
Любовь к потомству всех страстей сильней, Извечный сей инстинкт непобедим; Тигрица, утка, заяц, воробей Не подпускают к отпрыскам своим. Мы сами за вознею малышей То с гордостью, то с нежностью следим. Коль результат могуч, всесилен даже, — То мощь первопричины какова же?134
Не пламенем зажглись глаза Гюльбеи: Они горели пламенем всегда — Ее румянец сделался живее, А ласковость исчезла без следа. Впервые в жизни совладала с нею Упрямой воли дерзкая узда! А взнузданная женщина — о боже! — На что она способна и похожа!135
Одно мгновенье гнев ее пылал (Не то она погибла бы от жара!), Так ад перед поэтом возникал В жестокой буре дымного пожара; Так разбивались у могучих скал Прибоя озверелые удары! В ней было все — движенья и глаза — Как бурная, мятежная гроза!136
Да что гроза! Свирепый ураган, Сметающий убогие преграды, Неистово ревущий океан, Стремительная сила водопада, Песчаный смерч, пронзительный буран — Вот гнев ее! Она была бы рада Весь этот непокорный гадкий мир «Убить, убить, убить!»{598} — как старый Лир!137
Но эта буря, как любые грозы, Промчалась, и за нею, как всегда, Явился ливень — яростные слезы, Плотину прососавшая вода! Ей сердце жгли бессильные угрозы Раскаянья, досады и стыда; Но людям в столь высоком положенье Порой небесполезно униженье.138
Оно их учит — пусть любой ценой, — Что люди все в известной мере братья, И что из глины сделано одной Все — и горшки и вазы — без изъятья, Что от страданий в жизни сей земной Не защищает никакое платье, — И это все способно, может быть, В них наконец раздумье заронить.139
Она Жуана думала лишить Сначала головы, потом — вниманья, Потом его хотела пристыдить, Потом — его склонить на состраданье, Хотела негра-евнуха избить, Хотела заколоться в назиданье, — А разрешилась эта тьма угроз, Как водится, ручьями горьких слез.140
Как я уже сказал, она хотела Немедля заколоться, но кинжал Был тут же, под рукой — и злому делу Такой «удобный случай» помешал! Жуана заколоть она жалела — Он сердце ей по-прежнему смущал; Притом она отлично понимала, Что этим ничего не достигала.141
Жуан смутился; он уж был готов К жестокой пытке колеса и дыбы, Ему уж представлялся дым костров, И когти льва, и зубы хищной рыбы; Ни плаха, ни смола, ни пасти псов Сломить его упорство не могли бы: Он умер бы — и больше ничего; Но просто слезы — тронули его.142
Как смелость Боба Эйкра в страшный час, Жуана целомудрие мелело:{599} Он упрекал себя за свой отказ И думал, как поправить это дело, — Так мучится раскаяньем не раз Отшельника мятущееся тело, Так милая вдова во цвете лет Клянет напрасной верности обет.143
Он лепетать уж начал объясненья, Смущенно повторяя наугад Все лучшие признанья и сравненья, Которые поэты нам твердят. (Так Каслрей в минуты вдохновенья Красноречиво врет — и все молчат!) Жуан уж был не прочь и от объятий, Но тут вошел Баба — весьма некстати!144
«Подруга солнца и сестра луны! — Сказал он. — Повелительница света! Твоим очам миры подчинены, Твоя улыбка радует планеты! Как первый луч живительной весны, Тебе я возвещаю час рассвета! Внемли, и возликуй, и будь горда: За мною Солнце следует сюда».145
«Ах, боже мой! — воскликнула Гюльбея, — Оно могло бы утром заглянуть! Ко мне, комета старая! Скорее Вели звездам составить Млечный Путь Да прикажи держаться поскромнее! Ты, христианка, спрячься как-нибудь!» Но тут ее слова прервали клики: «Султан идет! Султан идет великий!»146
Сперва явился дев прелестный рой, Затем султана евнухи цветные; Как на параде, замыкали строй Их пышные кафтаны расписные. Он обставлял торжественно порой Такие посещения ночные: Гордился он четвертою женой И угождать старался ей одной.147
Он был мужчина видный и суровый: Чалма до носа, борода до глаз; Он ловко спасся из тюрьмы дворцовой И брата удавил в удобный час. Он был монарх не слитком образцовый, Но плоховаты все они у нас: Один лишь Солиман{600} — могучий воин — Быть славой рода своего достоин.148
Ходил он честно, как велел алла, В мечеть молиться в дни богослуженья, Визирю он доверил все дела, Не проявляя к ним большого рвенья, А жизнь его домашняя текла Легко: он управлял без затрудненья Четверкой жен и нежных дев толпой, Как наш король — супругою одной.149
И если даже что-нибудь бывало — Никто узнать подробности не мог; Невозмутимо море принимало Таинственно завязанный мешок! Общественное мнение молчало: Ни толков, ни догадок, ни тревог В нем возбудить газеты не могли бы; Мораль цвела — и… процветали рыбы.150
Он видел лично, что кругла луна, И убедился, что земля — квадратна, Поскольку всюду плоская она (Что каждому мыслителю понятно!). Его весьма обширная страна Ему была покорна, вероятно. Лишь изредка гяуры и паши Тревожили покой его души!151
Когда же распря грозно разгоралась, Всех дипломатов — даже и пашей — Сажали в башни; подразумевалось, Что эта свора, не нося мечей, Науськиваньем грязным занималась И ложью про врагов и про друзей Депеши начиняла — очень тонкой, — Нимало не рискуя бороденкой.152
Имел он сорок восемь сыновей, А дочек — пять десятков; их держали, Конечно, взаперти (оно верней!) И в шелковые платья наряжали, Пока от состоятельных пашей С подарками послы не приезжали, Которым разрешалось увезти Невесту лет шести иль девяти!153
И сыновей держали под замком По правилам восточного закона: Кому придется царствовать — о том Не знали и сановные персоны. Любой, считалось, в случае любом Достоин петли и достоин трона, А потому, в надежде на успех, По-княжески воспитывали всех.154
Султан свою четвертую жену Порадовал улыбкою привета. Она, желая скрыть свою вину, Была нежна, как солнечное лето. (Историю я знаю не одну, Когда искусство женственное это Супругов оставляло в дураках С оленьим украшеньем на висках!)155
Глаза султана, черные, как сливы, Взглянули очень пристально вокруг И выбрали весьма красноречиво Жуана из числа его подруг. «Твоя рабыня новая красива! — Его величество сказало вдруг Встревоженной Гюльбее. — Но напрасно Дочь племени гяуров так прекрасна!»156
Все взоры обратились на него, Вернее — на прекрасную девицу. Товарки удивлялись: отчего Владыке ею вздумалось прельститься?! Из их толпы еще ни для кого Не снизошли уста его открыться! Но обсуждать подробно сей предмет Им помешали страх и этикет.157
Я признаю — бесспорно, турки правы: В гаремы жен полезно запирать. На юге слишком ветреные нравы, Чтоб женщине свободу доверять. На севере — и то они лукавы, Но там холодный климат — благодать! Снега, морозы, вьюги завыванья Препятствуют порока процветанью.158
{601}
Закон Востока мрачен и суров: Оковы брака он не отличает От рабских унизительных оков; И все-таки в гаремах возникает Немало преступлений и грешков. Красавиц многоженство развращает; Когда живут кентавром муж с женой{602}, У них на вещи взгляд совсем иной.159
Но властвуют поэтики законы Над формою и долготою глав: Бросая рифмы якорь золоченый, Сверну я паруса моих октав. Прими мой труд, читатель благосклонный! А я, в поэмах древних прочитав, Что отдыхал и сам Гомер, бывало, Хочу, чтоб муза тоже подремала.Предисловие (к шестой, седьмой и восьмой песням)
{603}[74]
Подробности осады Измаила, изложенные в двух из нижеследующих песен (то есть в седьмой и восьмой), заимствованы из французской работы «Histoire de la Nouvelle Russie»[75]{604}. Ряд приключений, приписанных Дон-Жуану, взят из жизни, в частности — спасение им ребенка. На самом деле героем этой истории был покойный герцог Ришелье, в то время доброволец в русской армии, а впоследствии — основатель и благодетель Одессы, где никогда не перестанут чтить его имя и память.
Две-три строфы этих песен касаются покойного маркиза Лондондерри; но они были написаны несколько ранее его кончины. Я выбросил бы их, если бы олигархия этого человека умерла вместе с ним. Однако при настоящем положении вещей я не вижу ни в обстоятельствах его смерти, ни в обстоятельствах его жизни ничего такого, что могло бы помешать всем тем людям, к порабощению которых было устремлено все его существование, свободно высказывать свое мнение о нем. Говорят, что в частной жизни он был приятным человеком. Может быть, это и так, но публике до этого дела нет, а для оплакивания его смерти будет достаточно времени тогда, когда Ирландия перестанет сожалеть о его рождении. Вместе с миллионами других я считаю, что как министр он обладал более деспотическими наклонностями и более слабым интеллектом, чем любой правитель, когда-либо угнетавший свою страну. Поистине впервые со времен норманнов Англия оказалась в столь унизительном положении, что ею правит министр, который не умеет говорить по-английски, впервые парламент допустил, чтобы предписания ему давались на языке миссис Малапроп{605}.
Об обстоятельствах его смерти не стоит много говорить. Скажем только, что, если бы какой-нибудь несчастный радикал, вроде Уоддингтона или Уотсона{606}, перерезал себе горло, его похоронили бы на перекрестке, со всеми обычными атрибутами в виде кола и деревянного молотка. Но министр был великосветским безумцем — сентиментальным самоубийцей, — он просто перерезал себе «сонную артерию» (да будет благословенна ученость!). И вот уже торжественная церемония, и погребение в Вестминстерском аббатстве, и «вопли скорби, несущиеся»{607} со страниц газет, и хвалебная речь коронера{608} над окровавленным телом усопшего (речь Антония, который достоин такого Цезаря{609}), и тошнотворная лицемерная болтовня гнусной шайки, составившей заговор против всего искреннего и честного. С точки зрения закона[76], его смерть дает основания считать его либо преступником, либо сумасшедшим; и в том и в другом случае он вряд ли подходящий объект для панегирика. Какою была его жизнь — знает весь мир и полмира будет чувствовать еще много лет, если только его смерть не послужит нравственным укором пережившим его Сеянам Европы[77]{610}. Народы могут, по крайней мере, найти некоторое утешение в том, что их угнетатели несчастливы и в известных случаях так справедливо судят о собственных поступках, что предвосхищают суд человечества. Не будем больше говорить об этом человеке, и пусть Ирландия вынесет прах своего Граттана{611} из вестминстерского святилища. Неужели борец за все человечество должен покоиться возле политического Вертера{612}!!!
Что касается других возражений, которые возникали по поводу ранее опубликованных песен этой поэмы, то я ограничусь двумя цитатами из Вольтера: «La pudeur s’est enfuite des coeurs et s’est refugiée sur les lèvres…»[78] «Plus les moeurs sont dépravées, plus les expressions deviennent mesurées; on croit regagner en langage ce qu’on a perdu en verlu»[79]. Это совершенно точная характеристика развращенной и лицемерной кучки людей, выступающих во главе современного английского общества, и это единственный ответ, которого они заслуживают. Избитая и часто незаслуженная кличка богохульника, как и другие подобные ей, вроде радикала, либерала, якобинца, реформатора и прочее, — таковы обвинения, которыми наемные писаки прожужжали уши всем, кто согласен их слушать. Эти обвинения должны, в сущности, быть очень приятны для тех, кто помнит, против кого они в свое время выдвигались. Сократ и Иисус Христос были преданы публичной казни именно как богохульники. И так бывало и еще может быть со многими, дерзающими противиться самым отвратительным оскорблениям имени бога и разума человеческого. Но преследование не есть опровержение и даже не победа: «жалкий атеист»{613}, как его именуют, вероятно, счастливее в своей тюрьме, чем самые надменные из его противников. С его убеждениями у меня нет ничего общего, но независимо от того, правильны они или нет, он пострадал за них, и это страдание во имя совести доставит больше прозелитов деизму, чем прелаты-еретики[80] — христианству, чем министры-самоубийцы — тирании, чем щедро награжденные убийцы — тому нечестивому союзу, который оскорбляет мир, называя себя «Священным»! У меня нет никакого желания попирать ногами мертвых или людей обесчещенных, но было бы неплохо, если бы приверженцы тех классов, из которых происходят эти лица, несколько умерили свое ханжество, это вопиющее преступление нашего двуличного и фальшивого века, века эгоистических грабителей и… но пока достаточно.
Пиза, июль 1822 г.
Песнь шестая
1
Приливы есть во всех делах людских{614}, И те, кто их использует умело, Преуспевают в замыслах своих, — Так говорит Шекспир; но в том и дело, Что вовремя увидеть надо их, — А все-таки я заявляю смело: Все к лучшему! И в самый черный час Вдруг луч удачи озаряет пас.2
И в жизни женщин тоже есть приливы, Влекущие к неслыханным делам, И дерзок тот моряк нетерпеливый, Который доверяет их волнам! Сам Якоб Беме{615}, маг красноречивый, Чудес подобных не расскажет вам: Мужчина головою рассуждает, А женщин сердце в бездны увлекает.3
Но смелая и пылкая она Прекрасна и стремительна бывает, Когда, со всею страстью влюблена, Все узы дерзновенно порывает, Чтоб быть свободной. За любовь она Вселенную и трон свой предлагает. Такая даже дьявола затмит, Любого в манихея превратит!{616}4
Миры и царства можно погубить Из честолюбия, но извиненья Готовы мы безумствам находить, Когда любовь — причина пораженья. Антония привыкли мы ценить Превыше Цезаря не за сраженья, А лишь за то, что ради женских глаз Он Акциум оставил как-то раз!5
Ему, однако, было пятьдесят, А Клеопатре — сорок! Цифры эти Не столь уж обольстительно звучат, Как «двадцать» и «пятнадцать»… Все на свете Стареет; да, — увы! — года летят, Мы чувства сердца, пылкие в расцвете, Теряем, и способность полюбить Нам никакой ценой не возвратить.6
Но все мы эту лепту, как вдова Библейская, внесли, и лепта эта Зачтется нам. Любовь всегда жива, Любовью все живущее согрето. Недаром ореолом божества Чело Любви украсили поэты, Когда морщины низменных страстей Не искажали образа людей.7
В опасном положенье мой герой И третья героиня. Всякий знает, Чем джентльмен рискует молодой, Который одалиску соблазняет, Притом еще в гареме. Грех такой Султаны все безжалостно карают, Не уступая мудро, как Катон{617}, Приятелям своих красивых жен.8
Я вижу, что прекрасная Гюльбея Была в своем поступке неправа, Я знаю, порицаю, сожалею — Но это все напрасные слова. Сказать по правде, я согласен с нею — С тоски порой кружится голова; Хотя султану шесть десятков било, Наложниц у него шесть сотен было.9
Здесь алгебра, пожалуй, не нужна, Здесь арифметики простой довольно, Чтоб доказать, что юная жена, Которая смела и своевольна, Томиться и скучать обречена И может быть султаном недовольна, Когда на склоне лет он делит с ней Пыл шестисотой нежности своей.10
К своим правам относятся серьезно Все женщины — в особенности жены, А ежели они религиозны, То обвиненья их неугомонны: За каждую ошибку очень грозно Они нас предают мечу закона, Дабы другая не могла украсть У них хотя бы тысячную часть.11
Таков обычай христианских стран, Но, кажется, и жены некрещеных Не любят отступать на задний план И не теряют прав своих законных, И ежели какой-нибудь султан Не ублажает жен своих влюбленных, Они — будь их четыре или пять — Все за себя сумеют постоять.12
Четвертою женой была Гюльбея — Любимой, но четвертой как-никак: Ей-богу, полигамия грустнее, Чем наш простой и моногамный брак! Кто знал одну жену и сладил с нею, Тот сознает, что это не пустяк; Вообразите ж, что за наказанье От четырех выслушивать стенанья!13
Пресветлый, превеликий падишах (Монархам льстят прекрасными словами, Пока не будет съеден царский прах Слепыми якобинцами-червями{618}) — Великий падишах, гроза и страх, Ласкал Гюльбею нежными глазами, Желая получить за этот взгляд, Чего всегда любовники хотят.14
Но помните, влюбленные поэты, Что поцелуи, взгляды и слова Для женщин — только части туалета, Как бантики, чепцы и кружева; Их можно, как и прочие предметы, Снимать и надевать; и голова И сердце ни при чем, а выраженья Нежнейшие — всего лишь украшенья.15
Несмелый взор, румянец на щеках, Прелестного волненья трепетанье, Смущенная улыбка на губах, В которой только чудится признанье, — Вот образ, вызывающий в сердцах Влюбленности счастливое сиянье! Излишний холод и излишний жар Уничтожают силу этих чар!16
Излишний жар нам кажется притворным, А если непритворен он порой, То зрелым людям, право же, зазорно Столь юношеской тешиться игрой. Притом — красотки пылкие покорны Любому, кто случится под рукой; Холодные же дамы и девицы По большей части попросту тупицы.17
Вполне понятно, возмущает нас Бесчувственно-безвкусное молчанье, Когда своим восторгам в нежный час Мы требуем ответного признанья. Святой Франциск{619} — и тот просил не раз У ледяной возлюбленной вниманья, «Medio tu tutissimus ibis»[81]{620} — вот Какой завет Гораций нам дает.«Дон-Жуан»
18
Напрасно здесь я «tu» [82] употребил (Оно мне для размера пригодилось!), Мне латинист такого б не простил, Но с ним считаться уж не приходилось; И без того я выбился из сил — С гекзаметром октава не мирилась! Просодия{621} корит меня, ну что ж? Мой стих правдив — и тем уже хорош.19
Как роль сыграла милая Гюльбея, Не знаю я; но знаю, что успех Венчает дело: хитрые Цирцеи Супругами владеют лучше всех, Мужское самолюбие лелея. Все в мире лгут. Обман — отец утех! Лишь голод умеряет тяготенье К ужасному пороку размноженья.20
Прекрасную чету оставил я Спокойно отдыхать на царском ложе, Что снилось им — забота не моя, Но, между прочим, я замечу все же, Что в лучшие минуты бытия Какая-нибудь мелочь нас тревожит. Давно известно — мелочи как раз Сильней всего долбят и точат нас.21
Сварливая жена с лицом невинным, Оплате подлежащие счета, Покойник, по неведомым причинам Тебе не завещавший ни черта, Болезнь собаки, недовольство сыном И лошади любимой хромота — Все это просто мелочи, быть может, — А нас они и мучат и тревожат.22
Но я философ: черт их побери — Зверей, людей и деньги, — но не милых, Прелестных женщин. Что ни говори, Их проклинать я все-таки не в силах! Все остальное к черту: воспари Душой и духом — я всегда ценил их, Но в чем их суть и в чем их глубина — Не знаю, разрази их сатана!23
Как Афанасий{622}, я всему на свете Анафему легко провозгласил. Он на врагов излил проклятья эти И верующих души умилил; На протяженье нескольких столетий Его речей неудержимый пыл, Как радуга цветистая, сияет И требников страницы украшает.24
Оставил я высокую чету В объятьях сна. Но нет, не спит Гюльбея! Жене порочной спать невмоготу, Когда, греховной страстью пламенея К холостяку, заветную мечту Свиданья предстоящего лелея, Она томится, сердится, горит И на супруга спящего глядит.25
Увы! И под роскошным балдахином, И под открытым небом жестока, По вышеобозначенным причинам, Терзающая женщину тоска. Ни пышные пушистые перины, Ни золото, ни яркие шелка Не утешали бедную Гюльбею, Обманутую в брачной лотерее.26
Тем временем «девица» Дон-Жуан И прочие красавицы толпою Пошли в сераль, где их держал султан, Как водится, под стражею двойною. Хариты{623} разных климатов и стран Там предавались лени и покою, Но, словно птички в клетке, грезы их Томились жаждой радостей живых.27
Люблю я женщин и всегда любил — И до сих пор об этом не жалею. Один тиран{624} когда-то говорил: «Имей весь мир одну большую шею, Я с маху б эту шею разрубил!» Мое желанье проще и нежнее: Поцеловать (наивная мечта!) Весь милый женский род в одни уста.28
Завидовать я мог бы Бриарею{625}, Творившему великие дела, Когда бы он, десятки рук имея, Имел и прочих членов без числа. Но что нам до титанов? Мы — пигмеи! И даже муза нынче предпочла Великой доле быть женой титана Простые приключенья Дон-Жуана.29
Итак, в толпе красавиц мой Жуан Подвергся искушению и риску. Весьма жесток закон восточных стран К тому, кто поглядит на одалиску; Не то что у моральных англичан, Где, если подойдешь ты слишком близко К замужней леди, разум потеряв, — Лишь полисмен возьмет за это штраф!30
Однако роли он не забывал, Лишь исподволь соседок созерцая; За ними хмурый евнух поспешал, А рядом, неусыпно наблюдая, Чтобы никто не пел и не болтал, Шла женщина уже немолодая С довольно странным прозвищем: она Мамашей дев была наречена.31
Была ль она «мамашей» — кто поймет? И «девами» ли были девы эти? Но ей немалых стоило хлопот Следить за ними и не быть в ответе. И Кантемир{626} и, помнится, де Тот{627} Рассказывают нам о сем предмете. Пятнадцать сотен дев — легко сказать! — Должна такая «мать» оберегать.32
Но уходить от строгого надзора У них обычно не было причин; Ей помогали стража и запоры, Но, главное, — отсутствие мужчин. Лишь падишах скучающие взоры И умилял и радовал один, И лишь один исход они, бедняжки, Имели для услады, как монашки…33
Какой исход? Молитвы и посты! Я вашему вопросу удивляюсь: Известно, как монахини чисты! Но я к Жуану снова возвращаюсь. Как по воде плывущие цветы, Прелестно и задумчиво качаясь, Печальны, величавы и горды, Пленительные двигались ряды.34
Но чуть они пришли к себе в покой, Они заговорили, зашумели, Как ручейки веселою весной, Как птицы или школьники в апреле, Как из Бедлама спасшийся больной, Которому сиделки надоели; Как на ирландской ярмарке, смеясь, Играя, щебеча и веселясь,35
Они свою подругу разбирали: Судили о глазах, о волосах, Что не к лицу ей платье, толковали, Что нет сережек у нее в ушах, Что рост у ней мужской, и замечали, Что слишком широка она в плечах, И добавляли — о, змея злоречья! — «Жаль, что мужского только рост и плечи…»36
Никто не сомневался, что она, По платью судя, — дева молодая, Шептались, что грузинка ни одна Сравниться с ней красою не могла, и Решили, что Гюльбея не умна, Таких прелестных пленниц покупая, Которые способны, может быть, Ее высоких почестей лишить…37
Но, что по-настоящему чудесно, — Он зависти ни в ком не возбудил! Наоборот: с настойчивостью честной Пытливый хор подругу находил Все более и более прелестной. (Здесь вижу я влиянье тайных сил: Несвойственно красавицам, признаться, Восторженно друг другом любоваться!)38
Таков закон природы, милый друг; Но тут случилось просто исключенье: К Жуанне все почувствовали вдруг Какое-то невольное влеченье, Какой-то странной нежности недуг: Бесовское ль то было наважденье Иль сила магнетизма — все равно: Мне разобраться в этом мудрено.39
Симпатией невинной и неясной Озарены, как радостной мечтой, Сентиментальной дружбой самой страстной Пылали все к подруге молодой; И лишь иные шуткою опасной Смущали мир невинности святой: Мол, если бы у девушки пригожей Был юный братец, на нее похожий!40
Особенно отмечу я троих — Дуду, грузинку Катеньку и Лолу. Природа щедро наделила их Всей прелестью прелестнейшего пола. Среди подруг хорошеньких своих Они сияли грацией веселой И отнеслись к герою моему Нежнее всех — не знаю почему.41
Смуглянка Лола горяча была, Как Индии пылающее лето; А Катенька румяна и бела, Глаза у ней лазоревого цвета, А ножка так изысканно мала, Что еле прикасается к паркету, Но для ленивой грации Дуду Я, кажется, сравнений не найду!42
Дуду казалась дремлющей Венерой, Способной «сон убить»{628} в любом из нас; Улыбка, стан, ленивые манеры, Властительно прельщающие глаз, — Все было в ней округло свыше меры (Что может очень нравиться подчас!). Не повредив пейзажа, скажем смело, Убрать округлость — не простое дело!43
В ней проступала жизнь сквозь томный сон, Как майского рассвета дуновенье; Был нежный свет в глазах ее зажжен; Она была — вот новое сравненье! — Как статуя, когда Пигмалион{629} Ее коснулся силой вдохновенья, И мрамор, оживляемый мечтой, Еще устало спорит с теплотой.44
«Жуанна! Это милое название Для девушки! А где твоя семья?» «В Испании!» — «А это где — Испания?» — Спросила Катя. «Милая моя! — Вскричала Лола. — Глупое создание! Испания! Отлично помню я Прекрасный островок, богатый рисом, Меж Африкой, Марокко и Тунисом!»45
Дуду ни с кем не спорила. Она С улыбкой вопрошающе-туманной, В безвестные мечты погружена, Играла молча косами Жуанны; А та была немного смущена Своей судьбой причудливой и странной. Под взорами таких пытливых глаз Смущаются пришельцы каждый раз.46
Но тут Мамаша дев предупредила их, Что спать пора. К Жуанне обратясь, Она сказала: «Я не знаю, милая, — Явилась ты нежданно, в поздний час, И ужином тебя не накормила я, И все постели заняты у нас. Тебе придется нынче спать со мною, А завтра утром я тебя устрою».47
Но тут вмешалась Лола: «Боже мой! И без того вы слишком чутко спите! Мы все оберегаем ваш покой! Вы лучше мне Жуанну уступите. Ей будет очень хорошо со мной, Мы тоненькие обе, поглядите!» «Как? — возразила Катенька. — А я?! Постель вполне удобна и моя!48
Притом я ненавижу спать одна: Я вижу привиденья, воля ваша! Мне тишина полночная страшна, И каждый звук, и каждый шорох страшен, Мне снятся черти, призраки, война…» «Все глупости! — нахмурилась Мамаша. — Но ты бояться будешь и дрожать И спать подруге можешь помешать.49
Чтоб не была ты слишком боязливой, Тебе я средство лучшее найду. Ты, Лола, чересчур нетерпелива; Жуанна будет спать с моей Дуду: Она скромна, спокойна, молчалива, Не мечется в бессмысленном бреду. Иди, мое дитя!» Дуду молчала И только кротким взором отвечала.50
Поцеловав любезно всех троих — Начальницу, и Катеньку, и Лолу, С поклоном (нету книксенов у них: Они — изобретенье нашей школы) Дуду подруг утешила своих Улыбкою беспечной и веселой, Жуанну нежно за руку взяла И за собою в «оду» повела.51
А что такое «ода»? Это зал, Пестреющий постелями, шелками (В таких покоях я не раз бывал), Подушками и всеми пустяками, Какими бес от века забавлял Сердца красавиц. (Согласитесь сами: Когда Жуан ступил за сей порог, Бес большего уж выдумать не мог!)52
Дуду была прелестное творенье; Такие не сжигают, а лелеют, Столь правильную прелесть, к сожаленью, Запечатлеть художник не умеет. Его прельщает сила выраженья, Которую, как водится, имеют Неправильные, резкие черты, Лишенные особой красоты!53
Она была как светлая равнина, В которой все — покой и тишина, Гармония счастливости невинной И радости цветущая весна… Любезны мне подобные картины! Мне бурная красавица страшна, Как бурный океан; или, вернее, — Красавица, пожалуй, пострашнее!54
Она была тиха, но не грустна; Задумчива, но, говоря точнее, Серьезна; изнутри озарена Спокойствием; она была светлее Самой весны. Не думала она Гордиться юной прелестью своею; В свои семнадцать лет она была Младенческим неведеньем мила.55
Как золото в дни века золотого, Когда не знали золота, — она Была не блеском имени пустого, А ей присущей прелестью полна. «Lucus à non lucendo»[83]{630} нам не ново; Пожалуй, эта формула умна В наш век, когда с проворством небывалым Перемешал сам дьявол все металлы —56
И получился очень странный сплав, С коринфской медью{631} сходный; посмеется Читатель надо мной и будет прав: Люблю я отвлекаться, где придется, И этим порчу множество октав. Пускай мне эта слабость не зачтется; Я знаю, понимаю и винюсь, И все-таки свободным остаюсь.57
Дуду вела прелестную Жуанну (Или Жуана, что одно и то же) Среди невест великого султана, Склоненных на пестреющие ложа; Она молчала — дар весьма желанный И очень редкий в девушке пригожей; Представьте, как бы тешила глаза Роскошная, но тихая гроза!58
Она, однако, пояснила ей (Сказав ему, я отвлекусь от темы, Хоть это, правда, было бы точней) Все правила и строгости гарема, Все хитрости причудливых затей Великой охранительной системы; Сверхштатных дев столь многих охранять Довольно сложно, что легко понять.59
Дуду свою подругу молодую Поцеловала ласково: ну что ж? В таком невинном, нежном поцелуе Ты ничего плохого не найдешь. Читатель, дружбу женскую люблю я, И женский поцелуй всегда хорош, Хотя, для полноты переживанья, К «лобзанью» в рифму просится «желанье».60
Дуду разделась быстро, не тая Своей красы, естественным движеньем; И в зеркало красавица моя Глядела с грациозным небреженьем. Так в ясности прозрачного ручья Любуется прекрасным отраженьем Газель, не понимая, как живет Волшебный этот образ в бездне вод.61
Дуду раздеть хотела и подругу, Но та была до крайности скромна И, отклонив любезную услугу, Сказала, что управится одна. Но, с непривычки или с перепугу, Несчетными булавками она Все пальцы исколола; в дамском платье Булавки — это кара и проклятье,62
Прекрасных превращающее дам В ежей, к которым страшно прикасаться. Я в юности изведал это сам, Когда случалось мне преображаться В служанку, помогая госпожам На маскарад поспешно наряжаться; Булавки я втыкал как только мог Не там, где надо, — да простит мне бог!63
Но эта болтовня предосудительна: Науки как-никак теперь в цене! Потолковать люблю я рассудительно О всем — хоть о тиране, хоть о пне. Но дева Философия действительно Для всех загадка, и неясно мне, Зачем, доколе, как, кому в угоду Живут на свете люди и народы.64
Итак, в молчанье погружен гарем. Едва мерцают бледные лампады. Замечу кстати здесь, что духам всем, Уж если есть они, избрать бы надо Для вылазок ночных такой эдем, А не руин угрюмых анфилады, И нам, беспечным смертным, доказать, Что духи могут вкусом обладать.65
Красавицы роскошно отдыхают, Как пестрые прекрасные цветы, Которые томятся и вздыхают В садах волшебной южной красоты. Одна, слегка усталая, являет Прелестное создание мечты, Как нежный плод причудливый и редкий, Свисающий с отяжеленной ветки.66
Другая разгоревшейся щекой На ручку белоснежную склонилась, На плечи ей кудрявою волной Ее коса густая распустилась; Ее плечо, сверкая белизной, Несмело, но упрямо приоткрылось, И сквозь покровы, трепетно нежны, Ее красы блестят, как свет луны,67
Когда сквозь волокнистые туманы Прозрачных туч является она. Подальше — третья пленница султана В печальный, смутный сон погружена: Ей снится берег родины желанной, Оплаканная милая страна, И, как роса на кипарисах темных, Мерцают слезы на ресницах томных.68
Четвертая, как статуя бледна, Покоится в бесчувственном молчанье, Бела, чиста, бесстрастна, холодна, Как снежных Альп высокое сиянье, Как Лота онемевшая жена{632}, Как на могиле девы изваянье. (Сравнений тьма; предоставляю вам Любое выбрать — я не знаю сам.)69
Вот пятая, богиня средних лет, Что в точном переводе означает — Уже в летах. Увы! Ее портрет Ничем воображенья не прельщает. Я признаю, как истинный поэт, Лишь молодость. Душа моя скучает Среди почтенных, пожилых людей, Вздыхающих о юности своей.70
Но как Дуду любезная спала? Конечно, это очень интересно, Но муза знать об этом не могла, А лгать она не любит, как известно. Волшебная царила полумгла Над пленницами, спавшими прелестно, Как розы в очарованном саду, — И вдруг ужасно взвизгнула Дуду —71
На весь гарем. Вся «ода» поднялась, Мамаша дев и девы всполошились, Казалось, буря шумная неслась И волны друг на друга громоздились. Тревожно и испуганно толпясь, Красавицы шептались и дивились, Что, что могло во сне или в бреду Так испугать спокойную Дуду?72
Огромными, тревожными глазами Дуду глядела в страхе на подруг. Так в час полночный метеора пламя Внезапно озаряет все вокруг; Дрожащие, взволнованные сами, Они стояли, затаив испуг, Не понимая и понять не смея, Что, собственно, в ночи случилось с нею.73
Но вот, друзья, какое благо сон! Жуанна безмятежно почивала. Так муж, блаженством брачным утомлен, Похрапывает мирно и устало. Красавицы ее со всех сторон Расталкивали, не щадя нимало, И наконец, слегка удивлена, На них, зевая, глянула она.74
Тут началось великое дознанье, Расспросы без начала и конца; От любопытства, страха, ожиданья Пылали взоры, лица и сердца. Догадки, замечанья, восклицанья Смутили б и глупца и мудреца! Дуду искусством речи не владела И не умела объяснить, в чем дело.75
Она сказала, ей приснился сон, Что будто в лес зашла она дремучий — Как Дантов лес{633}, где каждый обречен, Смиряя сердце, стать умней и лучше, Где исправляет нрав лукавых жен Закон необходимости могучей, — Ну, словом, ей приснился темный лес, Как водится, исполненный чудес.76
Прекрасное, прозрачно-налитое, На дереве, над самой головой, Слегка блестело яблоко златое, Зеленой окруженное листвой. Но оказалось — дело не простое Его достать; упрямою рукой Дуду напрасно камешки кидала — Все в яблоко она не попадала.77
Она в досаде было отошла, Вдруг сам собой упал прекрасный плод К ее ногам. Дуду его взяла, Но только-только приоткрыла рот, Чтоб надкусить его, как вдруг пчела Откуда ни возьмись! Да как кольнет! От боли сердце в ней остановилось, Она вскричала: «Ай!» — и пробудилась.78
Дуду была ужасно смущена (Конечно, в результате сновиденья, Которого разгадка неясна), И мне знакомо странное явленье Таинственно-пророческого сна: Быть может, это просто совпаденье; Но совпаденьем люди в наши дни Считают все, что тайному сродни.79
Красавицы, которые мечтали Услышать про ужасные дела, Наперебой подругу упрекали, Что их она с постелей подняла. Мамаша, оробевшая вначале, Теперь весьма разгневана была; Дуду вздыхала, робко повторяя, Что вскрикнула, сама того не зная.80
«Я небылицы слышала не раз, Но чтобы сон про яблоко и пчелку Перепугал гарем в полночный час, Как появленье черта или волка, — Такого не бывало и у нас! В твоем рассказе я не вижу толку! Ты вся дрожишь, ты бредишь наяву, — К тебе врача я завтра ж позову.81
А бедная Жуанна! То-то мило! Она-то как напугана была! Напрасно накануне я решила, Чтобы с тобою спать она легла. Но я всегда особенно ценила, Что ты тиха, разумна и мила… Теперь придется Лоле потесниться, Чтобы с подругой новой поместиться!»82
Улыбкой счастья Лола расцвела, Но бедная Дуду, глотая слезы (Она еще взволнована была И странным сном, и строгостью угрозы!), — Дуду внезапно сделалась смела, И разгорелась ярче майской розы, И стала клясться, что такого сна Уже не испугается она.83
Она Мамаше нежно обещала Отныне снов не видеть никаких, Жалела, что с испугу закричала И всполошила всех подруг своих; Она, когда проснулась, поначалу Перепугалась, глядя на других, И горячо просила извинения За слабость или недоразуменье.84
Но тут Жуанна заступилась вдруг: Она с Дуду прекрасно отдыхала; Когда б не шум взволнованных подруг, Она б и крика вовсе не слыхала; Она прощала маленький испуг И ни за что Дуду не упрекала, — Природа грез туманна и темна, Чего не померещится со сна!85
Дуду скрывала на груди Жуанны Пылающее личико свое, Как роза пробужденная румяна. И шея и затылок у нее Зарделись от волненья, как ни странно, Но, впрочем, это дело не мое, И мне пора оставить эту тему И доброй ночи пожелать гарему86
Или, вернее, доброго утра, Поскольку петухи уже пропели. Уж там и сям, как нити серебра, Мечетей полумесяцы блестели; Росистая, прохладная пора, Когда с холмов, шагая еле-еле, Верблюдов длинный вьется караван От самой Каф-горы{634}, из дальних стран.87
Но с первыми туманами рассвета Гюльбея, беспокойна и грустна, Была уже умыта и одета, Как страсть неукротимая бледна. У соловья, как говорят поэты, Шипом томленья грудь уязвлена — Но эта боль ничто перед страданьем, Рожденным необузданным желаньем.88
Я вывел бы мораль, но в наши дни Читатели легко подозревают Поэта в злобном умысле; они Какие-то намеки открывают В любой строфе. И не они одни — Свои ж собратья нас одолевают. На свете нынче много нас, писак, И всем польстить я не могу никак.89
Итак, султанша с ложа поднялась Пухового, как ложе сибарита, — На лепестки нежнейших роз ложась, Стонал он всякий раз весьма сердито. Гюльбея, в зеркала не поглядясь, Не ощущая даже аппетита, Заветной возбужденная мечтой, Горела бледной, гневной красотой.90
Ее великий муж и покровитель Проснулся тоже — несколько поздней, — Он, тридцати провинций повелитель, Супруге редко нравился своей. Но в Турции отличный исцелитель В подобном деле щедрый Гименей: Эмбарго он на жен не налагает И утешаться мужу помогает.91
Султан, однако, редко размышлял На эту тему; как любой мужчина, С красотками от дел он отдыхал И их ценил, как дорогие вина. Черкешенок в гареме он держал, Как безделушки, вазы и картины, Но все-таки гордился он одной Гюльбеей, как любимою женой.92
Он встал и омовенья совершил, Напился кофе, помолясь пророку, И на совет министров поспешил. Им не давал ни отдыху, ни сроку Несокрушимый натиск русских сил, За что льстецы венчанного порока Доселе не устали прославлять Великую монархиню и б….93
Не обижайся этой похвалою, О Александр, ее законный внук{635}, Когда над императорской Невою Мои октавы ты услышишь вдруг. Я знаю: в рев балтийского прибоя Уже проник могучий новый звук — Неукротимой вольности дыханье! С меня довольно этого сознанья.94
Что твой отец — Екатеринин сын, Вельможи все признали дружным хором; Любила государыня мужчин, Но это не считается позором, И адюльтер какой-нибудь один Не может стать наследственным укором, И в лучшей родословной, господа, Погрешности найду я без труда.95
Когда б Екатерина и султан Свои же интересы соблюдали, То распре христиан и мусульман Они едва ль потворствовать бы стали, Усвоили б уроки новых стран И расточать казну бы перестали: Он — на гарем в пятнадцать сотен «фей», Она — для пышной гвардии своей{636}.96
Беспомощный султан просил совета У бородатых и ученых лиц, Как успокоить амазонку эту, Драчливейшую бабу из цариц; Они взамен разумного ответа, Вздыхая, скорбно повергались ниц И, в качестве единственной подмоги, Удваивали сборы и налоги.97
Гюльбея в свой отдельный будуар Тем временем отправилась устало. Для завтраков и для любовных чар Прелестнее приюта не бывало: Цветы, садов великолепный дар, Карбункулы, бесценные кристаллы, Ковры, шелка, узорный потолок — Все украшало этот уголок.98
Порфир и мрамор гордой пестротой С бесценными шелками состязались, Цветные стекла умеряли зной, Ручные птицы звонко заливались… Но описаньем роскоши такой Не раз поэты тщетно занимались; Пусть этого покоя блеск и вид Читатель пылкий сам вообразит.99
Гюльбея строго евнуха спросила: Что делал Дон-Жуан за это время, Какие разговоры возбудило Его явленье странное в гареме, Держался ль он по-прежнему уныло, И как он познакомился со всеми, — И главное — она желала знать, Где, как и с кем он соизволил спать.100
Баба ей отвечал, слегка робея, Стараясь очень много говорить; Услужливой болтливостью своею Он думал госпожу перехитрить. Но догадалась умная Гюльбея, Что он стремится что-то утаить; Баба держался несколько несмело, Почесывая ухо то и дело.101
Гюльбея не привыкла ожидать; Не зная добродетели терпенья, Она любила сразу получать Ответы и простые объясненья. Несчастный негр, не смея продолжать, Остановился в страхе и смущенье, Когда растущей ярости гроза Зажгла Гюльбее щеки и глаза.102
Предвидя, что такие проявленья Сулят неотвратимую беду, Баба повергся ниц, прося прощенья, И рассказал правдиво, что Дуду Достался Дон-Жуан на попеченье; Он в этом обвинял свою звезду, Клянясь Кораном и святым верблюдом, Что это все случилось просто чудом,103
Он проводил Жуана до дверей, А дальше власть его не простиралась. Мамаша этих сотен дочерей Самодержавно всем распоряжалась; Вся дисциплина держится на ней, И негру ничего не оставалось… Любая необдуманная речь Могла опасность новую навлечь.104
Баба надежду выразил к тому же, Что Дон-Жуан умел себя держать: Неосторожность каждая ему же Могла бы поминутно угрожать Мешком и даже чем-нибудь похуже… Во всем признался негр, но рассказать О сне Дуду он как-то не решался И ловко обойти его пытался.105
Он говорил бы, верно, до сих пор, Но, сдвинув брови, грозная Гюльбея Смотрела на рассказчика в упор. Она с трудом дышала. Пламенея, Сверкал ее нахмурившийся взор, И, как роса на трепетной лилее, От дурноты, волненья и тоски Холодный пот покрыл ее виски.106
Она была не слабого десятка И к обморокам вовсе не склонна, Но в то мгновенье нервного припадка Выказывала признаки она; Так ужаса мучительная схватка, Агонии холодная волна Сжимают наше сердце на мгновенье В минуты рокового потрясенья.107
Как Пифия в пророческом бреду На миг она застыла, вся во власти Агонии отчаянья, в чаду Смятения, неистовства и страсти, Как будто кони, потеряв узду, Ей сердце рвали яростно на части. И, задыхаясь, мертвенно бледна, Вдруг опустила голову она.108
Она поникла, странно молчалива, Как будто ослабевшая от ран; Ее власы, как тень плакучей ивы, Рассыпались на шелковый диван, Вздымалась грудь тревожно и тоскливо, Как возмущенный бурей океан; Натешившись, швыряет он устало Одни обломки на песок и скалы.109
Как я сказал, лицо ее закрыли Распущенные волосы; рука Упала на диван в немом бессилье, Безжизненна, прозрачна и тонка… Эх, трудно мне писать в подобном стиле; Поэт, а не художник я пока; Слова не то что краски: эти строки Лишь контуры да слабые намеки!110
Баба отлично знал, когда болтать, Когда держать язык свой за зубами. Надеялся он бурю переждать, Не соревнуясь с грозными волнами. Гюльбея встала и прошлась опять По комнате. Следя за ней глазами, Заметил он: гроза проходит, но Утихомирить море мудрено.111
Она остановилась, помолчала, Прошлась опять; тревожный нервный шаг Ускорила и снова задержала. Известно, что походка — верный знак; Не раз она людей изобличала. Саллюстий{637} нам о Катилиие так Писал: у темных демонов во власти И в поступи являл он бури страсти.112
Гюльбея к негру обратилась: «Раб! Вели их привести, да поскорее!» Султанши голос был немного слаб, Но понял бедный евнух, цепенея, Что никакая сила не могла б Спасти виновных. Он спросил Гюльбею, Кого к ее величеству тащить, Дабы ошибки вновь не совершить.113
«Ты должен знать! — Гюльбея отвечала. — Грузинку и любовника ее! Чтоб лодка у калитки ожидала… Ты понял приказание мое?» Но тут она невольно замолчала — Слова застряли в горле у нее; А он молился бороде пророка, Чтоб тот остановил десницу рока!114
«Молчу и повинуюсь, — он сказал, — Я, госпожа, не возражал ни разу, Всегда я неуклонно выполнял Твои — порой жестокие — приказы; Но не спеши; я часто наблюдал, Что, повинуясь гневу, можно сразу Себе же принести великий вред. Не об огласке говорю я, нет, —115
О том, что ты себя не пожалела! Губительна морская глубина, Уж не одно безжизненное тело Укрыла в темной пропасти она, Но извини, что я замечу смело: Ты в этого красавца влюблена… Его убить — нетрудное искусство, Но, извини, убьешь ли этим чувство?»116
«Как смеешь ты о чувствах рассуждать, — Гюльбея закричала. — Прочь, несчастный!» Красавицу не смея раздражать, Баба смекнул, что было бы опасно Ее приказу долго возражать; Оно еще к тому же и напрасно. Притом он был отнюдь не из таких, Что жертвуют собою для других.117
И он пошел исполнить приказанье, Проклятья по-турецки бормоча, На женские причуды и желанья И на султаншу гневную ропща. Упрямые, капризные созданья! Как страстность их нелепо горяча! Благословлял он, видя беды эти. Что пребывает сам в нейтралитете.118
Баба велел немедля передать Двум согрешившим, чтоб они явились, Чтоб не забыли кудри расчесать И в лучшие шелка принарядились, — Султанша, мол, желает их принять И расспросить, где жили, где родились. Встревожилась Дуду. Жуан притих, Но возражать не смел никто из них.119
Не буду я мешать приготовленью К приему высочайшему; возможно, Окажет им Гюльбея снисхожденье; Возможно, и казнит; неосторожно Решать: неуловимое движенье Порой решает все, и очень сложно Предугадать, каким пойдет путем Каприза гневной женщины излом.120
Главу седьмую нашего романа Пора писать; пускаюсь в новый путь. Известно — на банкетах постоянно Порядок блюд варьируют чуть-чуть; Так пожелаем милому Жуану Спастись от рыбьей пасти как-нибудь, А мы с моею музой в это время Досуги посвятим военной теме.Песнь седьмая
1
О вы, любовь и слава! С давних пор Вы радостно витаете над нами. Так пламенно-блестящий метеор Слепит и жжет волшебными лучами Угрюмый путь среди ледовых гор, А мы глядим на вас, но знаем сами, Что все равно в ночной последний час В морозной мгле покинете вы нас…2
Вот и мое капризное созданье, Игривое и странное на вид, Как яркое полярное сиянье В холодном нашем климате горит. Конечно, все достойно порицанья, И не шутить, а плакать надлежит, Но и смеяться допустимо тоже — Все в нашей жизни на спектакль похоже!3
Подумайте, они меня винят — Меня, вот эти пишущего строки, Как будто я смеюсь над всем подряд, Хуля добро, превознося пороки! Мне очень злые вещи говорят (Вы знаете, как ближние жестоки), — А я сказал лишь то, я убежден, — Что Дант, Сервантес или Соломон{638},4
Что Свифт, Ларошфуко, Макиавелли, Что Лютер, Фенелон или Платон, — Ведь цену жизни все уразумели, — И Уэсли, и Руссо, и Тиллотсон;{639} Гроша она не стоит, в самом деле, Но я не Диоген и не Катон{640}; Я знаю: мы живем и умираем, А что умней — ни вы, ни я не знаем.5
Сократ сказал: «Я знаю лишь одно — Что ничего не знаю!» Сколь приятно Такое знанье! Делает оно И мудрецов ослами, вероятно. А Ньютон заявил уже давно: «Вселенная для знаний — необъятна! Лишь камешки сбираем мы, друзья, На бреге океана Бытия!»6
«Все суета!» — Екклесиаст твердит, А с ним и все новейшие пророки. Святой, мудрец, наставник и пиит Изобличают страсти и пороки; Любой найти примеры норовит Того, что все мы низки и жестоки; Зачем же мне велите вы молчать И низости людской не замечать?7
О, люди — псы! Но вам напрасно льщу я: И псами вас не стоит называть; Ваш гнусный род вам честно покажу я, Но музу вам мою не испугать! Напрасно волки воют, негодуя На ясную луну; ее прогнать Визгливым лаем хищники не в силах: Спокойно блещет вечное светило.8
И я пою могущество страстей, «Любви жестокой и войны бесчестной» (Так выразился, кажется, о ней Один поэт, достаточно известный); Осада будет темою моей. Глава, пожалуй, будет интересной: Ее герой{641} любил кровавый бой, Как олдермены — ростбиф кровяной.9
На левом берегу реки Дуная, От моря в ста верстах, построен был, Великий водный путь оберегая, Восточный город — крепость Измаил{642}. Цела ли эта крепость — я не знаю, Или ее указом упразднил Завоеватель; город был не новый, Но крепостью считался образцовой.10
На возвышенье с левой стороны Предместье к бастионам подходило, Чего, по новым правилам войны, Стратегия б никак не допустила. А палисад у крепостной стены При штурме облегчал осаду с тыла. Сей палисад возвел какой-то грек, — Глупец иль очень умный человек.11
Таланты хитроумного Вобана{643} Строитель в этом деле показал, — Хоть ров был вряд ли мельче океана И высился над ним огромный вал, Зато подходы выглядели странно: Прикрытий, верков инженер не знал (Читатель мне простит из снисхожденья Саперского жаргона выраженья).12
Там был отменно крепкий бастион, Как плотный череп старого солдата: Как добрый наш Сент-Джордж вооружен, Имел барбетты он и казематы. Дуная берег сильно защищен Был этою громадой сероватой, И двадцать пушек с правой стороны Топорщились над выступом стены.13
Но в город был открыт свободный вход Со стороны Дуная, из расчета, Что в реку флот российский не войдет — Ни смелости не станет, ни охоты; А потому и войско и народ При виде неожиданного флота В испуге закричали: «Бисмилла!»{644}, Предчувствуя, что гибель подошла.14
Но русские готовились к атаке. Увы, богиня Слава! Как мне быть? Достойны восхваления казаки, Но как их имена произносить? Сам доблестный Ахилл в бессмертной драке Не мог бы пылкой смелостью затмить Сих воинов великого народа, Чьи имена не выговорить сроду!15
Но нескольких я все-таки готов Назвать — хотя бы ради упражненья: Чокенофф, Львофф, Арссеньефф, Чичакофф{645} — Взгляните, каково нагроможденье Согласных? Строкнофф, Стронгенофф, Чичшкофф! Туга на ухо слава, без сомненья! А впрочем, подобает, может быть, Ей эту какофонию любить.16
Не в силах я ввести в мои октавы Московские фамилии. Так что ж, Я признаю — они достойны славы, Как похвалы достойна молодежь! Министры наши льстивы и лукавы, Произнося фамилии вельмож На «ишкин», «ушкин», «ашкин», «ивский», «овский», — Но мне годится только Разумовский.17
Куракин, Мускин-Пускин, Коклобской, Коклотский, Шерематов и Хремахов — Взгляните: что ни имя, то герой! Ни перед чем не знающие страха, Такие молодцы бросались в бой На муфтиев{646} и самого аллаха И кожей правоверных мусульман Свой полковой чинили барабан.18
Тут были развращенные наградами Солдаты чужеземные; война Прельщала их мундирами, парадами И щедро им дарила ордена. Сраженьями, победами, осадами Всегда пленяет юношей она. Там было, признаюсь, немало, бриттов: Пятнадцать Томсонов и двадцать Смитов!19
Там были Томсон Джек и Томсон Билл, Тринадцать остальных носили имя Певца, который англичанам мил, А нам известен под названьем Джимми{647}. Трех Смитов звали Питер; Смитом был И тот, кто с гренадерами своими Врага под Галифаксом отразил{648}; На этот раз татарам он служил{649}.20
Там были Джеки, Билли, Вилли, Джили, Но старший Джек — конечно, тоже Смит — Родился в Камберленде, где и жили Его родные. Был он знаменит Участием в бою, как сообщили. Он пал героем у села Шмаксмит В Молдавии; британские газеты Ему бессмертье выдали за это.21
Всегда я Марса богом почитал, Но все-таки раздумывал, признаться, О тех, кто в списки доблести попал: Приятно ль им сей славой наслаждаться, Имея пулю в сердце? Я слыхал В одной из пьес, которыми гордятся Любители шекспировских цитат, Такую ж мысль{650}, чему я очень рад!22
Там были и веселые французы, Но я — неукротимый патриот: В столь славный день моя британка-муза Зазорных их имен не назовет! Я мира с ними враг и враг союза; По-моему, изменник даже тот, Кто говорить о них дерзает честно. В подобном деле правда неуместна!23
Две батареи русских с двух сторон Грозили Измаилу в день осады. Амфитеатром был построен он, Чему артиллеристы были рады. Одна должна разрушить бастион, Другая — зданья, улицы и склады С живым инвентарем: в подобный день И он являл отличную мишень!24
Второю целью было — не зевать, Воспользоваться общим замешательством И в гавани врасплох атаковать Турецкий флот; подобным обстоятельством Цель достигалась третья — страх нагнать, Который служит лучшим доказательством, Что время сдаться; воин ведь — и тот, В отличье от бульдога, устает!25
Есть у иных наклонность предурная Презрения к противнику порой. И губит зря заносчивость такая Всех, кто отмечен прозвищем «герой». Так именно погибли, я считаю, И некий Чичичков и Смит — второй Из двадцати, — но их ведь очень много: Адам и тот был Смитом, ей-же-богу!26
Все батареи русских впопыхах Сооружались — спешка, вероятно, Частенько портит дело и в стихах (Ведь Лонгмену и Мерри{651} неприятно, Когда их книжки новые никак Не продаются) и, вполне понятно, Вредит тому, что ныне бард иной То «славой» именует, то «резней».27
Строителя ль то было неумение, Подрядчик ли смошенничал слегка, Чтоб, смертоносное сооружение Испортив, на душу не взять греха, — Но так или иначе, без сомнения, Постройка батарей была плоха: Они обычно невпопад стреляли, Зато мишень собою представляли.28
Дистанции печальное незнание Им тоже причинило много зла: Закончили свое существование Три русских брандера, сгорев дотла. Их подожгли случайно много ранее, Чем вражеская сила подошла. Они на рейде на заре взорвались, Когда враги еще не просыпались.29
Но вот проснулись турки — и вдали Вдруг русскую эскадру увидали, А ровно в девять эти корабли Неустрашимо продвигаться стали В виду у Измаила; подошли, И канонада началась. Едва ли, Читатель, перечислю я тебе Все виды ядер при такой пальбе!30
Так шесть часов подряд они сносили Огонь турецкий. Не жалея сил, Ему в ответ береговые били, Но, видя, что не сдастся Измаил, В час пополудни дружно отступили. Один корабль при этом взорван был, Другой (маневр был, видно, неудачен!) Уткнулся в мель и сразу был захвачен.31
И мусульмане тоже потеряли Немало кораблей, но, увидав, Что отступает враг, возликовали, И делибаши бросились стремглав На русских. Эта вылазка едва ли Дала плоды желаемые: граф Дама{652} их искрошил и сбросил в воду — Газетным сообщениям в угоду.32
«Когда бы нам (историк говорит) Деянья русских описать досталось бы, Тома б наполнить мог любой пиит — И многое несказанным осталось бы!» А посему о русских он молчит И воздает хвалы (смешно, казалось бы!) Десятку чужеземцев: Ланжерон, Дама, де Линь — вот русской славы звон!33
И это подтверждает нам, сколь слава Существенна и сколь она нужна: Не будь ее — читатели бы, право, Не слышали про эти имена. Все лотерея, рассуждая здраво, — И почести, и слава, и война! Но, впрочем, вот де Линя без усилий Его же мемуары воскресили!34
Хоть были там, конечно, и герои Бесстрашные средь мертвых и живых, Но в толкотне и суматохе боя Никто не видит и не ищет их. У бранной славы свойство есть плохое — Легко тускнеть. Когда считать своих Прославленных в боях героев станем, Имен десятка даже не натянем.35
Ну, словом, как ни славен этот бой, Но было что-то, где-то, почему-то Неладно: де Рибас{653}, морской герой, Настаивал на штурме, но ему-то Все возражали; спор кипел большой. Но тут уж я помедлю на минуту — Речей припоминать я не хочу; Читателям они не по плечу!36
Потемкин{654} был в то время знаменит. Геракла он имел телосложенье, Но, несмотря на знатный аппетит, Всю жизнь страдал от злого несваренья Желудка; был он желчен и сердит И умер он один в своем именье, В унынье мрачном дни свои влача, Как проклятая всеми саранча.37
Потемкин был чудовищно богат Поместьями, деньгами и чинами В те дни, когда убийство и разврат Мужчин дородных делало богами. Он был высок, имел надменный взгляд И щедро был украшен орденами. (В глазах царицы за один уж рост Он мог занять весьма высокий пост!)38
Тем временем секретного курьера Светлейшему отправил де Рибас; Тот рассмотрел предложенные меры И подписал желаемый приказ. Ему повиновались офицеры, И в предусмотренный приказом час На берегах Дуная, свирепея, Сурово загремели батареи.39
Тринадцатого стали отступать Гяуры, сияв осаду; но гонец Явился неожиданно опять Пришпорить ярость доблестных сердец И дух геройский наново поднять. Приказ гласил: чтоб положить конец Всем нехристям без дальних разговоров, — Назначен к ним фельдмаршал, сам Суворов!40
Фельдмаршалу светлейший написал Короткое спартанское посланье. Когда бы он свободу защищал, Посланье это стоило б вниманья; Но он порок и жадность ублажал, Когда, сынам Беллоны в назиданье, Классическую строчку сочинил: «Любой ценой возьмите Измаил!»41
«Да будет свет!» — господь провозгласил, «Да будет кровь!» — провозгласили люди. И вот в боренье злых страстей и сил Они взывают с ужасом о чуде. Один жестокий час испепелил Цветущий рай, и после в дымной груде За сотни лет не разобраться нам: Война вредит и кронам и корням!42
Встречали турки русских отступленье Восторженными криками «алла!»; Но, как и все ошибки самомненья, Их радость преждевременна была. Считать врага нам лестно, к сожаленью, Побитым. Но грамматика ведь зла — Разбитым будет правильней, я знаю, Да сгоряча о формах забываю.43
Шестнадцатого турки вдалеке Увидели двух всадников лихих, Скакавших без поклажи, налегке На лошаденках маленьких своих. Обычна смелость в русском казаке; Особо не разглядывали их, Когда ж они поближе подскакали, В одном из них Суворова узнали!44
«Какая радость в Лондоне!» — вскричал Болван, когда узрел иллюминацию. Джон Буль{655} всегда восторженно встречал Народную сию галлюцинацию; Ракет и ламп цветистый карнавал Его пьянит, и он во имя нации Готов отдать и жизнь и кошелек, — Гигантский одуревший мотылек!45
Ругательство английское гласит: «Будь прокляты глаза мои!» И точно — Джон Буль теперь на что ни поглядит, Все видит наизнанку, как нарочно: Ему налоги — рай, долги — кредит, И даже сам костлявый голод, прочно Его поработивший господин, — Не боле, как Цереры младший сын,46
Но ближе к делу; лагерь ликовал, Шумели и французы и казаки, Их, как фонарь, Суворов озарял — Залог победы в яростной атаке. Как огонек болотный, он сиял И прыгал в надвигающемся мраке, Всех увлекал вперед, неустрашим, И все, не размышляя, шли за ним.47
Но лагерь ликовал на самом деле — Всех воинов восторг обуревал; Нетерпеливо ратники шумели, И каждый о победе толковал. Не думая о вражеском обстреле, Они, уже готовясь лезть на вал, Чинили пушки, лестницы, фашины И прочие приятные машины.48
Так направляет разум одного Поток людской в едином направленье; Так слушаются овцы своего Барана; так слепые от рожденья Идут, не опасаясь ничего, За собачонкой — странное явленье! Звон бубенца, вот сущность, черт возьми, Людей великих власти над людьми.49
Весь лагерь ликовал; сказать бы можно, Что брачный пир их ожидает всех (Подобная метафора возможна И уложилась в строчку без помех). Любой юнец мечтал неосторожно О битве и трофеях. Просто смех — Старик чудаковатый и вертлявый Всех увлекал с собой во имя славы.50
И потому-то все приготовленья Поспешно делались: один отряд Из трех колонн стоял, готов к сраженью, И ждал, чтоб первый просвистел снаряд; Другой был также в три подразделенья И также жаждал крови и наград; Поодаль третий был готовым к бою И в двух колоннах двигался рекою.51
Совет военный дело обсудил, Единодушно и единогласно (Что редко достигается) решил — Мол, положенье, в сущности, опасно, Но при разумном напряженье сил Вдали маячит слава — это ясно! Суворов молча славу предвкушал И самолично рекрут обучал. [84]52
Да, это факт; фельдмаршал самолично Благоволил полки тренировать И тратил много времени обычно, Дабы капрала должность исполнять. Едва ли эта прихоть неприлична: Любил он сам солдату показать, Как по канатной лестнице взбираться, А то и через ров переправляться.53
Еще порой фашины ставил в ряд, Украсив их чалмами, ятаганами И нападать на них учил солдат, Как будто бы сражаясь с мусульманами, И каждый раз бывал успеху рад. Его проделки полагая странными, О нем острили в штабе иногда, А он в ответ брал с ходу города.54
Но в этот вечер накануне боя Весь русский лагерь был сурово-тих; Невольно призадумались герои О том, что завтра ожидает их, Решившихся на дело роковое, — О детских днях, о близких и родных, О том, что миновало невозвратно, И о себе самих, вполне понятно.55
Суворов появлялся здесь и там, Смеясь, бранясь, муштруя, проверяя. (Признаться вам — Суворова я сам Без колебаний чудом называю!) То прост, то горд, то ласков, то упрям, То шуткою, то верой ободряя, То бог, то арлекин, то Марс, то Мом{656}, Он гением блистал в бою любом.56
И вот, пока фельдмаршал занимался Солдат ученьем, как простой капрал, Разъезд казачий по полю слонялся И путников усталых повстречал. Один из них по-русски изъяснялся; Конечно, слов запас был очень мал, Но жестами он объяснил резонными, Что дрался под российскими знаменами.57
И посему просил казаков он, Чтоб их немедля в штаб препроводили: Полутурецкий вид их был смешон, Шальвары мусульманские не скрыли Их сути христианской, и фасон Одежд не повредил им (а сгубили Мы множество порядочных людей, Не отличив обличья от идей).58
Суворов, сняв мундир, в одной рубашке, Тренировал калмыков батальон, Ругался, если кто-нибудь, бедняжка, Неповоротлив был иль утомлен. Искусство убивать штыком и шашкой Преподавал он ловко; верил он, Что человечье тело, без сомнения, — Лишь матерьял, пригодный для сражения!59
Фельдмаршал пленных сразу увидал, Окинул зорким взглядом: «Подойдите!» Нахмурил брови, всматриваться стал: «Откуда?» — «Из Стамбула мы — простите, Константинополя…» — «Я так и знал… А кто вы?» — «Поглядите и судите!» — Была беседа очень коротка — Знал отвечавший вкусы старика.60
«Как звать?» — «Я — Джонсон, он — Жуан». — «А те-то?» «Две женщины, а третий — ни мужчина, Ни женщина…» — «Постой, тебя я где-то Уже встречал… Какая бы причина?.. Ты — Джонсон? Знаю, знаю имя это! Ты был, дружок, не помню только чина, В пехотном Николаевском? Ведь был?» «Так точно, ваш-сиятельство, служил!»61
«При Видине ты дрался?» — «Да». — «В атаке Ты отличился, помню, а потом?» «Я ранен был!» — «Но ловок так не всякий, Ты бросился отважно напролом. А дальше?» — «Я очнулся в полном мраке Уже турецким пленником — рабом». «Ну, завтра отомстишь за униженье — Ведь это будет адское сраженье!..62
Отлично. Где же хочешь ты служить?» «Где вы сочтете нужным». — «Понимаю! Конечно, ты захочешь туркам мстить И будешь снова смел, я полагаю; Еще смелее даже, может быть! А этого юнца вот я не знаю!» «Ручаюсь, генерал, он смел вдвойне. Герой он и в любви и на войне!»63
Жуан безмолвно низко поклонился — Он комплимент инстинктом угадал. Меж тем Суворов снова оживился: «Ты счастлив, Джонсон! Полк-то твой попал В колонну первых! Долго я молился И всем святым сегодня клятву дал — Сровнять с землею стены Измаила И плугом распахать его могилу!64
Ну, в добрый час, ребята!» Тут опять Фельдмаршал к батальону поспешил Подшучивать, браниться, муштровать, Чтоб разогреть геройский дух и пыл. Он даже, проповеднику под стать, Сказал, что бог их сам благословил: Императрица-де Екатерина На нехристей ведет свои дружины!65
Наш Джонсон, из беседы убедясь, Что он попал, пожалуй, в фавориты, К фельдмаршалу вторично обратясь, Сказал: «Мне лестно даже быть убитым В таком бою. Мы оба, не страшась, Пойдем на этот приступ знаменитый, Но мы бы вас хотели попросить Нам полк и номер роты сообщить!»66
«Да, верно. Я забыл. Сейчас устрою. Ты в прежний полк, понятно, поступай. Катсков! Сведи-ка этого героя В пехотный Николаевский. Ступай! Красавчика-юнца оставь со мною; Я присмотрюсь к нему. Пока прощай. Ах да, еще ведь женщины; ну, эти Пускай пока побудут в лазарете…»67
Но тут-то вдруг, не знаю почему, Красавицы — хоть их и воспитали В гареме быть покорными всему, Чего бы только требовать ни стали, — По случаю особому сему Заволновались и затрепетали, Слезами загорелись очи их, И, как наседки крыльями своих68
Цыплят, они горячими руками Мужчин за шеи стали обвивать. Герои, как мы убедились с вами, Отважно собирались воевать. О, глупый мир, обманутый словами! О, гордый лавр! Не стоит обрывать Твой лист бессмертный ради рек кровавых И горьких слез, текущих в море славы.69
Суворов видел слез и крови много И к ремеслу ужасному привык, Но женщин бестолковая тревога В нем отозвалась жалостью на миг. Он посмотрел на них не слишком строго (Ведь жалостлив бывает и мясник). Страданье слабых трогает героя, А что герой Суворов — я не скрою!70
Он грубовато-ласково сказал: «Какого черта, Джонсон, друг любезный, Вы притащили женщин? Кто их звал? Они в военном деле бесполезны! Отправим их в обоз — не то скандал; Закон войны, вы знаете, железный! Пожалуй, я их сразу отошлю: Я рекрутов женатых не люблю!»71
Британец отвечал его сиятельству: «Они не жены никому из нас. Мы слишком уважаем обстоятельства, Чтобы возиться с женами сейчас. Солдатской службы лучшее ручательство — Отсутствие семьи и меткий глаз. Не только жены — даже и невесты Средь боевых товарищей не к месту.72
Турчанки эти пожалели нас И помогли нам убежать из плена, Делили с нами трудности подчас Стоически: коль молвить откровенно, Я видел это все уже не раз, А им, бедняжкам, тяжко несомненно; И я за нашу службу, генерал, Прошу, чтоб их никто не обижал!»73
Но женщины с тревогою понятной Глядели на защитников своих, Страшила их игра судьбы превратной, Притом еще пугал их и старик — Шумливый, юркий, странно неопрятный, Не то смешон, не то как будто дик, Внушал он окружавшим столько страха, Как ни один султан сынам аллаха!74
Султан для них был полубожеством: Он был роскошный, яркий, как картина, Величие все подтверждало в нем, Осанкой он напоминал павлина, Сверкающего царственным хвостом; Но непонятна им была причина Того, что и всесилен и велик Одетый скромно маленький старик.75
Джон Джонсон, наблюдая их смятенье, Утешить попытался их слегка — Восточного не знал он обхожденья; Жуан поклялся с жаром новичка, Что за обиду им иль оскорбленье Поплатятся все русские войска! И это их умерило волненье — Все девы любят преувеличенья!76
Вот обняли они в последний раз Героев, плача горькими слезами. Что ожидало их? В ужасный час Фортуна потешается над нами, Зато Незнанье утешает нас. И то же было с нашими друзьями — Героям предстояло, как всегда, Сжечь город, им не сделавший вреда.77
Суворов не любил вникать в детали, Он был велик — а посему суров; В пылу войны он замечал едва ли Хрип раненых и причитанья вдов; Потери очень мало волновали Фельдмаршала в дни яростных боев, А всхлипыванья женские действительно Не значили уж ничего решительно!78
Однако скоро грянет канонада, Какой троянский лагерь не слыхал! Но в наше время автор «Илиады» Не стал бы петь, как сын Приамов пал; Мортиры, пули, ядра, эскалады — Вот эпоса новейший арсенал. Но знаю я — штыки и батареи Противны музе грубостью своею!79
Божественный Омир{657}! Чаруешь ты Все уши — даже длинные! Народы Ты покоряешь силою мечты И славою бессмертного похода. Но устарели шлемы и щиты; Монархам ненавистную Свободу Пороховой теперь скрывает дым, — Но эту Трою не разрушить им!80
И я пою, божественный Омир, Все ужасы чудовищной осады, Хотя не знали гаубиц и мортир В оперативных сводках Илиады. Но я с тобой не спорю: ты кумир! Ручью не должно с мощью водопада Соревноваться… Но, порукой бес, В резне за нами будет перевес.81
В поэзии мы отстаем, пожалуй, Но факты! Но правдивость! Бог ты мой! Нам муза с прямотою небывалой Могла бы подвиг описать любой! Дела героев! Реки крови алой! Но мне-то как прославить этот бой? Предвижу — Феб от славных генералов Известий ждет для новых мадригалов.82
О, гордые сраженья Бонапарта! О, доблестные тысячи убитых! О, слава Леонида, слава Спарты! О, слава полководцев знаменитых! О, Цезаря великолепный дар, — ты, Доселе в «Комментариях»{658} избитых Горящий! Всех вас я хочу просить Прощальным блеском музу осенить.83
Зачем я говорю: «прощальным блеском»? Затем, что каждый век и каждый год Герои с новым шумом, с новым треском Военной славой потчуют народ. Но тот, кто честно, искренне и веско Оценит их заслуги, — тот поймет: Все эти мясники друг с другом схожи И все дурачат разум молодежи.84
Кресты, медали, ленты, галуны — Бессмертнейших бессмертная забава! Мундиры пылким мальчикам нужны, Как веера красоткам! Любит Слава Игрушки золоченые войны! А что такое Слава? Вот уж, право, Как выглядит она, не знаю я… Мне давеча сказали, что свинья85
Способна видеть ветер{659}. Это чудно! Мне говорили, что, почуя ветер, Свинья бежит довольно безрассудно. Но полно толковать о сем предмете; Ведь муза утомилась — видно, трудно И ей самой писать октавы эти. Читайте песнь восьмую; как набат, В ней ужасы осады зазвучат!86
Чу! В тишине холодной, тусклой ночи Гудящих армий строятся ряды, Железо темной тяжестью грохочет, И берега и полосы воды — Все ощетинилось, все битвы хочет. Несутся тучи… В небе — ни звезды… О, скоро дыма мутные громады Его закроют занавесом ада!87
Перед восьмою песней отдохнем..» Ужасное молчанье наступает: В последний раз не беспробудным сном Беспечные герои почивают… Заутра дымом, громом и огнем Проснувшиеся силы заиграют. «Ура!» — «Алла{660}!» — десятком сотен ртов Сольются в смертоносный грозный рев.Песнь восьмая
1
О, кровь и гром! О, раны, гул и вой! О, злая брань! О, раны, кровь и стоны! Все эти звуки оскорбляют твой Тончайший слух, читатель благосклонный; Пойми изнанку славы боевой — Хоть украшают именем Беллоны И Марса эту бойню, но цена И суть ее во все века одна.2
Готово все для страшного парада: И люди, и знамена, и штыки; Как лев, наметив жертву из засады, Готовы к истреблению полки. Стоглавой гидрою, исчадьем ада, Они ползут по берегу реки. Пускай героев головы слетают — Немедленно другие вырастают.3
Всегда «en grand»[85] история берет События, детали опуская. Но кто урон и выгоды учтет, Тому война претит; и я считаю, Что столько денег тратить не расчет, За пядь земли сраженья затевая. Одну слезу почетней осушить, Чем кровью поле боя затопить.4
Хорошему деянью все мы рады, А славы ослепительный экстаз, Знамена, арки, пенсии, парады, Обычно ослепляющие глаз, Высокие отличья и награды Кого угодно развратят у нас; Но, в сущности, лишь войны за свободу Достойны благородного народа.5
Все прочие — убийство! Вашингтон И Леонид достойны уваженья; Их подвигом народ освобожден, Священна почва каждого сраженья, Священен даже отзвук их имен — Они в тумане зла и заблужденья, Как маяков Грядущего лучи, Сияют человечеству в ночи!6
Кольцом пожаров полночь озаряя, Мерцали артиллерии огни; Как призрак ада, в зеркале Дуная Стояли тучей пламени они. Гремели ядра, гулко завывая, Ударам грома Зевсова сродни, — Хотя любому смертному известно, Что гром земной страшней, чем гром небесный!7
И вот под грохот русских батарей Пошла в атаку первая колонна, А мусульмане, грозной лавы злей, Навстречу им. Смешались крики, стоны, Солдаты взвыли яростней зверей; Так, бешенством великим потрясенный, Во чреве Этны, злобой обуян, Икает расходившийся титан.8
И крик «Алла!» — ужасный, грозный крик, Страшнее, чем орудий завыванье, Над берегом и городом возник. Как беспощадной мести заклинанье, Он был могуч, стремителен и дик, Он небо потрясал до основанья, Он нес погибель каждому врагу: «Алла! Гроза неверных! Алла-гу!»[86]9
С реки на берег двинулись колонны, И, как трава, легли за строем строй, Хоть сам Арсеньев — ярый сын Беллоны, Руководил сей доблестной игрой. «Господней дщерью» Вордсворт умиленный Назвал войну; коль так, она сестрой Доводится Христу — и уж наверно С неверными обходится прескверно.10
Сам принц де Линь в колено ранен был, А Шапо-Бра{661} — аристократ надменный — В высокий кивер пулю получил, Но черепа его фасон отменный Способствовал тому, что не сразил Легитимиста сей свинец презренный; Легко понять отсюда вывод тот, Что медный лоб свинец не прошибет!11
Носилки принца Марков-генерал Велел убрать, минуты не теряя, Чтоб принц с простым народом не лежал На поле боя. В корчах умирая, Кто пить просил, кто жалобно стонал, Последние молитвы повторяя. О них не думал бравый генерал, Пока и сам ноги не потерял.12
Выбрасывали пушки и мушкеты Свинцовые пилюли и плевки. Кровавое слабительное это Сметает разом целые полки! Пугают человечество кометы, Чума и голод. Очень велики Несчастья мира, но картина боя Правдивая затмит все зло земное.13
На поле боя поражают нас Все виды человеческих страданий — Сведенных рук, остекленевших глаз: Все ужасы жестоких истязаний Без всяких поэтических прикрас. Так погибают тысячи созданий, Иной же уцелеет как-нибудь И ленточкой потом украсит грудь!14
Но я люблю большое слово Слава; Оно героям в старости дает На пенсию заслуженное право, А бардам — дополнительный доход. В поэзии герои величавы, Отсюда все — и гордость и почет; А пенсии, без всякого сомненья, Оправдывают ближних истребленье!15
Передовые приступом спешат У турок взять одну из батарей, А ниже по реке другой отряд Закончил высадку; еще быстрей Солдаты лезут (так толпа ребят Бежит навстречу матери своей) Через окоп и стену палисада, Храня порядок, словно для парада.16
Ужасный бой пылал и грохотал: Казалось, сам Везувий раскаленный Губительной картечью клокотал. Суворов, жаркой битвой увлеченный, Треть офицеров сразу потерял, А строгая статистика Беллоны Нас поучает, что урон такой Сулит исход решительно плохой.17
Но я большую тему оставляю, Чтоб показать, как мой прекрасный дон Стяжает лавры, доблестью сияя, Успехами и славой окрылен. (Хоть можно бы назвать, я точно знаю, До сотни тысяч доблестных имен, Вполне достойных, рассуждая здраво, Упоминанья в лексиконе славы, —18
Но предоставлю эти имена Почтенной разговорчивой газете; В канавах и в полях найдет она Трофеи героические эти. Теперь на них высокая цена: Но все, друзья, изменчиво на свете: Случается, что может и печать Фамилию героя переврать!) [87]19
И Джонсона, и юного Жуана Послали в бой с каким-то там полком. Они сражались доблестно и рьяно, Не думая, не помня ни о ком; Кричали, били, наносили раны И шпагою, и просто кулаком — И, говоря по правде, заслужили, Чтоб их обоих в сводку поместили.20
Порой идти им приходилось вброд В болоте мертвых тел и крови черной: Казалось — ад бушует и ревет Навстречу им стихией непокорной; Они упрямо двигались вперед С отвагою безумной и упорной И, по телам товарищей своих Шагая, не слыхали стонов их.21
Хоть мой герой впервые был в бою, Хотя в тумане ночи инфернальной Труднее храбрость выказать свою, Чем под нарядной аркой триумфальной, Хоть он устал порядком (не таю) И вид имел достаточно печальный, Хоть он робел и, может быть, дрожал, — Но с поля боя он не убежал,22
Оно, конечно, убежать из строя Не так-то просто, но не в том беда; И самые великие герои Выказывали робость иногда. Под Мольвитцем{662} сам Фридрих с поля боя Изволил удалиться, господа, — Но все присягу соблюдают свято: Иной — за совесть, а иной — за плату!23
{663}
Был мой герой «не парень, а бульон», Как говорят ирландцы по-пунически. (Ученый мир недавно извещен, Что в Карфагене был язык кельтический, И Патриком{664} доныне сохранен Дух Ганнибала. В тунике классической Душа Дидоны в Эрине{665} живет — Так волен думать каждый патриот.)24
Ну, словом, был он очень пылкий малый, Дитя порывов, песен и страстей, То полон чувства, от веселья шалый (Иль чувственности — если так верней!), А то готов с компанией удалой Все разрушать, что подвернется ей; Так многие находят развлеченье И пользу от осады иль сраженья.25
В любви и на войне идальго мой Намерений благих всегда держался, А это козырь выгодный: любой Им от упреков света защищался — И дипломат, и шлюха, и герой, Всяк на свои намеренья ссылался Прекрасные, хоть черти ими ад Мостят уж много сотен лет подряд.26
Признаться вам, берет меня сомненье По части этих адских мостовых; Я думал и о способах мощенья, И степени выносливости их. Не поставляют наши поколенья Достаточно намерений благих Для их починки; мостовые ада Напоминают Лондон, думать надо.27
Однако к делу. Юный мой герой Остался вдруг один в разгаре боя; Так покидают женщины порой Еще недавно милого героя По свадьбе через год. Идальго мой Увидел (не без ужаса, не скрою), Что он огнем и дымом окружен И что совсем один остался он.28
Как это получилось, я не знаю; Кто был убит, кто раненный лежал, А кто, поспешно жизнь свою спасая, Без памяти от ужаса бежал. (Сам Юлий Цезарь, я припоминаю, Бегущих римлян еле удержал, Когда своим щитом в пылу сраженья Им преградил дорогу отступленья!)29
Жуан мой, не имея под рукой Щита и Цезарю не подражая, Увидел, что момент настал плохой, Задумался, с трудом соображая, И, как осел (метафорой такой Я славного Гомера воскрешаю: Для самого Аякса{666} не нашел Он лучшего сравненья, чем осел)…30
Итак, Жуан, ослу уподобляясь, Пошел вперед и не смотрел назад, Скользя и поминутно натыкаясь На трупы коченеющих солдат. Слепительный пожар, переливаясь, Горел вдали. И, ужасом объят, Идальго мой, теряя направленье, Не видел своего подразделенья.31
В разгаре боя он найти не мог Ни командира, ни полка, ни роты; Куда они девались — знает бог И, может быть, история пехоты. Но верный случай юноше помог. Когда в пылу воинственной охоты Он бросился неведомо куда За славою, мерцавшей как звезда.32
Не находя ни ротного, ни роты, Он побежал куда глаза глядят; Как путник, выбираясь из болота, И огоньку блуждающему рад, А моряки рассеянного флота И к ненадежной пристани спешат, — Так мой герой, отвагой пламенея, Бежал туда, где был огонь сильнее.33
Он толком ничего не понимал: В глазах темнело и в висках стучало, Ужасный грохот разум оглушал, И молния по жилам пробегала; А сила, в клочья рвущая металл, И небеса и землю сотрясала; Ее придумал, дьяволам на страх, Наш Роджер Бэкон — набожный монах![88]34
Но тут Жуан колонну увидал. Она в бою порядком поредела; Отважный Ласси, бойкий генерал{667}, Повел солдат вперед настолько смело, Что больше половины потерял. Растаяла колонна до предела, Осталась от нее в конце концов Лишь горсточка отборных храбрецов.35
И Джонсон тут же рядом оказался. Он, говоря по правде, отступал, Но, оглядевшись, быстро догадался, Что из огня да в полымя попал. Он, замечаю в скобках, не терялся И к бегству никогда не прибегал, За исключеньем случаев особых, Когда храбриться попусту смешно бы.36
Меж тем как безрассудный Дон-Жуан Совсем один остался в гуще боя, Как новичок своей отвагой пьян, Наш бритт избрал решение иное; Не то чтоб он боялся мусульман, Но рассудил, что может и героя В такой «Долине смерти» бросить в дрожь, — Тогда солдат уже не соберешь!37
Как черти, мусульмане защищали Великую твердыню Магомета: Солдат дождем свинцовым поливали Дома, редуты, стены, парапеты. Укрытие надежное едва ли Нашлось бы в этом городе, но где-то Заметил егерей британец мой, Жестокой перепуганных резней.38
Он их окликнул, и, что очень странно, Они тотчас откликнулись на зов, Не так, как «духи бездн», о ком туманно Нам Хотспер говорит{668}, что голосов Людских они не слышат. Джонсон рьяно Ободрил присмиревших молодцов, И, стадному инстинкту подчиняясь, Они пошли за ним, не упираясь.39
Мой Джонсон был герой не без заслуг, Хотя его судьба не наделила Фамилией, ласкающею слух, Как имена Аякса иль Ахилла; Он был достойный враг и верный друг, Имел большую выдержку и силу И истреблял противников порой, Не суетясь, как подлинный герой.40
Он даже и бежал-то в данном случае Лишь в поисках людей, что вслед за ним Пойдут вперед в огонь, почтя за лучшее Его признать начальником своим. Известно — страх влияет, как шипучее На многие желудки; мы спешим В укрытие от грохота сраженья, Чтоб дух перевести хоть на мгновенье.41
Так Джонсон мой решил передохнуть, Но он потом, конечно, собирался Вернуться вновь на тот туманный путь, Которого и Гамлет опасался{669}… Но Джек не беспокоился ничуть, Он свойствами магнита отличался: Придя в себя, он возвратился в бой И всех увлек туда же за собой.42
Им показалась со второго разу Настолько страшной чертова игра, Что впору позабыть любые фразы О чести, орденах et cetera. Солдат живет и дышит по приказу: Услышав беспощадное «пора!», Особенно раздумывать не надо, В аду ли ты иль на пороге ада…43
Они легли, как травы под косой, Как урожай под градом, как серпами Подрезанная рожь. Перед грозой Бессильно жизни маленькое пламя, — А турки, разъяренные борьбой, Их молотили сверху, как цепами, И то и дело падали стрелки, Спускать не успевавшие курки.44
Отстреливались турки с бастиона, Как дьяволы: сплошной свинцовый шквал Сметал атаковавшие колонны, Как пену с крутизны прибрежных скал. Но Джонсон мой, фортуной охраненный, Ни под какую пулю не попал; Он, сам не зная как, вперед пробился И на обратном скате очутился.45
За ним еще четыре или пять, А там и десять выбежали смело; Теперь уж было нечего терять: Земля вокруг гудела и горела. Бежать гораздо легче, чем стоять; Вперед или назад — не в этом дело! И посему десяток храбрецов Ворвался в Измаил в конце концов.46
И тут они, к большому изумленью, Узрели пресловутый палисад — Нелепое весьма сооруженье, Невежества плачевный результат. (Теперь береговые укрепленья Построили отлично, говорят, Голландцы и французы, — но недаром Гордятся англичане Гибралтаром!)47
Герои наши с легкостью могли Укрыться под защитой палисада, Построиться и по команде «пли!» Обрушиться на турок без пощады. (Потом и палисад они снесли; Больших трудов для этого не надо.) Ну, словом, палисад, по мере сил, Условия осады облегчил.48
О первенстве бессмысленные споры Рождают, миролюбию назло, Союзных наций мелкие раздоры О том, кому случайно повезло. Британца оскорбляют разговоры, Что будто бы враги при Ватерлоо Почти что отлупили Веллингтона, Да подоспели прусские колонны,49
Что Блюхер, Гнейзенау{670} и ряд других На «ер» и «ау» известных генералов Французов окружили в самый миг, Когда рука Фортуны задрожала; Что Веллингтону якобы без них, Быть может, никогда б не перепало Ни орденов, ни денежных наград, О коих все историки твердят.50
Храни нам, боже, короля!{671} Храни И королей, а то народ, пожалуй, Хранить их не захочет в наши дни. Ведь даже кляча, если досаждала Ей сбруя и узда, как ни гони, Брыкаться будет. Да, пора настала; Народ почуял силу, посему Быть Иовом{672} не захочется ему.51
Он хмурится, бранится, проклинает И камешки швыряет, как Давид{673}, В лицо врага — потом топор хватает И все кругом безжалостно крушит; Тогда-то бой великий закипает; Хоть мне война, как правило, претит, Но только революция, наверно, Избавит старый мир от всякой скверны.52
Но возвратимся к делу. Мой Жуан Ворвался смело, ловкий и проворный, На парапет твердыни мусульман Хотя не самым первым, но, бесспорно, Одним из первых. Славы ураган Его увлек; веселый и задорный, Мой юноша держался храбрецом, Хоть нежен был и сердцем и лицом.53
Не он ли на груди красавиц страстных Был, как дитя, пленителен и мил, Не он ли в их объятьях ежечасно Элизиум блаженства находил? Для всякого любовника опасны Минуты расставанья — говорил Жан-Жак Руссо. Но моему герою Всегда расстаться с милою игрою54
Бывало жаль; красавиц покидал Он под влияньем рока, или шквала, Или родных — и каждый раз страдал И вот теперь судьба его послала В ужасный бой, где пламя и металл Убили состраданье, где пылала Стихия буйной смерти; словно конь Пришпоренный, он бросился в огонь,55
Жуана кровь зажгло сопротивленье; Мы знаем, что на гонках, на бегах Весьма легко подобное волненье И в наших загорается сердцах. На должном расстоянье, без сомненья, Он ненавидел зверство, но в боях Меняются характеры и страсти, И наш порыв уже не в нашей власти.56
Отважный Ласси был со всех сторон Тесним и сжат. Увидев подкрепленье, Он был и рад, и очень удивлен; Зато юнцов отважных появленье С Жуаном во главе тотчас же он Приветствовал, но только, к сожаленью, Испанцем он Жуана не признал И по-немецки речь свою сказал…57
Язык немецкий был для, Дон-Жуана Не более понятен, чем санскрит, Но уловил он, — что отнюдь не странно, — О чем маститый воин говорит. Свидетельством чинов его и сана Являлись ленты, звезды, строгий вид, Украшенные пышно грудь и плечи И самый тон его любезной речи.58
На разных языках сквозь шум и чад Трудненько сговориться, думать надо, Когда визжит картечь, дома горят И стоны заглушают канонаду, Когда в ушах бушуют, как набат, Все звуки, характерные для ада, — И крик, и вой, и брань; под этот хор Почти что невозможен разговор.59
На то, что длилось меньше двух минут, Потратил я две длинные октавы; А бой ревел. Все бушевало тут В агонии жестокой и кровавой. Казалось, даже пушки устают От грохота. И символ злой расправы Над чувствами людскими — дикий вой, Протяжный вопль стоял во мгле ночной…60
Вот враг ворвался в город разоренный… «Бог создал мир, а люди — города!» — Воскликнул Каупер{674} — и вполне законно; А Тир и Ниневия, господа? А Карфаген и стены Вавилона? Исчезли, не осталось и следа! Мы скоро все поймем, весьма возможно, Что только жить в лесах вполне надежно.61
Удачником убийца Сулла слыл; Ему судьба сама давалась в руки. По мне же всех людей счастливей был Охотник Бун{675}, который жил в Кентукки. За весь свой век он только и убил Козу или медведя. Слез и муки Не ведая, в спокойствии души Он мирно жил в хранительной глуши62
До старости глубокой. Преступленье Не омрачало дум его простых; Здоровье — верный друг уединенья — Немало дней беспечно-золотых Ему дало; болезни и сомненья Теснятся в клетках улиц городских, А честный Бун провел в лесу и в поле Лет девяносто — может быть, и боле.63
И, что всего ценней, оставил он Надолго память добрую по праву. (Удел не всех прославленных имен — Без доброй славы что такое слава? Пустой кабацкой песенки трезвон!) Ни ревности, ни зависти лукавой Не знал отшельник деятельный сей, Дитя лесов и солнечных полей.64
Людей он, правда, несколько чуждался, Включая даже собственную нацию: Чуть кто-нибудь в лесах его являлся, Он удалялся в сильной ажитации. По существу, он искренне боялся Новейших форм и благ цивилизации, Но, встретив человека одного, По-братски он приветствовал его.65
Он не был одинок; сыны природы Вокруг него доверчиво росли. Ни меч, ни брань, ни тайные невзгоды Сей юный мир состарить не могли. Не зная ни тоски, ни непогоды, Они на лоне матери-земли Хранили нравы вольного кочевья, Свободные, как реки и деревья.66
От карликовых жалких горожан Их отличали мужество и сила, Красивая походка, стройный стан И простота души. Не превратила Их мода в изощренных обезьян, Их жадное стяжанье не томило, И браться за ружье по пустякам Ни разу не случалось их стрелкам.67
Они трудились днем и сладко спали, Когда спокойный вечер наступал; Их ни разврат, ни роскошь не смущали, Ни подкупа порок не обольщал; Их сердца не тревожили печали, Их светлый мир был и велик и мал; В уединенье общины блаженной Они вкушали радости вселенной.68
Но полно о природе! Нужно мне Напомнить о тебе, Цивилизация! О битвах, о чуме, о злой вине Тиранов, утверждавших славу нации Мильонами убитых на войне, О славе, генералах и реляциях, Украсивших интимный кабинет Владычицы шестидесяти лет.69
Итак, отряды первые вбежали В горящий осажденный Измаил; Штыки и сабли яростно сверкали; Неистово, собрав остатки сил, Разбитый город турки защищали. Ужасный вой до неба доходил: Кричали дети, женщины вопили В густом дыму и тучах черной пыли.70
Кутузов (тот, что позже одолел Не без подмоги стужи Бонапарта) Под Измаилом еле уцелел; В пылу неукротимого азарта С врагом и другом он шутить умел, Но здесь была поставлена на карту Победа, жизнь и смерть, — момент настал, Когда и он смеяться перестал.71
Он бросился отважно в наступленье Через глубокий ров. А гренадеры, Окрасив кровью мутное теченье, Старались не отстать от офицера. Тут перебили многих (к сожаленью, Включая генерала Рибопьера), И мусульмане русских смельчаков Отбросили со стен обратно в ров.72
И если бы неведомый отряд, Случайно потерявший направленье, Блуждая средь развалин наугад, Не увидал ужасное скопленье В кровавый ров поверженных солдат И не явился к ним как избавленье, — То сам Кутузов, смелый весельчак, Не выбрался б, я думаю, никак!73
И вскоре те же самые герои, Которые Кутузова спасли, За ним вослед, не соблюдая строя, Через ворота Килия вошли, Скользя и спотыкаясь. Почва боя — Комки замерзшей глины и земли — Подтаяла к рассвету, размесилась И в липкое болото превратилась.74
Казаки (или, может, козаки? Я не силен, признаться, в орфографии. Вопрос об удареньях — пустяки; Лишь тактика нужна да география!), Наездники лихие, смельчаки, Казаки плохо знали топографию. Их турки загоняли в тупики И там рубили попросту в куски.75
Казаки под раскаты канонады Достигли вала и неосторожно Решили, что закончена осада И грабежами заниматься можно. Но турки им устроили засаду: Они, гяуров пропустив безбожных До бастионов, бросились на них И беспощадно перебили их.76
Внезапно атакованные с тыла, Что очень неприятно для солдат, Казаки тщетно напрягали силы И все легли, как скошенные, в ряд. Но, впрочем, груда трупов послужила Отличной лестницей, и, говорят, По трупам тем Есуцкого{676} колонны Прошли успешно в город побежденный.77
Сей храбрый муж всех турок убивал Ретиво, но и сам в пылу сраженья Под саблю мусульманскую попал. Всех турок обуяла жажда мщенья. Кто больше в этой схватке потерял, Я не решаюсь высказать сужденье; Оплачивался жизнью каждый шаг, И уступал врагу лишь мертвый враг.78
Вторая наступавшая колонна Не меньше пострадала; нужно знать, Что пред атакой доблестной патроны Не следует солдатам выдавать. Любой солдат, патронами снабженный К штыку обычно медлит прибегать, Укрытья ищет, держится несмело И по врагу стреляет без прицела.79
На выручку героев подбежал Еще отряд Мекнопа{677}-генерала (Хоть сам-то генерал уже лежал Недалеко от вражеского вала). Никто из смельчаков не замечал, Что смерть на бастионе бушевала: Там сераскир{678} отчаянный засел И ни за что сдаваться не хотел.80
Пощаду, с разрешенья командира, Ему Жуан охотно обещал; Но слов таких не знают сераскиры: Отважный турок их не понимал. С гяурами не признавая мира, Как правоверный, он бесстрашно пал. Один моряк британский попытался Забрать его живьем, но сам попался.81
Спокойно турок поднял пистолет И уложил противника на месте — Короткий, но внушительный ответ. Тут и свинец и сталь, во имя чести Употребляемые сотни лет, Над смельчаком свершили дело мести: Он умер от четырнадцати ран, А с ним еще пять тысяч мусульман.82
Да, город пал, не уступив ни шагу Ценой дешевой. Каждая стена Оборонялась с дерзостной отвагой. Не только Смерть была утомлена, Напившись допьяна кровавой брагой, — В самой природе, кажется, война, Как в разогретой зноем почве Нила, Чудовищные формы породила.83
Какой-то русский офицер спешил По грудам тел, и вдруг его зубами За пятку кто-то яростно схватил, Как змей, что Еву наградил грехами. Ругался офицер и волком выл, На помощь звал и бил врага ногами — Вцепились зубы в жертву хваткой злой, Как сатана в наш бедный, род людской.84
Какой-то умирающий, почуя Пяту врага, тотчас ее схватил И, в изуверской радости ликуя, Две челюсти свои соединил На мякоти, которую зову я Твоим достойным именем, Ахилл{679} И с тем и умер, на ноге героя Отрубленной повиснув головою.85
И говорят (хоть тут легко солгать), Что офицер хромым потом остался, Поскольку турок челюсти разжать И после смерти даже отказался. Хирурга ли должны мы обвинять, Который этим делом занимался, Иль яростные зубы мертвеца, Державшие добычу до конца?86
Но факт есть факт, и дело только в этом (Я вымыслов не стал бы излагать); Особо я советую поэтам В поэмах измышлений избегать, Следить за каждой рифмой и куплетом И, — что и в прозе следует, — не лгать, Поэты любят ложь, как сахар дети, И попадают в дьявольские сети.87
Да, город пал, но он не сдался — нет! Никто из мусульман не отдал шпаги! Вода Дуная изменила цвет От крови их, но, верные присяге, Они врагу упорному в ответ Являли чудо воинской отваги, И, право, побежденных каждый стон Был стоном победивших повторен!88
Штыки кололи, сабли рассекали, Людей рубили с маху, как дрова, Тела убитых почву устилали, Как осенью опавшая листва, И, как осенний ветер, завывали Оставшиеся жить. Почти мертва Была твердыня, но, теряя силы, Как подсеченный дуб, — еще грозила.89
Ужасна эта тема. Никогда Не взял бы я столь страшного сюжета. Существованье наше, господа, — Обычно смена сумрака и света, И трудно петь о сумраке всегда, Хоть высшее достоинство поэта Суметь изгнать и клевету и лесть И мир изобразить таким, как есть!90
Но добрый подвиг в море преступленья (Употребляя фарисейский слог И вычурно-пустые ухищренья Любителей элегий и эклог) Росою благодатной умиленья Мне освежил октаву, видит бог, Победным опаленную сраженьем, Что эпос почитает украшеньем.91
На бастионе среди бела дня Валялись трупы женщин. Их застала Врасплох бесчеловечная резня. Они лежали грудой, как попало, А девочка лет десяти, стеня, По этим трупам ползая, рыдала И призывала в ужасе родных, Ища защиты от врагов у них.92
Два казака огромных с пьяным гиком Гонялись за ребенком. Ни с одним Животным хищным, мерзостным и диким, Мы человека-зверя не сравним. Но в этом унижении великом Кого мы справедливо обвиним? Натуру их иль волю государя, Которому нужны такие твари?93
От ужаса совсем изнемогал Ребенок и, под трупы подползая, Спасенья и убежища искал, Когда Жуан мой, мимо пробегая, Увидел это. Что он тут сказал, Я повторить при дамах не дерзаю, Но то, что сделал он, на казаков Подействовало лучше всяких слов.94
Плечо он разрубил у одного, А у другого ногу. Призывая Чертей и санитара своего, Солдаты убежали, завывая. Остывший после подвига сего, Мой Дон-Жуан, опасность сознавая, Свою добычу за руку схватил И от кровавой груды оттащил.95
На личике несчастного созданья, Смертельно бледном, яркой полосой Горел багровый шрам— напоминанье, Что смерть его затронула косой, Когда сметала все до основанья. Как птичка, оглушенная грозой, Глаза раскрыв, от страха бездыханна, Турчаночка взглянула на Жуана.96
Одно мгновенье и она и он В глаза друг другу пристально глядели, И мой герой был сильно потрясен; И боль, и гнев, и гордость овладели Его душой. Ребенок был спасен; Еще несмелой радостью блестели Глаза на бледном личике; оно Казалось изнутри освещено.97
Но тут явился Джонсон. Не хочу я Назвать его бесцеременно Джеком: Осаду городов живописуя, Не спорю я с обычаем и с веком. Итак, явился Джонсон, негодуя: «Жуан, Жуан! Да будь же человеком! Я ставлю доллар и клянусь Москвой: «Георгия»[89] получим мы с тобой!98
Ты слышал? Сераскира доконали, Но держится последний бастион. Там старого пашу атаковали; Десятками убитых окружен, Под грохот канонады, мне сказали, Задумчиво покуривает он, Как будто пуль и ядер завыванье Он оставляет вовсе без вниманья.99
Идем скорее!» — «Нет! — Жуан сказал. — Я спас ребенка этого: смотри ты! У смерти я ее отвоевал И не могу оставить без защиты!» Британец головою покачал, Потеребил свой галстук деловито: «Ну что ж, ты прав! Ни слова не скажу! Но как тут быть — ума не приложу!»100
Жуан сказал: «Себя не пожалею, Но не рискну ребенком!» — «Это можно! — Ответил бритт немного веселее. — Здесь жизни не жалеть совсем не сложно, Но ты карьерой жертвуешь своею!» «Пусть! — возразил Жуан неосторожно. — За девочку в ответе был бы я: Она ничья, а следственно — моя!»101
«Да, — молвил Джонсон, — девочка прелестна, Но мы не можем времени терять; Приходится теперь, сознайся честно, Меж славою и чувством выбирать, Меж гордостью и жалостью. Нелестно В подобный час от армии отстать! Мне без тебя уйти чертовски трудно, Но опоздать на приступ — безрассудно».102
Британец друга искренне любил. Сочувствуя упорству Дон-Жуана, Он нескольких из роты отрядил И отдал им ребенка под охрану, Притом еще расстрелом пригрозил, Коль с нею что случится. Утром рано Доставить в штаб они ее должны И будут хорошо награждены.103
Он обещал им пятьдесят целковых И полное участие в разделе Полученной добычи. Это слово Солдаты хорошо уразумели, — И вот мой Дон-Жуан помчался снова Туда, где пушки яростно гремели. Не все ль равно, добыча иль почет, — Всегда героев выгода влечет.104
Вот — суть побед и суть людских сердец (По крайней мере девяти десятых). Что думал бог — разумный их творец, — Не нам судить, и мы не виноваты. Но возвращаюсь к теме наконец. Итак, в редуте, пламенем объятом, Держался старый хан, неукротим, И сыновья держались вместе с ним.105
Пять сыновей (заслуга полигамии, Отчизне поставляющей солдат Десятками!) — такими сыновьями я Гордиться вместе с ханом был бы рад. Невольно вспоминаю о Приаме я! Не верил старый хан, что город взят; Седой, отважный, верный, стойкий воин, Он, право, уваженья был достоин.106
Никто к нему приблизиться не мог, Но смерть героя трогает героя: Он полузверь, но он же полубог; Преобладает все-таки второе. Увидя, что противник изнемог, Враги его жалели: ведь порою Дикарь способен к жалости — весной И дуб шумит приветливо листвой.107
На предложенья сдаться старый хан Косил сплеча с отвагой непреклонной Вокруг себя десятки христиан, Как шведский Карл{680}, в Бендерах окруженный, Не слыша пуль, не замечая ран. Но русские в борьбе ожесточенной В конце концов разгорячились так, Что в них источник жалости иссяк.108
Хотя Жуан и Джонсон применили Все лучшие восточные сравненья, Когда его изысканно просили Не доводить солдат до исступленья, — На них бросался он в слепом бессилье, Как богословы в буре словопренья На скептиков, и, тратя праздный пыл, Своих друзей, как дети нянек, бил!109
Он даже их поранить умудрился. Тут протрезвились Джонсон и Жуан: Жуан вздохнул, а Джонсон рассердился: Мол, черт возьми упорство мусульман! Теперь уже никто не заступился За храброго противника, но хан И сыновья его под страшным градом Еще мгновенье простояли рядом.110
Сперва погиб, сраженный наповал, Второй из сыновей; неустрашимый, Под саблями неверных третий пал, А пятый (самый смелый и любимый) Заколот был штыками. Защищал Отца четвертый сын неутомимо, Хоть хан его стыдился — ибо он Был от гречанки-пленницы рожден.111
Неверных презирающий жестоко, Неукротимый турок, старший сын, Был настоящий мученик пророка И чернооких гурий паладин. В сады аллаха, к роскоши Востока, На райский шелк пленительных перин, Как всякая красавица, лукавы, Они его манили солнцем славы.112
Зачем в раю им нужен юный хан, — Красавицы, наверно, лучше знают; Наверно, седовласым женихам И гурии юнцов предпочитают. В объятьях дев не место старикам, — И вот поля сражений устилают Десятки тысяч юных мертвецов, Красивейших и бравых молодцов.113
Известно мне, что гурии охотно Супругов похищают молодых, Когда медовый месяц мимолетный Цветами счастья украшает их, Когда мечты о жизни беззаботной И холостой не привлекают их… Оспаривают феи, без сомненья, У смертных это краткое цветенье.114
О четырех подругах юный хан Забыл, на гурий устремляя очи: Отвагою и страстью обуян, Он помышлял о первой райской ночи. Так подвиги младых магометан Безумье окрыляет. Между прочим Он знал, что рай один назначен всем, А ведь небес-то шесть, а может — семь.115
Он так спокойно верил, умирая, Что, ощутив клинок в своей груди, Он прошептал: «Алла!» — и кущи рая Прекрасные увидел впереди К нему, герою, руки простирая, Бесплотные воскликнули: «Приди!» Он солнцу правоверных улыбнулся, Увидел вечный свет — и задохнулся!116
И старый хан с восторженным лицом (Хоть он уже давно не видел гурий) Склонился над прекрасным мертвецом. Как молодые кедры, сильной бурей Сраженные, лежали пред отцом Все сыновья. Седые брови хмуря, Прервав сраженье, головой поник И любовался первенцем старик.117
Заметив это, русские солдаты Остановились, думая, что он, Увидев столь ужасные, утраты, Сообразит, что сдаться принужден. Но он молчал, отчаяньем объятый, И вздрагивал, и, подавляя стон, Глядел на сыновей, и ужасался, Что он один в живых еще остался.118
Но этот приступ старческой тоски Недолго продолжался; с болью страстной, Опомнившись, на русские штыки Открытой грудью бросился несчастный, Как на огонь ночные мотыльки. Любая смерть была теперь прекрасной; Отчаяньем, как счастьем, окрылен, От страшных ран мгновенно умер он.119
Но, как ни странно, — грубые и хмурые Солдаты, не щадившие детей, Глядели как бы с шалостью понурою На старика и мертвых сыновей: Суровые геройские натуры их Его геройство трогало живей, Чем вопли слабых, а его презренье К опасности внушало уваженье.120
Еще один, последний бастион Отстреливался стойко; там держался Паша, своим отрядом окружен, И с русскими отважно расправлялся Раз двадцать отступить заставил он Штурмующих, пока не догадался Спросить о ходе битвы и узнал, Что под ударом русских город пал.121
Тогда послал он бея{681} к де Рибасу По поводу условий, а пока Курил он равнодушно больше часу С холодным стоицизмом смельчака, Храня величья важную гримасу, Разглаживая бороду слегка. Кто три хвоста на бунчуке имеет{682}, Тот и тройною силою владеет.122
Но так или иначе — город пал, Как муэдзин пророку ни молился И как паша его ни защищал. Сребристый полумесяц закатился, И алый крест над полем засиял. Не кровью искупленья он светился, Нет — эта кровь по улицам текла, Как от луны, от зарева светла.123
Все то, чем леденит и мысль и тело Глухих легенд причудливая тьма, Что даже бред рисует нам несмело, На что способен черт, сойдя с ума; Все ужасы, которые не смела Изобразить фантазия сама, — Все силы ада здесь кипели страстью, Разнузданные в буре самовластья.124
И если состраданье хоть на миг В какое-нибудь сердце проникало, Когда младенец милый иль старик Спасался из бушующего шквала, — Поступок добрый и предсмертный крик — Все в море разрушенья утопало. Вам, жители столиц, пора понять, Что кроется под словом «воевать»!125
{683}
Какой ценой даются «сообщенья», Задумайтесь, любители газет; Поймите, что гарантии спасенья У вас самих на будущее нет! Налоги, Каслрея выступленья, Восторги Веллингтоновых побед, Ирландии голодные стенанья — Везде я вижу предзнаменованья.126
Но все же, уважая короля, Цветет патриотическая нация, Поэты, повелителей хваля, Всечасно пребывают в экзальтации. В Ирландии напала на поля Новейшая чума — пауперизация; Но это зло корону не смутит: Георг Четвертый толст и очень сыт.127
Но я опять от темы отвлекаюсь. Итак, погиб несчастный Измаил! Его пожар, в Дунае отражаясь, Кровавым блеском полночь озарил. Еще гудели стены, сотрясаясь, Но оборона выбилась из сил; Из нескольких десятков тысяч смелых Едва ли даже сотня уцелела.128
Но русских мне придется похвалить За добродетельное поведенье — В наш век развратный надобно ценить Такое крайне редкое явленье! Сюжет довольно скользкий… Как мне быть? Ну, словом, многодневные лишенья Влиянье оказали, говорят, На степень целомудрия солдат.129
Они, конечно, грабили немало, Но от насилий, следует сказать, Едва ли сорок дюжин пострадало. Не стану о причинах толковать, Но только вам напомню, что бывало, Когда случалось город штурмовать Французам — этой нации приятной, Но крайне изощренной и развратной.130
Конечно, в темноте и впопыхах Могли ошибки мелкие случаться: Там дым стоял такой во всех домах, Что впору даже с чертом повстречаться! Шесть гренадеров, якобы впотьмах, — Куда тут было толком разобраться! — Наделали непоправимых бед С девицами семидесяти лет.131
Но, в общем, все держались образцово, Что, говоря по правде, огорчало Красавиц томных возраста такого, Которым уж невинность докучала. Роль скорбной жертвы случая слепого Их ни одной минуты не смущала; Сабинянок удел{684} казался им, Сказать по правде, вовсе не плохим.132
И вдовы проявляли нетерпенье; Перевалив уже за сорок лет, Матроны выражали удивленье, Что массовых насилий вовсе нет. Но так или иначе, без сомненья Уставшие от грохота побед, Солдаты в развлеченьях не нуждались, И вдовы, вероятно, не дождались.133
Суворов в этот день превосходил Тимура и, пожалуй, Чингис-хана{685}: Он созерцал горящий Измаил И слушал вопли вражеского стана; Царице он депешу сочинил Рукой окровавленной, как ни странно — Стихами: «Слава богу, слава вам! — Писал он. — Крепость взята, и я там!»[90]{686}134
Двустишье это, мнится мне, страшнее Могучих слов «Мене, Мене, Текел!»{687}, Которые, от ужаса бледнея, Избранник Даниил уразумел. Но сам пророк великой Иудеи Над бедствием смеяться не посмел, А этот рифмоплет — Нерону пара! — Еще острил при зареве пожара.135
Как страшно эта песенка звучит Под музыку стенаний! Негодуя, Пускай ее потомство повторит. Я возглашаю: камни научу я Громить тиранов! Пусть не говорит Никто, что льстил я тронам! Вам кричу я, Потомки! Мир в оковах рабской тьмы Таким, как был он, показали мы!136
Нам новый век узреть не суждено, Но вы, вкушая радость мирозданья, — Поймете ль вы, что было так темно, Так мерзостно людей существованье! Да будет навсегда погребено Презренных этих лет воспоминанье! Забудьте кровожадных дикарей, Кичившихся жестокостью своей!137
Пускай же разукрашенные троны И все на них сидевшие царьки Вам чужды, как забытые законы, Как тайных иероглифов значки На древних обелисках фараона, Как мамонтов огромных костяки; Вы будете глядеть в недоуменье — Могли ли жить подобные творенья!138
Итак, читатель, все, что обещал Я в первой песне, — выполняю честно: Я все теперь подробно описал: Любовь, и шторм, и битвы. Как известно, Эпической поэму я назвал, И разрешил задачу я чудесно Назло моим предшественникам; Феб Мне помогает, волею судеб.139
Уже не раз на лире сей болтливой Певучую струну он поправлял И продолжать рассказ мой прихотливый Мне так или иначе помогал. Но надоел мне грозный бой шумливый, Так сделаем же маленький привал, Пока Жуан в столицу поспешает, А Петербург депешу предвкушает.140
Такая честь оказана ему За то, что он держался и гуманно И доблестно. Герою моему Об этом повторяли неустанно. «Владимиром» по случаю сему Украсили отважного Жуана, Но он не им гордился, а скорей Спасеньем бедной пленницы своей.141
И в Петербург турчаночка Леила Поехала с Жуаном. Без жилья Ее одну нельзя оставить было. Все близкие ее и все друзья Погибли при осаде Измаила, Как Гектора печальная семья. Жуан поклялся бедное созданье Оберегать — и сдержит обещанье.Песнь девятая
{688}
1
О Веллингтон (иль Villainton[91] — зовет Тебя и так двусмысленная слава; Не победив тебя, не признает Величья твоего француз лукавый И, побежденный, каламбуром бьет)! Хвала! На пенсию обрел ты право. Кто смеет славы не признать твоей? Восстанут все и завопят о Ней.[92]{689}2
Неладно ты с Киннердом поступил В процессе Марине{690} — скажу открыто, Такой поступок я б не поместил На славные вестминстерские плиты. Все остальное мир тебе простил, И нами эти сплетни позабыты: Хоть как мужчина ты и стал нулем, — «Героем юным» мы тебя зовем.3
Мы знаем, после славного похода Тебе даров немало принесли За то, что, Реставрации в угоду, Ты спас легитимизма костыли{691}. Испанцам и французскому народу Они прийтись по сердцу не могли, Но Ватерлоо заслуженно воспето, Хоть не дается бардам тема эта{692}.4
Но, что ни говори, война — разбой, Когда священных прав не защищает. Конечно, ты — «головорез лихой»{693}; Так сам Шекспир подобных называет; Но точно ль благороден подвиг твой — Народ, а не тираны, пусть решает. А им-то лишь одним и повезло: Им и тебе на пользу Ватерлоо.5
Но я не льщу; ведь лестью ты упитан! Устав от грома битвы, так сказать, Герой, когда имеет аппетит он, Скорее оды предпочтет глотать, Чем острые сатиры. Все простит он Тем, кто его способен называть «Спасителем» народов — не спасенных, И «провиденьем» — стран порабощенных.6
Иди к столу! Я все сказал, поверь! Но вспомни, как наешься до отвала, — Солдату, охраняющему дверь, Чего-нибудь послать бы не мешало: Он тоже ведь сражался, а теперь Его уже не кормят, как бывало. Никто не отнимает благ твоих, Но что-нибудь оставь и для других.7
Я не хочу вдаваться в рассужденья, Ведь ты велик, ты выше эпиграмм! Был в Риме Цинциннат{694}, но отношенья Он никакого не имеет к нам. Ты, как ирландец, любишь, без сомненья, Картофель, но его не садишь сам; Сабинская же ферма{695}, к сожалению, Народу обошлась в мильон, не менее.8
Великие к наградам безучастны: Эпаминонд{696}, освободитель Фив, Скончался — это знаем мы прекрасно, — На похороны денег не скопив… И Вашингтона{697} славят не напрасно! Великий Питт{698} был с нацией учтив (Что патриоту каждому любезно) И разорял отчизну безвозмездно.9
Ей-богу, даже сам Наполеон, Пожалуй, не имел такого случая — Спасти от кучки деспотов закон, В Европе утвердить благополучие. А вышло что? Победы шум и звон И пышных славословий благозвучие Стихают, а за ними все слышней Проклятья нищей родины твоей!10
Но муза неподкупна и вольна, Она с газетой дружбы не водила; Поведает истории она, Как пировали жирные кутилы, Как их пиры голодная страна И кровью и деньгами оплатила. Ты многое для вечности свершил, Но ты о чело-вечности забыл.11
Смеется смерть — костлявый силуэт, Небытия неведомая сила. Воскреснет ли весны и солнца свет Из темноты загадочной могилы? Смеется смерть… И ей заботы нет, Кому она страданья причинила. Ужасен символ тайны и конца — Безгубый смех безглазого лица!12
Не то чтобы улыбка до ушей, А все-таки улыбка остается; Без губ и без ушей она страшней: Не слышит шут, а все-таки смеется Над миром и над сущностью вещей; Наверно знает он, что доберется До каждого и что ему в ответ Осклабится ободранный скелет.13
Смеется смерть. Печально созерцать Веселье устрашающее это; Но почему б и жизни не плясать, Не радоваться солнечному свету И пузырьками пены не мелькать? Ведь все равно системы и планеты, Века, мгновенья, атомы, миры Исчезнут в смене огненной игры.14
«Быть иль не быть{699}, — сказал Шекспир, — таков Вопрос», — а этот автор нынче в моде. Но я не Александр{700}, и гордый зов Бесплодной славы чужд мне по природе. Я Бонапарта уважать готов, Но рак его на память мне приходит, И я словам абстрактным «власть» и «честь» Готов пищеваренье предпочесть.15
«О! dura ilia messorum!» [93]{701} — или: «Блажен желудок пахаря!» И тот, Кого катары злые истомили, Такое чувство зависти поймет: Не утешает пышность изобилий, Когда у вас в кишечнике течет Горячий Стикс! Спокойствие желудка — Залог любви богов; сие не шутка.16
«Быть иль не быть?» Но я хотел бы знать — В чем бытия неясное значенье? Мы очень любим много рассуждать, Мы видим очень многие явленья, Но как себя всевидящим считать, Когда не видишь мудрого решенья? И жизнь и смерть в пределах бытия Сплетенными всегда встречаю я.17
«Que sais-je?»[94] — сказал задумчивый Монтень{702}; И он поддержан скептиками всеми: На всем сомненья тягостная тень, Любой вопрос приводит к этой теме. Но как же нам-то быть? Предвижу день: Настанет столь «сомнительное» время, Когда в самом сомненье буду я Иметь сомненье, милые друзья.18
Приятно по теченью рассуждений С Пирроном{703} умозрительно скользить, Но я боюсь опасных приключений И не желаю в море уходить; К тому же далеко не всякий гений Умеет парус вовремя спустить. Я тихий бережок предпочитаю, Где отдохну я, камушки считая.19
Припоминаю, Кассио сказал, Что небо для молитвы всем открыто{704}, Но так как прародитель оплошал, На мирозданье божество сердито. «И воробей без промысла не пал»{705}; А чем же согрешили воробьи-то? Уж не сидел ли первый воробей На древе, где таился Евин змей?20
О боги! Что такое теогония? О люди! Что такое филантропия? О вечность! Что такое космогония? Мне, говорят, присуща мизантропия. Но почему? Не знаем ничего ни я, Ни этот стол; мне только ликантропия{706} Понятна: люди все по пустякам Легко уподобляются волкам.21
Но я ничуть не хуже и не злее, Чем Меланхтон{707} и даже Моисей{708}, Я обижать невинных не умею По самой щепетильности своей; Скажите мне, какого ж фарисея Затронул я безвинно? Я — злодей? Я — мизантроп? А злобные оравы, Травившие меня, выходит, правы?22
Но возвращусь к роману моему. Роман хорош, я в этом убежден, Хотя не посчастливилось ему Быть понятым, как был задуман он. Не скоро миру явится всему Свет истины. Пока я принужден Смириться, пребывая в ожиданье; Я с Истиной делю почет изгнанья!23
Вот наш герой, судьбой своей влеком, В полярную столицу поспешает — К вельможам, пообтесанным Петром. Теперь сия империя стяжает Немало лести. Жаль признаться в том, Но и Вольтер хвалой ее венчает. По мне же, самодержец автократ Не варвар, но похуже во сто крат.24
И вечно буду я войну вести Словами — а случится, и делами! — С врагами мысли. Мне не по пути С тиранами. Вражды святое пламя Поддерживать я клялся и блюсти. Кто победит, мы плохо знаем с вами, Но весь остаток дней моих и сил Я битве с деспотизмом посвятил.25
Довольно демагогов без меня: Я никогда не потакал народу, Когда, вчерашних идолов кляня, На новых он выдумывает моду. Я варварство сегодняшнего дня Не воспою временщику в угоду. Мне хочется увидеть поскорей Свободный мир — без черни и царей.26
Но, к партиям отнюдь не примыкая, Любую я рискую оскорбить. Пусть так; я откровенно заявляю, Что не намерен флюгером служить. Кто действует открыто, не желая Других вязать и сам закован быть, Тот никогда в разгуле рабства диком Не станет отвечать шакальим крикам.27
Шакалы! Да! Я имя им нашел, Поистине достойное названье; Случалось мне у разоренных сел Их мертвенное слышать завыванье. Но все ж, как наименьшее из зол, Шакал еще достоин оправданья: Шакалы служат льву, я видел сам, А люди — угождают паукам.28
О, только разорвите паутину — Без паутины их не страшен яд! Сплотитесь все, чтоб устранить причины, Которые тарантулов плодят! Когда же рабски согнутые спины Все нации расправить захотят? Защите поучитесь героической У шпанской мухи и пчелы аттической{709}.29
О результате славного похода Царице Дон-Жуан депешу вез; Убитых — как траву, а кровь — как воду, Ей доблестный фельдмаршал преподнес, Великое побоище народа Екатерину заняло всерьез: Она, следя за петушиной дракой, Своим лишь восхищалась забиякой.30
И вот в кибитке скачет мой герой. Не пользуйтесь проклятой сей коляской, Особенно осеннею порой! Но, увлечен грядущего развязкой И вымысла заманчивой игрой, Он только сожалел, измучен тряской{710}, Что не крылаты лошади пока, А на сиденье нет пуховика.31
Боялся он, что тряска, непогода Его Леиле могут повредить; Подобных рытвин и ухабов сроду Не видывал герой мой. Как тут быть? Царила там любезная Природа, Дороги не привыкшая мостить, А так всегда с угодьями случается, Которыми сам бог распоряжается.32
Ведь бог, как всякий фермер-дворянин{711}, Аренды не платя, живет без дела; Но в наши дни, по множеству причин, Дворянское сословье оскудело, И вряд ли фермер вылечит один Цереры обессиленное тело{712}: Пал Бонапарте{713} — волею судеб Монархи падают с ценой на хлеб.33
Итак, Жуан на пленницу глядел, От всей души турчаночку жалея. Кровавые холмы из мертвых тел Я описать с восторгом не сумею; Мне шах Надир давно осточертел! Вы помните кровавого злодея: Весь Индостан он думал покорить, — А не сумел обед переварить!34
Как хорошо из черной бури боя Созданье беззащитное спасти! Такой поступок юному герою Способен больше пользы принести, Чем лавры с окровавленной листвою, Воспетые кантатах в двадцати. Когда сердца людей хранят молчанье, Все клики славы — праздное бряцанье.35
Поэты многотомно-многогласные, Десятки, сотни, тысячи писак! Вы ложью увлекаетесь опасною, Вам платит власть, чтоб вы писали так! То вы твердите с пылкостью напрасною, Что все налоги подлинный пустяк, То на мозоли лордов наступаете{714} И о «голодных массах» распеваете.36
Поэты!.. Что бишь я хотел сказать Поэтам? Не припомню, ей-же-богу. Забывчивостью начал я страдать… Хотелось мне лачуге и чертогу Совет сугубо нужный преподать. А впрочем, это лишняя тревога; Особого убытка миру нет В том, что пропал бесценный мой совет.37
{715}
Когда-нибудь отыщется и он Среди обломков рухнувшего зданья, Когда, затоплен, взорван, опален, Закончит старый мир существованье, Вернувшись, после шумных похорон, К первичному хаосу мирозданья, К великому началу всех начал, Как нам Кювье однажды обещал.38
И новый мир появится на свет, Рожденный на развалинах унылых, А старого изломанный скелет, Случайно сохранившийся в могилах, Потомкам померещится, как бред О мамонтах, крылатых крокодилах, Титанах и гигантах всех пород, Размером этак футов до двухсот.39
Когда б Георг был выкопан Четвертый{716} Геологами будущей земли, Дивились бы они — какого черта И где такие чудища росли? Ведь это будет мир второго сорта, Мельчающий, затерянный в пыли. Мы с вами все — ни более, ни менее Как черви мирового разложения!40
Каким же — я невольно повторяю — Покажется большой скелет такой, Когда, вторично изгнанный из рая, Пахать и прясть возьмется род людской? О войнах и царях еще не зная, Сочтет Георга разум их простой, В явленьях разбираться не умея, Чудовищем для нового музея.41
Но я впадаю в тон метафизический: Мир вывихнут{717}, но вывихнут и я. От темы безобидно-иронической Уводит рассудительность моя. Бегите от стихии поэтической! Всегда стремитесь, милые друзья, Чтоб замысел был ясен, прост и верен, — А я менять привычки не намерен.42
Я буду отвлекаться, так и быть… Но в данный миг я возвращусь к роману. Как сказано — во всю ямскую прыть Неслась кибитка моего Жуана. Но долгий путь вас может утомить, И я его описывать не стану; Я в Петербурге ждать его готов, В столице ярко блещущих снегов.43
Смотрите — в форме лучшего полка Мой Дон-Жуан. Мундир суконный красный, Сверкающий узор воротника, Плюмаж — как парус, гордый и прекрасный, Густые сливки тонкого чулка И желтых панталон отлив атласный Обтягивали пару стройных ног, Какими Феб — и тот гордиться б мог!44
Под мышкой — треуголка, сбоку — шпага. Все, чем искусство, слава и портной Украсить могут юную отвагу, Цветущую здоровьем и весной, — Все было в нем. Не делая ни шагу, Стоял он статуэткой расписной, Как бог любви — ей-ей, не лицемерю я! — В мундире лейтенанта артиллерии.45
Повязка спала с глаз его, колчан И стрелы легкой шпагою сменились, А крылышки — и это не изъян! — В густые эполеты превратились. Он был, как ангел, нежен и румян, Но по-мужски глаза его светились. Сама Психея, я уверен в том, Признала б Купидона только в нем.46
Застыли дамы, замерли вельможи — и Царица улыбнулась. Фаворит Нахмурился: мол, новый-то моложе и Меня без церемоний оттеснит! Все эти парни рослые, пригожие. Как патагонцы бравые на вид, Имели много прибыли и… дела, С тех пор как их царица овдовела.47
Жуан не мог поспорить с ними в статности, Но грация была ему дана, Изящество лукавой деликатности; Притом — была и к юношам нежна Царица, не лишенная приятности: Похоронила только что она Любимца своего очередного, Хорошенького мальчика Ланского.[95]48
Вполне понятно, что могли дрожать Мамонов, Строганов и всякий «ов», Что в сердце, столь вместительном, опять Найдет приют внезапная любовь, А это не могло не повлиять На выдачу чинов и орденов Тому счастливцу, чье благополучие, Как выражались, «находилось в случае».49
Сударыни! Не пробуйте открыть Значенье этой формулы туманной. Вам Каслрей известен, может быть, — Он говорит косноязычно-странно И может очень много говорить, Все затемняя болтовней пространной. Его-то метод подойдет как раз. Чтоб этот термин ясен стал для вас! [96]50
О, это хитрый, страшный, хищный зверь, Который любит сфинксом притворяться; Его слова, невнятные теперь, Его делами позже разъяснятся. Свинцовый идол Каслрей! Поверь, Тебя и ненавидят и боятся. Но я для дам припомнил анекдот, Его любая, думаю, поймет.51
Однажды дочь Британии туманной Просила итальянку рассказать Обязанности касты очень странной — «Cavalier servente»? Как понять, Что многим дамам кажется желанной Судьба таким «слугою» обладать? «Ищите, — та ответила в смущенье, — Ответ у своего воображенья! »52
Вообразить сумеете и вы, Что, будучи любимцами царицы, Любимцами фортуны и молвы Становятся означенные лица. Но очень шаток этот пост, увы! И стоит только снова появиться Отменной паре крепких, сильных плеч, — Как этот пост уже не уберечь.53
Мой Дон-Жуан был мальчик интересный И сохранивший юношеский вид В том возрасте, в котором, как известно, Обильная растительность вредит Красивости. Не зря Парис прелестный Позором Менелая{718} знаменит: Не зря бракоразводные законы Начало повели из Илиона!54
Екатерина жаловала всех, За исключеньем собственного мужа. Она предпочитала для утех Народ плечистый и довольно дюжий; Но и Ланской имел у ней успех, И милостями взыскан был не хуже, И был оплакан — прочим не в пример, — Хотя сложеньем был не гренадер!55
О ты, «teterrima causa» [97] всяких «belli»[98][99]{719}, Судеб неизъяснимые врата! Тобою открывается доселе Небытия заветная черта! О сущности «паденья» в самом деле Мы до сих пор не знаем ни черта; Но все паденья наши и паренья Подчинены тебе со дня творенья.56
Тебя считали худшей из причин Раздоров и войны, но я упорно Считаю лучшей, — путь у нас один К тебе, стихия силы животворной; Пускай тебе в угоду паладин Опустошает землю — ты проворно Ее целишь и населяешь вновь, Богиня плоти, вечная Любовь!57
Царица этой силой обладала В избытке; и с умом и с мастерством Она ее отлично применяла В прославленном правлении своем. Когда она Жуана увидала Коленопреклоненного с письмом, Она забыла даже на мгновенье, Что это не письмо, а донесенье.58
Но царственность ее превозмогла Четыре пятых женского начала: Она депешу все-таки взяла И с милостивым видом прочитала. Толста на первый взгляд она была, Но благородной грацией сияла. Вся свита настороженно ждала, Пока ее улыбка расцвела.59
Во-первых, ей весьма приятно было Узнать, что враг разбит и город взят. Хотя она на это уложила Не тысячу, а тысячи солдат, Но те, кому даются власть и сила, О жертвах сокрушаться не хотят, И кровь не насыщает их гордыню, Как влага — Аравийскую пустыню.60
Затем ее немного рассмешил Чудак Суворов выходкой своею: Развязно он в куплетец уложил И славу, и убитых, и трофеи: Но женским счастьем сердце озарил Ей лейтенант, склоненный перед нею. Ах! Для него забыть она б могла Кровавой славы грозные дела!61
Когда улыбкой первой озарились Царицы благосклонные черты, Придворные мгновенно оживились, Как вспрыснутые дождиком цветы, Когда же на Жуана обратились Ее глаза с небесной высоты, То все застыли в сладком ожидании, Стараясь упредить ее желания.62
Конечно, ожирения следы Лицо ее приятное носило; На зрелые и сочные плоды Она в своем расцвете{720} походила. Любовникам за нежные труды Она не только золотом платила; Амура векселя могла она По всем статьям оплачивать сполна.63
Награда за услугу и геройство Приятна, но царица, говорят, Имела столь пленительные свойства, Что привлекать могла б и без наград! Но царских спален таково устройство, Что завсегдатай их всегда богат, — Она мужчин любила и ценила, Хоть тысячи их в битвах уложила.64
Вы говорите, что мужчина странен? А женщина еще того странней: Как легкий ум ее непостоянен! Как много разных прихотей у ней! Сегодня — взор слезою затуманен, А завтра — зимней вьюги холодней. Чему тут верить? Чем вооружиться? А главное — на что тут положиться?65
Екатерина — ох! Царица — ах! Великим междометья подобают: В любви и в государственных делах Они смятенье духа выражают. Хоть было лестно ей узнать, что в прах Повержен враг, что Измаил пылает, Всему могла царица предпочесть Того, кто ей доставил эту весть.66
Шекспировский Меркурий опустился «На грудь горы, лобзавшей облака{721}», — И мой герой Меркурием{722} явился. «Гора» была, конечно, высока, Но лейтенант отважный не смутился; Любая круча в юности легка, Не разберешься в вихре нежной бури, Где небо, где гора, а где Меркурий.67
Вверх глянул он, вниз глянула она. В нем каждое ей нравилось движенье. Ведь сила Купидонова вина Великое рождает опьяненье. Глотками пей иль сразу все до дна — От этакого зелья нет спасенья: Магическая сила милых глаз Все, кроме слез, испепеляет в нас.68
А он? Не знаю, полюбил ли он, Но ощутил тревожную истому И был, что называется, польщен. Ведь многим страсть подобная знакома, Когда талант бывает поощрен Восторгами влиятельного дома В лице красивой дамы средних лет, Чье мненье уважает высший свет.69
Притом и возраст был его такой, В котором возраст женщин безразличен. Как Даниил во львином рву, герой В страстях и силе был неограничен И утолять природный пламень свой При всяких обстоятельствах привычен. Так утоляет солнце страстный зной В больших морях и в лужице любой.70
Екатерина, следует сказать, Хоть нравом и была непостоянна, Любовников умела поднимать Почти до императорского сана. Избранник августейший, так сказать, Был только по обряду невенчанный И, наслаждаясь жизнью без забот, О жале забывал, вкушая мед.71
Сюда прибавь изящные манеры, Глаза, в которых разум отражен, — Они, прошу прощенья, были серы, Но этот цвет хорош, коль взор умен. Тому великолепные примеры — Мария Стюарт и Наполеон, Да и глаза Паллады непокорные — Никак не голубые и не черные.72
Ее улыбка, плавность полноты И царственная прихоть предпочтенья Столь мужественным формам красоты, Каким не отказала б в иждивенье И Мессалина{723}, все ее черты, Ее живое, сочное цветенье — Все это вместе, что и говорить, Могло мальчишке голову вскружить.73
А всякая любовь, как состоянье, Тщеславна от начала до конца (Я исключаю случаи страданья, Когда неукротимые сердца Вдруг загорятся жаждой обладанья От преходящей прелести лица, За что философ — прочим в назиданье — Назвал любовь «пружиной мирозданья».)74
Мы любим от мечтательной тоски И платонически и как супруги (Для рифмы говоря — «как голубки»: Я знаю, смысл и рифма — не подруги И слишком часто смыслу вопреки Рифмачества убогие потуги В стихи вставляют слово… Как тут быть?), Но я хочу о чувствах говорить!75
Стремленье к совершенству познаем Мы все в томленье плоти ежечасном, В стремленье тела слиться с божеством, Являющимся в облике прекрасном. Блаженный миг! О, как его мы ждем С волненьем лихорадочным и страстным, А суть ведь в том, что это — путь прямой, Чтоб бренной плотью дух облечь живой.76
Я дорожу любовью платонической, Ей первенство по праву надлежит; Вторую я назвал бы «канонической», Поскольку церковь к ней благоволит; Но третий вид — поистине классический — Во всем крещеном мире знаменит; Сей вид союза можно без опаски Назвать лукаво браком в полумаске.77
Но полно, полно, ждет меня рассказ. Царицыны любовь иль вожделенье Жуану льстили. Странно — всякий раз, Когда про эти думаю явленья, Не замечает мой привычный глаз Различья между ними; без сомненья, Царица страстной женщиной была И не скромней швеи себя вела…78
Придворные шептались, — правда, чинно, — К ушам соседа приложив уста, У фрейлин старых морщились морщины, А юные, которых красота Еще цвела, сочувственно-невинно Смеялись меж собой. Но неспроста Все гренадеры, первенцы удачи, Молчали, от досады чуть не плача.79
Лукавые заморские послы Осведомлялись — кто сей отрок новый, Который пробирается в орлы, Которому уже почти готовы И должности, и пышные хвалы, И награждений дождь многорублевый, И ордена, и ленты, и к тому ж Дарения десятков тысяч душ![100]80
Она была щедра; любовь такая Всегда щедра! И, к сердцу путь открыв, Она во всем счастливцу потакает, Все прихоти его предупредив. Хотя жена была она плохая, Но, строго Клитемнестру{724} осудив, Скажу: не лучше ль одному скончаться, Чем вечно двум в оковах оставаться?81
Екатерина всем давала жить, С ней нашу не сравнить Елизавету{725} Полуневинную: скупясь платить, Всю жизнь скучала королева эта. Избранника могла она казнить И горевать о нем вдали от света… Подобный метод флирта глуп и зол; Он унижает сан ее и пол.82
Закончился прием. Пришли в движенье Придворные, пристойно расходясь. Шуршали платья в шелковом волненье. Вокруг Жуана ласково теснясь, Послы передавали поздравленья Своих монархов. Сразу поднялась Сумятица восторгов; даже дамы Ему любовь высказывали прямо.83
Вокруг себя увидел мой герой Все формы лести самой непритворной — И что же? Этой праздною игрой Уже он забавлялся, как придворный: Особ высоких созерцая строй, Он кланялся, любезный и покорный, Как знамя красоту свою неся, Манерами чаруя всех и вся.84
Екатерина всем понять дала, Что в центре августейшего вниманья Стал лейтенант прекрасный. Без числа Он принимал придворных излиянья, Потом его с собою увела Протасова, носившая названье Секретной éprouveuse[101]{726} — признаюсь, Перевести при музе не решусь.85
Обязанности скромно подчинясь, Он удалился с ней — и я, признаться, Хотел бы удалиться: мой Пегас Еще не утомился, может статься, Но, право, искры сыплются из глаз, И мысли как на мельнице кружатся. Давно пора и мозг и нервы мне Подправить в деревенской тишине.Песнь десятая
{727}
1
Когда однажды, в думу погружен, Увидел Ньютон яблока паденье, Он вывел притяжения закон Из этого простого наблюденья. Впервые от Адамовых времен О яблоке разумное сужденье{728} С паденьем и с законом тайных сил Ум смертного логично согласил.2
Так человека яблоко сгубило, Но яблоко его же и спасло, — Ведь Ньютона открытие разбило Неведенья мучительное зло, Дорогу к новым звездам проложило И новый выход страждущим дало. Уж скоро мы, природы властелины, И на луну пошлем свои машины!3
К чему тирада эта? Просто так! Я взял перо, бумагу и чернила, Задумался, и — вот какой чудак! — Фантазия во мне заговорила! Я знаю, что поэзия — пустяк, Что лишь наука — действенная сила, Но все же я пытаюсь, ей вослед, Чертить движенье вихрей и комет.4
Навстречу вихрям я всегда бросался, Хотя мой телескоп и слаб и мал, Чтоб видеть звезды. Я не оставался На берегу, как все. Я воевал С пучиной вечности. Ревя, вздымался Навстречу мне неукротимый вал, Губивший корабли; но шторма сила Меня и крепкий челн мой не страшила.5
Итак, Жуана, как героя дня, Заря фаворитизма ослепляла, Прекрасными надеждами маня; О прочем музы знают очень мало, Хоть на посылках музы у меня. Условность этикета допускала Их лишь в гостиные, и было им Не уследить за юношей моим.6
Но ясно нам, что, крылышки имея, Он полетит, как голубь молодой Из книги псалмопевца-иудея{729}. Какой старик, усталый и седой, Далеко от земли парить не смея Унылой подагрической мечтой, Не предпочел бы все же с сыновьями Вздыхать, а не кряхтеть со стариками?7
Но все пройдет. Страстей спадает зной, И даже реки вдовьих слез мелеют, Как Арно жарким летом, а весной Клокочет он, бурлит и свирепеет, Огромно поле горести земной, Но и веселья нива не скудеет, Лишь был бы пахарь, чтобы стать за плуг И наново вспахать весенний луг.8
Но часто прерывает воздыханья Зловещий кашель; о, печальный вид, Когда рубцами раннего страданья Лилейный лоб до времени изрыт, Когда румянца жаркое пыланье, Как небо летним вечером, горит! Сгорают все — мечтой, надеждой, страстью — И умирают; это тоже счастье!9
Но умирать не думал мой герой, Он был, наоборот, в зените славы И вознесен причудливой игрой Луны и женской прихоти лукавой. Но кто вздыхает летнею порой О будущей зиме? Обычай здравый — Побольше греться в солнечные дни, Чтоб на зиму запомнились они.10
Жуана свойства дамы средних лет Скорее, чем девицы, замечали; У молодых к любви привычки нет, Они ее по книжкам изучали — Их помыслы мутит любой поэт Причудами лирической печали. Ах! Возраст милых женщин, мнится мне, Высчитывать бы надо по луне!11
Как и луна, они непостоянны, Невинны и лукавы, как луна; Но на меня клевещут непрестанно, Что фраза каждая моя грешна И — это пишет Джеффри{730}, как ни странно. — «Несдержанна и вкуса лишена». Но все нападки Джеффри я прощаю: Он сам себе простит, я полагаю.12
Уж если другом стал заклятый враг, Он должен честно другом оставаться: В подобных случаях нельзя никак Нам к ненависти прежней возвращаться. Мне эта ненависть противна, как Чесночный запах, но остерегаться Прошу вас: нет у нас врагов страшней, Чем жены и подруги прошлых дней.13
Но нет пути обратно ренегатам; Сам Саути, лжец, пройдоха и лакей, Из хлева, где слывет лауреатом, Не возвратится к юности своей, Когда был реформатором завзятым. По мненью всех порядочных людей, Честить того, кто не в чести, — бесчестно, Да будет это подлецам известно!14
И критик и юрист обречены Рассматривать безжалостно и хмуро С невыгодной обратной стороны И человека и литературу. Им все людские немощи видны, Они отлично знают процедуры И, как хирурги, вскрыв любой вопрос, Суют нам суть явлений прямо в нос.15
А кто юрист? Моральный трубочист, Но должность у него похуже даже! Он часто сам становится нечист От нравственной неистребимой сажи[102]; Из тридцати едва один юрист Нам душу незапятнанной покажет. Но ты, мой честный критик и судья, Ты так же чист, как Цезарь, — знаю я!16
Оставим наши прежние разлады, Мой милый Джеффри; это пустяки! Марионеткой делаться не надо, Внимая праздных критиков свистки. Вражда прошла, и пали все преграды. Я пью за «Auld Lang Syne»[103]{731} и за стихи, За то, что я, в лицо тебя не зная, Тебя судьею честным почитаю.17
И если мне за родину мою С тобою пить, быть может, не случится, Я с Вальтер Скоттом чашу разопью В его почтенной северной столице. Я снова годы детства узнаю, Я снова рад беспечно веселиться; В Шотландии родился я и рос, И потому растроган я до слез.18
Я вижу снова цепи синих гор, Луга, долины, светлые потоки, Береты, пледы, непокорный взор — Младенческой романтики уроки! И Дий, и Дон{732} я помню до сих пор, И мост Балгунский, черный и высокий, И «Auld Lang Syne», как отблеск юных дней, Сияет снова в памяти моей.19
Не поминайте ж мне, что я когда-то, В приливе бурных юношеских сил, С досады оскорбил насмешкой брата, Когда меня он слишком раздразнил. Признаться, мы ведь оба виноваты, И я не мог сдержать драчливый пыл: Во мне шотландца сердце закипело, Когда шотландца брань меня задела{733}.20
Я не сужу, реален или нет Мой Дон-Жуан, да и не в этом дело; Когда умрет ученый иль поэт, Что в нем реальней — мысли или тело? Причудливо устроен белый свет! Еще пытливость наша не сумела Решить проблему вечности, и нам Невнятна суть вещей ни здесь, ни там.21
Жуан мой стал российским дворянином, Не спрашивайте, как и почему, — Балы, пиры, изысканные вина Согрели даже русскую зиму! В такой момент способны ли мужчины Противиться соблазну своему? Подушке даже лестно и приятно Лежать на царском троне, вероятно.22
Жуану льстила царская любовь; Хотя ему порой бывало трудно, Но, будучи и молод и здоров, Справлялся он с обязанностью чудно; Он цвел, как деревце, и был готов Любить, блистать, сражаться безрассудно. Лишь в старости унылой и скупой Всего дороже деньги и покой.23
Но, видя (что отнюдь не удивительно!) Заманчиво-опасные примеры, Он начал наслаждаться расточительно И пользоваться жизнью свыше меры. Оно и для здоровья ощутительно; Слаб человек, а во хмелю карьеры Себялюбив становишься порой, И сердце покрывается корой.24
Я рад заняться нашей странной парой; Но офицера юного союз С императрицей, в сущности нестарой, Подробно описать я не решусь. Не восстановит молодости чары Ни власть монарха, ни усердье муз. Морщины — эти злые демократы — Не станут льстить ни за какую плату!«Дон-Жуан»
25
А Смерть — владыка всех земных владык, Вселенский Гракх[104] — умело управляет. Любого, как бы ни был он велик, Она своим законам подчиняет Аграрным. И вельможа и мужик Надел один и тот же получают, Безропотно реформе подчинясь, — И никакой не спорит с нею князь.26
Жуан мой жил, не тяготясь нимало, В чаду безумств, балов и баловства, В стране, где все же иногда мелькала Сквозь тонкие шелка и кружева Медвежья шкура. Роскошь обожала Российская — подобные слова, Быть может, неприличны для царицы, — Российская венчанная блудница.27
О чем же мне писать? Кого судить? Как сложен мой роман замысловатый! Притом я сам готов уже вступить В сей Дантов лес, дремучий и проклятый, Где лошадей приходится сменить И, умеряя жизненные траты, В последний раз на молодость взглянуть — Смахнуть слезу и… грань перешагнуть! [105]28
Я вспоминать об этом не хочу, Но одержим сей мыслью бесполезной; Так скалы покоряются плющу, А любящим устам — уста любезной. Я знаю, скоро и мою свечу Погасит ветер, веющий из бездны. Но полно! Не хочу морочить свет! Я все же не философ, а поэт.29
Заискивать Жуану не случалось; Другие все заискивали в нем. Его порода всем в глаза бросалась, Как в жеребце хорошем племенном. В нем красота отлично сочеталась С мундиром; он сиял в мундире том, Как солнце. Расцветал он, как в теплице, От милостей стареющей царицы.30
Он написал в Испанию к родным, И все они, как только услыхали, Что он судьбою взыскан и любим, — Ему ответы сразу написали. Иные в предвкушенье русских зим Мороженым здоровье укрепляли, Твердя, что меж Мадридом и Москвой Различья мало — в шубе меховой!31
Премудрая Инеса с одобреньем О процветанье первенца прочла. Он бросил якорь с подлинным уменьем, Исправив сразу все свои дела; Его благоразумным поведеньем Инеса нахвалиться не могла И впредь ему советовала нежно Держаться так же мудро и прилежно.32
Вручала, по обычаю отцов, Его судьбу мадонне и просила Не забывать в стране еретиков Того, чему религия учила; Об отчиме, не тратя лишних слов, И о рожденье братца сообщила И в заключенье — похвалила вновь Царицы материнскую любовь.33
Она бы этих чувств не одобряла И не хвалила, но царицын сан, Ее лета, подарки — все смиряло Злословие, как верный талисман. Притом себя Инеса уверяла, Что в климате таких холодных стран Все чувства замирают в человеке, Как тяжким льдом окованные реки.34
О, дайте сорок мне поповских сил [106] Прославить Лицемерие прекрасное, — Я б гимны Добродетели трубил, Как сонмы херувимов сладкогласные! И в бабушкин рожок я б не забыл Трубить хвалы: глуха была, несчастная, А все внучат любила заставлять Божественные книги ей читать.35
В ней было лицемерия не много; Всю жизнь она попасть мечтала в рай И ревностно выплачивала богу Свой маленький, но неизменный пай. Расчет разумный, рассуждая строго: Кто заслужил, тому и подавай! Вильгельм Завоеватель{734} без стесненья Использовал сей принцип поощренья.36
Он отобрал, не объяснив причин, Обширные саксонские владенья И роздал, как хороший господин, Норманнам за усердное служенье. Сия потеря сотен десятин Несчастных саксов ввергла в разоренье, Норманны, впрочем, на земле своей, По счастью, понастроили церквей.37
Жуан, как виды нежные растений, Суровый климат плохо выносил (Так не выносят короли творений, Которые не Саути настрочил). Быть может, в вихре зимних развлечений На льду Невы о юге он грустил? Быть может, забывая долг для страсти. — Вздыхал о Красоте в объятьях Власти?38
Быть может… Но к чему искать причину? Уж если заведется червячок, Он не щадит ни возраста, ни чина И точит жизни радостный росток. Так повар заставляет господина Оплачивать счета в законный срок, И возражать на это неуместно: Ты кушал каждый день? Плати же честно!39
Однажды он почувствовал с утра Озноб и сильный жар. Царица, в горе, Врача, который пользовал Петра, К нему послала. С важностью во взоре, К великому смятению двора, Жуана осмотрев, сказал он вскоре, Что частый пульс, и жар, и ломота Внушают опасенья неспроста!40
Пошли догадки, сплетни, обсужденья. Иные на Потемкина кивали, Его подозревая в отравленье; Иные величаво толковали О напряженье, переутомленье И разные примеры называли; Другие полагали, будто он Кампанией последней утомлен.41
Его лечили тщательно, по плану, Микстурами заполнив пузырьки: Пилюли, капли, Ipecacuanhae, Tincturae Sennae Haustus[107], порошки… Рецепты у постели Дон-Жуана Звучали, как латинские стихи: Bolus Potassae Sulphuret sumendus, Et haustus ter in die capiendus[108].42
Так доктора нас лечат и калечат Secundum artem[109] — все вольны шутить, Пока здоровы, а больной лепечет, Что доктора бы надо пригласить! Когда судьба о жизни жребий мечет И бездна нас готова поглотить, Мы закоцитных стран{735} не воспеваем, А робко Эскулапа{736} призываем.43
Мой Дон-Жуан едва не умер, но Упорная натура одолела Болезнь, хоть это было мудрено. Однако на щеках его алело Здоровье слабым отблеском — оно Пока еще лишь теплилось несмело; Врачи усердно стали посему Твердить о путешествиях ему.44
«Южанам климат севера вредит!» — Решили все. Царица поначалу Имела хмурый, недовольный вид (Она терять любимца не желала!); Но, видя, как теряет аппетит И тает он, — она затрепетала И сразу средство мудрое нашла: Развлечь Жуана должностью посла!45
В то время шли как раз переговоры Меж русским и английским кабинетом. Все дипломаты — нации опора — Им помогали делом и советом; О Балтике велись большие споры И о правах торговли в море этом (Известно, что Фетиду бритт любой Считает юридически рабой{737}).46
Екатерина даром обладала Друзей и фаворитов ублажать. Она Жуана в Англию послала — Чтоб собственную славу поддержать И отличить его; она желала Его в достойном блеске показать И посему казны не пожалела Для пользы государственного дела.47
Ей все давалось; дива в этом нет — Ей было все покорно и подвластно, Но прихоти свои на склоне лет Она переживала очень страстно И, как легко заметил высший свет, Жуана проводив, была несчастна. Она, не перестав его любить, Его была не в силах заменить.48
Но время все залечивает раны, А кандидатам не было числа; Когда настала ночь, и без Жуана Она прекрасно время провела. Носителя желаемого сана Она еще наметить не могла: Она их примеряла, и меняла, И состязаться им предоставляла!49
Пока на пост героя моего Вакансии, как видите, открыты, Мы проводить попробуем его. Из Петербурга ехал он со свитой; Он получил в подарок, сверх всего, Возок Екатерины знаменитый, Украшенный царицыным гербом. Она Тавриду посещала в нем.[110]50
Он вез с собой бульдога, горностая И снегиря; веселый мой герой, К зверям пристрастье нежное питая, Охотно с ними тешился игрой. (Пусть мудрецы определят, какая Тому причина, сложная порой.) Котят и птиц он обожал до страсти — Был вроде старых дев по этой части.51
Его сопровождали пять возков, В которые царица поместила Секретарей и бравых гайдуков; А с ним была турчаночка Леила, Которую от сабель казаков Он спас во время штурма Измаила. (Ты улыбнулась, муза, вижу я; Тебе по сердцу девочка моя!)52
Она была скромней и тише всех: Нежна, бледна, серьезна и уныла. Так выглядел, наверно, человек Средь мамонтов и древних крокодилов Великого Кювье. Земных утех И радостей не ведала Леила. Особенного дива в этом нет — Бедняжке было только десять лет.53
Жуан ее любил. Да и она Его любила. Но, скрывать не стану, Любви такой природа мне темна: Для нежности отцовской — будто рано, А братская любовь — не столь нежна! Но, впрочем, будь сестра у Дон-Жуана, — Я, в общем, даже склонен допустить, Он мог бы горячо ее любить.54
Но чувственности в нем, вполне понятно, Леила не могла бы вызывать; Лишь старым греховодникам приятно Плоды совсем незрелые срывать: Кислоты им полезны, вероятно, Чтоб стынущую кровь разогревать. Жуан был платоничен, я ручаюсь, Хоть забывал об этом, увлекаясь.55
В душе Жуана нежность расцвела, И был он чужд греховным искушенья. Ему сиротка-девочка была Обязана свободой и спасеньем. Она была покорна и мила, И лишь одно он встретил с огорченьем: Турчаночка, упрямая как бес, Креститься отказалась наотрез.56
Пережитые ужасы едва ли Любовь к аллаху в ней искоренили: Три пастыря ее увещевали, Но отвращенья в ней не победили К святой воде. Леилу не прельщали Попы; что б ей они ни говорили, Она твердила сумрачно в ответ, Что выше всех пророков Магомет.57
Жуана одного она избрала Из христиан и одному ему Бесхитростное сердце доверяла, Сама не понимая почему. Конечно, эта парочка являла Забавный вид: герою моему, По молодости лет, приятно было, Что им оберегаема Леила.58
Итак, в Европу поспешает он; Вот миновал плененную Варшаву, Курляндию{738}, где с именем «Бирон»[111]{739} Всплывает фарс постыдный и кровавый… Здесь в наше время Марс-Наполеон Шел на Россию за сиреной Славой Отдать за месяц стужи лучший цвет Всей гвардии и двадцать лет побед.59
Тогда разбитый бог воскликнул: «О! Ма vieille Garde!»[112]{740} — только не примите Анжамбеман{741} в насмешку и во зло: Пал громовержец, что ни говорите, Убийце Каслрею повезло. Замерзла наша слава. Но внемлите — Костюшко{742}! Это слово, как вулкан, Пылает и во льдах полярных стран.60
Жуан увидел Пруссию впервые И Кенигсберг проездом посетил, Где в те поры цвела металлургия И жил профессор Кант Иммануил{743}; Но, презирая диспуты сухие, В Германию герой мой покатил{744}, Где мелкие князья неугомонно Пришпоривают подданных мильоны.61
Потом, минуя Дрезден и Берлин, Они достигли гордых замков Рейна… Готический пейзаж! Не без причин Поэты чтут тебя благоговейно! Прекрасен вид торжественных руин — Ворота, башни, стен изгиб затейный; Тут унестись мечтой могу и я Куда-нибудь на грани бытия.62
Но милый мой Жуан стремился мимо. Проехал Маннгейм он, увидел Бонн И Драхенфельс, глядящий нелюдимо, Как привиденье рыцарских времен; Был в Кельне; каждый там неотвратимо Почтить святые кости принужден Одиннадцати тысяч дев — блаженных И потому, наверное, нетленных![113]63
Голландия — страна больших плотин — Открылась путешественника взгляду. Там много водки пьет простолюдин И видит в этом высшую награду; Сенаты без особенных причин Стремятся запретить сию отраду, Которая способна заменить Дрова, обед — и шубу, может быть!64
И вот — пролива пенистые воды И пляшущего шторма озорство Под парусами к острову свободы{745} Уже несут героя моего. Он не боится ветреной погоды, Морской недуг не трогает его; Он только хочет первым, как влюбленный, Увидеть белый берег Альбиона!65
И берег вырос длинною стеной У края моря. Сердце Дон-Жуана Забилось. Меловою белизной Залюбовался он. Сквозь дым тумана Все путники любуются страной, Где смелые купцы и капитаны, Сноровки предприимчивой полны, Берут налоги чуть ли не с волны.66
Я, правда, не имею основанья Сей остров с должной нежностью любить, Хотя и признаю, что англичане Прекрасной нацией могли бы быть; Но за семь лет — обычный срок изгнанья И высылки{746} — пора бы позабыть Минувшие обиды, ясно зная: Летит ко всем чертям страна родная.67
{747}
О, знает ли она, что каждый ждет Несчастия, которое б сломило Ее величье? Что любой народ Ее считает злой, враждебной силой За то, что всем, кто видел в ней оплот, Она, как друг коварный, изменила И, перестав к свободе призывать, Теперь и мысль готова заковать.68
Она тюремщик наций. Я ничуть Ее свободе призрачной не верю; Не велика свобода — повернуть Железный ключ в замке тяжелой двери. Тюремщику ведь тоже давит грудь Унылый гнет тоски и недоверья, Он тоже обречен на вечный плен Замков, решеток и унылых стен.69
Жуан увидел гордость Альбиона — Твои утесы, Дувр мой дорогой, Твои таможни, пристани, притоны, Где грабят простаков наперебой, Твоих лакеев бойких батальоны, Довольных и добычей и судьбой, Твои непостижимые отели, Где можно разориться за неделю!70
Жуан — беспечен, молод и богат Брильянтами, кредитом и рублями — Стеснялся мало суммами затрат; Но и его огромными счетами Порядком озадачен, говорят, Хозяин — грек с веселыми глазами. Бесплатен воздух, но права дышать Никто не может даром получать.71
Скорее! Лошадей в Кентербери{748}! Цок-цок по гравию, топ-топ по лужам! Отлично скачут! Что ни говори У немцев кучера гораздо хуже: Они за Schnaps’oм[114], черт их побери, Судачат, как мы, путники, ни тужим На станциях, и наш унылый крик «Verfluchter Hund!»[115] не действует на них.72
Ничто на свете так не тешит глаз Веселостью живого опьяненья, Как быстрая езда; чарует нас Неудержимо-буйное движенье. Мы забываем с легкостью подчас И цель свою, и место назначенья, И радостно волнуют нас мечты В стремительном полете быстроты.73
В Кентербери спокойно и уныло Им служка показал большой собор, Шлем Эдуарда{749}, Бекета могилу, Приезжих услаждающие взор, (Любая человеческая сила В конце концов — химический раствор, И все герой, все без исключенья, Подвержены процессу разложенья!)74
Жуан, однако, был ошеломлен И шлемом благородного героя, Свидетелем боев былых времен, И Бекета плачевною судьбою: Поспорить с королем задумал он И заплатил за это головою. Теперь монархи стали привыкать Законностью убийство прикрывать.75
Собор весьма понравился Леиле, Но беспокоилась она о том, Зачем гяуров низких допустили, Злых назареян{750}, в этот божий дом? Они ведь столько турок истребили В жестоком озлоблении своем! Как допустила воля Магомета Свиней в мечеть прекраснейшую эту?76
Но дальше, дальше! Светлые поля, Везде цветущий хмель, залог дохода; Мила родная скромная земля Тому, кто в жарких странах больше года Пространствовал, где, ум испепеля, Нагромоздила знойная природа Леса олив, вулканы, ледники, Лимоны, апельсины и пески.77
Ах, боже мой! Мне захотелось пива! Гони скорей, мой милый почтальон! Жуан несется вскачь весьма ретиво, Любуясь на свободный Альбион, Что многими воспет красноречиво — Своими и чужими, — но и он Неукротимых пасынков имеет, С которыми ужиться не умеет.78
Как ровная дорога хороша, Укатанная, гладкая, прямая! Какие крылья чувствует душа, Полет полей беспечно наблюдая, Порывисто и весело дыша! Сам Фаэтон{751} — я смело утверждаю, — До Йорка{752} проскакав на почтовых, Смирил бы страсти выдумок своих.79
Макиавелли поучал когда-то, Что лишь потеря денег нам горька; Убей сестру, отца, жену и брата, Но никогда не трогай кошелька! Лишь эту незабвенную утрату Нам не прощают люди на века. Великий флорентинец{753} понял это И, как я говорил, поведал свету, —80
А также в назиданье королям. Вернемся же к Жуану. Постепенно Стемнело, и предстал его глазам Холм, Шутерс-Хилл, хранящий неизменно Великий город. Обращаюсь к вам, Все англосаксы, «кокни»{754}, джентльмены, — Вздыхай и улыбайся, каждый бритт, — Перед тобою город твой открыт!81
Выбрасывал он в небо тучи дыма, Как полупотухающий вулкан. Казалось, это ад неукротимый Из серных недр выбрасывал фонтан. Но, как в объятья матери любимой, Спешил ему навстречу Дон-Жуан. Он уважал высокие свободы Страны, поработившей все народы.82
Туман и грязь на много миль вокруг, Обилье труб, кирпичные строенья, Скопленье мачт, как лес поднятых рук, Мелькнувший белый парус в отдаленье, На небе — дым и копоть, как недуг, И купол, что повис огромной тенью Дурацкой шапки на челе шута, — Вот Лондон! Вот родимые места!83
Но мой герой в дымящем этом море Увидел лишь алхимии пары, Магическую власть лабораторий, Творящую богатства и миры; И даже климат — Альбиона горе — Его почти не трогал до поры, И то, что солнце в плесени тумана Померкло, не смущало Дон-Жуана!84
Но здесь немного я остановлюсь, Мой дорогой земляк; однако знай, Что к нашей дружбе я еще вернусь, И потому меня не забывай: Я правду показать тебе берусь И лучше, чем любая миссис Фрай{755}, С моральною воюя паутиной, Пообмету углы в твоей гостиной.85
Напрасно вы стремитесь, миссис Фрай, Убить порок по тюрьмам и притонам! Напрасно там лепечете про рай Своим филантропическим жаргоном! Гораздо хуже светский негодяй И все пороки, свойственные тронам, — О них-то вы забыли, ай-ай-ай! А в них-то все и дело, миссис Фрай!86
Скажите им, что жить должны пристойней Правители весьма преклонных лет, Что купленных восторгов шум нестройный Больной страны не умаляет бед, Что Уильям Кертис{756} — низкий, недостойный Дурак и шут, каких не видел свет, Что он — Фальстаф при престарелом Гале, Что шут бездарней сыщется едва ли.87
Скажите им, — хоть поздно говорить, — Что чванство не способствует величью, Что лишь гуманность может озарить Достоинством правителя обличье. (Но знаю — вы смолчите. Вашу прыть Умерят воспитанье и приличья; И я один тревожить буду их, Трубя в Роландов рог{757} октав моих!)Песнь одиннадцатая
{758}
1
Епископ Беркли{759} говорил когда-то: «Материя — пустой и праздный бред». Его система столь замысловата, Что спорить с ней у мудрых силы нет, Но и поверить, право, трудновато Духовности гранита; я — поэт, И рад бы убедиться, да не смею, Что головы «реальной» не имею.2
Весьма удобно мир предполагать Всемирным порожденьем солипсизма; Подобная система — благодать Для произвола и для эгоизма… Но искони мешает мне мечтать Сомненье — преломляющая призма Великих истин; портит мне оно Духовности небесное вино.3
А что же в результате? Несваренье Иллюзий, представлений и мечтаний, Гипотез беспокойное паренье, Туман философических скитаний И самое неясное скопленье Сортов, явлений, видов, сочетаний. Вселенная — большой клубок проблем, Доселе не разгаданных никем.4
Возник ли мир по Ветхому завету Иль сам собой, без божьего труда, — Мыслители не вскрыли тайну эту И, может быть, не вскроют никогда. Но мы недолго странствуем по свету И все однажды явимся туда, Где очень точно всё узнаем — или Навеки успокоимся в могиле.5
Пора оставить спор метафизический, Философов безумную мечту, Что есть, то есть — вот вывод мой логический, И больше спорить мне невмоготу, Я начал ощущать периодически Озноб и кашель, жар и ломоту — И с каждым новым приступом чахотки Я становлюсь уступчивым и кротким.6
Во-первых, я уверовал, как водится, В спасителя и даже в сатану, Потом поверил в девство богородицы И, наконец, в Адамову вину… Вот с троицей трудненько мне приходится. Но скоро я улаживать начну Посредством благочестья и смиренья И это цифровое затрудненье…7
Но к теме возвращусь, читатель мой. Тот, кто бывал в Китае, в Византии, Кто любовался Аттикой святой С Акрополя, кто с корабля впервые Узрел Константинополь золотой, Кто видел Тимбукту{760} и Ниневию, — Тот Лондоном не будет поражен, Но через год — что станет думать он?8
Мой Дон-Жуан стоял на Шутерс-Хилле В закатный час, раздумьями томим, — И темным океаном крыш и шпилей Лежал огромный Лондон перед ним, И до него неясно доходили, Как по равнине стелющийся дым, Далекое жужжанье, бормотанье, Кипящей грязной пены клокотанье…9
{761}
Мой Дон-Жуан в порыве экзальтации Глядел на чудный город и молчал — Он пламенный восторг к великой нации В своем наивном сердце ощущал. «Привет тебе, твердыня Реформации, О родина свободы, — он вскричал, — Где пытки фанатических гонений Не возмущают мирных поколений!10
Здесь честны жены, граждане равны, Налоги платит каждый по желанью; Здесь покупают вещь любой цены Для подтвержденья благосостоянья; Здесь путники всегда защищены От нападений…» Но его вниманье Блеснувший нож и громкий крик привлек: «Ни с места, падаль! Жизнь иль кошелек!»11
Четыре парня с этим вольным кличем К Жуану бросились, решив, что он Беспечен и сражаться непривычен, И будет сразу сдаться принужден, И лакомой окажется добычей, Лишившись кошелька и панталон, А может быть, и жизни; так бывает На острове, где все преуспевают,12
Жуан английских слов не понимал, Точнее — понимал весьма немного; Вначале он приветствием считал Ругательство с упоминаньем бога. Не улыбайтесь — он не совершал Большой ошибки, рассуждая строго; Я слышал эту фразу, как привет, От многих соплеменников в ответ.13
Жуан не понял слов, но понял дело, И, действуя, как в битве, наугад, Он вынул пистолет и очень смело Вогнал в живот обидчику заряд. Разбойника простреленное тело Бессильно опрокинулось назад, И только стон раздался хрипловатый: «Эх, уходил меня француз проклятый!»14
Все прочие удрали что есть сил. Испуганные слуги Дон-Жуана, Когда и след разбойников простыл, На место схватки прибежали рьяно; Но мой герой лишь об одном просил — Чтоб незнакомцу осмотрели рану. Уже он сожалел, что был жесток И слишком поспешил спустить курок.15
«Быть может, — размышлял он, — в самом деле, В обычаях страны такой прием! С поклоном нас ограбили в отеле, А этот просто бросился с ножом. Различные пути к единой цели… Но как-никак, а я виновен в том, Что он страдает, и уйти не вправе, Его без всякой помощи оставя!»16
Он подал знак — но только трое слуг Приблизились, как раненый, бледнея, Промолвил; «Нет, ребята, мне каюк! Мне только б рюмку джину!» И, слабея, Он судорожным жестом цепких рук Распутал шарф на посиневшей шее, С усилием сказал в последний миг: «Отдайте Салли!» — и навек поник.17
Окровавлённый шарф к ногам Жуана Упал, хотя Жуан не понимал, Ни в чем цена такого талисмана, Ни что ему британец бормотал. Еще недавно Тома-капитана, Гуляку Тома целый город знал; В короткий срок он промотал, пируя, И денежки, и жизнь свою лихую…18
Старательно герой мой совершил Обряды показаний полисмену И, подписав бумаги, поспешил В желанную столицу. Несомненно, Он озадачен был, что согрешил На первые же сутки: он мгновенно В пылу самозащиты уложил Свободного британца в цвете сил…19
Он мир лишил великого героя — Том-капитан был парень первый сорт: Краса «малин», по взлому и разбою Не в первый раз он побивал рекорд. Очистить банк и смыться от конвоя Умел он изумительно, как черт, Как он шикарил с черноокой Салли! Все воры королем его считали.20
Но кончен Том, и кончено о нем; Герои исчезают понемногу, И скоро мы последних изведем. А вот и Темза! Сразу на дорогу Мощеную, рождая стук и гром Колес, Жуан въезжает, слава богу, И Кеннингтон{762} — обычный серый тон Предместий грязных — созерцает он.21
Вот перед ним бульвары, парки, скверы, Где нет ни деревца уже давно, Вот «Холм отрады» — новая химера, — Где отыскать отраду мудрено, А «Холм» принять приходится на веру; А вот квартал, означенный смешно Названьем «Парадиз», — такого «рая» Не пожалела б Ева, убегая…22
Шлагбаумы, фуры, вывески, возки, Мальпосты, как стремительные птицы, Рычанье, топот, выкрики, свистки, Трактирщиков сияющие лица, Цирюлен завитые парики И масляные светочи столицы, Как тусклый ряд подслеповатых глаз. (В то время газа не было у нас!)23
Всё это видят — правда, в разном свете, Смотря какой случается сезон, — Все путники, верхом или в карете Въезжая в современный Вавилон. Но полно мне писать о сем предмете, Путеводитель есть на то, и он Пускай займется этим. Ближе к делу! Покамест я болтал, уж солнце село.24
И вот на мост въезжает Дон-Жуан — Он видит Темзы плавное теченье, Он слышит ругань бойких англичан, Он видит, как в прозрачном отдаленье Вестминстер возникает сквозь туман — Величественно-гордое виденье, — И кажется, что слава многих лет Покоится на нем, как лунный свет.25
Друидов рощи{763}, к счастью, исчезают. Но цел Стоун-хендж{764} — постройка древних бриттов, И цел Бедлам{765}, где цепи надевают Больным во время родственных визитов; И Ратуша{766}, которую считают Довольно странной, по словам пиитов; И Королевский суд охаять грех, Но я люблю Аббатство{767} больше всех.26
Теперь и с освещеньем Черинг-Кросса{768} Сравнить Европу было бы смешно — Не сравнивают с золотом отбросы! На континенте попросту темно. Французы разрешение вопроса Разумное нашли уже давно, Украсив фонари, мы знаем с вами, Не лампами, а просто подлецами{769}.27
Не спорю, дворянин на фонаре Способствует и о- и про-свещенью. Так мог пожар поместий на заре Свободы ярко освещать селенья. Но все-таки нужнее в декабре Не фейерверк, а просто освещенье. Пугает нас тревожный блеск ракет; Нам нужен мирный, но хороший свет.28
Но Лондон освещается прекрасно; И если Диогену наших дней{770} В огромном этом омуте напрасно Пришлось искать порядочных людей, То этому причина (все согласны!) Никак не в недостатке фонарей — И я за поиски такие брался, Но каждый встречный стряпчим мне казался.29
По мостовой грохочет мой герой… Уже редеют толпы и кареты (Обедают вечернею порой Все лучшие дома большого света). Наш дипломат и грешник молодой По улицам несется, как комета, Мелькают перед ним в окне подряд Дворец Сент-Джеймсский и Сент-Джеймсский «ад»{771}.30
Но вот отель. Нарядные лакеи Навстречу приезжающим спешат; Стоит толпа бродяг, на них глазея, И, как ночные бабочки, кружат Готовые к любым услугам феи Пафосские{772}, которыми богат Вечерний Лондон. Прок от них бывает: Они, как Мальтус, браки укрепляют.31
То был отель из самых дорогих — Для иностранцев высшего полета, Привыкших не вести расходных книг И все счета оплачивать без счета; Притон дипломатических интриг, Где проводилась сложная работа Особами, которые гербом Могли прикрыться в случае любом.32
О крайне деликатном назначенье Приезда своего из дальних стран И о своем секретном порученье Не сообщал в отеле Дон-Жуан; Но все заговорили в восхищенье, Что он имеет вес и важный сан, И сплетничали знающие лица, Что от Жуана без ума царица…33
Молва ходила, будто он герой В делах военных и в делах любовных; А романтичной тешиться игрой — Во вкусе англичанок хладнокровных, Способных на фантазии порой. Так в результате слухов баснословных Жуану в моду удалось попасть, А в Англии ведь мода — это страсть.34
Я не считаю, что они бесстрастны, Но страсть у них рождается в мозгу, А не в сердцах, хоть и она опасна — Тому я быть свидетелем могу. Ах, боже мой, ни для кого не ясно, Где возникают страсти! Я бегу От этой темы: в сердце ль, в голове ли — Не все ль равно; вели бы только к цели!35
Жуан, как должно царскому гонцу, Все грамоты свои и объясненья Представил надлежащему лицу И принят был с гримасою почтенья. Политики, к смазливому юнцу Приглядываясь, приняли решенье Отменно обработать новичка, Как ястреб молодого петушка…36
Они ошиблись… Но на эту тему Поговорю я после. Надо знать, Какая это трудная проблема — Политиков двуличных обсуждать… Все в жизни лгут, но смело лжем не все мы, — Вот женщины — они умеют лгать Так безупречно, гладко и красиво, Что правда в их устах бледна и лжива.37
Но что такое ложь? Простой ответ: Не более как правда в полумаске. Юрист, герой, историк и поэт Ее употребляют для подкраски. Правдивой правды беспощадный свет Испепелил бы хроники, и сказки, И всех пророков — кроме тех господ, Что прорицают на текущий год.38
Хвала лжецам и лжи! Никто не смеет Послушливую музу попрекать За мизантропию; она умеет Отлично славословия слагать, А за несклонных к этому краснеет. Итак, друзья, давайте ж целовать Монархам все целуемые части — Как Эрин, подчиняющийся власти{773}.39
Жуан представлен был. Его наряд И внешность возбудили изумленье, Равно и перстень в множество карат, Который в состоянье опьяненья Ему Екатерина, говорят, Надела в знак любви и одобренья… И, уж конечно, не жалея сил, Он это одобренье заслужил.40
Сановники и их секретари Любезнейшим чаруют обхожденьем Гонцов, которых хитрые цари Прислали с неизвестным порученьем… И даже клерки — что ни говори, Прославленные мерзким поведеньем, — И те бывают вежливы подчас, Хотя, — увы! — конечно, не для нас.41
Они грубят на совесть и на страх, Как будто их особо обучают; Почти во всех присутственных местах Нас окриком чиновники встречают, Где ставят штемпеля на паспортах И прочие бумаги получают; Из всей породы сукиных детей Плюгавенькие шавки — всех лютей.42
С empressement[116] Жуана принимали. Французы мастера подобных слов — Все тонкости они предугадали, Всю изощренность шахматных ходов Людского обхожденья. Но едва ли Пригоден для Британских островов Их разговор изящный. Наше слово Звучит свободно, здраво и сурово…43
Но наше «dam’me»[117] кровное звучит Аттически — и это доказательство Породы; уху гордому претит Материка матерое ругательство; Аристократ о том не говорит, И я не оскорблю его сиятельство, Но «dam’me» — это смело, дерзко, зло И как-то платонически светло!44
Простая грубость есть у нас и дома, А вежливости надо поискать В чужих краях, доверясь голубому И пенистому морю; тут опять Всё аллегории; уж вам знакома Моя привычка весело болтать, Но время вспомнить, что единство темы — Существенное качество поэмы.45
Что значит «высший» свет? Большой район На западе столицы, с населеньем В четыре тысячи; отличен он От всех патрицианским самомненьем. Бездарный граф, маркиз или барон Взирают на вселенную с презреньем, Ложатся утром, вечером встают — И больше ничего не признают.46
Мой Дон-Жуан, как холостой патриций, Очаровал девиц и юных дам. О Гименее думали девицы И предавались радостным мечтам; Мечтали и кокетливые львицы, К амурным благосклонные делам: Ведь ежели любовник неженатый, — То меньше грех и меньше риск расплаты.47
Мой Дон-Жуан блистал по всем статьям: Пел, танцевал, играл в лото и в карты И волновал сердца прелестных дам, Как нежная мелодия Моцарта… Почтительно печален, и упрям, И весел без особого азарта, Познав людей, он ясно понимал, Что трезво их никто не описал.48
Девицы и особы средних лет При встрече с ним румянцем расцветали. (Последние невинный этот цвет Тайком от всех в аптеке покупали!) Красавицы, как радостный букет, Его веселым роем окружали, А маменьки справлялись в свой черед: «Велик ли у отца его доход?»«Дон-Жуан»
49
Портнихи принимали деловито Заказы от блистательных цирцей, До свадьбы открывая им кредиты (В медовый месяц у младых мужей Сердца и кошельки всегда открыты). Портнихи так принарядили фей, Чтоб будущим супругам — доля злая! — Пришлось платить, ропща и воздыхая…50
И синие чулки — любезный хор, Умильно обожающий сонеты, Смутил его вопросами в упор (Не сразу он придумывал ответы): Какой на слух приятней разговор — Кастильский или русский? Где поэты Талантливей? И повидал ли он Проездом настоящий Илион?51
Жуан имел поверхностное знанье Литературы — и ученых жен Экзаменом, похожим на дознанье, Был крайне озадачен и смущен. Предметом изученья и вниманья Войну, любовь и танцы выбрал он — И вряд ли знал, что воды Иппокрены{774} Содержат столько мутно-синей пены.52
Но он сумел принять достойный вид И придавал сужденьям столько веса, Что умных дев восторженный синклит Ему внимал. И даже поэтесса, Восьмое чудо, Араминта Смит, Воспевшая «Безумство Геркулеса» В шестнадцать лет, любезна с ним была И разговор в блокнотик занесла.53
Двумя-тремя владея языками, Он сей блестящий дар употреблял, Чтоб нравиться любой прекрасной даме, — Но вот стихов, к несчастью, не писал. Изъян досадный, согласитесь сами! Мисс Мэви Мэниш — юный идеал — И леди Фриски звучными сонетами Мечтали по-испански быть воспетыми.54
Апломбом и достоинством своим Он заслужил почтенье львов столичных. В салонах промелькнули перед ним Десятки сотен авторов различных, Как тени перед Банко{775}… Слава — дым, Но, по расчетам критиков двуличных, «Великих литераторов» сейчас Любой журнальчик расплодил у нас!55
Раз в десять лет «великие поэты», Как чемпионы в уличном бою Доказывают мнительному свету Сомнительную избранность свою… Хотя корону шутовскую эту Я ценностью большой не признаю, Но почему-то нравился мильонам И слыл по части рифм Наполеоном.56
Моей Москвою будет «Дон-Жуан», Как Лейпцигом, пожалуй, был «Фальеро», А «Каин» — это просто Мон-Сен-Жан…{776} La belle Alliance[118]{777} ничтожеств разной меры Ликует, если гибнет великан… Но все или ничто — мой символ веры! В любом изгнанье я утешусь им, Будь даже Боб тюремщиком моим.57
Скотт, Мур и Кэмбел{778} некогда царили, Царил и я, но наши дни прошли, А ныне музы святость полюбили, Взамен Парнаса на Сион взбрели. Оседланный попом, Пегас весь в мыле Плетется в одуряющей пыли; Его халжи-поэты{779} поднадули, К его копытам привязав ходули.58
Но поп еще, пожалуй, не беда — Он все же вертоград свой насаждает, Хотя, увы, от этого труда Уж не вино, а уксус получает. Бывает музам хуже иногда: Их смуглый евнух Спор{780} одолевает — Вол стихоплетства, тянет строки он И на читателей наводит сон.59
Вот Эвфуэс{781} — мой нравственный двойник (По отзывам восторженных приятелей). Не знаю я, каков его язык, — У критиков спросите и читателей. У Колриджа успех весьма велик, Двух-трех имеет Вордсворт обожателей, Но Лэндор{782} с похвалой попал впросак: Не лебедь Саути, а простой гусак.60
А Джона Китса{783} критика убила, Когда он начал много обещать; Его несмелой музе трудно было Богов Эллады голос{784} перенять: Она ему невнятно говорила. Бедняга Китс! Что ж, поздно горевать… Как странно, что огонь души тревожной Потушен был одной статьей ничтожной.61
Да, списки претендентов все растут (Живых и мертвых!). Все в тревоге праздной, Что обречен их кропотливый труд Забвенью — смерти злой и безобразной. Но я боюсь, что музы не найдут Достойных в сей толпе однообразной: Не мог тиранам тридцати своим{785} Бессмертье обеспечить даже Рим.62
Увы, литература безголоса В руках преторианцев{786}; вид печальный! Все подбирают жалкие отбросы, Покорно льстят солдатчине нахальной, А те еще поглядывают косо! Эх, возвратись бы я, поэт опальный, — Я научил бы этих янычар, Что значит слова меткого удар.63
Я несколько таких приемов знаю, Которые любого свалят с ног, Но я возиться с ними не желаю — Не стоит мелюзга моих тревог! Притом и муза у меня не злая, Ее укор насмешлив, а не строг; Она нередко, потакая нравам, Смягчает шутку книксеном лукавым!64
Среди поэтов и ученых жен Оставили мы нашего героя В опасности. Но скоро бросил он Их общество кичливое и злое, Где царствует высокопарный тон, И, вовремя спасаемый судьбою, Он в круг светил блистательных попал, Где скоро сам, как солнце, засиял.65
Он по утрам прилежно занимался Почти ничем, но этот вид труда Обычен; он изрядно утомлялся И отдыхать ложился иногда. Так Геркулес не делом отравлялся, А платьем{787}. Утверждаем мы всегда, Что трудимся для родины любимой, Хотя успех от этого лишь мнимый.66
Все остальное время посвящал Он завтракам, визитам, кавалькадам И насажденья «парков» изучал (Где ни цветов, ни пчел искать не надо, Где муравей — и тот бы отощал). Но светским леди эта «сень — услада»{788} (Так пишет Мур!), единственный приют, Где кое-как природу познают.67
Переодевшись, он к обеду мчится; Его возок летит, как метеор, Стучат колеса, улица кружится, И даже кучеров берет задор. Но вот и дом; прислуга суетится, Гремит тяжелый бронзовый запор, Избранникам дорогу отворяя В мир «Or Molu»[119] — предел земного рая.68
Хозяйка отвечает на поклон, Уже трехтысячный. Блистают залы, В разгаре вальс (красавиц учит он И мыслить, да и чувствовать, пожалуй); Сверкает переполненный салон, А между тем с улыбкою усталой, Прилежно выполняя светский труд, Сиятельные гости все идут.69
Но счастлив, кто от бального угара Уединится в мирный уголок, Кому открыты двери будуара, Приветный взор и тихий камелек; Он смотрит на кружащиеся пары Как скептик, как отшельник, как знаток, Позевывая в сладком предвкушенье Приятной поздней ночи приближенья.70
Но это удается не всегда; А юноши, подобные Жуану, Которые летают без труда В блистанье кружевного океана, Лавируют искусно иногда. Они по части вальса — капитаны, Да и в кадрили, право же, они По ловкости Меркурию сродни.71
Но кто имеет планы на вниманье Наследницы иль чьей-нибудь жены, Тот прилагает мудрое старанье, Чтоб эти планы не были ясны. Подобному благому начинанью Поспешность и стремительность вредны; Бери пример с прославленного бритта — Умей и глупость делать деловито!72
За ужином — старайтесь быть соседом, Напротив сидя — не сводите глаз; О, самым обаятельным беседам Равняется таких молчаний час! Он может лривести к большим победам, Он сохранится в памяти у вас! Чья нежная душа в теченье бала Всех мук и всех надежд не испытала?73
Но эти замечания нужны Для тех, кому полезна осторожность, Чьим хитроумным замыслам страшны Улыбка, взгляд и всякая ничтожность. А если вы судьбой одарены, Она предоставляет вам возможность Во имя денег, сана, красоты Осуществлять и планы и мечты.74
Жуан мой был неглуп, хорош собою, И знатен, и богат, и знаменит, Его, как иностранца, брали с бою (Опасности угроза сторожит Со всех сторон блестящего героя!). «Народ страдает, — плачется пиит, — От нищеты, болезней и разврата!» Взглянул бы он на жизнь аристократа!75
Он молод, но стара его душа, В объятьях сотен силы он теряет, Он тратит, не имея ни гроша, К ростовщику-еврею попадает. Живет — хитря, безумствуя, спеша, В парламенте порою заседает, Развратничает, ест, играет, пьет, — Пока в фамильный склеп не попадет.76
«Где старый мир, в котором я родился?» — Воскликнул Юнг{789} восьмидесяти лет; Но я и через восемь убедился, Что старого уже в помине нет. Как шар стеклянный, этот мир разбился И растворился в суете сует — Исчезли денди, принцы, депутаты, Ораторы, вожди и дипломаты.77
Где Бонапарт великий — знает бог! Где Каслрей ничтожный — знают бесы! Где пылкий Шеридан{790}, который мог Путем речей содействовать прогрессу? Где королева, полная тревог{791}? Где Англии любимая принцесса{792}? Где биржевые жертвы? Где цари? И где проценты{793}, черт их побери!78
Что Бреммель{794}? Прах. Что Уэлсли{795}? Груда гнили. Где Ромили? На кладбище снесли. И Третьего Георга схоронили, Да только завещанья не нашли{796}! Четвертого ж внезапно полюбили Шотландцы{797}; он, от Лондона вдали, Внимает Соуни{798}, зуд вкушая сладкий, Пока ему льстецы щекочут пятки.79
А где миледи Икс? Где лорд Эн-Эн? Где разные хорошенькие мисс? Я вижу очень много перемен — Те обвенчались, эти развелись… Все в мире — суета, все в мире — тлен. Где клики Дублина?{799} Где шум кулис? Где Гренвиллы{800}? В отставке и в обиде. Что виги? Совершенно в том же виде{801}.80
Где новые конфликты? Где развод? Кто продает именье? Кто карету? Скажи мне, «Морнинг пост»{802}, оракул мод, Великосветских прихотей газета, Кто лучшие теперь балы дает? Кто просто умер? Кто ушел от света? Кто, разорившись в несчастливый год, На континенте сумрачно живет?81
За герцогом охотилась иная, А ей достался только младший брат{803}; Та стала дамой дева молодая, А та — всего лишь мамой невпопад; Те потеряли прелесть, увядая… Ну, словом, — все несется наугад! В наружности, в манере обращенья — Во всем, во всем большие измененья.82
Лет семьдесят привыкли мы считать Эпохою. Но только в наши годы Лет через семь уж вовсе не узнать Ни правящих народом, ни народа. Ведь этак впору голову сломать! Все мчится вскачь: удачи и невзгоды, Одним лишь вигам (господи прости!) Никак к желанной власти не прийти.83
Юпитером я знал Наполеона И сумрачным Сатурном. Я следил, Как пыл политиканского трезвона И герцога в болвана превратил{804}. (Не спрашивай, читатель благосклонный, Какого!) Я видал, как осудил И освистал монарха гнев народа И как потом его ласкала мода{805}.84
Видал я и пророчицу Сауткотт, И гнусные судебные процессы{806}, Короны я видал — особый род Дурацких колпаков большого веса, Парламент, разоряющий народ, И низости великого конгресса{807}; Я видел, как народы, возмутясь, Дворян и королей швыряли в грязь{808}.85
Я видел маленьких поэтов рой И многословных, но не многославных Говорунов; и биржевой разбой Под вопли джентльменов благонравных; Я видел, как топтал холуй лихой Копытами коня людей бесправных{809}; Как эль бурдою стал; я видел, как Джон Буль чуть не постиг, что он дурак.86
Что ж, «carpe diem»[120]{810}? друг мой, «carpe», милый! Увы! Заутра вытеснят и нас Потомки, подгоняемые силой Своих страстей, стремлений и проказ… Играйте роль, скрывайте вид унылый И с сильных мира не сводите глаз, Во всем себе подобным подражая И никому ни в чем не возражая.87
Сумею ль я достойно передать Лукавые Жуана похожденья В стране, о коей принято писать, Как о стране с моральным поведеньем? Я не люблю и не умею лгать, — Но, земляки, вы согласитесь с мненьем, Что никакой у вас морали нет — Так говорит ваш искренний поэт.88
Что мой Жуан узнал и увидал, Я расскажу вам честно и подробно; Но мой роман, как я предполагал, Писать правдиво не всегда удобно. Еще замечу: я не намекал Ни на кого. И не ищите злобно В моих октавах скрытых эпиграмм; Открыто правду говорю я вам.89
Женился ль он на отпрыске четвертом Графини, уловляющей супруга Для каждой дочки, или выше сортом Была его достойная подруга? И стал ли он, простым занявшись спортом, Творить себе подобных, или туго Ему пришлось, поскольку был он смел По части страсти и альковных дел, —90
Все это скрыто в темноте времен… Тем временем я песнь окончил эту. В нападках я, конечно, убежден, Но ничего плохого в этом нету. Известно, что невежды всех племен Бросаются на честного поэта… Пусть буду я один, но я упрям — За трон свободной мысли не отдам!Песнь двенадцатая
{811}
1
И средние века не так страшны, Как страшен средний возраст нашей жизни. То глупы мы, то мудры, то смешны И с каждым днем становимся капризней. Уж многие страницы прочтены И скомканы в бессильной укоризне; Седеют наши кудри с каждым днем, И мы самих себя не узнаем.2
В такое время надо умирать; Мы юношей уже не понимаем, Со стариками время коротать Еще не можем — и везде скучаем… Еще любовь способна утешать, Но вскоре даже к ней мы остываем, И только деньги, теша мысль и взгляд, По-прежнему заманчиво блестят.3
О, золото! Кто назовет несчастным Скупого? Он несказанно богат; Все силы мира золоту подвластны, Власть золота — как якорный канат. Вам кажется, скупой живет ужасно — Он плохо ест, боится лишних трат; Но он же, сэкономив корку сыра, Счастливее, чем все владыки мира!4
Любовь, разврат, вино et cetera Вредят здоровью; жажда громкой славы Вредит душе; азартная игра Вредит карману. Лучшие забавы, Как видно, не доводят до добра, Но жажда денег исправляет нравы; Скупой, копящий золото, давно Забыл разврат, и карты, и вино.5
О, золото! Кто возбуждает прессу? Кто властвует на бирже? Кто царит На всех великих сеймах и конгрессах? Кто в Англии политику вершит? Кто создает надежды, интересы? Кто радости и горести дарит? Вы думаете — дух Наполеона? Нет! Ротшильда и Беринга{812} мильоны!6
Они и либеральный наш Лафитт{813} — Владыки настоящие вселенной: От них зависит нации кредит, Паденье тронов, курсов перемены; Республик биржа тоже не щадит, Заботятся банкиры несомненно, Чтобы проценты верные росли С твоей, Перу, серебряной земли.7
К скупым неприменимо сожаленье; Воздержанность классическая их Считается за честь и украшенье И киников, и множества святых{814}. Внушает же отшельник уваженье Печальным видом странностей своих! Но вас богач суровый возмущает, Когда во имя денег сокращает8
Свои расходы? Да ведь он — поэт! Поклонник высшей и чистейшей страсти! Прекрасный блеск накопленных монет Ему дает изысканное счастье; Его слепит алмазов чистых цвет И кротких изумрудов сладострастье; И для него, как солнце, горячи Червонных слитков яркие лучи.9
Ему принадлежат материки; Из Индии, Цейлона и Китая Плывут его суда; в его мешки Церера собирает урожаи. Его чуланы, склады, сундуки Богаче королевских. Презирая Все плотские восторги, он один Царит над всем — духовный властелин.10
Быть может, он, потомству в назиданье, Построит школу, церковь, лазарет, Оставив после смерти в новом зданье Унылый бюст иль сумрачный портрет? Быть может, человечества страданья Он утолить задумает? Но нет! Он предпочтет богатство целой нации Держать в руках — и строить махинации.11
Но что бы он ни делал — все равно! Пусть высший принцип — только накопленье! Какому дураку разрешено Назвать безумьем это увлеченье? А почему, скажите, не грешно Кутить, любить, выигрывать сраженья? Спросите-ка наследников, какой Приятней предок — мот или скупой?12
О, как прелестна звонкая монета! О, как милы рулоны золотых! На каждом быть положено портрету Кого-то из властителей земных, — Но ныне бляшка солнечная эта Ценнее праха царственного их. Ведь и с дурацкой рожей господина Любой червонец — лампа Аладдина{815}!13
«Любовь небесна, и она царит{816} В военном стане, и в тени дубравы. И при дворе!» — поэт нам говорит; Но я поспорю с музой величавой: «Дубрава», правда, смыслу не вредит — Она владенье лирики по праву, Но двор и стан военный не должны, Не могут быть «любви» подчинены.14
А золото владеет и дубравой (Когда деревья рубят на дрова!), И тронами царей, и бранной славой — И на любовь известные права Имеет, ибо Мальтус{817} очень здраво Нам это изложил; его слова Нас учат, что супружеское счастье У золота находится во власти!15
Но ведь любовь почти запрещена Без брака? Ибо все мы разумеем, Что якобы сопутствует она Супружеству. Однако мы не смеем Настаивать… Верней — любовь должна (В угоду всем ханжам и фарисеям) Служить венцом супружеских утех; Любовь без брачных уз — позор и грех.16
Но разве «при дворе», «в военном стане» Да и «в тени дубравы», черт возьми, — Все воины, все гранды, все крестьяне Являются женатыми людьми? Не знаю, как оправдываться станет За этот ляпсус Скотт — mon cher ami[121], — Ведь он себя пристойностью прославил; Всегда его в пример мне Джеффри ставил{818}.17
К успеху равнодушен я, ей-ей! В былые годы мне везло немало, А в юности успех всего нужней, И это мне в дальнейшем помогало. Да, я доволен юностью моей: Хороших дней мне много перепало, И, как бы я за них ни заплатил, Я ни умом, ни сердцем не остыл.18
Я знаю: барды многие не раз Взывают, как к неведомому богу, К суду потомства, веруя, что нас Рассудят и поддержат хоть немного. Но лично я — противник громких фраз И не зову потомков на подмогу. Они для нас загадка, мы — для них; Живые склонны думать о живых!19
Мы сами ведь потомство — вы и я; Кого же помним мы и понимаем? Весьма немногих, милые друзья; Мы — на двадцатом имени хромаем! За множество досадного вранья Мы старого Плутарха упрекаем, И Митфорд — современный грекофил — Его ошибки ярко осветил.20
Признаюсь вам, читатель благосклонный, И вам, неблагосклонные пииты, — В двенадцатой главе вполне законно Я к Мальтусу прибегну под защиту И к Уилберфорсу; лучше Веллингтона Спаситель чернокожих знаменитый; Ведь наш-то Веллингтон, по мере сил, И белокожих в рабство обратил!21
А Мальтус сам себя опровергает На практике; я, право, не шучу: Я (как чужое солнце ни сверкает!) Зажгу своей теории свечу. Философ размноженье осуждает: Оно-де бедняку не по плечу; Он, помня о проблеме пропитанья, Обуздывать обязан все желанья.22
Как благородно, тонко и умно, И, боже, что за слово «филогения»{819}! Оно, пожалуй, несколько темно И может вызывать недоумение, Но вслух произносить запрещено Обычное простое выражение, Не то у всех нас, господи прости, Была бы «филогения» в чести,23
Но где я бросил милого Жуана? Он в Лондоне — столице всех услад И всех невзгод людского океана, Где новичку превратности грозят. Хоть наш герой видал чужие страны И был известным опытом богат, Но край, в котором ныне он блистает, Все иноземцы плохо понимают.24
Мы можем очерк дать любой страны, Определяя степень процветания, Температуры лета и весны, Особенности климата, питания. Всего трудней — признаться мы должны — Тебя познать, о Великобритания! Так много львов и зубров всех пород В зверинце этом царственном живет!25
Но полно о политике: начнем Paulo majora[122]. Ловкий мой герой Лавировал с отличным мастерством, Как конькобежцы зимнею порой. Он тонко флиртовал в кругу своем; Красавицам ведь кажется игрой Невинная сия «тантализация»{820} — Не грех им мил, а грешниц репутация.26
Не все дороги наши, скажем прямо, Под снегом целомудрия лежат: Порой и совершит иная дама Какой-нибудь чертовский эскапад, — И, право, на ослицу Валаама{821} С такой тревогой люди не глядят, Испуганно и скорбно восклицая: «О! Кто бы мог подумать, дорогая?!»27
Леила всем понравилась. Она Была тиха, задумчива, послушна И как-то романтически бледна; Восточными глазами равнодушно Она вокруг глядела. Новизна Не трогала ее; ей было скучно… Ее судьба, ее прелестный взор Стал модной темой с некоторых пор.28
Конечно, дамы расходились в мненьях; Я не хочу красавиц обижать, Но споры столь обычное явленье, Что им бывает трудно помешать. Придется мне признаться, к сожаленью, Что дамы любят шумно обсуждать! На этот раз их воодушевила Задача воспитания Леилы.29
Но все сошлись на том, чтоб подыскать Для маленькой Леилы нечто лучшее; Ее наружность будет представлять Опасность для ее благополучия, А Дон-Жуан с собою совладать Лет пять способен в самом лучшем случае, — И потому разумней и верней, Чтоб он уже теперь расстался с ней.30
Тут началось всеобщее волненье И самых лучших дам соревнованье: Кто, делая Жуану одолженье, Турчаночки предпримет воспитанье? Ведь тут необходимо, без сомненья, Наставницы высокое призванье! Шестнадцать мудрых дев и десять вдов Явились одновременно на зов.31
Две дамы разведенные, бесплодные И грустные, как можно угадать, Готовы были девочку безродную Как собственную дочку воспитать — Ей преподать манеры благородные И в должном виде свету показать (Где в первый свой сезон всегда царицы — Хорошенькие юные девицы,32
Особенно имея капитал!). Потрепанные пэры, джентльмены, Которых рок немного пощипал, Мамаши, и сестрицы, и кузены Преследуют желанный идеал (Для многих что блестит, уж то и ценно!), И вальсами и лестью все подряд «Фортуне юной» голову кружат!33
И маменьки и тетки — все посредницы; Я знаю дам восторженных таких, Которые сосватали наследницу Для собственных любовников своих! Скажите, дорогие собеседницы, Tantaene[123]{822} совершенства в душах их? Но жертву-то порой берет досада: Бедняжка и приданому не рада!34
Иная попадается легко, Иная — три десятка забракует, Отказы рассыпая широко; Тогда уж и посредник негодует: «Девица N заходит далеко! Она, мол, недозволенно флиртует! Она улыбкой говорила да, А нынче вслух сказала никогда!35
Наш бедный Фред влюблен и так страдает! Он сам богат — тут не в деньгах вопрос; Она прекрасный случай упускает, И будет день — прольет немало слез… Но… тут маркиза что-то затевает! Наш бедный Фред так много перенес… Но стоит ли она его печали? А кстати — вы письмо ее видали?»36
Но ни мундир, ни титул, ни стихи Капризную невесту не прельщают; Пари напрасно держат женихи И, тратя время, сроки назначают. Зато какие злые языки Несчастного счастливца обсуждают, Когда его за ум, иль рост, иль род Прелестная сильфида изберет!37
Но кто же он? Примеров много разных! Порой унылый юноша-поэт, Поклонник из породы неотвязных; Порой веселый баловень побед, Повеса из насмешливых и праздных; Порой — вдовец почти преклонных, лет… Вы спросите: за что он выбран ею? За что? Ведь все на свете лотерея!38
Признаться вам, и я однажды был Владельцем столь счастливого билета. (Как некогда Полоний говорил: «И вправду жаль, и жаль, что правда это!»{823}) Не знаю, чем я выбор заслужил, Но я согласен с приговором света: Сей выбор был (я говорил не раз!) Чудовищным для одного из нас.39
Простите мне обилье отступлений. Вглядитесь — вывожу я каждый раз Из них немало мудрых наставлений, Как честный пастор, действуя на вас, Как опекун, любитель поучений! (В какие дебри мой забрел Пегас!) И муза, словно старая дуэнья Иль скучный друг, читает наставленья.40
Но нынче я хочу изобразить Все сущее с жестокой прямотою: Вот то, что есть, а не должно бы быть. Поймите, что занятие пустое Морали плугом ниву бороздить, Пороком удобренную. Не скрою — От этой вспашки злые сорняки Упрямо вглубь пускают корешки.41
Но прежде вам напомню, что Леила Была, как утро майское, нежна, Чиста, как снег (я знаю, критик милый, Последняя метафора бедна), И юного Жуана охватило Желанье подыскать опекуна, Точнее — опекуншу строгих правил, Которой бы он девочку оставил.42
Он ясно отдавал себе отчет, Что в педагоги вовсе не годится (Не всякий это честно признает, А честности не вредно поучиться!). Он говорил со многими… и вот Из патронесс, которыми гордится «Сообщество по устраненью зла»{824}, Им леди Пинчбек выбрана была.43
Она была, наверно, молода В былые дни, а нравственна всечасно. (Хотя и говорили иногда… Но не хочу я сплетничать напрасно И повторять не стану, господа, Нелепых обвинений, сей ужасной И гадкой жвачки; пусть двуногий скот Ее в корыто светское плюет!)44
Наверно, согласитесь вы со мной — Поскольку все мы это замечали, — Что дамы те, которые весной Веселым легкомыслием блистали И результат (порой весьма дурной!) Печальных заблуждений испытали, — Оберегут от зла куда скорей, Чем те, кто горд невинностью своей.45
Чужие неизведанные страсти Святоши лишь из зависти клеймят: Не уберечь невинность от напасти, А только уколоть они хотят; Но ветеран любви, науку счастья Познавший, новичка наставить рад И может помешать предупрежденьем Опасным, необдуманным решеньям.46
И дочки тех разумных матерей, Которые сердечные тревоги Познали не из чтенья, а скорей Из практики, на жизненной дороге, — На ярмарке невест куда быстрей Находят сбыт, чем девы-недотроги, Воспитанные маменькой-ханжой, С холодной и бесчувственной душой.47
О леди Пинчбек прежде поговаривали (Как о любой молоденькой красавице); Ее ума, однако, не оспаривали, Ее bons mots[124] могли всегда понравиться. За ней когда-то денди приударивали — Но к старости любой из нас исправится; Отличною женой она слыла И совершала добрые дела.48
Она была надменна с высшим светом. В кругу друзей любезна и мила И молодежи ласковым советом Уже не раз умело помогла. Упоминать не стану я при этом, К кому и где добра она была, Но повторю, что девочка Леила В ней теплое участье пробудила.49
Жуан ей тоже нравился; она Его считала добрым, хоть немного Испорченным; в том не его вина{825}, Нельзя его судить излишне строго: Подумать только, как была трудна Жизнь юноши! И все же, слава богу, Он не погиб и скептиком не стал, Он только удивляться перестал.50
Нас не смущают в молодые годы Превратности судьбы и затрудненья, А зрелый возраст ропщет на невзгоды И даже порицает провиденье; Но кто знавал военные походы, Безумства женщин, кораблекрушенья, Тот и в шестнадцать лет и в шестьдесят Большим житейским опытом богат.51
Жуан доверил леди этой чинной Леилу, избавляясь от хлопот, Чтоб та законов светских список длинный Передавала ей из года в год; Так прежний мэр с весьма достойной миной Преемнику ладью{826} передает, — Ладью назвать бы можно и нежнее: Ну, скажем, — раковиной Цитереи{827}!52
Мне нравится преемственность, ей-ей! Таким путем девицы получают Все совершенства грации своей И все свои таланты умножают. Та — пишет, та — поет как соловей, Та — мудростью знакомых устрашает, Та — музыкой, та — прелестью острот, А та — простой истерикой берет.53
Но все равно, остроты или сцены, Науки, танцы, пенье — что ни взять: Ведь это всё приманки, джентльмены, И женихи не в силах устоять. Но каждый год пленительная смена Весталок появляется опять — Прелестницы без всякой тени брака, Но к браку очень склонные однако.54
Начать поэму мне пора давно — Задача, как ни странно, нелегка; Двенадцать песен написал я, но Все это лишь прелюдия пока. До сути мне добраться мудрено; Я только струны пробовал слегка, Настраивая лиру золотую, — Теперь же к увертюре перейду я.55
Мне все равно — успех или провал: К таким вопросам музы равнодушны Их нравственный волнует идеал, Они веленью высшему послушны. Две дюжины я мысленно считал В поэме глав, но Феб великодушно Ее стоглавой сделать пожелал… Вот только бы Пегас не сплоховал!56
Мой Дон-Жуан, как мы упомянули, В изысканное общество попал. Хоть — микрокосм, встающий на ходули, — Сей высший свет, по сути дела, мал, Но низшие слои его феруле Покорны повсеместно; я видал, Что высшие себя считают светом Свечей, луны и ламп — зимой и летом.57
Жуан имел друзей. И жены их (Равно, как и друзья!) его ласкали, Но в отношеньях дружеских таких Они вреда отнюдь не замечали. На каждый праздник, бал или пикник Его уж непременно приглашали; Ведь высших классов механизм простой Приводится в движенье суетой.58
Кто молод, и богат, и не женат, Тому порой опасно в высшем свете: Ведь общество — игра, как говорят (Игра в «гуська»{828}, хотел бы я заметить), Все только личной выгоды хотят, Все хитроумно расставляют сети, Девицы счастья ищут наугад, А дамы на подмогу им спешат.59
Отнюдь не все девицы поголовно Преследуют добычу, — не всегда! Иная все приемлет хладнокровно, Как тополь и спокойна и горда. Но многие — сирены безусловно: Раз восемь поболтать — уже беда; Предчувствуя последствия фатальные, Заказывайте кольца обручальные!60
То маменька письмо напишет вам, Что дочь ее «в ужасном состоянье», То строгий брат, решителен и прям, Нахмурившись, потребует признанья: «Какая ваша цель?!» — и скажет вам, Что «сердце девы — ваше достоянье». И вы, себя жалея и ее, Решенье принимаете свое.61
Таким путем, я знаю, совершается Немало браков самых знатных лиц. Но есть юнцы, которые решаются Оспаривать претензии девиц; Они усатых братьев не пугаются И, не боясь ни теток, ни сестриц, Живут, конечно, очень одиноко, Но, я слыхал, довольны волей рока.62
Еще одна опасность по ночам Непосвященным часто угрожает; Я осуждать не стану милых дам — Таинственная прелесть окружает Их каждый шаг; порой не знаешь сам, Как грацию с пороком совмещают Амфибии, в которых, говорят, Соседствуют невинность и разврат.63
Кокетка долго нам не говорит Ни «да», ни «нет» — и все мы ждем уныло, Когда же бриз попутный оживит Больных сердец печальное ветрило! Немало нежных бед она творит, Немало сводит Вертеров в могилу, И все-таки, увы, считает свет, Что это «флирт» и тут порока нет.64
Я становлюсь болтлив, о боги, боги!{829} Но вот бывает случай, господа, Когда, сойдя с положенной дороги, Жена разлюбит мужа навсегда. В чужих краях законы к ним не строги, Но в нашей старой Англии — беда! Ее, в порыве праведного гнева, Клеймят сильнее, чем праматерь Еву.65
Какая масса сплетен и газет В стране, где все привыкли возмущаться, Где даже дружба самых юных лет Должна предосудительной считаться, Где трудно от бесчисленных клевет Чувствительному сердцу защищаться, Где речи обвинителей не раз Вульгарным шумом развлекают нас.66
Но только новички и попадаются, А грешницы высокого полета Прелестным лицемерием спасаются От этого сурового учета: В изысканных кругах они вращаются, Являются на танцы, на охоту; Они милы, пленительны, нежны И тактом и умом одарены.67
Жуан и новичком не мог считаться, И от интриг порядочно устал; И страстью он пресытился, признаться, И многое на свете испытал. Он мог теперь любви не поддаваться В стране блестящих плеч и белых скал, Чулков и глазок синих, разговоров, Налогов, сплетен и двойных запоров.68
Не так способны страсти бушевать На родине Жуана романтичной; Там привыкают жизнью рисковать, И атмосфера Англии практичной Ему казалась — нечего скрывать! — Коммерческой и очень педантичной. А наши дамы — бог его прости! — Сперва ему не нравились почти.69
Я говорю сперва, но постепенно И понемногу ясно понял он, Что наши леди лучше, несомненно, Блистательных восточных примадонн. Не потерял он голову мгновенно И не был увлечен и ослеплен, Ведь (все мужчины это замечают!) Нас новизна лишь издали прельщает.70
И я имел заветную мечту Увидеть страны Нигера и Нила И небывалый город Тимбукту, Который география забыла; За эту заповедную черту Европа проникает через силу, Но несомненно, будь я в Тимбукту, Я черную бы славил красоту!71
Я присягать не стану, без сомненья, Что черное на белое похоже, Но белое с известной точки зренья Нам черное напоминает все же. Слепые мне высказывали мненье, Что день и ночь для них одно и то же, И в темноте мерещится одно Сомнительное тусклое пятно.72
Мы с музой в лабиринте заблудились Туманной метафизики: сродни Она лекарствам, коими стремились Врачи лечить чахотку искони. Займемся ж просто физикой: пустились Мы обсуждать красавиц, хоть они Полярное напоминают лето: Немало льда, и очень много света!73
Я мог бы их с русалками сравнить: Красавицы лицом, но рыбы телом; Мешает добродетель им грешить, Но согрешить бы каждая хотела. Как русские, чтоб жар поохладить, В снег прыгают из душной бани смело, Так наши леди, согрешив чуть-чуть, Спешат в сугроб раскаянья нырнуть. [125]74
Но внешность этих леди, несомненно, Тут ни при чем; как я уже сказал, Их мой Жуан, коль молвить откровенно, Хорошенькими даже не считал. Они вползают в сердце постепенно (Из жалости к врагу — я полагал), Они без штурма в город проникают, Но никому его не уступают.75
Они не могут гордо выступать, Как конь арабский или дочь Гранады, Не могут, как француженка, блистать Неповторимой грацией наряда, Они способны мило щебетать, Но мне скучны гремящие рулады: В Италии живу я, где мотивы самые бравурные в чести!76
Да, наши леди многого не знают, Им яркости порой недостает, Которая улыбкой завлекает И черту прямо в лапы отдает. Они не вдруг интригу затевают; Метода эта множество хлопот, И времени, и сил берет, понятно, Но награждает за труды стократно.77
Ho grande passion[126] опасна и вредна Для этих душ, не созданных для страсти; Для девяти десятых и она — Каприз кокетства или самовластья. Пустая гордость женщине дана; Соперницу обидеть — это счастье! Но есть такие, для которых «страсть» — Как урагана пламенная власть.78
И в результате бурного эксцесса Виновные томятся в роли парии, А низости судебного процесса Усугубляют прессы комментарии; Оберегая чести интересы, Их изгоняют, как однажды Мария{830}, — И вот они сидят у скорбных стен, Взирая на сожженный Карфаген!79
Так люди Иисусу подражают, Твердя: «Иди и больше не греши!» Евангелье британцы уважают, И наши нравы очень хороши. В Европе легче женщине прощают, Радея о спасении души, И Добродетель, праведная дева, Ее встречает ласково, без гнева.80
Суровый суд нередко нам вредит; Нередко жертв общественного мненья Не преступленье, в сущности, страшит, А именно огласка преступленья. Едва ли наши нравы укрепит Угрюмого юриста заключенье; Оно лишь озлобляет тех из нас, Кто мог бы и раскаяться подчас.81
Не будучи философом доселе, Не думал о морали мой герой, Притом в толпе красавиц, в самом деле, Он не нашел по вкусу ни одной. Он был слегка blasé[127]: ему успели Испортить сердце праздною игрой; Тщеславия не знал он, слава богу, Но чувства в нем остыли понемногу.82
К тому же он, конечно, посещал Парламента почтенные палаты, На галерее долго восседал И слушал очень бурные дебаты, Он яркие светила созерцал, Которыми Британия богата. (Но, впрочем, главных не было светил: Грей{831} не взошел, а Питт уже почил.)83
На сессии последней видел он Спектакль, и благородный и занятный, — Как в тоге конституции на трон Король восходит с миною приятной. Обычай этот деспотам смешон, Но век свободы скоро, вероятно, Научит их, какая благодать — Доверием народа обладать.84
Жуан видал и принца; в эти годы «Всех принцев принц{832}» в расцвете юных сил Блистал величьем царственной породы, На щеголя совсем не походил; К себе он привлекал сердца народа И благосклонен с подданными был. Он выглядел законченным, отменным От головы до пяток джентльменом.85
Жуан был принят — я уже сказал — В кругах высоких общества. И вот Случилось, как всегда, что он попал В обычный для него круговорот. Он светские таланты проявлял И был замечен сразу. Ну, а тот, Кто многими талантами сверкает, Невольно искушенья навлекает.86
Но где он согрешил, когда и с кем, — Рассказывать я наспех не сумею. Ведь назиданье — лучшая из тем. Читателей своих я одолею И пафосом и грустью, а затем На камне душ людских запечатлею, Как сын Филиппа на горе Афон, Могучий монумент для всех времен. [128]87
И здесь, друзья, как видите, кончается Двенадцатая песнь. Конец любой От каждого начала отличается, И план поэмы как-то сам собой Все ярче, все яснее намечается. Я не гонюсь, читатель, за тобой, Я не прошу ни капли снисхожденья И вовсе не боюсь пренебрежения.88
Не всех врагов громами я разил, Но бури мне описывать не внове. Я в предыдущих песнях предложил Вам и грозу, и бой, и реки крови; В дальнейшем я вам дам обзор светил, А в самой лучшей песни наготове Для вас экономический трактат, Упорных размышлений результат.89
Я знаю, это тема очень модная, Традиций всех расшатана стена{833}. Для патриота дело благородное Указывать, где сломана она. Но я придумал тему превосходную, Которая понравиться должна. А вы экономистов почитайте{834} И, кто из них умнее, — угадайте.Песнь тринадцатая
{835}
1
Пора мне стать серьезным; в наши дни Не следует смеяться над пороком: Ведь шутка снисхождению сродни И может стать греховной ненароком! Лишь скорбь нам помогает искони Достойно петь о строгом и высоком; И величаво стих мой воспарит, Как древняя колонна знаменит.2
Итак, приступим: леди Аделина Амондевилл была весьма знатна, Ее норманский гордый род старинный Большие украшали имена; Пленительно-прекрасной, как картина, Считалась даже в Англии она (А в Англии, как пишут патриоты, Красавицы рождаются без счета!).3
И я не собираюсь возражать, Я принимаю доводы любые; Согласен я, что можно обожать И черные глаза и голубые. Все вкусы я способен уважать, Притом любовь — могучая стихия, И некрасивых женщин вовсе нет Для всех мужчин моложе средних лет.4
Лишь миновав сей возраст беззаботный И перейдя заветную черту, Мы на ущербе радостей охотно Критиковать беремся Красоту. И лень и равнодушье безотчетно В нас усыпляют страстную мечту, И зеркала советуют нам тоже Оставить место тем, кто помоложе.5
Иной еще пытается продлить Цветенья ограниченную эру — Но после равноденствия не скрыть, Что счастье превращается в химеру; Слабеющие силы оживить Способны только добрая мадера, Дискуссии, собранья, вечера, Парламент, и долги, et cetera.6
Религия, налоги и реформы, Война и мир, большое слово «Нация», Попытка управлять во время шторма И фокусы земельной спекуляции, Вражды взаимной твердая платформа Сменяют все любви галлюцинации; Мы часто любим наспех, но вражда Способна длиться многие года.7
Угрюмый Джонсон, моралист суровый, Сказал: «Люблю я честную вражду!» И лучше этой истины не новой Я ничего, пожалуй, не найду. Я просто зритель, ко всему готовый, С людьми и с миром, кажется, в ладу; Ни хижин, ни дворцов не порицая, Как Мефистофель, только созерцаю.8
Я прежде ненавидел и любил, Теперь умею только издеваться, — И то, когда молчать не станет сил И складно рифмы звонкие ложатся. Я рад бы, как не раз уж говорил, С неправдою и злобою сражаться, Но эти все попытки — ерунда; Читайте «Дон-Кихота», господа!9
Всего грустнее в грустной сей истории, Что мы смеемся, — а герой ведь прав, Провозглашая славные теории Борьбы с насильем и защиты прав. Но мир его относит к категории Безумцев, ничего не разобрав; Весьма печальный вывод получился Для тех, кто размышлять не разучился.10
Святая месть, преследованье зла, Защита слабых, сирых, оскорбленных, Неукротимой доблести дела, Туземцев избавленье угнетенных — Ужель насмешка дерзкая могла Коснуться этих истин просветленных? Где идеала нравственный оплот? Тогда Сократ ведь тоже Дон-Кихот!11
Насмешкою Сервантес погубил Дух рыцарства в Испании; не стало Ни подвигов, ни фей, ни тайных сил, Которыми романтика блистала; Исчез геройский дух, геройский пыл — Так страшно эта книга повлияла На весь народ. Столь дорогой ценой Достался «Дон-Кихот» стране родной!12
Но заболтался я о сем предмете И леди Аделине изменил. Жуан мой не встречал еще на свете Столь роковой красавицы и был Взволнован. Рок и страсть нам ставят сети, Мы валим все на них. Не разрешил Я эту тайну, хоть и бьюсь упорно. Я — не Эдип{836}, а жизнь-то — Сфинкс, бесспорно.13
Но «Davus sum»[129]{837} — о ближних не сужу И на Эдипа роль не претендую; Я просто по порядку расскажу Все в точности про пару молодую. Миледи в свете я изображу, Как роя пчел царицу золотую, Мужчин восторги и молчанье дам Я, как умею, точно передам.14
Она была чиста, назло злословью, И замужем за мужем именитым И государственным. По хладнокровью Амондевилл был настоящим бриттом; Гордился он жены своей любовью, Да и самим собой — надменным, сытым; И потому он был уверен в ней, Она же — в добродетели своей.15
В кругах дипломатических встречался С Жуаном часто лорд Амондевилл; Он холодно и чопорно держался, Но и его герой мой поразил: Талантами от всех он отличался И гордо голову свою носил; А это уваженье вызывало — А с уваженьем дружба возникала.16
Лорд Генри был немного суховат От гордости и сдержанного нрава; Судить о том, кто прав, кто виноват, Он приобрел неписаное право; Самоуверен, знатен и богат, Он в обществе держался величаво И благосклонно жаловал друзей Презрением и милостью своей.17
Однако эта милость и презренье Имели незначительный изъян — Они не подлежали измененью, Как все законы персов и мидян{838}. Но эти предрассудки, без сомненья, Имели некий смысл и даже план И не являлись прихотью припадка, Ведущего все чувства к беспорядку.18
Не в силах мы судьбой повелевать, Но есть один закон, который вечен: Умей следить, рассчитывать и ждать — И твой успех навеки обеспечен! Умей давленью силы уступать — И в жизни ты не будешь искалечен. Пусть совесть будет гибкой, как атлет, В рассчитанных движеньях — весь секрет.19
Лорд Генри к превосходству был пристрастен, Но эта страсть в любом из нас живет: Ничтожному ничтожнейший подвластен, И в этом равновесия оплот. Надменный в одиночестве несчастен, Нас бремя праздной гордости гнетет, И мы спешим избавиться от груза, На ближних навалив свою обузу.20
Милорду Дон-Жуан не уступал Ни в гордости, ни в знатности, ни в сане. Конечно, втайне Генри полагал, Что выше всех народов англичане, Поскольку их правленье — идеал Свободы слова, веры и собраний… К дебатам долгим сам он склонен был И целыми часами говорил.21
Имел он слабость искренне считать, Что он к тому ж хитер необычайно И обладает даром проникать Во все дипломатические тайны. Любил он также младших поучать И мимоходом, будто бы случайно, Как экс-министр выпячивая грудь, Свое значенье в свете подчеркнуть.22
Испанец молодой ему понравился Надменной, но изысканной учтивостью, С которой он сановникам представился, И тем, как он держался с ловкой льстивостью. Не всякий добродетелью прославился; Иной грешит горячностью и живостью. Но что такое в юности грешки? Лишь плодородной почвы сорняки.23
Он говорил с Жуаном об Испании, О турках и о нравах прочих стран, Где каждый — раб чужого приказания, О скачках — давней страсти англичан, И жеребцов рысистых воспитании. Был истым андалузцем мой Жуан, И кони слушались его любые, Как венценосных деспотов — Россия.24
Лорд Генри с ним встречался на балах, На раутах в посольствах, за бостоном (Жуан был принят в избранных кругах, Как в братство тот, что сделался масоном); Поскольку в лучших лондонских домах Блистал он благородством прирожденным, Гостеприимный лорд Амондевилл Его в свой дом роскошный пригласил.25
У сквера Икс имел он особняк… Я улиц никаких не называю, Чтоб не сказал какой-нибудь чудак, Как будто я открыто намекаю На чью-нибудь интригу или брак; Заранее я громко заявляю: «У сквера Икс имел он особняк!» Уж тут намека не найти никак!26
Я думаю, что есть у нас резоны Не вспоминать о точных адресах. Ведь, в самом деле, не было сезона Без приключений в сих особняках; «Сердцетрясений» грозные законы И бури сплетен нагоняют страх И научают каждого стараться От точности большой остерегаться.27
Я знаю — pecadillos[130] вовсе нет На улице почтенной Пикадилли, Но глупый или умный этикет Мешает мне писать в шутливом стиле О чинной этой улице — запрет Ее окутал дымкою идиллий; Притом, признаться, позабыл уж я План Лондона, любезные друзья.28
Итак, в особняке Амондевилла, У сквера Икс, как я уже сказал, Мой Дон-Жуан был принят очень мило И много лиц приятных повстречал. Кому богатство придавало силы, Кто саном, кто талантами блистал, А кто — искусством модно одеваться (Что поважнее прочих, может статься).29
Сказал однажды мудрый Соломон: «Чем больше мнений, тем верней решенье!» Разумный сей совет или закон Находит ежедневно подтвержденье. В парламенте имеет силу он: Ведь коллективный Разум, без сомненья, Для Англии великой создает Расцвета и могущества оплот.30
Итак, мужской карьере помогает Обширный круг друзей, а слабый пол Обилием знакомств оберегает Себя от искушений; я нашел, Что лиц мельканье выбор затрудняет И сильно умеряет ореол Поклонников; мне совершенно ясно — Толпа красивых франтов безопасна!31
Но в хитростях подобных никогда Миледи Аделина не нуждалась: Она была спокойна без труда, Со всеми очень вежливо держалась; Внимательна и ласково-горда, Миледи никогда не увлекалась Кокетством; хор восторженных похвал Ее и без кокетства окружал.32
Ей с детских лет привило воспитанье Искусство быть любезной и простой И льстить друзьям оттенками вниманья, Не делая ошибки никакой; Ее прекрасной светскости сиянье Всех озаряло нежной теплотой — И тех, кто был, и тех, кто слыл достойным, Тщеславием терзаясь беспокойным.33
А впрочем, посмотрите-ка на них — На этих величавых, именитых Марионеток почестей пустых; Всегда волнует что-то и томит их, Мечта удачи обольщает их, Опасность непризнания страшит их, Закатный нимб их лавровых венков Непрочен, как сиянье облаков.34
Патрицианства лаком благородным Была покрыта внешность Аделины; Спокойно в этом зеркале холодном Сменялись жизни пестрые картины. Так, верные обычаям народным, Не смеют восхищаться мандарины; Как видно, наш английский высший свет Заимствует в Китае этикет.35
Гораций нас учил не удивляться: Nil admirari[131]— вот наука счастья, Которою пытались заниматься Безрезультатно многие. Отчасти Разумно равнодушным оставаться; Приводят к бедам пламенные страсти. По мненью света, тот, кто обуян Энтузиазмом, — тот морально пьян.36
Но не была миледи безучастной; Так под снегами тающего лавою Кипит вулкан et cetera — ужасны Метафоры избитые и ржавые! Оставим же скорей вулкан злосчастный; Поэты беспощадною оравою Сумели так его разворошить, Что начал дым его нас всех душить.37
Другое мне сравненье в ум приходит. Вот если заморожена бутылка Шампанского и в центре колобродит Остаток влаги пенистой и пылкой, — Все пламя жизни от него исходит, Играя в нем, как солнечная жилка, Вся страсть и сила жаркого вина В сей капле золотой заключена;38
Как эта квинтэссенция таится Под коркою искусственного льда, Так может скрытый нектар находиться В характере холодном иногда. На этом я спешу остановиться; Мы утверждали с музою всегда, Что лучшие сокровища порою Под ледяной скрываются корою.39
Нередко моряки, пускаясь в путь К палящей Индии, стране мечтаний, Должны холодный полюс обогнуть И вынести немало испытаний; Вослед за бравым Парри{839} кто-нибудь Достигнет цели этих изысканий, А может быть — непроходимый лед Его корабль у полюса затрет.40
Пусть новички бросаются открыто В пучину женской хитрости — но нам Пора искать у пристани защиту, Держась поближе к мирным берегам. Подагру и наследников сердито Кляня, мы помогаем старикам Спрягать, уже почти без интереса, «Fuimus»[132] — время прошлое от «esse»[133].41
К воинственным забавам иногда Бывает небо склонно, к сожаленью, А все же этот мир приятен. Да, Я это говорю не в утешенье. Читал я Зороастра{840}, господа, О двух началах Сущего ученье — Но и оно запутано. Увы! Все верованья мира таковы.42
Зима к июлю в Англии кончается, А с августа уж снова тут как тут: Зато в июле все преображается, И лошадям покою не дают. В деревню на каникулы являются Те, кто зимою в городе живут, И их папаши проверяют строго: Мол, знаний мало, а долгов-то много!43
Английская зима, как я сказал, Кончается в июле, а порою Немного позже. Всякий испытал Наш климат отвратительный зимою. Но, как ни нападает радикал На бедный наш парламент, я не скрою — Он наш барометр, и в любой сезон Погоду нам показывает он.44
Его усердье с наступленьем лета Спускается к нулю, легко, как ртуть; Коляски, кебы, фуры и кареты Из города стремятся улизнуть; А толпы кредиторов, видя это, Вздыхая говорят: «Счастливый путь!» Что делать торгашам, хоть злись, хоть плачь они: Огромны их счета, но не оплачены.45
Отложена оплата, говорят, «До сессии осенней», а точнее — До греческих календ{841}. Они молчат, Противиться судьбе своей не смея, Но всё надежду смутную таят Когда-нибудь, немного попозднее, В награду за терпенье, может быть, Хоть долгосрочный вексель раздобыть.46
Но это пустяки. Скорей! Скорей! Милорды платят щедрые прогоны, Кареты их меняют лошадей Быстрей, чем сердца пыл молодожены, Крестьяне их встречают у дверей, Форейторов несутся легионы, И, как колеса дегтем, души их Подмазаны обильем чаевых.47
На козлах возвышается великий Лакей — дворян дворовый дворянин, И камеристка — цветик бледноликий, Чьей хитрости не видит ни один Поэт. «Cosi viaggino i Ricchi!»[134] (Я часто без достаточных причин Чужие языки употребляю, Чтоб доказать, что я их точно знаю!)48
Досадно в потном городе терять Английское коротенькое лето, Когда сама Природа, так сказать, К лицу и очень празднично одета. Как можно «заседать» и «обсуждать», Когда лужайки зеленеют где-то? Когда чудесно соловей поет, Как может жить в столице патриот?49
Итак, пока покинули столицу Все сорок сотен избранных. Они Хотят в своих поместьях насладиться До некоторой степени одни. (Штук тридцать слуг — почтенные всё лица — И столько же соседей и родни, Увеселенья, игры, угощенья — Вот общий вид сего уединенья!)50
У единились в замок родовой Амондевилл и леди Аделина. (Наверное, лет тысячу с лихвой Видала эта гордая руина. Ее дубов отряд сторожевой Имел довольно веские причины Гордиться родословной тех могил, Которые он тенью осенил.)51
Мы любим знать подробности о тех, До чьих страстей и дел нам дела нету; О жизни нашей знати без помех Мы узнаем — ведь есть на то газеты. И «Морнинг пост», конечно, прежде всех Провозгласил, что «отбыли на лето В такой-то час, такого-то числа Лорд Г. Амондевилл и леди А.52
В свое великолепное именье, Как нам известно, лорд Амондевилл Для летнего времяпрепровожденья Блестящий круг знакомых пригласил. Источник, не внушающий сомненья, Недавно нам любезно сообщил, Что будет в этой избранной компании Посланник русский, родом из Испании».53
Как видите, не скроешь ничего От каверзных статеек «Морнинг поста», И русского испанца моего От них упрятать было бы не просто. Сам Поп давно прославил мастерство Обедать, смело возглашая тосты{842}. В последнюю войну я все читал О тех, кто ел, но не о тех, кто пал54
В бою. Не раз бывали сообщенья, Что были на обед приглашены Лорд А., лорд Б., затем — перечисленья Их титулов и длинные чины; И тут же рядом вести о сраженье — Суровая статистика войны: «В бою погибли (вновь перечисленья)… Вакансии открыты к замещенью».55
{843}
Но ближе к делу. Лорд Амондевилл Отправился в фамильное аббатство, В котором архитектор проявил Готической фантазии богатство: Старинный монастырь построен был Трудами католического братства И был, как все аббатства тех времен, Большим холмом от ветра защищен,56
Пред ним цвела счастливая долина, Друидов дуб зеленый холм венчал, Как смелый Карактакус{844}, он вершину От громовой стрелы оборонял. Порою эту скромную картину Олень ветвисторогий оживлял, Когда он стадо вел испить водицы К потоку, щебетавшему как птицы.57
Питаемое медленной рекой, Внизу лежало озеро большое, Как неба безмятежного покой, Прозрачное и чисто-голубое. К нему спускались шумною толпой Густые рощи, шелестя листвою, И в камышах, у мирных берегов, Гнездились утки, выводя птенцов.58
А дальше — речка прыгала с обрыва, Густую пену кольцами крутя, Потом бежала тихо, но игриво, Как резвое, веселое дитя. Ее излучин светлые извивы, То прячась в тень, то весело блестя, Казались то прозрачно-голубыми, То синими, как небеса над ними.59
Но монастырь был сильно поврежден: От гордого старинного строенья, Свидетеля готических времен, Остались только стены, к сожаленью, Густым плющом увит и оплетен, Сей мрачный свод, как темное виденье, Напоминал о бурях прошлых дней Непримиримой строгостью своей.60
В глубокой нише были, по преданью, Двенадцать католических святых, Но в грозную эпоху состязанья Кромвеля с Карлом выломали их. Погибло в те года без покаянья Немало кавалеров{845} молодых За короля, что, не умея править, Свой трон упорно не желал оставить.61
Но, случая игрою спасена, Мария-дева с сыном в темной нише Стояла, величава и скромна, Всех разрушений, всех раздоров выше, И вещего покоя тишина Казалась там таинственней и тише; Реликвии святыни каждый раз Рождают в нас молитвенный экстаз.62
Огромное разбитое окно, Как черная пробоина, зияло; Когда-то всеми красками оно, Как оперенье ангелов, сияло От разноцветных стекол. Но давно Его былая слава миновала; Лишь ветер да сова крылами бьет Его тяжелый темный переплет.63
Но в голубом тумане ночи лунной, Когда глядит и дышит тишина, Какой-то стон, какой-то отзвук струнный Рождает эта хмурая стена; Как ропот отдаленного буруна, Как воздуха нездешнего волна, Как эхо величавого хорала, Она звучит печально и устало.64
Иные говорят, что этот стон, Как некий дух, возник из разрушенья. Так на рассвете каменный Мемнон{846} Звучит навстречу солнца появленью В Египте. Над стеной витает он, Печальный и прозрачный, как виденье. Мне довелось не раз его слыхать. Но я его не в силах разгадать.65
Фонтан, из серых глыб сооруженный, Был масками украшен всех сортов. Какие-то святые и драконы Выбрасывали воду изо ртов, И струи пенились неугомонно, Дробясь на сотни мелких пузырьков, Которые бесследно исчезали, Как радости земные и печали.66
Монастыря старинного следы Хранило это древнее строенье: Там были келий строгие ряды, Часовня — всей округи украшенье; Но в годы фанатической вражды Здесь были перестройки, измененья По прихоти баронов. Уж давно Подверглось реставрации оно.67
{847}
Роскошное убранство анфилад, Картинных галерей, большого зала Смешеньем стилей ослепляло взгляд И знатоков немного возмущало; Как прихотливый сказочный наряд, Оно сердца наивные прельщало. Когда величье поражает нас, Правдоподобья уж не ищет глаз.68
Стальных баронов весело сменяли Ряды вельмож атласно-золотых, И леди Мэри чопорно взирали На светлокудрых правнучек своих, А дальше томной грацией блистали В уборах прихотливо-дорогих Красавицы, которых Питер Лили{848} Изобразил в довольно легком стиле.69
Там были судьи с пасмурным челом, В богатстве горностаевых уборов, Карающие словом, и жезлом, И холодом неумолимых взоров; Там хмурились в багете золотом Сановники с осанкой прокуроров, Палаты Звездной{849} сумрачный конклав, Не признающий вольностей и прав.70
Там были генералы тех веков, Когда свинца железо не боялось; Там пышностью высоких париков Мальбрука поколенье красовалось; Щиты, ключи, жезлы, ряды штыков Сверкали там, и скакуны, казалось, Военной возбужденные трубой, Скребя копытом, порывались в бой.71
Но не одни фамильные титаны Своей красою утомляли взоры: Там были Карло Дольчи, Тицианы,{850} И дикие виденья Сальваторе, Танцующие мальчики Альбано, Вернэ голубоватые просторы, Там пытки Спаньолетто, как во сне, Пестрели на кровавом полотне.72
Там раскрывался сладостный Лоррен И тьма Рембрандта спорила со светом, Там Караваджо мрак угрюмых стен Костлявым украшал анахоретом, Там Тенирс, краснощекий, как Силен, Веселым сердце радовал сюжетом, Любого приглашая пить до дна Желанный кубок рейнского вина.73
Читатель, если ты читать умеешь (Хотя бы и не только по складам), Ты называться все-таки не смеешь Читателем, — ведь замечал я сам, Что склонность ты порочную имеешь Читать с конца! Тебе совет я дам: Уж если ты с конца затеял чтенье, Начало прочитать имей терпенье.74
Я мелочи такие описал, Читателя считая терпеливым, Чтоб Феб меня, пожалуй, посчитал Оценщиком весьма красноречивым. (Гомер такой же слабостью страдал; Поэту подобает быть болтливым, — Но я, щадя свой век по мере сил, Хоть мебель из поэмы исключил!)75
Настала осень бледно-золотая, Обетованных радостей пора, Охотники, усталости не зная, В полях пустынных носятся с утра, Пернатой дичью сумки наполняя; Шумит охоты вольная игра! Беда тетеревам, беда фазанам И браконьерством занятым крестьянам!76
Отягощенных виноградных лоз Совсем не знает осень Альбиона; Пусть блещут эти гроздья ярче роз Под солнцем голубого небосклона, Зато у нас на вина лучший спрос; К мадере все британцы благосклонны, — Ведь, в сущности, хороший винный склад Получше виноградника в сто крат.77
Нам неизвестна прелесть увяданья, Которая на юге придает Осенним дням весеннее сиянье, — У нас зима сурово настает! Лишь камелька приятное пыланье Нам радости уюта создает. Но наша осень — все согласны с нами — Прекрасна золотистыми тонами.78
Прекрасен звук рогов и лай борзых, Отменно хороша villeggiatura[135], Монах бы мог забыть своих святых, Немврод{851} бы мог покинуть степи Дура Для первоклассных радостей таких. Люблю я дичь! Не оскорбив цензуры, Могу сказать, что «дичь» встречаю я В любом высоком обществе, друзья!79
Все львицы, все таланты, все светила К Амондевиллу в гости собрались: Мисс Бом-Азей О’Шлейф и леди Рылло,{852} Графиня Фиц-Фалк и княгиня Крысс, Мисс Мак-Корсет, мисс Блеск и мисс Унылла, Жена банкира миссис Мак-Ханжис И миссис Сон, с улыбкою овечки Ронявшая ехидные словечки.80
Графини N, конечно, были там, Блиставшие отменной чистотою Фильтрованной воды. Но их чертам Не повредило время прожитое. О прошлом не узнать по паспортам, И золотого свойство золотое Не портится; терпим наш высший свет К тому, кто соблюдает этикет.81
Но это все до некоторой точки; Нас учит пунктуации закон, Что знаки препинанья — те же кочки, Что неприятен ведьмам всех времен Лишь окрик «стой!», а под покровом ночки Есть у любой Медеи свой Ясон. Гораций сообщает нам и Пульчи: «Omne tulit punctum, quae miscuit utile dulci»[136]{853}.82
Невинность часто трудно доказать, Дурная слава вроде лотереи: Честнейших жен способно доконать Злословие насмешкою своею, Меж тем как дамы «с прошлым», так сказать, Являются, нимало не робея, Как Сириус на светский небосвод, Едва-едва страдая от острот.83
Но я вернусь к гостям Амондевилла. Их было тридцать три. Как я сказал — Высокой касты лучшие светила, Брамины мод и вкусов идеал! Не по чинам их муза разместила, А по капризу рифмы. Я видал В блестящем их кругу абсентеистов{854}, Чей нрав ирландский пылок и неистов.84
Там был и сэр Болл-Тун, большой смутьян, Прославленный драчливостью словесной, И юный бард столичный, граф Оман, В салонах блещущий звездой небесной; Там был веселых оргий капитан Сэр Джон Пьювиски, пьяница известный; Там лорд Пиррон{855}, философ-радикал, Возвышенные мысли изрекал.85
Там граф Тирэ, большой аристократ, Показывал прекрасные манеры, Надменный щеголь с головы до пят; Там были благороднейшие пэры, Почти из средневековых баллад; Там прелести чувствительной примеры Являли шесть сестричек — мисс Баллетт, Мечтавшие о свадьбе с детских лет.86
Там были благородные вельможи С не слишком благородным поведеньем, Маркиз де Рюз{856} там оказался тоже, Чарующий парижским обхожденьем. Краса и гордость светской молодежи, В любой игре одним простым движеньем Умел он, тонко проявляя власть, К себе приворожить любую масть.87
Там был и метафизик вдохновенный, Любивший и науку и банкеты, Там был и Пустослов достопочтенный{857}, И завсегдатай скачек и балета Сэр Генри Приз — большой любитель сцены; Там были математики, поэты, Там был и Август, лорд Плантагенет — Держать пари любитель и эстет.88
Там был гвардеец бравый Джек Жаргон, Там был, в боях награды заслуживший, Великий тактик генерал Мордон{858}, Десятки янки на словах сгубивший; Там был судья и бравый солдафон, Сэр Джеффри Грубб, язвительно шутивший, Умевший прибаутки отпускать И приговор остротами смягчать.89
Все общество на шахматы похоже: В нем есть и короли и королевы, Слоны и пешки, есть и кони тоже. Ведь жизнь всегда игра. Однако все вы Вольны в своих поступках. Ну так что же? Тем больше здравых поводов для гнева… Но муза легкокрылая моя Не любит жалить, милые друзья!90
Тут был оратор; на последней сессии Он с первой речью важно выступал: От робости теряя равновесие, Обширные проблемы освещал. Потом прочел во всей английской прессе я Его дебюту множество похвал: Твердили все газеты в исступлении, Что гениально это выступление!«Дон-Жуан»
91
Оратор этот был ужасно горд И лавры предвкушал самовлюбленно; Он был неглуп, в цитатах очень тверд И наслаждался славой Цицерона. К Амондевиллу в гости этот лорд Был приглашен к открытию сезона, И «гордостью отчизны» лести глас Его провозглашал уже не раз.92
Тут были два талантливых юриста, Ирландец и шотландец по рожденью, — Весьма учены и весьма речисты. Сын Твида{859} был Катон по обхожденью; Сын Эрина — с душой идеалиста: Как смелый конь, в порыве вдохновенья Взвивался на дыбы и что-то «нес», Когда вставал картофельный вопрос{860}.93
Шотландец рассуждал умно и чинно; Ирландец был мечтателен и дик: Возвышенно, причудливо, картинно Звучал его восторженный язык. Шотландец был похож на клавесины; Ирландец, как порывистый родник, Звенел, всегда тревожный и прекрасный, Эоловою арфой сладкогласной.94
К Амондевиллу съехались они — Эстеты, и политики, и пэры. Конечно, жизнь комедии сродни — Смешны поступки, лица и манеры, Но шутка увядает в наши дни; Ни Конгриву, ни дерзкому Мольеру Не оживить насмешкой прошлых лет Прилизанный и чинный высший свет.95
Смешные чудаки остепенились И как-то отошли на задний план, Профессию теряя, изменились И хитрый шут, и ловкий шарлатан. Ей-богу, все глупцы переродились, Какой-то появился в них изъян. Мы стали стадом, каждый это знает: Толпа скучна, а меньшинство скучает.96
Как рожь, я прежде Истину растил, Теперь колосьев жалких мне довольно; Коль ты намек, читатель, уловил, Я буду — Руфь{861}, ты — Бооз сердобольный. Но я напрасно Библию открыл, — Мне детство вспоминается невольно; Я верю миссис Адамс[137]{862} больше всех: «Упоминать Писанье всуе грех!»97
В наш жалкий век мякины, сколь возможно, Мы пожинать стремимся что-нибудь; Так остряки стремятся осторожно Свое словечко вовремя ввернуть. Один хитрец придумал способ сложный, Как вовремя находчиво блеснуть: Цитаты он уж с вечера готовил И по программе ловко острословил.98
Но остроумец должен подводить К удобной точке тему разговора: Он должен слово хитрое пустить, Как ловкий псарь — обученную свору, Он должен случай вовремя схватить, Он должен смело, выгодно и скоро Соперника смутить или убрать, Чтоб выгодных позиций не терять.99
Хозяева — лорд Генри и миледи — Гостей своих умели угостить; И призраки для столь роскошной снеди Могли бы воды Стикса переплыть! Мечту о восхитительном обеде Голодным смертным трудно подавить; С тех пор как Ева яблоко вкусила, Владеет всеми нами эта сила.100
Так злачный край медово-млечных рек Сулил господь голодным иудеям; А ныне любит деньги человек; Мы устаем, слабеем и стареем, Но золото мы любим дольше всех: С любовницами, с другом и лакеем Проститься легче нам, чем потерять Тебя, платежной силы благодать!101
Итак, охотой занялись мужчины. Охота в юном возрасте — экстаз, А позже — средство верное от сплина, Безделье облегчавшее не раз. Французское «ennui»[138] не без причины Так привилось в Британии у нас; Во Франции нашло себе названье Зевоты нашей скучное страданье.102
А те, кому минуло шестьдесят, Газеты в библиотеке читали, Оранжереи, дом, старинный сад, Портреты, статуи критиковали. И, устремив глаза на циферблат, Шести часов устало ожидали. В деревне, как известно, ровно в шесть Дают обед тому, кто хочет есть.103
Никто ни в чем не ощущал стесненья; Вставали каждый кто когда желал, И каждому, по мере пробужденья, Лакей горячий завтрак подавал. Иной предпочитал уединенье, Иной в приятном обществе гулял, И лишь веселый колокол обеда Всех собирал на общую беседу.104
Иные леди красились чуть-чуть, Иные с бледным ликом появлялись; Способные изяществом блеснуть На лошадях в окрестностях катались; В ненастный день читали что-нибудь, Иль сплетнями о ближних занимались, Иль сочиняли в пламенных мечтах Посланья на двенадцати листах.105
И другу сердца и подругам детства Охотно пишут женщины, — и я Люблю их писем тонкое кокетство, Люблю их почерк, милые друзья! Как Одиссей, они любое средство Пускают в ход, коварство затая; Они хитрят изысканно и сложно; Им отвечать старайтесь осторожно!106
Бильярд и карты заполняли дни Дождливые. Игры азартной в кости Под кровом лорда Генри искони Не знали ни хозяева, ни гости! А то порой в безветрие они Удили рыбу, сидя на помосте. (Ах, если б Уолтон{863}[139], злобный старичок, Форелью сам был пойман на крючок!)107
По вечерам с приятным разговором Соединялись вина. Мисс Баллетт — Четыре старших — томно пели хором, А младшие, еще незрелых лет, С румянцем на щеках и с нежным взором На арфах элегический дуэт Играли, обольстительно вздыхая И ручками лебяжьими сверкая.108
Порою танцы затевались там, Когда не уставали свыше меры Охотники от скачки по лугам… Тогда изящной грации примеры Являли туалеты милых дам И ловкостью блистали кавалеры. Но ровно в десять, должен вам сказать, Все гости чинно уходили спать.109
Политики, собравшись в уголку, Проблемы обсуждали мировые, И остроумцы были начеку, Чтоб в нужный миг, как стрелы громовые, Свои bons mots вонзить на всем скаку В чужую речь; но случаи такие Бывают, что теряет аромат Bon mot, коль собеседник туповат.110
Их жизни равномерное теченье Сверкало чистым блеском форм холодных, Как Фидия{864} бессмертные творенья. Мы Уэстернов лишились благородных, И Фильдингова Софья, без сомненья, Была наивней леди наших модных, Том Джонс{865} был груб — зато теперь у нас Все вышколены, словно напоказ.111
К рассвету день кончается в столицах, А в деревнях привыкли много спать: И дамы, и прелестные девицы Чуть смерилось — забираются в кровать, Зато цветут их свеженькие лица Бутонам роз полуденных под стать. Красавицам ложиться нужно рано, Чтоб меньше денег тратить на румяна.Песнь четыpнадцатая
{866}
1
Когда бы мироздания пучина Открыла нам великие законы, Путь к истине нашли бы мы единый, Отвергнув метафизики препоны. Друг друга поедают все доктрины, Как сыновей Сатурн{867} во время оно, — Хотя ему супруга иногда Подсовывала камни без труда.2
Доктрины тем отличны от титана, Что старшее съедают поколенье; Сие рождает споры постоянно И разума вредит пищеваренью. Философы нас учат, как ни странно, Свидетельству простого ощущенья Не доверять: хотя чего верней Порука плоти собственной моей!3
Что до меня — я ничего не знаю И ничего не буду утверждать И отвергать; мы все живем, считая, Что рождены мы с тем, чтоб умирать. Придет, быть может, эра золотая, Бессмертья и покоя благодать. Нам смерть страшна, но сну без колебанья Мы уступаем треть существованья.4
Блаженство услаждающего сна Дает нам от трудов отдохновенье, Но вечного покоя тишина Пугает всех живых без исключенья; Самоубийце — и тому страшна В последнее жестокое мгновенье Не жизнь, с которой он кончает счет, А бездна смерти, что его влечет.5
Из ужаса рождается дерзанье, Когда несчастного со всех сторон Теснят невыносимые страданья, Когда он до предела доведен. Так возникают дикие желанья У путника, когда посмотрит он С откоса в пропасть на тропинке горной, Влеченью безотчетному покорный!6
Конечно, хладным ужасом объят, Отступит он от грозного обрыва; Но почему в душе его горят Такие непонятные порывы? Нас тайны неизвестности манят, Ужасного тревожные призывы; Нас тянет глубина — куда? зачем? Доселе не разгадано никем.7
Вы скажете — к чему сия тирада, Досужий плод досужих размышлений? Люблю я поболтать, признаться надо, И даже не чуждаюсь отступлений. Мне самая высокая награда — Порассуждать в минуты вдохновений О том, о сем и даже ни о чем: Ведь мне любая тема нипочем!8
«По стебельку, — сказал великий Бэкон, — Мы направленье ветра узнаем!»{868} Поэт, поскольку страстный человек он, Колеблет мысли творческим огнем Былинки слов. Ныряет целый век он, Как змей бумажный в небе голубом. А для чего, вы спросите, — для славы? Нет! Просто для ребяческой забавы.9
Огромный мир за мной и предо мной, И пройдено немалое пространство; Я знал и пылкой молодости зной, И ветреных страстей непостоянство. Неразделим со славою земной Глас отрицанья, зависти и чванства. Когда-то славой тешился и я, Да муза неуживчива моя.10
Поссорился я с тем и с этим светом И, стало быть, попам не угодил: Их обличенья, грозные запреты Мой вольный стих навлек и заслужил. В неделю раз бываю я поэтом — Тогда строчу стихи по мере сил; Но прежде я писал от страстной муки — Теперь писать приходится от скуки.11
Так для чего же книги издавать, Когда не веришь славе и доходу? А для чего, скажите мне, читать, Играть, гулять, придерживаться моды? Нам это позволяет забывать Тревоги и ничтожные невзгоды: Я что ни напишу, тотчас же рад Пустить по воле ветра наугад.12
Когда б я был уверен в одобренье, Ни строчки новой я б не сочинил; Да, несмотря на битвы и лишенья, Я милым Девяти{869} не изменил! Такое состоянье, без сомненья, Любой игрок отлично б оценил; Успех и неудача, всякий знает, В нас равное волненье вызывают.13
Притом не любит выдумок пустых Взыскательная муза — и не диво, Что говорить о действиях людских Она всегда старается правдиво И славу оставляет для других, Давно привычных к лжи красноречивой; Излишнюю правдивость с давних пор Поэтам ставить принято в укор.14
Отличных тем на свете очень много — Любовь, гроза, война, вершины гор! Ошибки, обсуждаемые строго, И общества критический обзор — Вот истинно широкая дорога, Для чувства и для разума простор. Знай сочиняй! Октавы, может статься, Хотя бы на оклейку пригодятся.15
Я говорить хочу на этот раз О той весьма приятной части света, Где все на первый взгляд прельщает нас — Брильянты, горностаи и банкеты; Но это «все» — обман ушей и глаз, На деле ж в этом храме этикета, В однообразной, скучной пустоте, Простора нет ни мысли, ни мечте.16
Нет живости в их праздном оживленье, Остроты их весьма неглубоки, Ничтожны их проступки, преступленья, Покрыты лаком мелкие грешки, Неискренни их страсти и волненья, И даже их страданья — пустяки; Их внешние и внутренние свойства Весьма однообразного устройства.17
Они уподобляются порой Солдатам после пышного парада, Которые ломают четкий строй, Пресытясь пестрым блеском маскарада. Конечно, можно тешиться игрой, Но зов приличий забывать не надо, — И вновь они проводят дни свои В раю забав и праздного «ennui».18
Когда мы отлюбили, отыграли, Отслушали сенаторские речи, Отнаряжались, отголосовали, Отпраздновали проводы и встречи, Когда для нас на балах отблистали Красавиц ослепительные плечи, — Нам — ci-devant jeunes hommes[140]— судьба скучать, Но в скучном свете все-таки торчать.19
Я очень часто жалобы слыхал, Что нашего beau monde’a, то есть «света», Как следует никто не описал: Лишь сплетнями питаются поэты, Которые швейцар пересказал (И то за чаевые, по секрету), Да тем, что слышал выездной лакей От камеристки барыни своей.20
Но ныне все поэты стали вхожи В beau monde и там приобрели влиянье, А те, кто посмелей и помоложе, — Завоевали прочное признанье. Теперь портреты каждого вельможи И светских происшествий описанья Верны, поскольку нам рисуют в них Писатели почти себя самих!21
«Haud ignara loquor»;[141]{870} вот «Nugae, quarum Pars parva fui»[142], — право, легче мне Рассказывать в октавах с должным жаром О бурях, о гареме, о войне! Я дорожу моим свободным даром И принимаю формулу вполне: «Vetabo Cereris sacrum qui vulgarit»[143]{871} (Высоких истин низкий ум не варит).22
Я не хочу, чтоб и меня увлек Тот идеал, излишне отвлеченный, Который от реальности далек, Как наш отважный Парри от Ясона{872}. И без того мой замысел глубок; Такую широту диапазона Непосвященным трудно, может быть, Как следует понять и полюбить.23
Увы! Миры к погибели стремятся, А женщина, сгубившая нас всех, До сей поры не в силах отказаться От этих легкомысленных утех! Быть жертвою, страдать и унижаться Она обречена за этот грех; Досталось ей в удел деторожденье, Как нам бритье — за наши прегрешенья!24
Бритье, увы! Бритье — жестокий бич. Весь род мужской бритьем порабощен. Но как страданья женщины постичь? О ней мужчина, если он влюблен, Твердит эгоистическую дичь! Смотрите-ка, за что мы ценим жен? Зачем нужны их красота и грация? Лишь для того, чтоб умножалась нация.25
В призванье няньки счастье, правда, есть, Но есть свои тревоги в каждом деле. Подружек зависть и соперниц лесть Подстерегают женщин с колыбели; А там, глядишь, пришла пора отцвесть И золотые цепи потускнели, — А впрочем, можно их самих спросить, Приятно ли им женщинами быть.26
Мы все под властью юбки с юных лет, — К чему искать иллюзии свободы! Из-под нее приходим мы на свет Для радости и для мирской невзгоды. От щуки карасю спасенья нет — Я чту и юбку, и закон природы; Будь из атласа, будь из полотна, Хранит величье символа она.27
В невинные восторженные лета Я уважал и даже обожал Сию святую тайну туалета, Скрывающую милый идеал. Так око вдохновенное поэта Провидит в ножнах блещущий кинжал, В конверте под печатью — мир блаженства, Под линиями платья — совершенство!28
Когда сирокко гонит облака, Дождливую сгущая атмосферу, И старчески морщинится река, И море мутно-пенистое серо, И в небе неизбывная тоска, И солнце превращается в химеру, — Все ж и тогда какая благодать Красивую пастушку увидать!29
Героев с героинями, однако, Оставили мы в климате прескверном, Не подчиненном знакам Зодиака. К нему и рифм не подобрать, наверно; В густом тумане холода и мрака Скрываются под небом сим неверным Цветы, и зелень, и вершины гор — Все, что в других краях ласкает взор.30
В закрытом помещенье грусть и скука, А под открытым небом грязь и слякоть; В такие дни поэту просто мука — Как пастораль прикажете состряпать?! Из мокрой лиры не извлечь ни звука, Уж где тут петь, гляди, чтоб не заплакать) Так бедный дух слабеет с каждым днем В боренье меж водою и огнем.31
Жуан мой был беспечен по природе И был любезен людям всех сортов; В селе и в замке, в море и в походе Всегда доволен, весел и здоров, При неудаче и плохой погоде Не падал духом он и был готов Любезным обхожденьем и речами Приятным быть любой прекрасной даме,32
Охота на лису — опасный спорт: Во-первых, можно с лошади сорваться, А во-вторых, тому, кто слишком горд, Мишенью шуток горько оказаться. Но Дон-Жуан в седле был смел и тверд И мог в искусстве этом состязаться С арабами; под ним скакун любой И всадником гордился и собой.33
Он гарцевал, отлично брал барьеры — Кусты, ограды, мостики и рвы, Он мужества выказывал примеры, Однако не теряя головы. И только раз, зарвавшись свыше меры, На всем скаку он налетел, увы, Не удержав коня в минуту злую, На сельских джентльменов и борзую.34
Ну, словом, удостоился похвал Мой Дон-Жуан и даже удивленья. Тому, как он на лошади скакал, Охотников старейших поколенья Дивились. Многим он напоминал Их юности веселой развлеченья, И даже главный ловчий наконец О нем сказал с улыбкой: «Молодец!»35
Трофеями сей воинской отваги И многолюдно-шумной суеты Бывали не знамена и не шпаги, А просто лисьи шкурки и хвосты. Но, обыскав дороги и овраги И, наконец, устав от пестроты, Он втайне с Честерфилдом{873} соглашался, Что дважды в это дело б не пускался.36
Но как бы мой Жуан ни уставал, Когда скакал он с гончими по следу, И как бы рано утром ни вставал, — Он даже после сытного обеда Не спал, и не дремал, и не зевал; Он мило слушал дамскую беседу, А — будь ты грешен или слишком свят — За это дамы всё тебе простят.37
Он слушал их внимательно и живо, Порой умел любезно возражать, Умел и помолчать красноречиво И вовремя беседу поддержать; Он знал, как надо тонко и учтиво На нежные их речи отвечать. Какой приятный, вежливый, прекрасный, — Ну, словом, собеседник первоклассный!38
Серьезным англосаксам не дано Прелестное искусство Терпсихоры, Но Дон-Жуан вальсировал умно, Изысканно, без лишнего задора (Что на балах нелепо и смешно), С изяществом отменного танцора, — И ясно было каждому, что он Не балетмейстер, а испанский дон.39
Он музыку отлично понимал; Порхая, как воздушная Камилла{874}, Он элегантной грацией сиял, Умеренно выказывая силу; Такое чувство такта проявлял, Столь утонченно, вежливо и мило Умел вести танцующую с ним, Как будто духом танца был самим.40
Так на картине Гвидо{875} незабвенной Летит перед Авророй Час Рассвета. (Я посетил бы снова Рим священный, Чтоб только вновь увидеть фреску эту!) Так много было грации отменной Во всех его движеньях, что поэту (Прозаику тем боле) не суметь Его достойным образом воспеть.41
Не диво, что такого Купидона Прекрасный пол старался обольстить. То сдержанно, но нежно, то влюбленно С ним начинали женщины шутить; Сама графиня Фиц-Фалк благосклонно С ним понемногу стала заводить «Tracasseries»[144], как говорят в Париже, Поскольку слово «шашни» рангом ниже.42
Красивая блондинка в цвете лет, Не первый год она сияла в свете. О ней слегка злословил этот свет, Ее проказам расставляя сети. (По существу, мне дела даже нет, Правдивы или нет рассказы эти!) В то время, я слыхал, ее «предмет» Был юный Август, лорд Плантагенет.43
Сие лицо с оттенком нетерпенья На новый флирт поглядывало. Но Оспаривать свободу поведенья У дамских корпораций мудрено, А затевать конфликты, объясненья В подобном положенье неумно; Любая форма ссоры и огласки Приводит к преждевременной развязке.44
Во всех салонах ими занялись — Приглядывались, щурились, шептались, Иные очень строго отнеслись, Иные даже словно сомневались; Шушукались хорошенькие мисс, И хмурые матроны совещались, И дружно сокрушался высший свет: «Ах, бедный Август, лорд Плантагенет!»45
Но о супруге, графе, как ни странно, Никто не вспоминал и не вздыхал. Он, впрочем, был в отлучке постоянно И никогда жену не упрекал. Вот это, други, истинно желанный Супружеского счастья идеал: Они настолько «изредка» встречались, Что узами любви не пресыщались.46
Но что скажу о леди Аделине я? Чем объясню, что именно она Внезапно стала с милою графинею, Как строгая Диана, холодна? Соперницы «ошибочная линия» (Тем паче настоящая вина) Для женщины разумной и чувствительной Является всегда предосудительной.47
Нам озаряет лица и сердца Возвышенное чувство состраданья; Оно принаряжает в кружевца Святую дружбу; ведь существованье Немыслимо без милого лица И дружеского чувства излиянья: «Я так и знал! Ну что я говорил! Эх, почему меня ты не спросил!»48
Хоть даже Иов{876} двух друзей имел, Но я скажу — и одного хватает В несчастье; при расстройстве наших дел Нам состраданье плохо помогает. Таков уж человеческий удел: Друзья, как листья, сами отпадают, Когда придет ненастье. Ну так что ж? В таверне друга нового найдешь!49
«Оставьте старых и утешьтесь новым!» — Разумно мне советуете вы. Не черепаха я — пред страшным словом Я никогда не прятал головы. На опыте достаточно суровом Я изучил приятелей, увы! Но я страдал и жил — и не жалею, Что сделался печальней и умнее!50
Среди различных форм и формул зла Всего досадней поздние советы, Пророчества вчерашнего числа И фразы: «Мы предчувствовали это!» Друзей «непоправимые дела» Мы обсуждать умеем по секрету, Припоминая тут же каждый раз Какой-нибудь известный всем рассказ.51
Но Аделина обсуждала шалость Хорошенькой подруги потому, Что нежную испытывала жалость К невинному герою моему. Такое увлеченье, ей казалось, Весьма опасно сердцу и уму; Она его оберегала — все же Он был на сорок дней ее моложе.52
Она была еще в годах таких, Когда об этом говорят открыто Всем любопытным, отсылая их К разрядным книгам предков знаменитых. Из побуждений дружески простых Она под материнскую защиту Взяла Жуана, искренне гордясь, Что хоть на месяц раньше родилась.53
Ей было далеко еще до года, Который, как давно известно всем, Плотиною поставила природа Для возраста красавиц: двадцать семь! Достигнув рокового перехода, Потом уже не движется совсем Седое Время — и на все расспросы Молчит и ждет, оттачивая косу.54
Она была беспечно далека От зрелости и прочих неприятностей, И ежели держалась свысока, То лишь затем, что так велела знатность ей. Я намекну — беда не велика, Не повредит такая аккуратность ей: От двадцати семи отнимем шесть — Вот вам лета миледи все как есть.55
В шестнадцать лет она явилась в свете И вызвала немало восхищений: Как Афродиту, свет ее заметил В блестящей пене шумных развлечений; А в восемнадцать ей расставил сети Любезный Гименей — лукавый гений, — И, будучи от Евы рождена, Адама осчастливила она.56
Потом она сияла и царила Без перерыва три зимы подряд — И, как за нею сплетня ни следила, Ни слова не сказала невпопад, Ни одного faux pas[145] не совершила. За этот срок, однако, говорят, Уже имела леди Аделина И выкидыш, и маленького сына,57
Ее, как рой веселых мотыльков, Скопленье светских франтов окружало, Но ни на миг ей не смутило кровь — У мотыльков ведь не бывает жала; Быть может, вера в «высшую любовь», Быть может, гордость, — что-то ей мешало. Не все ль равно, раз женщина честна, Какую цель преследует она?58
Противно о «мотивах» говорить; Так созерцать противно нам бутыли, Из коих — по ошибке, может быть, — Хозяева тебя не угостили; Противно мимо стада проходить, Когда оно вздымает тучи пыли; Противно, если пэры трону льстят И восхваляет трон лауреат.59
В корнях причин не стоит разбираться: Кому охота землю разрывать? Позвольте нам листами любоваться, А желудь, жизнь им давший, забывать! Печально сутью дела заниматься И тайные пружины открывать: «Все страны управляются прескверно!» — Сказал однажды мудрый Оксеншерна.[146]60
Итак, миледи охраняла честь Графини и невинного Жуана. (Он мог, пожалуй, сразу не учесть Опасностей подобного романа!) У всех народов свой обычай есть, А нашим щепетильным англичанам Присуще согрешивших не щадить И сразу репутации клеймить.61
Сперва миледи меры обсуждала, Как роковой ошибке помешать; Ведь в простоте души она не знала, Что никогда не нужно ограждать Невинность — ни с костра, ни с пьедестала Ее нам, бедным смертным, не убрать. Заборчики ж потребны добродетели, Которую страшили бы свидетели.62
Миледи беспокоил не скандал; Граф был супруг разумно-терпеливый И затевать развод едва ли б стал Себе в ущерб, судейским на поживу; Но сильную опасность представлял Пылающий ревнивостью драчливой И склонный позабыть про этикет Злосчастный Август, лорд Плантагенет.63
Притом графине нравилось самой Считаться интриганкой, и Цирцеей, И, так сказать, пленительной Чумой, Которая, нисколько не жалея Несчастных жертв, из прихоти пустой Жестокой забавляется затеей — Чарует, замораживает, жжет И, главное, свободы не дает!64
Она любила юношей несчастных, Как Вертера{877}, в отчаянье держать. Понятно, что от чар ее опасных Решила Аделина защищать Жуана — ибо глаз ее прекрасных Наш юный друг не мог не замечать И ринуться был рад в пучину страсти, Не отличая счастья от несчастья.65
Итак, миледи не щадила сил И мужа попросила откровенно, Чтоб он Жуана как-то защитил От этой обольстительной сирены. С улыбкой слушал лорд Амондевилл И, как сановник, с хитростью отменной Любезно отвечал, что он не прочь, Но все-таки — не в силах ей помочь.66
Во-первых, он сказал, в дела чужие Он вмешиваться вовсе не привык, А во-вторых — догадки всё пустые, И мало основательных улик; Притом Жуан флиртует не впервые, Имеет разум, опыт и язык, И, наконец, к добру (известно это!) Приводят редко «добрые» советы.67
Он намекнул, что было бы умней Оставить эту странную тревогу: О шалостях порядочных людей В кругу друзей не судят слишком строго; С годами страсти станут холодней, Жуан остепенится понемногу, И, наконец, ведь он же не монах, Чтоб запереться в четырех стенах!68
И тут же, как сановник образцовый, Лорд Генри удалился в кабинет. Потомству пусть расскажет Ливий новый, Как облегчал он нации бюджет, Как почту разбирал; но я ни слова Здесь не скажу — мне труден сей сюжет; Зато я обещаю вам заранее Политикой наполнить примечания.69
Лорд Генри у порога кабинета Любезные слова пробормотал (Как мелкую разменную монету Слова такие он употреблял!) И, наскоро пересмотрев пакеты, Миледи на ходу поцеловал — По праздникам мы так целуем чинно Сестрицу пожилую иль кузину.70
Он был спокоен, холоден и горд Своим рожденьем, внешностью и саном; Он был по всем статьям отличный лорд, Краса и гордость тайного дивана{878}! Присяге верен, в убежденьях тверд, Широк в плечах, румян и строен станом. (Будь я на троне — был бы он, ей-ей, Одним из первых в челяди моей!)71
Однако в нем чего-то не хватало, Как говорил лукавый слабый пол: В нем внутренних достоинств было мало, Хоть внешностью он многих превзошел. Здоровье в нем играло и сияло, Высок он был, как мачта или ствол — В любви и на войне гордился даром Всегда держаться перпендикуляром!72
А все-таки в нем не было того «Je ne sais quoi» [147], которому, не скрою, Обязаны мы более всего Бессмертной эпопеей древней Трои, Из-за чего супруга своего Сменила на безусого героя Ты, греческая Ева, belle Hélène[148], Богиня всех супружеских измен!73
Любовь — довольно сложное явленье; В ней толком разобраться не сумел И сам Тиресий{879}, знавший, без сомненья, Полов обоих горестный удел. Нас чувственность сближает на мгновенье, Но чувство держит нас в плену. Предел Несчастья — в их сращенье: не годится Сему кентавру на спину садиться.74
Но сердце женщин все чего-то ждет И счастья ищет в чувстве беспричинном. Их пустота сердечная гнетет, И слишком часто грустно без причин им. Так лоцман в бурный час ладью ведет Без компаса по гибельным пучинам, И, может быть, на груды острых скал Швырнет его с размаху злобный вал!75
В Шекспировом саду неувядаемом{880} Есть маленький цветочек; повинюсь Перед кумиром, всеми почитаемым, — Я к лепесткам прекрасным прикоснусь! Нам, рифмой и размером притесняемым, Бывает трудновато, признаюсь; Но, как Руссо, цветочек созерцая, «Voilà la pervenche!»[149]{881} — я восклицаю.76
Ах! Эврика! Я понял, почему Назвал Шекспир «любовью от безделья» Цветочек свой: лишь праздному уму Доступно страсти бурное похмелье; Кто делом занимается, тому Не может стать любовь единой целью. Уж ныне аргонавтов корабли Медею бы с собой не довезли.77
«Beatus ille procul»[150]{882} от «negotiis!»[151]— Сказал Гораций; но не прав поэт. В его девизе: «Noscitur à sociis»[152]{883}, — Точней и лучше выражен совет. Но если б даже на меня набросились Все те, кем возвеличен высший свет, Всем заявлю я тоном самым смелым: Счастливей вас любой, кто занят делом.78
На плуг сменил идиллию Адам, Из листьев фиги платье сшила Ева (Искусству одеваться наших дам Божественное научило древо!), И с той поры понятно стало нам, Что зло, которое познали все вы, — Плод праздности; лишь отдых от работ Часам безделья цену придает.79
Но светская рассеянная праздность — Особый метод пытки развлеченьем, Стремленье украшать однообразность, В которой счастье стало пресыщеньем! Отсюда — романтизма несуразность И синие чулки с пустым томленьем, Бесед философическая мгла И, главное, — романы без числа.80
Романы в жизни я видал такие, Каких еще ни разу не читал, А перечисли их и расскажи я, — Никто б и верить, кажется, не стал! Но тайны уважаю я чужие; Я знаю, что молчанье — идеал, А потому про тайные романы Рассказывать и сплетничать не стану.81
«И устрица бывает влюблена»{884}, — И тоже, вероятно, от безделья; Вздыхает в одиночестве она, Как сумрачный монах в унылой келье. Уединенье, лень и тишина Опасней, чем греховное веселье; Нечистыми не зря со всех сторон Любой святой католик окружен.82
О Уилберфорс, венчанный черной славой, Ты, Африки моральный Вашингтон! Колосс несправедливости кровавой Тобою осужден и побежден! Но если человеческого права Ты подлинным защитником рожден, — Освобождая черных, между делом Надень-ка цепи некоторым белым.83
Сошли «святую тройку»{885} в Сенегалию И Александра Лысого{886} запри, Чтоб развлеченья рабства испытали и Запомнили тираны и цари. Пускай герои страшной вакханалии Огонь глотают сами! Присмотри, Чтоб новых нам не стоила мильонов Постройка королевских павильонов,84
Открой Бедлам и к власти допусти — И, право, ты увидишь в изумленье, Что нам вреда не может принести Их soi-disant[153] безумное правленье. А что теперь «нормальные» в чести, Так это — роковое заблужденье; Но я, как Архимед, без point d’appui[154]{887} Потратил тщетно доводы свои.85
Один дефект имела Аделина: В ее холодном сердце, к сожаленью, Все было тихо, строго и пустынно. Претят таким натурам измененья И новизна. Но в страшные руины Подобный гордый храм землетрясенье Способно превратить в кратчайший срок, — А это вам, красавицы, урок!86
Она любила мужа как умела, Сизифовой любовью{888}, так сказать: Ведь собственное чувство то и дело Ей приходилось в гору поднимать. Но перемен миледи не хотела, Предпочитая мирно тосковать; Союз их был примерный, благородный, Счастливый, только несколько холодный.87
Их разделяло не различье лет, А разность их натур, и однотонно, Подобная движенью двух планет, Текла их жизнь спокойно, неуклонно, Раздельно. Так свой сохраняет цвет, Стремясь сквозь Леман, голубая Рона, Когда кристальной глади забытье Объемлет и баюкает ее.88
В ней быстро загорался интерес К тому, что занимало или льстило, — Тогда в ней чувство брало перевес, Захлестывало, даже уносило. Известно, как легко играет бес Большою впечатлительностью; сила Внезапных впечатлений тем страшней, Чем видимая сущность холодней.89
Бесовское в ней было дарованье, Которому два имени дано: Когда успешны наши начинанья, Зовется гордой стойкостью оно; Но ежели бесплодны все дерзанья, — Простым упрямством. Только мудрено Определить границы и приметы, Явленье отличающие это.90
Будь Бонапарт героем Ватерлоо, Примером стойкости считался б он; Теперь, когда ему не повезло, Он прозвищем упрямца заклеймен. Но кто нам скажет — что добро? что зло? Я, право, озадачен и смущен! Вернусь-ка лучше к леди Аделине; Она у нас ведь тоже героиня.«Дон-Жуан»
91
Была ль она в Жуана влюблена? Она себя сама не понимала, А если б только поняла, — она От собственного сердца б убежала. Она была сочувствия полна, Поскольку Дон-Жуану угрожала Опасность несомненная, а он Был, ей казалось, плохо защищен.92
Он был ее приятель, юный брат, — Но искренне, не в стиле оперетки. О платонизме часто говорят Лукавые французские кокетки, И немки романтичные горят В какой-нибудь лирической беседке От чистых поцелуев, — но она Была для честной дружбы рождена.93
Конечно, пола тайное влиянье, Слегка подогревающее кровь, Их дружбе придавало обаянье, Похожее немного на любовь. Ведь вредно только страсти состоянье Для нежной дружбы. Повторяю вновь, Что женщина как друг всего вернее; Лишь не ищи любовной связи с нею.94
Но всякая любовь в себе таит Зародыш измененья — и не диво; Лишь на мгновенье молния блестит; Стихий неудержимые порывы Иметь не могут формы — все летит, Все движется, меняясь прихотливо, — А нежная любовь уж никогда Не может быть надежна и тверда!95
Я часто слышал жалобы влюбленных На то, что страстью увлеклись они, А, как известно, страсть и Соломона В шута преобразила в оны дни! И даже добродетельные жены, Слывущие примером искони, Какому-нибудь тихому созданью Умели отравить существованье.96
Но я на личном опыте узнал, Что женщины способны быть друзьями. Когда всеобщий суд меня терзал Допросами и злобными словами, Я цену женской дружбы испытал, — Она одна не расстается с нами И в бой за нас вступает каждый раз, Когда клевещет общество на нас.97
Но дружбу Аделины и Жуана К высокому разряду относить Еще пока, пожалуй, слишком рано; За ними надо дальше последить. В разгаре их невинного романа Я их пока оставлю — так и быть: Такой прием зовется — задержание Читательского резвого внимания.98
На лошадях, в коляске и пешком Они вдвоем прогулки совершали; Испанским занимались языком, Чтоб «Дон-Кихота» знать в оригинале; Наедине болтали вечерком, Высокие вопросы обсуждали. Мне это все удастся, может быть, В дальнейшем как-нибудь изобразить.99
Но предостерегаю вас заранее От выводов поспешных и пустых, — О леди Аделине и Жуане я Не высказал догадок никаких. Подробно расскажу об их романе я В октавах сатирических моих; Пока замечу только предварительно, Что их паденье все еще сомнительно,100
Но в жизни все великие дела Рождаются из малых. Кто не знает, Как много неожиданного зла Пустячные причины порождают! Откуда катастрофа подошла, Порою и мудрец не угадает (А я держу пари хоть на мильярд, Что все пошло с простой игры в бильярд!).101
Вы скажете, что это очень странно, Но правда всякой выдумки странней. Как помогли б правдивые романы Познанью жизни, мира и людей! Мир выплыл бы из мрака и тумана, Когда б Колумб этических морей Духовные открыл нам антиподы В характере у каждого народа.102
Какие бездны есть в сердцах людских! Какие в них «пещеры и пустыни»{889}! Как в душах всех правителей земных Нагромоздились айсберги гордыни! Как много в этих дебрях вековых Антропофагов водится поныне! Когда б историк правду молвить смел, — Сам Цезарь бы от славы покраснел!Песнь пятнадцатая
{890}
1
Ах! Что же дальше? О любом предмете я Могу воскликнуть так в своих стихах, Ведь этим «ах» все выражу на свете я — Надежду, грусть, унынье или страх. Вся наша жизнь — сплошные междометия: И «ну», и «ба», и «ух», и «ох», и «ах», И «фу», и просто «тьфу» — уж это «тьфу»-то Мы произносим каждую минуту.2
В противовес великому «ennui», Все эти восклицанья выражают Эмоции; эмоции сии В пространствах бесконечности всплывают, Как пузырьки на океане, и В миниатюре вечность отражают: И благо тем, кто знает благодать Незримые явленья наблюдать.3
Печально, если в душах цепенеют Стремленья, погребенные навек, Притворство всеми чувствами владеет, И надевает маску человек. Никто открыто действовать не смеет; Мы наших мыслей сдерживаем бег. ,Поскольку все поэты — лицемеры, Мы принимаем вымыслы на веру.4
Скажите мне, кто втайне хоть на час Не вспомнит прежней страсти заблужденья? И кто из нас не испытал хоть раз О невозвратном прошлом сожаленья? Пусть волны Леты увлекают нас, — Печали не потопим мы в забвенье, И, как ни блещет светлое вино, Осадок опускается на дно.5
Что до любви — рассказ неторопливый Пойдет о госпоже Амондевилл… Звук имени ее, такой красивый, Мое перо недаром вдохновил. Все музыка — и звон ручья игривый, И шепоты травы, и шум ветрил; Все музыкально в мире, все прекрасно, И пенье сфер мы слышим ежечасно.6
Миледи Аделина, господа, Была близка к рискованным решеньям; Ведь слабый пол, изменчивый всегда, Изменчивым подвержен настроеньям. Ярлык вина обманчив иногда, И качество бывает под сомненьем, А женщина — как легкое вино: Испортиться и ей не мудрено.7
Миледи я сравнил бы без прикрас С вином первейшей марки, с золотыми Чеканки самой новой; как алмаз, Миледи, совершенствами своими Блистая, только радовала глаз. С докучными уликами пустыми Природа — этот хмурый прокурор — Еще не приставала к ней в упор.8
Я знаю — Смерть упрямая стучится К нам в дверь сперва как будто неумело (Так в первый раз к вельможе подступиться Купец, пожалуй, не решится смело); Но если уж начнет она сердиться, То грозно принимается за дело: Чуть переступит за порог — она Уплаты долга требует сполна!9
Ты все съедаешь, Смерть! Но, ради бога, Умей щадить бедняжку Красоту — И без того добычи очень много, И все пожрать тебе невмоготу. Гурман костлявый! Подожди, не трогай Невинную весну во всем цвету! Бери героев — наций блеск и силу, Но женственности прелести помилуй!10
Миледи было свойственно хитрить, Когда ее интрига увлекала; Открыто благосклонность проявить Ей воспитанье строгое мешало, Но тем неосторожней, может быть, Свое миледи сердце отдавала И нежности своей невинный пыл Тому, кто чувств таких достоин был.11
Амурные истории Жуана Во всех салонах сплетни вызывали. Но леди Аделину, как ни странно, Его грехи нимало не пугали. Притом в английском климате туманном В Жуане страсти как бы остывали; Ведь был он как младой Алкивиад{891} — К любой среде приспособляться рад.12
Герой мой был тем более пленителен, Что не старался никого пленять; Он был умен, спокоен, обходителен, Не претендуя лавры пожинать. Назойливый дендизм предосудителен: Его девиз — «блистать и ослеплять», — А фатовство и прочие чудачества Роняют человеческие качества.13
Мне хорошо известно — не всегда Успех чванливым франтам доставался. А мой Жуан был скромен, господа, И сам собою всюду оставался; Он искренним казался без труда И голосом приятным отличался, — А голосу приятному даны Все пагубные чары Сатаны!14
Он от природы был учтиво-нежен И подозрений вовсе не внушал; Изящен и спокойно-безмятежен, Он весело победы предвкушал. Герой такой мне попадался реже, Чем фатоватый щеголь и нахал, — А впрочем, скромность тоже дар отменный: Она успех приносит несомненный.15
Любезно-весел и приятно-мил, Жуан со всеми вел себя тактично; Он сплетничать о ближних не любил, Он слабости собратьев знал отлично; С надменными он сам надменен был И намекнуть умел дипломатично, Что цену знает и себе и им И что доволен жребием своим.16
Но дамам каждый раз являлся он В том облике, в каком его хотели Узреть. Таков неписаный закон. Живей всесильной кисти Рафаэля Воображенье их; кто наделен Красивой внешностью, того умели Они всегда поднять на пьедестал, Чтоб он, как чудо света, заблистал.17
Но Аделина просто приписала Жуану качества свои и в нем Все совершенства редкие искала; И мудрецы порой повинны в том. Нас учит опыт многому, но мало. Мы горечь истин все же познаем, А мудрецы упорно забывают, Что и глупцы на свете ведь бывают.18
Мудрейший Бэкон, Локк, Сократ и ты, Божественный[155], чье чистое ученье, Непонятое, как и все мечты, Лишь породило новые гоненья, Лишь укрепило силу темноты, — За что ты принял это униженье? Увы, примеров множество таких; На совести людской оставим их.19
Что до меня — о славе не мечтая, Держаться я решил теперь скромней: Я с холмика спокойно созерцаю Мельканье лиц и пестроту идей, Я безмятежно-весело болтаю, Как на прогулке, с музою моей; Легко дается мне стихосложенье, Без всякого оттенка напряженья.20
Мне кажется, в уменье рифмовать Заслуги нет, но в легком разговоре Весьма приятно время коротать. Когда поэты с музами не в ссоре, Они умеют строчки сочетать В изящном стиле «Improvvisatore»;[156] В подобном стиле рад писать и я, Но льстивою не будет песнь моя.21
«Omnia vult belle Matho dicere — dic aliquando Et bene, diс neutrum — dic aliquando male» [157]{892}. За первым не стремись, коль не титан ты, Второе в счастье нужно и в печали, Для третьего потребны уж таланты, Зато везде и всюду мы встречали Четвертое; в поэме ж сей, друзья, Вы всё найдете, полагаю я.22
Я прославляю скромность как систему, И с гордостью я вовсе не в ладу; Короткой я задумывал поэму, И сам не знал, куда я забреду. Хотелось мне представить эту тему Цензуры благосклонному суду, Польстить владык дряхлеющих амбиции, — Но я, увы, рожден для оппозиции!23
Я неизменно защищаю тех, Кто не в чести. И если час настанет, Когда толпы победной рев и смех Над бывшими избранниками грянет, — Я нападать на них сочту за грех. И, может быть, — меня на это станет — Примкну я к роялистам; мне претит И демократ, когда он властью сыт.24
Я мог бы стать супругом превосходным, Не зная, как печален мой удел, Я мог бы, свойствам вопреки природным, Монахом стать, уйдя от светских дел, Но никогда в плаще поэта модном Я щеголять бы дерзко не посмел, Когда б мои стихи перо зоила Насмешкой злобною не заклеймило{893}.25
«Laissez aller»[158]. В поэме, господа, Героям самым разным дверь открыта. Писать о них, казалось, нет труда; Не нужно Лонгина{894} и Стагирита{895}; Но вот в окраске фактов вся беда: Здесь подобает мудрому пииту Искусственное к естеству свести, В явленьях частных общее найти.26
Когда-то люди создали манеры, Теперь манеры создают людей. Прилизаны, приглажены и серы, Не проявляем воли мы своей. Конечно, все поэты — лицемеры; Но как тут быть, каких искать путей? Куда мне обратиться — к темам прошлым Иль к современным, тягостным и пошлым?27
Так что же, друг мой муза, поспеши! Когда тебе докучен стиль высокий, Давай смеяться просто от души, Стегая шуткой мелкие пороки. Запомни или даже запиши Колумба наставленья и уроки: В ничтожной каравелле можно плыть — И все-таки Америку открыть.28
Миледи Аделина увлекалась Блестящими талантами Жуана. В ней чувство постепенно разгоралось, Что, в сущности, по-моему, не странно, Неопытность его, как ей казалось, В опасности бывала постоянно. У женщин полумеры не в чести: Она Жуана вздумала «спасти».29
Итак, миледи добрые советы Жуану безвозмездно расточала. Признательности мелкую монету Она за это часто получала; Но для спасенья милого предмета Она решила с самого начала Любимый дамский метод применить — Его безотлагательно женить.30
Жуан ответил ей, что он мечтает Давно в такой союз сердец вступить, Но обстоятельства ему мешают Подобную мечту осуществить; А те, к кому он склонность ощущает И кто его могли бы полюбить, Души его прекрасные Цирцеи — Уже давно в объятьях Гименея.31
Для дочерей, племянниц и сестер Обдумывать прически, шляпки, платья, Подстроить встречу, тайный разговор — Вот милых дам любимое занятье! Они привыкли сватать с давних пор Всех братьев и кузенов без изъятья. Греха в том нету, ибо всякий брак Воздействует на нравы как-никак.32
Все женщины, влюблявшиеся рано, За исключеньем дев и старых вдов, Охотно строят каверзные планы По части уловленья женихов. Необычайный замысел романа У них всегда заранее готов, Хотя порой действительность упрямо Его преображает в мелодраму.33
Всегда у них найдется чей-то сын, Какой-нибудь единственный наследник, Какой-нибудь веселый дворянин, Любезный и приятный собеседник, А то и лорд, доживший до седин, Какой-нибудь из отпрысков последних, Мечтающий природу удивить И новым браком «древо» обновить.34
Для всех у них невесты под рукой; Богатый выбор — как не любоваться! Умом, деньгами, внешностью, душой Невесты эти могут красоваться; Одна имеет голос небольшой, Другая — дар прелестно одеваться. Та будет мать и добрая жена, А та — для сана леди рождена,35
В Америке есть некая колония[159]; Ее там Рапп{896}, как секту, учредил, Назвал весьма торжественно «Гармония» И брак из быта вовсе устранил. Греховных увлечений беззаконие Он строгими законами смирил. Но я поспорить с ним имею мужество: «Гармония» нелепа без супружества!36
А разделять гармонию и брак Никак нельзя, не оскорбив природу. (Быть может, Рапп, восторженный чудак, В Германии усвоил эту моду!) Хоть секта процветает как-никак, Растет и богатеет год от году, — А все-таки, скажу вам не тая, Название оспариваю я.37
Но пылкие любезные матроны, И Мальтусу и Раппу вопреки, Потворствуют природному закону И поощряют милые грешки. К приросту населенья все мы склонны, Как трудности потом ни велики, И в результате — обнищанье нации. Разгул страстей приводит к эмиграции!38
Я, право, не решаюсь присягнуть, Что Аделина Мальтуса читала. Одиннадцатой заповеди суть — Жениться грех, коль нету капитала! Судить о том я не хочу ничуть, Что нам перо столь славное[160] писало, Но сей арифметический подход Нас к жизни аскетической ведет.39
Миледи, впрочем, знала очень точно, Что Дон-Жуан богат; его жена, Коль этот брак окажется непрочным, Вполне безбедно проживет одна. Ведь в пляске брака часто, как нарочно, Мужей отличных падает цена, И брак к печальной их ведет развязке, Как Смерть в Гольбейновой{897} зловещей «Пляске».40
Итак, Жуана брак был предрешен, И только за невестой дело было. Мисс Мак-Ин-Фольо был представлен он, Мисс Блик, мисс Шик и юной мисс Мак-Милло, Наследницам мисс Чек и мисс Купон (Всех Аделина в гости пригласила!). С любой из них любимец юных муз Мог заключить превыгодный союз.41
Там нежная единственная дочка, Спокойная, как озеро, мисс Пруд, Была бела, как молоко в горшочке, Пока густые сливки не сольют. Не верьте этой милой оболочке; Под нею смесь простую узнают Воды и молока. Хотя для брачной Спокойной жизни эта смесь удачна.42
Мисс Смеллоу, очень гордая собой, Богатая и бойкая девица, Об орденах и ленте голубой Мечтала. Но не каждый день случится, Что герцог, предназначенный судьбой, В ловушку сам собою залучится; Среди девиц подобных что ни год На турок и на русских спрос растет.43
Там были… но к чему перечисленья! Скажу короче: там была одна, Прелестная, как светлое виденье, Как фея, как сиянье, как весна, — Аврора Рэби. Нежное волненье Рождала в сердце каждого она. Несмелое, но дивное творенье — Как роза накануне пробужденья!44
Она осталась рано сиротой. Опекунами добрыми любима, Знатна, богата, — но немой мечтой, Раздумьем одиночества томима. Как будто силы юности златой Сломила смерть, промчавшаяся мимо. (Так во дворце пустом болит сильней Душа в тоске о счастье прошлых дней!)45
Она была младенчески-нежна, Но что-то в ней таинственно сияло… Как серафим задумчивый, она, Казалось, непрестанно горевала О тех, кто согрешил и чья вина Несчастный род людской отягощала; Она казалась грустным духом тем, Что охранял покинутый Эдем!46
Она держалась веры католической И верила всем сердцем и умом: Сей ветхий культ красою романтической И строгостью пленял ее. Притом Она гордилась славой героической Своих отцов, и словом и мечом Обычай старой веры защищавших И ей святую верность завещавших.47
Она глядела кротко и светло На божий мир, его не понимая; В ней сердце безмятежное цвело, Как ландыш, в тишине благоухая. Всеобщее признанье ей дало Какой-то гордый ореол; сияя Возвышенным спокойствием, она Была чудесной прелестью сильна.48
Но почему-то в списки Аделины Аврора не была занесена, Хотя она имела все причины Затмить прелестных сверстниц имена; Любого благородного мужчину Такая дева, кажется, должна, Высокой добродетелью блистая, Склонить на путь супружеского рая.49
Мой Дон-Жуан был очень удивлен (Как древний Рим, не видя бюста Брута В процессии Тиберия), и он Спросил о ней, но в эту же минуту Миледи, вдруг приняв надменный тон, Сказала очень резко почему-то: «Аврора мне не нравится: она Наивна и притворно холодна!»50
«Но мы единой веры! — с удивленьем Сказал Жуан. — Нас легче обвенчать; Не пригрозит мне папа отлученьем, Не заболеет от досады мать». Но леди Аделина с нетерпеньем Всех женщин, не желающих признать За оппонентом правоту и силу, Все тот же довод сухо повторила.51
Так что же? Если доводы умны, Не портятся они от повторенья, А если глупы, — может быть, цены Прибавит им простое умноженье. Настойчивостью действовать должны Политики, поддерживая пренья: Противника старайтесь утомить — Его тогда нетрудно и затмить.52
Но почему миледи Аделина С предубежденьем относилась к той, Чей кроткий облик, светлый и невинный, Лишь со святыми спорил чистотой? Миледи славилась не без причины Любезностью, умом и красотой, — Но (это испытал любой живущий) Капризы каждой женщине присущи.53
Не по душе, наверно, было ей Спокойное Авроры отношенье К мельканью лиц и пестроте идей. Нет худшего на свете униженья, Чем превосходство ближнего. Больней Обиды это тайное сомненье В себе самом; Антоний это знал И от величья Цезаря страдал{898}.54
Но то была не зависть, — о, еще бы! — Миледи чувства этого не знала! То было не презрение — за что бы Она Аврору Рэби презирала? То не была тоска ревнивой злобы, Которая прекраснейших терзала, То не было… Но нет, вопрос не в том; Что это было — вот проблема в чем.55
Аврору света праздные сужденья Не трогали; сияя простотой, Она была как светлое теченье В потоке молодежи золотой, Сверкавшей, как пустые украшенья, Напыщенной и чванной красотой. Аврора только кротко улыбалась — Столь детским это сердце оставалось!56
Ее не ослеплял надменный вид Миледи; безмятежно рядом с нею Она цвела: светляк в ночи блестит, Но звезды и прекрасней и крупнее! Наш Дон-Жуан, как ни был знаменит, Был не замечен и не понят ею; Она ведь в небо устремляла взор, А он был только светский метеор.57
Его весьма двусмысленная слава Чертовски чаровала женский род (Изящный блеск испорченного нрава Красавица любая предпочтет Смиренной добродетели; оправа Порочности обычно придает Героям цену), — но Авроры нраву Совсем не нравилась такая слава.58
Жуан еще не знал натур таких; Погибшая Гайдэ в сравненье с нею Была дитя природы, волн морских, Сердечней, простодушней и нежнее. Но отличалась каждая из них Особенною прелестью своею: Гайдэ — цветок, Аврора — самоцвет (Удачнее сравненья, право, нет).59
Придумав это ловкое сравненье, Я стал опять «сзывать свою пехоту»{899}; У Скотта взял я это выраженье — У лучшего на свете друга Скотта! Как он рисует рыцарей сраженья, Господ и крепостных, пиры, охоты! Когда бы не Вольтер и не Шекспир, — Поэта лучшего не знал бы мир.60
Повсюду муза легкая летает, Везде я темы сразу нахожу; Я свет живопишу, и свет читает, И я его, признаться, не щажу. Врагов мой стих обычно порождает, Но жалкой дружбой я не дорожу; Уже давно я в ссоре с целым светом, А все же стал я неплохим поэтом!61
Упрямство госпожи Амондевилл Жуана злило, и по сей причине Весь разговор их кисло-сладок был И очень неприятен Аделине. Но вот сребристый гонг провозгласил Тот час, когда на дамской половине Меняют туалет (хотя на глаз Для этой цели вряд ли нужен час).62
Но чу! Звенят серебряные чаши, Стучат ножи, воинственно остры! (Поспорят ли с Гомером музы наши, Описывая пышные пиры!) Меню у нас, пожалуй, даже краше, Названья удивительно пестры; Таинственные смеси и приправы Напоминают древние отравы.63
Там был отличный суп «à la bonne femme»[161]{900} (Дивлюсь я этой кличке безрассудной!), И суп «à la Beauveau», известный вам, И камбала с подливкой самой чудной; Там был (но, видит бог, не знаю сам, Как справлюсь я с такой октавой трудной!) Большой индюк, и рыба всех сортов, И поросята — гордость поваров.64
Но мне в детали некогда вдаваться — Я все смешаю вместе! Как тут быть? Пожалуй, муза может растеряться И прозвище болтушки заслужить. Хотя и bonne-vivante [162] она, признаться, Но трудно ей о пище говорить, И потому сейчас я очень кратко Все яства перечислю по порядку.65
Вестфальской ветчины окорока, Апиция{901} достойные картины, И «sauces Génévoises»[163] для знатока, И дичь «à la Condé», и лососина; Там были — честь и слава погребка — Все Аммоно-убийственные вина{902}, И пенистый шампанского бокал, Как жемчуг Клеопатры, закипал.66
Там было бог весть что «à l’Espagnole» [164] И «à l’Allemande» [165], «timballe» [166] и «salpicon’ы»[167] (Не сразу нам понятно, в чем там соль, Но к экзотичным яствам все мы склонны); Там были «entremets»[168], которых роль — Баюкать души негой полусонной; Там сам Лукулл{903}, великий чародей, Венчал фазанов славой трюфелей.[169]67
Увы, сравнится ль блеск подобной славы Со славой тех, пред кем народы ниц Лежали? Где их призрак величавый? Где грохот триумфальных колесниц? Проходит все — тревоги и забавы, Победы и обеды знатных лиц; Едва ль затмит их временная слава Бессмертную Лукуллову приправу!68
Люблю я трюфеля, признаться вам, И лакомое блюдо «puits d’amour’ы»[170] С вареньем или без — по вкусу дам, — Как поучает нас литература Кухмистерских. Я пробовал их сам, Но даже вам скажу — «sans confiture»[171], Без всякого варенья, эти «puits» На вкус прелестны, милые мои! [172]69
Теряется мой разум в созерцанье Чудесных блюд, которым счету нет. Великих несварений процветанье Их результат, а может быть — секрет. Кто думать мог, что скромный акт питанья Отца Адама через тыщи лет Переродится в сложное ученье, Дошедшее до грани изощренья!70
Звенело рюмок тонкое стекло, И челюсти работали отлично, Гурманы задыхались тяжело, А мисс и леди кушали тактично, И юноши, чье время не пришло Любить еду, держались романтично: Они обилью лучших вин и блюд Прелестную соседку предпочтут.71
Увы, не вклеить мне в мои октавы Сальми{904} и консоме{905}! Ну как тут быть? Пюре, gibier[173] и разные приправы Мне очень трудно в строчки уложить. На ростбиф каждый бритт имеет право, Но трудно ростбиф с рифмой примирить; Притом, покушав сытно, сын Парнаса Воспеть не в силах даже и бекаса.72
Люблю желе, бисквиты, марципан, Мороженое, фрукты и закуски; Желудок наш, изысканный гурман, Страдает от излишней перегрузки! В произношенье трезвых англичан Становится подагрой «goût»[174]{906} французский. Я не знаком еще с подагрой, но Спастись от сей напасти мудрено.73
Забуду ль о бесхитростных маслинах, Союзницах первейших наших вин? Закусывал я ими на вершинах Гимета или Суния — один! Я ел их с хлебом в Лукке{907} и в Афинах На изумрудной скатерти долин, Пируя по примеру Диогена (Он на меня влияет неизменно!).74
Отягощенный стол напоминал Роскошных павильонов вереницу, Необычайный маскарадный бал Из овощей, и рыб, и разной птицы; Мой Дон-Жуан глазами пожирал «À l’Espagnole» — конечно, не девицу, А блюдо, что пленяло красотой, Пикантностью и тонкой остротой.75
Сидел мой Дон-Жуан на этот раз Меж леди Аделиной и Авророй. Претрудный случай, уверяю вас, И это ощутил он очень скоро. Он ежился, не поднимая глаз, От ясно-проницательного взора Миледи Аделины — этот взор Его сверлил насмешливо в упор.76
Мне кажется, у глаз бывают уши — Иначе я не в силах объяснить, Как удается женщинам подслушать То, что никто не мог предположить. Как пенье сфер, способны наши души Таинственно звучать. И, может быть, Поэтому порой посредством взора Длиннейшие ведутся разговоры.77
В спокойном равнодушии своем Аврора на Жуана не глядела. Обычно мы с досадой узнаем, Что ближним нет до качеств наших дела. Жуан мой не был фатом, но и в нем Аврора самолюбие задела; Себя он как бы лодкой ощущал, Затертой между двух ледовых скал.78
Он пошутить попробовал — напрасно. Ему, конечно, вежливо ответили, Но, глядя вдаль спокойно и бесстрастно, Как будто шутки вовсе не заметили. И скромность и заносчивость ужасны, В каком бы облике мы их ни встретили. Он видел, что миледи быстрый взгляд Таил язвительной насмешки яд.79
Она ему, казалось, говорила: «Я так и знала!» Уверяю вас: Подобное злорадство — это сила Опасная и вредная подчас. Герой, чье сердце шутка оскорбила, Все выполнить старается как раз, Что в мстительном намеке заключалось… Глядишь — ан шутка правдой оказалась!80
Но ловкий и любезный мой герой Сумел искусно выказать вниманье Своей соседке. Этою игрой Он деликатно подчеркнул признанье Ее достоинств. Я готов порой Поверить сплетне! На его старанья И на его веселые слова Аврора улыбнулась раза два.81
Могла ль от разговора воздержаться Жуана миловидная соседка? Сама миледи стала опасаться, Что в ней проснется все-таки кокетка; В холодном равновесии держаться Нам трудно, и случается нередко, Что мы… Но тут миледи не права: Аврора уж совсем не такова.82
Притом Жуан настолько был приятен, Настолько гордо-скромен, так сказать, Себя умел так ловко показать он, Так он умел покорность проявлять, Умел он быть и весел и занятен, Умел он тактом шутки умерять, Людей на откровенность вызывая, А собственные замыслы скрывая.83
Аврора в равнодушии своем Его к толпе обычной причисляла Пустых людей, но и Аврора в нем Особенные свойства увидала. Он льстил с таким умом и мастерством, Что даже ей приятно слушать стало; Так похвалы изысканных льстецов Завлечь способны даже гордецов.84
Притом он был красив, а это свойство Смущает женщин, мы должны признать; Супружествам большое беспокойство Оно способно часто доставлять. Пленительную внешность и геройство, Увы, трудней всего не замечать; Когда прекрасный образ нас смущает, Нас никакая книга не прельщает.85
Аврора больше внешности пленительной Любила книги. И, служа Афине, К ней относилась с нежностью почтительной, Любуясь ею даже на картине. Но лишь в корсете старости медлительной Надежна добродетели гордыня. Сократ, блюститель этики, и тот Прекрасного влиянье признает.86
В шестнадцать лет все девы сократически Чтят красоту невинно — вслед Сократу. Что ж? Если этот славный муж аттический И в старости мечтал замысловато (Платон писал о том метафизически), То девушкам уж вовсе трудновато Без грез — ведь их природа такова! Но скромность для девицы — sine qua.[175]87
Замечу вскользь: когда свои сужденья Я, как великий Кук{908}, вам излагаю, О них всегда свое второе мненье Я мненью первому предпочитаю, А может быть, и третье есть решенье, А может, вовсе нет — почем я знаю! Но, будь поэт логичен, скуп и строг, — Мир сущего понять бы он не мог.88
Весь род людской себе противоречит — Ну как же мне другим не подражать? Все мелкой ложью истину калечат, Но я правдив и не желаю лгать. Коль нас от скептицизма не излечат, Мы ничего не сможем отвергать. Противоречий много в человеке; Источник правды чист, но мутны реки.89
И притчи и стихи способны лгать, Хотя иной раз могут быть правдивы, А басня может нравы исправлять, Клеймя пороки очень справедливо. Но кто поможет сущее познать? Философы? Они всегда кичливы! Религия? Возможно, если знать, Какой из сект разумней доверять.90
Конечно, каждый может ошибаться. А впрочем, может быть, и каждый прав. Спаси нас боже! Трудно продвигаться, В тумане маяка не распознав. Пора пророку новому заняться Защитой смелых догматов и прав; Изношенные мненья, в самом деле, За два тысячелетья потускнели.91
Но для чего запутался и я В тенетах метафизики? Не мне ли Противна эта вся галиматья? Безумье и судьба мне повелели О косяки загадок бытия Напрасно биться лбом. Осточертели Мне все проблемы эти навсегда; К терпимости я склонен, господа!92
Теолог я умеренный (не скрою!), Пресвитерьянец{909} и мыслитель, право. Умеренно люблю я Тир и Трою{910}, Как Элдон{911}, судия сей величавый. О доле низших классов я порою Толкую Джону Булю очень здраво, И, словно Гекла{912}, кровь кипит моя, Коль произвол тиранов вижу я.93
Политику, религию, смирение Вы встретите не раз в стихах моих; Я придаю огромное значение Моральной пользе диспутов таких. Я публике устроил развлечение Из разных философских заливных. Желая угодить любому нраву, я Загробной вас попотчую приправою.94
От споров я отрекся, видит бог! Теперь ни на какое искушенье Поддаться бы я, кажется, не мог; Я полное предвижу исправленье. А то читатель к музе очень строг: Опасными слывут ее сужденья, Хотя она едва ли злее тех Судей, чей труд велик, да мал успех.95
Ты веришь ли, читатель, в привиденья? Конечно, нет! Ты хмуришься? Так что ж! Тревоги и приятные волненья Ты в этой пестрой повести найдешь. Я говорю без всякого глумленья, Что этот мир таинственный — не ложь; Я веские имею основанья Уверовать в его существованье.96
Серьезно? Вы смеетесь?! Как же быть! А я предпочитаю улыбаться. Ведь, право же, могу я допустить, Что призраки способны появляться! Я не хочу об этом говорить, Чтоб на знакомство к ним не навязаться; Сам Гоббс в себе души не замечал, А посещенья мертвых ощущал. [176]97
Я ночью эти песни сочиняю То как сова, а то как соловей. Минервы птица мрачная и злая Над рукописью кружится моей; Со старых стен, кольчугами сверкая, Глядят портреты умерших людей, И угольки в камине слабо тлеют, — И мысли постепенно цепенеют.98
И посему (хотя при свете дня Я не привык писать) иные думы Бывают в яркий полдень у меня; Но полночи холодной мрак угрюмый Меня смущает, сердце леденя, — Мне бредятся таинственные шумы… Кто знал такое состоянье, тот Пусть это суеверьем назовет!99
Меж двух миров, па грани смутной тайны Мерцает жизни странная звезда. Как наши знанья бедны и случайны! Как многое сокрыто навсегда! Прилив столетий темный и бескрайный Смывает грани, толпы и года, Лишь мертвых царств угрюмые могилы В пространствах мира высятся уныло.Песнь шестнадцатая
{913}
1
Учили персы юношей при Кире{914} Стрелять из лука, ездить на коне И правду говорить. И в новом мире Мы это всё усвоили вполне; Конечно — лук в музее, а не в тире, Но конный спорт — по-прежнему в цене, А что до Правды — то сия наука Из моды вышла, как… стрела из лука.2
Эффект дефекта этого велик, Но сам «эффект сугубо дефективен»{915}, — А почему — судить я не привык; Одно лишь вам скажу: пусть я наивен, Пусть часто заблуждаюсь, но язык Патетики фальшивой мне противен. Уже не раз предупреждал вас я, Что муза очень искренна моя.3
Ее неотразимые сужденья Частенько бьют не в бровь, а прямо в глаз, И горьким, вместо сладкого варенья, Она гостей попотчует не раз, — Зато правдивы все ее творенья; Мы пишем с ней, предупреждаю вас, Чтоб вы на нас и впредь не обижались: «De rebus cunctis et quibusdam aliis»[177].4
Весьма правдивым будет мой рассказ — Рассказ о привиденьях, как ни странно, И даже без особенных прикрас! Но кто постичь способен смысл туманный Явлений тех, что окружают нас? Нам скептики мешают постоянно; Но рот давно пора закрыть тому, Кто б возражал Колумбу самому.5
В легендах и преданьях исторических Нам рассказали Монмут{916} и Турпин{917} О случаях чудесных и мистических, Реальных не имеющих причин. Всего искусней критиков скептических Опровергал блаженный Августин — Какими бы их возраженья ни были — Своим упрямым «quia impossibile»{918}.6
Жить надо смертным в духе старины, Придется предков следовать примеру; Несбыточному верить вы должны И невозможное принять на веру. Столь таинства священные сложны, Что мудрецы, рассудку зная меру, В них верят, как в Писание. Они От споров только крепче в наши дни.7
И Джонсон думал, что на протяженье Шести десятков горестных веков Тревожат человечество виденья И выходцы из призрачных миров. И тщетно им навстречу возраженья Возводят вал из доводов и слов: Есть в мире сила выше нашей силы, Которую сознанье не открыло.8
Но между тем закончился обед И даже ужин; танцы замирают, Замолк оркестр, в гостиных меркнет свет, Веселый шум и говор затихает… И вот последний бальный туалет, Как облачко на солнце, исчезает, А в окна льются лунные лучи, И гаснет свет слабеющей свечи.9
Напоминает прошлый пиршеств чад Шампанское на самом дне бокала, Пустую пену пунша, легкий взгляд, В котором тенью чувство пробежало, Морскую зыбь, неясный аромат, Круговорот пленительного бала, Систем философических туман И опиума радужный обман —10
Покоя или счастья благодать, Неясный бред, ничто, одно мгновенье… Всего трудней бывает понимать Души и мысли тайные движенья — Искусство тирский пурпур{919} добывать Так позабыли наши поколенья. Но пусть же в мире сгинут поскорей И пурпурные мантии царей!11
Одеться перед балом, говорят, Всем трудно, но труднее после бала Надеть хандрой пропитанный халат, Как Нессов плащ, и повторять устало, Что вслед за Титом{920} юноши твердят: «Опять потерян день, и ночь пропала!» По мне, однако, было бы умней Вести учет удачных наших дней.12
Мой Дон-Жуан один в своем покое Большое беспокойство ощущал; Глаза Авроры были ярче вдвое, Чем он со слов миледи ожидал, И знай он, что творится с ним такое, Он, верно, философствовать бы стал; Но, к философии не прибегая, Он попросту мечтал, порой вздыхая.13
Жуан вздыхал. А тут еще луна, Богиня всех вздыхающих, сияла, Настолько ослепительно ясна, Насколько наше небо позволяло. Лирической тоской уязвлена, Душа героя нашего пылала, В ней разгорался пафос нежных слов И томно-восклицательных стихов.14
Любовник, астроном и сочинитель, Поэт или влюбленный свинопас Луну — фантазий давнюю обитель — Почтили вдохновеньями не раз, Когда она, блестящая в зените, Рождает и простуду и экстаз, Приливами морей повелевает И томные сонеты навевает.15
Лирическим раздумьем обуян, В готическом покое горделивом Не думал о покое Дон-Жуан. Он видел, как мерцает прихотливо Гладь озера сквозь призрачный туман; Вдали, конечно, наклонялась ива, И водопад срывался с крутизны, Сверкая пеной снежной белизны.16
На столике — верней, на туалете (Я точности придерживаться рад; О самом незначительном предмете Я говорить не стану невпопад!) — Свеча горела тускло. В мутном свете Героя моего усталый взгляд Встречал картины, вазы, гобелены И темные готические стены,17
Он вышел в зал. В багетах темных рам, В неясной мгле таинственного света Мерцали величаво по стенам Прекрасные старинные портреты Давно почивших рыцарей и дам, — Кольчуги, шлемы, розы, кастаньеты… Портреты мертвых под лучом луны Особенно печальны и страшны.18
Суровый рыцарь и седой монах При лунном свете будто оживают; Шаги твои на дремлющих коврах Таинственные шорохи рождают; Во всех углах гнездится смутный страх, Причудливые блики выплывают: «Как смеешь ты блуждать в ночной тени, Когда не спят лишь мертвые одни?»19
Неуловимо-призрачно смеется Красавица, почившая давно; Ее истлевший локон резво вьется, Ее лицо луной озарено… Портрет навеки юным остается, Ему бессмертье странное дано; Ведь и при жизни все портреты наши Всегда моложе нас — и часто краше!20
Итак, Жуан мечтательно вздыхал О том, что все подвластно измененью — И женщины и чувство. Он шагал, Стараясь заглушить свое волненье, — И вдруг неясный шорох услыхал… Быть может, мышь? Быть может, привиденье? (Никто не любит слышать в час ночной Шуршанье между шторой и стеной!)21
Но то была не мышь, а тень немая Монаха в темной мантии, в шлыке; Он подвигался, глаз не поднимая, Сжимая четки в призрачной руке, Ныряя в тень и снова выплывая На лунный свет, как лодка на реке, — И только поравнявшись с Дон-Жуаном, Его пронзил каким-то взором странным.22
Жуан окаменел; хоть он слыхал О призраках в старинных замках этих, Но как-то никогда не допускал, Что человек способен лицезреть их. Он россказням совсем не доверял: Что призраки? Вранье! Ведь мы не дети! Но что-то вдруг мелькнуло перед ним, Как облако иль стелющийся дым,23
Три раза кряду это порожденье Земных, небесных или темных сил Прошло по галерее; без движенья За ним Жуан испуганный следил, И волосы его, как дуновенье, Неизъяснимый ужас шевелил. Остановить монаха он пытался… Увы! Язык ему не подчинялся!24
На третий раз таинственная мгла Глубокого глухого коридора Монаха поглотила. Там была Простая дверь, а может быть, и штора; Бесплотные и плотные тела Способны от внимательного взора Вдруг исчезать неведомо куда Без явственной причины и следа.25
Встревоженный Жуан не шевелился, Не отрываясь глядя в полутьму, В которой непонятно растворился Ужасный дух, явившийся ему. И каждый бы, я думаю, смутился, Увидев непонятное уму. Рассеянный и бледный, еле-еле Он ощупью добрался до постели.26
Здесь он протер глаза и поспешил Взглянуть вокруг: свеча на туалете Горела безмятежно. Он решил Найти забвенье в лондонской газете, Где дипломат, и критик, и зоил Охотно судят обо всем на свете — О короле, о ваксе, о балах, О внешних и о внутренних делах.27
Здесь все напоминало мир живых, Но все-таки его дрожали руки; Прочел он несколько столбцов пустых И, кажется, статью о Хорне Туке{921}; Под одеялом съежился, притих, Ловя тревожно все ночные звуки; И скоро сон — целитель слабых сил — Его глаза усталые смежил.28
Но часто просыпался он тревожно, Не понимая, что же видел он? Виденье ль? Сновиденье ль? Все возможно, Хоть суеверный страх уже смешон. К утру он задремал, но осторожно Слуга прервал его недолгий сон, Предупредив почтительно и чинно, Что время одеваться господину.29
Мой Дон-Жуан оделся. Сей обряд Обычно развлекал его немало, Но в этот день его унылый взгляд И зеркало почти не занимало. Он локоны расправил наугад И застегнул жилет довольно вяло, И галстук у него на левый бок Подвинулся — почти на волосок.30
Он появился к утреннему чаю; Рассеянно к столу придвинул стул И, на приветствия не отвечая, Рассеянно из чашки отхлебнул, Обжегся — и, смешков не замечая, За ложечкою руку протянул. Тут сразу угадала Аделина, Что тайная тоска всему причина.31
Он бледен был — она еще бледней. Она украдкой что-то прошептала, Лорд Генри невпопад ответил ей, Что на тартинках масла слишком мало. Графиня шалью шелковой своей Спокойно и задумчиво играла, Аврора же — святое существо — Во все глаза глядела на него.32
Печали без достаточной причины, Как водится, не терпит высший свет. «Здоровы ль вы?» — спросила Аделина. Жуан ответил: «Да… Немножко… нет…» Домашний врач осведомился чинно По части сердца и других примет, На что Жуан ответил лаконично, Что, право, чувствует себя отлично.33
«Да», «нет», «отлично» — странные слова, И выглядел Жуан довольно странно: У бедного кружилась голова, Да и в глазах темнело непрестанно. Он отвечал врачу едва-едва, И понял тот по виду Дон-Жуана, Что ежели недуг его лечить, То не врача бы надо пригласить.34
Лорд Генри между тем разговорился, Свой шоколад откушав превосходный, Сказал, что гость, наверно, простудился, Хотя погода не была холодной, — Потом к графине мило обратился: «Что граф? И как недуг его природный — Подагра, эта ржавчина господ, Суставы благородные грызет?»35
Жуану, как хозяин благосклонный, Он улыбнулся: «Вид у вас такой, Как будто наш монах неугомонный Нарушил ваш полуночный покой!» С гримасою притворно-удивленной, Но все-таки бледнея, мой герой Сказал, тревогу тайную скрывая: «Какой монах? Я ничего не знаю!»36
«Помилуйте! Фамильный наш монах! Легенда, впрочем, часто привирает; Но все-таки хоть в нескольких словах Вам рассказать об этом подобает, Хотя уже давно в моих стенах Сей древний посетитель не бывает. Не знаю — он ли стал смирней, чем был, Иль наше зренье разум притупил».37
«Ах, милый мой! — миледи возразила (Взглянув на Дон-Жуана моего, Она весьма легко сообразила, Что эта тема трогала его), — Я много раз, уж кажется, просила Не говорить об этом ничего; Шутить на эти темы неуместно, А древнее преданье всем известно».38
«Да я шутить совсем и не желал! — Сказал милорд. — Припомни, дорогая, Как нас он после свадьбы напугал, По галерее в сумерки блуждая!» Но тут он поневоле замолчал, Увидев, что супруга молодая Взялась за арфу, в струнах пробудив Задумчивый и жалобный мотив.39
«Баллада о монахе! Это мило! — Вскричал милорд. — Но ты прибавь слова, Которые сама же сочинила: Без текста эта музыка мертва!» Все общество тотчас же попросило Хозяйку спеть, на что она сперва Поколебалась, несколько смутилась — И под конец, понятно, согласилась.40
Прелестные певицы каждый раз Разыгрывают милое смятенье, Обычно умиляющее нас, — И Аделина, начиная пенье, Ни на кого не поднимала глаз, Но проявила тонкое уменье И высший дар изящной простоты (Что для меня дороже красоты).Песня леди Амондевилл
Спаси нас, помилуй, пречистая сила: Монах на могиле сидит, В полночной тиши за помин души Молитвы и мессы твердит. Когда разорил лорд Амондевилл Обитель отцов честных, Один не забыл священных могил Почивших братьев своих. Губя и деля мечом короля Угодья господних слуг, Топтали солдаты леса и поля И села сжигали вокруг. Но, строг и суров, не боясь оков, Печален, угрюм и упрям, В часовню и в дом, невидимый днем, Монах приходил по ночам. Порожденье злых или добрых сил — Не нам рассуждать о том, — Он в замке лордов Амондевилл Обитает ночью и днем; Он тенью туманной мелькает, незваный, На свадебных их пирах И в смертный их час, не спуская глаз, Стоит у них в головах. Встречает он стоном, страданьем бессонным Рожденье наследников их; Предвидя невзгоду, грозящую роду, Является в залах пустых. Тревожною тенью скользит привиденье, Но лик капюшоном закрыт, И взор его странный тоской постоянной, Могильной тоскою горит. Спаси нас, помилуй, пречистая сила: Хозяева в этих стенах Днем — внуки лорда Амондевилла, А ночью — этот монах. В обители древней гнездится страх, А тень продолжает блуждать, Ни лорд, ни вассал еще не дерзал Права его отрицать. Не трогай монаха, что бродит по залам, — И не тронет тебя монах. Как ночи туманы, беззвучно, устало Он движется тихо впотьмах. Спаси его душу, пречистая сила, От темных страстей защити, И что бы страданьем его ни томило, — Грехи его отпусти!41
Слова замолкли. Слабое дрожанье Последних струн растаяло, как сон, И после трехминутного молчанья (Обычный акустический закон) Посыпались восторги, восклицанья Наперебой, но все же в унисон: Хвалили все в порыве восхищенья И голос и манеру исполненья.42
Прелестная хозяйка им в ответ Лениво и небрежно улыбалась. Ведь никакого дива в этом нет, Она давно уж этим занималась; Она, мол, дилетант, а не поэт! (И потому ей как бы позволялось И творчество других знакомых дам Причислить к дилетантским пустячкам!)43
Так в детской книжке я не раз читал, Что киник Диоген в дому Платона Платона гордость с гордостью топтал, Его ковер[178] порвав бесцеремонно. На ссору он собрата вызывал, Но тот хранил довольно непреклонно В душе философический покой И был весьма доволен сам собой.44
Я вспомнил этот маленький рассказ, Поскольку нашей леди Аделине Случалось обесценивать не раз Улыбкой дилетантскую гордыню И восхвалений родственный экстаз, Когда порой маркиза иль графиня Пыталась проявить в кругу семьи Таланты и способности свои.45
О, нежные, чувствительные трио! О, песен итальянских благозвучие! О, «Mamma mia!»[179] или «Amor mio!»[180], И «Tanti palpiti»[181] при всяком случае, «Lasciami»[182], и дрожащее «Addio»[183], И, наконец, как верх благополучия, — Романсик португальский «Тu chamas»[184] (Слова, непостижимые для нас!).46
Миледи пела мрачные баллады, Туманной Каледонии{922} преданья, Унылые, как рокот водопада, И скорбные Ирландии рыданья, Что за морем изгнанникам отрада, Уже не ждущим с родиной свиданья. Стихи и эпиграммы иногда Миледи сочиняла без труда.47
И не была чужда ее натуре Простая краска синего чулка, — То не был цвет возвышенной лазури{923}, Оттенок бирюзы и василька, Что ныне принят так в литературе; Она ценила ясность языка, Считала Попа подлинным поэтом И откровенно признавалась в этом.48
Аврора Рэби по сравненью с ней Была скромна и говорила мало; Она невинной грацией своей Шекспира героинь напоминала. В стране фантазий, призраков и фей Ее душа прелестная витала, Высоких чувств и мыслей глубина В ее очах была отражена.49
Но грацией, достойной граций Греции, Графиня Фиц-Фалк затмевала всех; Как в небе легкомысленной Венеции, В ее глазах сиял лукавый смех. Но тонких яств отнюдь не портят специи — Лукавство не считается за грех, А чересчур безгрешная красавица Нам, грешникам, гораздо меньше правится.50
К романтике особого пристрастья Не проявляла, кажется, она; Героев демонических несчастья И героинь печальных имена В ней вызывали слабое участье; Она была довольно холодна К поэзии, однако признавала Сонеты (к ней самой) и мадригалы.51
Но я не знаю все-таки, ей-ей, Что именно миледи побудило Пропеть о том, что, как казалось ей, Жуана волновало и томило; Быть может, милой песенкой своей Его развеселить она решила? А может быть, — кто женщину поймет! — В нем робость укрепить, наоборот?52
Всего верней, она имела целью Ему покой душевный возвратить. Ни предаваться крайнему веселью, Ни слишком ощутительно грустить Не позволяет светское безделье; Аристократу следует носить, Как подобает возрасту и чину, Притворства благовидную личину.53
И точно — оживился мой герой И принялся острить весьма охотно О призраках, полночною порой По комнатам гуляющих бесплотно В тоске и жажде мести родовой, — А юная графиня беззаботно Расспрашивать хозяев принялась, Откуда вера в чернеца взялась.54
Никто не мог, конечно, проследить Источники старинного преданья. Иные полагали, может быть, Что этот миф имеет основанья; Но Дон-Жуан решился утаить Чудесные свои переживанья И на вопрос: «Смущал ли призрак вас?» Едва ответил и не поднял глаз.55
Тем временем в беседе беззаботной Уже за полдень стрелка перешла. Решили все, позавтракавши плотно, Что время приниматься за дела. Мужчины в поле двинулись охотно: Там гонка славная гостей ждала — Борзых отличных свора боевая И кровная кобыла скаковая.56
Потом принес какой-то антиквар Хозяевам творенье Тициана; Сказал он, что на этот экземпляр Придворные нацеливались рьяно, Да им не по деньгам такой товар; Он даже королю не по карману, Поскольку урезают каждый год Теперь его величества доход.57
Но лорду Генри — первому эстету, Имеющему щедрость и размах, Он рад бы подарить картину эту, Будь он, купец, немного при деньгах. Художники, артисты и поэты Так щедро рассыпались в похвалах Чутью милорда — мол, его сужденье Имеет колоссальное значенье.58
Тут архитектор новый появился; Старинной готики туманный бред Он воплощал и выяснить стремился Столетиями нанесенный вред. Он с планом перемен таких носился, Что от Аббатства бы пропал и след. Гордился он подобной профанацией, Свой труд провозглашая реставрацией.59
Английских денег не жалея, лето Здесь проводил недаром ловкий гот, И предъявил он выкладки и сметы: Одиннадцатитысячный расход. Он бойко уверял, что трата эта И выгоду и славу принесет, Способствуя красе и возрожденью Почтенного старинного строенья. [185]60
Явились два юриста — обсудить Залог усадьбы и покупку леса. Любил лорд Генри тяжбы заводить И вскоре ждал судебного процесса, Потом пришлось свинарник посетить, Хозяйства соблюдая интересы; Там были свиньи самый первый сорт — Готовил их на выставку милорд.61
Потом пришли попавшие в ловушку Два браконьера с хмурым лесником И девушка — смиренная пастушка В большом плаще пунцовом с башлыком. На вид она была совсем простушка; Но я с плащами этими знаком, И помню пылкой юности грехи я: Скрывают полноту плащи такие.62
Но обсуждать не собираюсь я Естествознанья тайны и загадки, Притом и сплетни — тема не моя; Сограждан исправляя недостатки, Амондевилл, как мировой судья Оберегал законы и порядки, И сельские констебли посему Виновную доставили ему.63
О судьбах мира судьи мировые Пекутся, охраняя от потравы Луга, леса, и парки родовые, И сельские нетронутые нравы. Но как решить проблемы роковые? Как отличить проступок от забавы? Всего трудней охрана диких птиц И честности хорошеньких девиц.64
Виновная бледна была ужасно, Как будто набелилась нарочито. (Обычно эти щечки были красны; Румян не знают сельские хариты!) Меж тем как леди именно прекрасны Той бледностью особо родовитой, Что лишь от страсти или от стыда Сменяется румянцем иногда.65
Хорошенькие глазки озорные Туманились слезами, но она Старалась не заплакать; ведь впервые Сюда она была приведена И помнила, что слабости такие Выказывать на людях не должна, Тревожилась, робела, трепетала И с ужасом допроса ожидала.66
Не всех их, впрочем, — что легко понять, — У лорда в кабинете принимали. Юриста можно в комнаты позвать, А племенного кабана — едва ли; Да и крестьян не принято пускать В приемную, где бойко толковали, Как генералы, собираясь в бой, Купец и архитектор городской.67
Констебли эль потягивали вяло С невозмутимым видом важных птиц, Виновная в гостиной ожидала Прихода властью облеченных лиц, Которым совещаться надлежало О термине, зазорном для девиц, На языке юристов очень тонко Звучащем в двух словах: «отец ребенка».68
Лорд Генри в каждом деле проявлял Энергию и подлинное рвенье; Всех поваров он воодушевлял, Готовивших большое угощенье. Амондевилл, как водится, давал Для всех своих друзей без исключенья Открытый день, когда в открытый дом Сбирались все соседи на прием.69
В неделю раз такие дни бывали, Когда и приглашенья не нужны: Соседи все отлично понимали — Без приглашенья все приглашены. Столы большие накрывались в зале, И, будучи вином упоены, Все гости выражали без стесненья За кушаньем общественное мненье.70
Лорд Генри предавался, как игрок, Предвыборных страстей соревнованью: Был выборам в парламент близок срок, А в округе меж тем имел влиянье Шотландский граф и с ним его сынок, И представлял, весьма стремясь к избранью, «Противный интерес» сей графский сын — Хоть интерес-то был у них один.71
Амондевилл использовал отлично Предвыборные средства обольщенья: С иными он любезничал тактично, Иным давал он щедро заверенья. Конечно, эта мера непрактична И может довести до разоренья, Но он людей, однако, уважал — И слово по возможности держал.72
{924}
Горячий друг свободы и не менее Горячий друг правительства, умел Он среднего придерживаться мнения: И патриота качества имел, И скромно получал вознаграждения, Поскольку он противиться не смел Монаршей воле; деньги, чин — пустое, Но колебать не следует устои.73
Он «смел сказать» (подобный оборот Парламентский язык нам позволяет), Что дух прогресса в наши дни живет И новшества сторицей умножает. Пусть лести от него смутьян не ждет — Но для сограждан он на все дерзает. Что до чинов, то тяжки их плоды — Доход ничтожен, велики труды.74
Тому порукой небо и друзья — Он был рожден для мирного уюта, Но короля и родину нельзя Оставить в столь опасную минуту, Когда, устоям общества грозя, В народе демагоги сеют смуту, Рубя, путем коварства и хулы, И гордиев и прочие узлы.75
Нет, служит он из уваженья к сану И, будучи в делах неукротим, Работает упорно, неустанно, Предоставляя выгоды другим; Но он чины отстаивает рьяно, Недаром пыл его неистощим, — Как без чинов порядок бы хранился? Гордится он, что бриттом он родился!76
Себя он независимым считал И был таким, конечно уж, не менее, Чем те, кто от казны не получал За независимость вознаграждения. Ведь не сравнится профессионал С непрофессионалами в умении — Так знать на чернь взирает свысока, А нищему лакей дает пинка.77
Так говорил наш лорд Амондевилл (Последнюю октаву исключая). Предвыборный такой бывает пыл, Но я ни на кого не намекаю И лично никого не очернил, А все-таки разумно умолкаю — Тем более что гонг уже звенит И рой гостей в столовую спешит.78
Я не хочу опаздывать к банкету, Хотя банкетов много я видал. Все как всегда — закуски, туалеты, Холодное жаркое, жаркий зал; Всем скучно, всё — в границах этикета (Британского веселья идеал): Остроты слабы, разговоры мелки, И гости — каждый не в своей тарелке.79
Усердно сквайры кушают и пьют, Надменны снисходительные лорды: Вокруг лакеи чинные снуют, Держась довольно чопорно и гордо; Они по рангу яства подают, Чины гостей запоминая твердо (Ошибка в том для слуг и для господ Потерю места за собой влечет).80
Здесь было много праздных болтунов, Отъявленных любителей охоты, Владельцев чистокровных скакунов, Борзых и гончих лучшего помета; Здесь были представители дельцов И пастыри высокого полета, Любители хоралов и псалмов И тонкие властители умов.81
Здесь были и изгнанники столицы, Потрепанные франты всех пород, В деревню прискакавшие учиться Вставать с зарей и умножать доход. Со мною (не могу не похвалиться!) Сидел вероучения оплот, Великий Питер Пит{925} — гроза и слава, «Гремящим» называемый по праву.82
Его я прежде в Лондоне встречал, — И уж тогда, отмечу с восхищеньем, Он на себя вниманье обращал Остротами и тонким обхожденьем; Обеды у прелатов посещал И, взысканный разумным провиденьем, В Линкольне получил на третий год Богатый, но запущенный приход.83
Увы! Его прекрасные тирады, Его остроты, выдержки, сравненья На паству — или, правильней, на стадо — Производили мало впечатленья; Ничьи улыбки нежные и взгляды Ему не выражали одобренья — И стал он эту паству наконец Бить шутками с размаху, как кузнец!84
Есть разница, в народе говорится, Меж нищенкой и королевой… Да… Точней — была: трудненько стало житься Теперь и королевам иногда{926}. Бифштекс английский, правда, не сравнится С похлебкою спартанской, господа, Но все же настоящего героя И то вскормить способно и другое.85
Построен на контрастах белый свет; Закон контрастов, видно, самый древний, — Но большего различья в мире нет, Как меж столицей пышной и деревней; Не знаю я, что выбрал бы поэт, Но деревенский быт всего плачевней Для тех, кто пуст и сердцем и умом, Заботясь о тщеславии своем.86
Но «en avant»![186] Любви всегда вредит Обилие гостей и сытный ужин; Лишь тонко утоленный аппетит Для сердца впечатлительного нужен. Легенда древних правду говорит: С Церерой и с Кипридой Бахус дружен — Недаром же придумали они Шампанское и трюфли в наши дни!87
Но мой Жуан скучал на самом деле И думал думу тайную свою; Вокруг него все гости пили, ели, Вокруг него согласно, как в бою, Ножи и вилки весело звенели, — Рассеянный и близкий к забытью, Услышал он лишь со второго разу Соседа умоляющую фразу.88
С большого блюда добивался он Достать через Жуана «ломтик рыбки»… Жуан очнулся и со всех сторон Увидел изумленные улыбки. Рассержен, озабочен и смущен, Воткнул он вилку (как бы по ошибке) В огромный неразрезанный кусок — И весь его соседу поволок!89
Просивший не в убытке оказался (Он был любитель рыбы, говорят), Но остальным любителям достался Лишь маленький кусочек и салат. И в том, что гость так явно растерялся, Лорд Генри оказался виноват: Он потерял трех верных избирателей За то, что плохо выбирал приятелей.90
Что Дон-Жуан о призраке мечтал, Они не замечали, и не диво: Желудки всех гостей отягощал Избыток яств; все кушали ретиво, И каждый поневоле ощущал Телесности простейшие призывы; В телах с таким составом, так сказать, Духовный дух не может обитать!91
Но быстрые внимательные взоры Помещиков и их лукавых жен, Конечно, уловили очень скоро, Что бледен Дон-Жуан и раздражен; И это стало темой разговора, Таков уж сельской психики закон — Все мелочи из жизни лиц известных Для мелкоты ужасно интересны.92
Но ничего Жуан не замечал; Его томило новое явленье: Глаза Авроры вдруг он повстречал, И странное в них было выраженье. Конечно, этот взор не обещал Любви или надежды на сближенье, Но он (не знаю, право, отчего) Совсем смутил героя моего.93
Лицо ее, однако, выражало Лишь удивленье и участье, но Он сильно рассердился поначалу, Что было, несомненно, неумно. Подобное участье предвещало, Что штурмом крепость взять не мудрено; Но призрака вчерашнего явленье Жуана привело в оцепененье.94
Она была спокойна и мила; Она не покраснела, не смутилась, Глаза свои небрежно отвела И ни на миг в лице не изменилась. Аврора очень сдержанна была, Но чувство в ней заветное таилось; Так ясное спокойствие волны Скрывает тайну светлой глубины.95
Тем временем, распределяя вина, Улыбки и зернистую икру, Вела весьма умело Аделина Тщеславия азартную игру. Имеющие мужа или сына В предвыборном парламентском жару Стремятся обезвреживать заранее Все рифы на пути переизбрания.96
Но как миледи ни была умна, А все-таки Жуану показалось, Что этой ролью, в сущности, она, Как танцем, поневоле увлекалась. Хотя порой, слегка утомлена, Она ему печально улыбалась, — Он в искренности взглядов и похвал Все большее сомненье ощущал.97
Она пленяла всем — и красотой, И грациозной лаской обхожденья. Мы часто называем пустотой Изменчивость такого поведенья, Рождаемого светской суетой. Искусство лжи ведь редкое явленье; Порою даже просто не поймешь — Где искренность, где искренняя ложь? [187]98
Сей дар рождает множество актеров, Ораторов, героев, романистов, Поэтов, дипломатов и танцоров И — чрезвычайно редко — финансистов. Однако что ни век, то новый норов! Теперь и наши канцлеры речисты: Преподносить умеют нам они Не цифры, а метафоры одни.99
Увы! Сии поэты арифметики Уже почти берутся доказать, По правилам финансовой поэтики, Что дважды три не шесть, а только пять, И принципы платежной новой этики Пытаются на этом основать, — И — как народу от того ни грустно — С балансом балансируют искусно.100
Графиня стушеваться предпочла, Пока миледи чары расточала; Мечтательна, лукава и мила, Она тайком смешное примечала; Так собирает светская пчела, Оружием которой служит жало, Злословия пленительного мед Для метких и безжалостных острот.101
А между тем уж свечи зажигают, А там, глядишь, и ужин подают; Кареты торопливо запрягают, И сельские жеманницы встают. Их робкие мужья сопровождают, Как верные лакеи, тут как тут, Хваля закуски, сладкое и вина, Всего же пуще — леди Аделину.102
Иные в ней ценили красоту; Другие — тонкой лести обаянье, Игру ума и сердца чистоту, Правдивости приятное сиянье; Иные — туалета простоту И тонкий вкус; такое сочетанье Арбитр Петроний — где-то я читал — «Felicitas Curiosa»[188] называл. [189]103
Миледи, проводив гостей своих, Восстановив слабеющие силы, За каждый взгляд, потраченный на них, Старательно себя вознаградила; Коварная не только их самих, Но даже их семейства обсудила, Их жалкие наряды, глупый вид — И даже их нелепый аппетит!104
Она, конечно, не судила прямо, А косвенно, как хитрый Аддисон{927}{928}: Друзей насмешки, злые эпиграммы С ее «хвалами» слились в унисон. Так музыка, вплетаясь в мелодраму, Трагический подчеркивает тон. (Не страшен враг, разящий нас открыто; Страшна друзей коварная защита!)105
Но к фейерверку светской болтовни Аврора оставалась безучастна; Молчал и Дон-Жуан; они одни Держались равнодушно и бесстрастно. Мой юный друг старался быть в тени, Точней — вдали от общества; напрасно Блестящий дождь острот его прельщал — Он как бы ничего не замечал.106
В глазах Авроры чувство одобрения Он мог, ему казалось, прочитать; Она предполагала, без сомненья, Что ближних он не любит осуждать. Прелестных глаз живое выраженье По-разному мы можем толковать, Но мы всего охотней в них читаем Лишь то, о чем мы сами же мечтаем.107
На Дон-Жуана призрак оказал Отчасти благотворное влиянье — Мой юный друг задумываться стал И впал в непостижимое молчанье. Аврора Рэби — светлый идеал — Вновь разбудила прежние желанья В его груди — и начал он опять По-прежнему лирически мечтать!108
О, лучших лет высокая любовь, Пора надежд, невинности небесной, Когда блестит в тумане светлых снов Грядущий мир волшебно-неизвестный, Когда везде мы слышим тайный зов Счастливых сил и радости чудесной, И в сердце, словно в озере — луна, Она, одна она отражена!109
Кто не вздохнет, любезная Киприда, В ком сердце было или память есть? Мы все твои проказы и обиды Готовы вновь простить и перенесть! Сменяется светильник Артемиды; Всему судьба, состарившись, отцвесть. Но, Alma Venus[190]{929}, ты воспета нами, Анакреона верными сынами.110
Что ж мой герой? Тревогою объят, Предчувствуя монаха приближенье, Он облачился в шелковый халат, Но слать не мог в подобном настроенье. Мне скептики поверить не хотят; Но юности живой воображенью Рисуются туманы, и луна, И, вместо маков, ива у окна,111
Как накануне, полночь наступила. Луна взошла на синий небосвод, — А на постели, съежившись уныло, Сидел Жуан в халате, sans culotte[191]. В нем сердце настороженное ныло, Предвосхищая призрака приход. (Кто не бывал в подобном состоянье, Того не убедят и описанья!)112
Чу! Осторожный шорох за дверьми! Чу! Половица скрипнула немножко! Все ближе, ближе, ближе… не томи! Мелькнула тень у самого окошка… Но это… это что же, черт возьми?! Да это, в самом деле, просто кошка, Спешащая, как ветреная мисс, На первое свиданье — на карниз!113
Но снова шорох… Ветра дуновенье? Шуршанье беспокойное листвы? Нет… Неподвижны люди и растенья… Из лунной возникая синевы, Монаха роковое привиденье Идет, не поднимая головы. Ничто остановить его не в силах, И кровь Жуана застывает в жилах.114
Так от скрипенья мокрого стекла Мы ощущаем приступы озноба; Так ночью нас пугают зеркала, Хотя пугаться, в сущности, смешно бы — И вера б вас от страха не спасла, Когда б, приподнимая крышку гроба, Какой-нибудь общительный скелет Вам навязать стремился tête-à-tête.115
И страх способен наносить увечья! Жуан открыл глаза и даже рот. Когда врата открыты красноречья, Ни звука наш язык не издает… Слаба, конечно, воля человечья, Когда момент ужасный настает. Итак — открылся рот, как говорилось, А вслед за сим — о ужас! — дверь открылась.116
Казалось, петли издавали хрип, — «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate»[192]{930}, Как Дантовы терцины, — и могли б Перепугать и бравого солдата… Ужасен каждый шорох, каждый скрип В глухую полночь, под лучом Гекаты, Когда дрожит — прости ее господь! — Перед бесплотным духом наша плоть.117
Открылась дверь с каким-то плавным взмахом, Подобным взмаху птичьего крыла, И в тот же самый миг (клянусь аллахом!) Сама собой обратно отошла. И вот, колебля как бы тайным страхом Огонь свечи посереди стола, Явилось на пороге черной тенью Монаха роковое привиденье.118
Сперва Жуан, понятно, задрожал, Но на себя тотчас же рассердился, Что пред бесплотным духом оплошал; В нем дух иного сорта пробудился; Он кулаки и зубы крепко сжал И доказать обидчику решился, Что, если плотью дух руководит, Бесплотный дух ее не победит!119
Ужасный гнев Жуана охватил, Старинная вскипела в нем отвага. И что же? Призрак сразу отступил, Когда в его руке увидел шпагу. Однако вовсе он не уходил, Но пятился, не прибавляя шагу; Жуану он рукою погрозил И, очутившись у стены, застыл.120
Жуан смотрел в упор на привиденье И, замирая страхом и тоской, Холодное стены прикосновенье Вдруг ощутил дрожащею рукой. (Всего страшней подобные явленья: Какой-нибудь ничтожный домовой Героя напугать способен боле, Чем тысячное войско в ратном поле!)121
Но все-таки монах не уходил. Жуан заметил глаз его сверканье, Он даже, как ни странно, ощутил Виденья осторожное дыханье И, приглядевшись ближе, различил Неясные живые очертанья: Румяные уста, изящный нос И легкий локон шелковых волос.122
Тут мой герой невольно встрепенулся, Решившись снова руку протянуть. И что же? Неожиданно наткнулся На нежную трепещущую грудь! (Когда стены он давеча коснулся, Он, видимо, ошибся как-нибудь!) На этот раз рука не заблудилась: Вздымалась грудь, и даже сердце билось.123
Прелестный дух испуганно дышал, Потупившись лукаво и смущенно; Его лица почти не защищал Унылый, мрачный траур капюшона — Он медленно на плечи опадал… Кого ж узрел герой мой удивленный В игриво-нежном образе мечты? Графини Фиц-Фалк милые черты!Песнь семнадцатая
{931}
1
Мир полон сирот; говоря точней, Есть сироты в прямом значенье слова, Но одинокий дуб порой пышней Дерев, растущих тесно, бестолково. Есть сироты, чья жизнь еще грустней: Их нежности родительской сурово В младенчестве лишил жестокий рок И на сиротство их сердца обрек.2
Единственные дети представляют Особый случай; именно о них Упрямо поговорка заявляет: «Единственный ребенок — баловник!» Я знаю точно, — если нарушают Родители при воспитанье их Любви границы, — бедное созданье Растет, как сирота, без воспитанья.3
Словечко «сирота» рисует нам Измученных ребят в приходских школах, Носящихся по жизненным волнам, Как жалкие обломки. Рок тяжел их; Их мулами не зря назвали там. Нам грустно видеть сирот полуголых; Но если суть вещей уразуметь — Богатых сирот надо бы жалеть. [193]4
Самим себе предоставляют рано Подобных сирот их опекуны, Хотя их охраняют неустанно Закон и все законники страны; А в результате все-таки нежданно, Как курица, они поражены, Когда утенок, высиженный ими, Бежит к воде, чтобы уплыть с другими.5
Есть пошлый довод; все им защищаются От света новых истин искони: «Когда ты прав, так, значит, ошибается Весь мир», — а это ереси сродни. Но и обратный довод представляется Возможным — небывалый в наши дни: «Раз ты не прав — так остальные правы!» Но может ли так быть? Не знаю, право.6
Свободу слова я бы учредил Для всех и вся. Ведь это — благодать! Пусть каждый век стремится что есть сил Предшествующий бурно обвинять, — Мол, был он зол, и глуп, и туп, и хил, — А ведь того не хочет замечать, Что прежний парадокс сугубо лют, ор — тодоксом став; тому примером Лютер.7
Из таинств признавал он только два, А ведьм и вовсе отрицал. Ну что же? «К чему нам жечь старух?» — сии слова Вполне гуманны, но — прости мне, боже, — Есть суки, чья природа такова, Что нужно бы подпаливать их все же! А жечь старух невежливым считается, Хотя сэр Мэтью Хейлс{932} и огорчается.8
Когда поставил солнце Галилей На место, поместили Галилея В тюрьму{933}, чтоб он не совращал людей, Провозглашая странную идею Вращения Земли. И много дней Томился он, слабея и старея; А ныне мудрецом объявлен он. Наверно, прах его весьма польщен!9
Локк, Пифагор, Сократ — я мог бы с вами Назвать десятки скорбных сих имен — Все мудрецы считались чудаками, Пока их тезис не был утвержден. Умнейшие из них готовы сами Откладывать до будущих времен, Когда от лавров проку будет мало им, Всю славу, коей мы великих балуем.10
Но если и титаны так скромны, — Мы, мелкий люд, на рок не обижаясь, Уж вовсе быть покладисты должны. Я, например, от всей души стараюсь, — Да желчь меня замучила; вредны Мне впечатленья — сразу я взрываюсь; Я стал бы totus teres[194], как мудрец, — Но дунет ветер — и всему конец!11
Я выдержан, но часто не хватает Мне выдержки: я скромен, но упрям; Я тих, когда меня не раздражают, Я весел, но грущу по пустякам. Я — semper idem[195], но порой пылает В моей крови Hercules furens[196] сам; Во мне всегда, насколько мог постичь я, Две-три души живут в одном обличье.12
Итак, остался мой прекрасный дон В том щекотливом, «лунном» положенье, Когда принять мужчина принужден Без колебаний смелое решенье. Но сохранил ли добродетель он Иль сгоряча поддался искушенью, — Я не скажу, меня не подкупить; Вот разве поцелуем, может быть.13
Вопрос я оставляю нерешенным. Итак, настало утро. Завтрак. Чай. (Его не петь, а только пить дано нам.) Но лиру я попортил невзначай, Бренча хвалы влиятельным персонам — Гостям Амондевилла. Примечай: Последними изволили явиться Графиня и Жуан невиннолицый.14
От встречи ль с призраком (боюсь сказать) Иль от чего другого — полусонным Был мой герой. Он мог бы так устать, Когда бы дрался с целым батальоном! Он жмурился, стараясь не дремать; Графиня тоже с видом истомленным Сидела тихо и бледна была, Как будто до рассвета не спала.Примечания
1
В сохранившихся тайных донесениях полицейских агентов, систематически следивших за Байроном, сообщалось, в частности, что эта организация отличалась стремлением «разжечь опасный дух в простом народе».
(обратно)2
Издание этой песни в итальянском переводе было конфисковано австрийским правительством.
(обратно)3
Байрон сам подчеркнул это, заявив, что его задача в «Дон-Жуане»— «сатира на злоупотребления в современном обществе».
(обратно)4
Эта несправедливость была исправлена лишь недавно: в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства была установлена мемориальная доска с именем Байрона.
(обратно)5
Robert Еscarpit, Byron, Editions Seghers, Paris, 1965, p. 40.
(обратно)6
Бернард Шоу, другой великий мастер иронического парадокса, последовал примеру Байрона в пьесе «Человек и сверхчеловек», заставив своего модернизированного Жуана (Джона Теннера) и донну Анну (Энн Уайтфилд) поменяться ролями: ей принадлежит роль преследовательницы, ему — роль преследуемой жертвы.
(обратно)7
Мир подобен книге, и тот, кто знает только свою страну, прочитал в ней лишь первую страницу. Я же перелистал их довольно много и все нашел одинаково плохими. Этот опыт не прошел для меня бесследно. Я ненавидел свое отечество. Варварство других народов, среди которых я жил, примирило меня с ним. Если бы это даже являлось единственной пользой, извлеченной мною из моих путешествий, то и тогда я не пожалел бы ни о понесенных расходах, ни о дорожной усталости. — «Космополит» (франц.).
(обратно)8
«Да здравствует король!»{61} (исп.)
(обратно)9
Пусть это занятие заставит вас думать о другом; поистине только оно, да еще время способны вас излечить.
Письмо короля Пруссии Даламберу, 7 сент. 1776 (франц.).
(обратно)10
Я видел Тоскану, Ломбардию, Романью, те горы, что разрезают Италию надвое, и те, что отгораживают ее, и оба моря, которые омывают ее. Ариосто, Сатира III (итал.).
(обратно)11
Мне кажется, что в стране, где все исполнено поэзии, в стране, которая гордится самым благородным и в то же время самым красивым языком, еще открыты все дороги, и, поскольку родина Альфиери и Монти не утратила прежнего величия, она во всех областях должна быть первой (итал.).
(обратно)12
Лоза человеческая рождается в Италии более мощной, чем где бы то ни было, и это доказывают даже те преступления, которые там совершаются (итал.).
(обратно)13
Я там не прикоснусь к струне, Где черни вой терзает уши мне (итал.). (обратно)14
6. Вордсворт получил как будто место не то в таможне, не то в акцизе, не говоря уже о месте за столом лорда Лонсдела, где этот поэтический шарлатан и политический паразит быстро и бойко подбирает все крошки. Раскаявшийся якобинец уже давно превратился в шута и сикофанта, потворствующего худшим предрассудкам аристократии. (Прим. Байрона).
Цифра в начале примечания обозначает номер соответствующей строфы. Пояснения к тексту Байрона даются тут же в прямых скобках. Перевод примечаний Байрона принадлежит Н. Дьяконовой. (Прим. ред).
(обратно)15
11. Говорят, что две старшие дочери Мильтона похищали его книги и, кроме того, обманывали и мучили его во всевозможных домашних делах. По всей вероятности, его чувства отца и ученого были очень больно этим задеты. Хейли сравнивает его с Лиром. См. часть III «Жизни Мильтона» Уильяма Хейли. (Прим. Байрона).
(обратно)16
12. Или так:
Не мог бы он стать низким лауреатом, Продажным презренным Искариотом.[Искариот — Иуда.] Сомневаюсь, можно ли считать «лауреата» и «Искариота» хорошими рифмами, но должен сказать то же, что Бен Джонсон сказал Силвестеру, когда тот вызывающе предложил ему ответить стихами на следующий стишок:
Я, Джои Силвестер твой, Жил с твоей сестрой.Джонсон ответил:
Я, Бен Джонсон, Жил с твоей женой.Силвестер сказал: «Это не стихи». — «Верно, — ответил Бен Джонсон, — но зато это правда». (Прим. Байрона).
(обратно)17
«Середина дела»{397} (лат.).
(обратно)18
«Отче наш» (лат.).
(обратно)19
Черт побери (англ.).
(обратно)20
17. «Description des vertus incomparables de l’huile de Macascar». [ «Описание несравненных достоинств макассарского масла для волос».] См. объявления. (Прим. Байрона).
(обратно)21
Злой умысел (лат.).
(обратно)22
42. См. у Лонгина, раздел 10: «Желательно, чтобы она обнаруживала не одну страсть, а сочетание страстей». [Лонгин Кассий (213–273) — римский ученый, грамматик; ему приписывалось сочинение «О возвышенном».] (Прим. Байрона).
(обратно)23
«Пастух Коридон к красавцу»{414} (лат.)
(обратно)24
44. Это факт. Существует — или существовало — такое издание, в котором все непристойные эпиграммы Марциала были собраны вместе в конце. (Прим. Байрона).
(обратно)25
Сказанного достаточно! (лат.).
(обратно)26
Между нами (лат.).
(обратно)27
Между нами (франц.).
(обратно)28
88. Как будто это из «Гертруды из Уайоминга» Кэмбела. Кажется, это начало второй песни, но я цитирую по памяти. [Кэмбел Томас. — См. прим. к «Посвящению». (см. коммент. 383 — верстальщик)] (Прим. Байрона).
(обратно)29
148. Испанский кортехо — примерно то же самое, что итальянский cavaliere servente. [Cavaliere servenie — признанный поклонник замужней женщины (итал.).]
Донна Юлия здесь ошиблась. Граф О’Рилли не только не захватил Алжир, но, наоборот, Алжир чуть не захватил его: вместе со своей армией и флотом он отступил от этого города с тяжелыми потерями и без всякой славы в 1775 году. [Граф О'Рилли (1722–1794) — испанский генерал, по происхождению ирландец.] (Прим. Байрона).
(обратно)30
Пробел (лат.).
(обратно)31
Любовная записка (франц.).
(обратно)32
Она всюду следует за вами{443} (франц.).
(обратно)33
Путеводитель; буквально: «иди за мной» (лат.).
(обратно)34
«Я не стерпел бы этого в дни пылкой юности»{450} (лат.).
(обратно)35
216. Me nec femina, nec puer
Jam, nec spes animi credula mutui, Nec certare juvat mero;
Nec vincire novic tempora floribus.
[Ни женщина, ни мальчик, ни доверчивая надежда взаимно расположенных душ, ни усердие над вином уже не радуют меня; и новым цветам не победить времени.] Гораций, Оды, IV, 1. (Прим. Байрона).
(обратно)36
7. Фаццоли — буквально: платочки; наиболее распространены в городе святого Марка [то есть Венеции]. (Прим. Байрона).
(обратно)37
Водка; буквально: жизненная вода (лат.).
(обратно)38
Ум, разум (греч.).
(обратно)39
И прочее (лат. и франц.).
(обратно)40
Здесь: поклонник замужней женщины (итал.).
(обратно)41
Связь (франц.).
(обратно)42
Наклонности (франц.).
(обратно)43
71. Наряд этот — мавританский, а браслеты и обруч носят так, как здесь описано. Читатель увидит из дальнейшего, что, поскольку мать Гайдэ была родом из Феса, ее дочь следовала моде этой местности. (Прим. Байрона).
(обратно)44
72. Золотой обруч на ноге повыше щиколотки обозначает высокое происхождение женщин, принадлежащих к роду деев. Этот обруч носят также родственники деев. [Дей — один из титулов некоторых мусульманских правителей в Северной Африке.] (Прим. Байрона).
(обратно)45
Гневные пророки (лат.).
(обратно)46
«Боже, храни короля!»{508} (англ.).
(обратно)47
«Дело пойдет на лад!»{509} (франц.).
(обратно)48
Длинноты (франц.).
(обратно)49
Скука (франц.).
(обратно)50
107. Εσπερε, πάντα φέρεις.
Φέρεις οίνον φέρεις αιγα
Φέρεις ματέρι παιδα.
[О Геспер, ты все приносишь: несешь вино, несешь коз, несешь матери ребенка (фрагмент из Сафо).] (Прим. Байрона).
(обратно)51
108. Era gia l’ora che volge ’l disio
A’ naviganti, e’ntenerisce il cuore;
Lo di ch’ han detto a’dolci amici a dio!
E che lo nuovo peregrin’ d’amore
Punge, se ode Squilla di lontano,
Che paia ’l giorno pianger che si muore.
(Данте, Чистилище, песнь VIII)
[В тот самый час, когда томят печали
Отплывших вдаль и нежит мысль о том,
Как милые их утром провожали,
А новый странник на пути своем
Пронзен любовью, дальний звон внимая
Подобный плачу над умершим днем…
(Перевод М. Лозинского)]
Эта последняя строчка — первая в «Элегии» Грея. Он воспользовался ею, не сославшись на свой источник. (Прим. Байрона).
(обратно)52
109. Об этом смотри у Светония. [Светоний (ок. 75—150) — римский историк, автор «Жизнеописания Цезарей» (ок. 120).] (Прим. Байрона).
(обратно)53
«Поэтика»{542} (греч.).
(обратно)54
12. См. у Геродота. [Геродот (ок. 485–425 до н. э.) — древнегреческий историк.] (Прим. Байрона).
(обратно)55
59. Нередкий результат бурных и противоречивых страстей. Дож Франческо Фоскари, свергнутый в 1457 году, восьмидесяти лет от роду внезапно умер от разрыва кровеносного сосуда в груди, услышав звон колоколов в церкви св. Марка, возвещавший избрание его преемника. «Кто думать мог, что в этом старике так много крови?» [ «Макбет», акт V, сц. 1.]
Мне еще не исполнилось шестнадцати лет, когда я оказался свидетелем печального воздействия противоречивых страстей на одну молодую особу, которая, правда, не умерла от их последствия в то время, но несколько лет спустя пала жертвой подобного приступа, случившегося после сильного душевного волнения. (Прим. Байрона).
(обратно)56
Певец комической оперы (итал.).
(обратно)57
Буквально: тело Кая Мария; восклицание, выражающее возмущение или удивление (итал.).
(обратно)58
Жалованье (итал.).
(обратно)59
Оперный премьер (итал.).
(обратно)60
86. Любопытно, что именно папа и султан выступают в роли главных покровителей такого рода ремесла, поскольку женщины не допускаются к пению в соборе св. Петра и, вместе с тем, как стражи гарема не заслуживают доверия. (Прим. Байрона).
(обратно)61
Буквально: оба выходцы из Аркадии; подразумевается: оба хороши (лат.).
(обратно)62
То есть (лат.).
(обратно)63
Красавица (итал.).
(обратно)64
103. Колонна, воздвигнутая в память битвы под Равенной, находится на расстоянии двух миль от города на противоположном берегу реки, по дороге в Форли. Победивший в битве Гастон де Фуа был убит здесь. С обеих сторон пало двадцать тысяч человек. Состояние колонны в настоящее время и место ее расположения описаны в тексте поэмы. [Гастон де Фуа (1489–1512) — герцог Неймурский, племянник Людовика XII, назначенный им на пост генерала французской армии в Италии; заслужил известность своей храбростью и героической гибелью в битве под Равенной в 1512 г.] (Прим. Байрона).
(обратно)65
Буквально: «да будет напечатано»; разрешение к печати (лат.).
(обратно)66
3. Это выражение Гомера вызвало много критических замечаний. Оно не соответствует нашим «атлантическим» представлениям об океане, но оно вполне применимо к Геллеспонту и Босфору, поскольку Эгейское море все усеяно островами. (Прим. Байрона).
(обратно)67
Хладнокровие (франц.).
(обратно)68
55. Обычная принадлежность комнаты на Востоке. Я вспоминаю, как Али-паша принимал меня в большой комнате с мраморным полом, в середине которой бил фонтан. (Прим. Байрона).
(обратно)69
«И, забыв о могиле, строишь дома»{584} (лат.).
(обратно)70
87. Гвоздь вопроса в том. — Метафора во вкусе министров. «Гвоздь, на котором держится весь вопрос». Смотри «Семейство Федж» или послушай Каслрея. [ «Семейство Федж в Париже» — сатирическая поэма Томаса Мура (1818).] (Прим. Байрона).
(обратно)71
92. Несколько лет тому назад жена Мухтар-паши пожаловалась его отцу на неверность мужа. Он спросил: «С кем?» У нее хватило жестокости назвать двенадцать красивейших женщин Янины. В ту же ночь их всех схватили, зашили в мешки и утопили в озере. Один из присутствовавших при этом стражей сообщил мне, что ни одна из жертв не вскрикнула и не обнаружила никакого ужаса при таком внезапном «прощании со всем, что знаем и что любим мы». (Прим. Байрона).
(обратно)72
«Ничему не удивляться»{590} (лат.).
(обратно)73
Свидание наедине (франц.).
(обратно)74
Перевод Н. Дьяконовой.
(обратно)75
«История России нового времени»{604} (франц.).
(обратно)76
Я разумею закон государственный, ибо законы человеческие более мягки, но, поскольку законники всегда толкуют о законе, пусть они его и соблюдают в полной мере.
(обратно)77
Из их числа следует исключить Каннинга. Каннинг — талант почти всеобъемлющий: оратор, острослов, поэт, государственный деятель. Ни один одаренный человек не может долго идти по пути его покойного предшественника лорда К. Если кто-нибудь вообще способен спасти свою страну, то это именно Каннинг. Но захочет ли он? Я, со своей стороны, надеюсь на это.
Каннинг Джордж (1770–1827) — английский государственный деятель, в 1822 г. сменивший лорда Каслрея («лорд К.») на посту министра иностранных дел. Байрон переоценил талант Каннинга и его либерализм. (из коммент. — верстальщик).
(обратно)78
«Стыдливость покинула сердца и нашла прибежище на устах» (франц.).
(обратно)79
«Чем более развращены нравы, тем более сдержанны выражения; чистотой речи пытаются компенсировать утрату добродетели» (франц.).
(обратно)80
Когда лорд Сэндвич сказал, что он не понимает разницы между правоверием и иноверием, епископ Уорбертон ответил: «Милорд, правоверие — это моя вера, а иноверие — это вера другого человека». Один современный нам прелат, видимо, открыл веру третьего рода — которая, однако, не очень высоко стоит в глазах избранных. Бентам называет ее «англиканской церковностью».
(обратно)81
«Идя средним путем, ты идешь самым безопасным путем»{620} (лат.).
(обратно)82
Ты (лат.).
(обратно)83
«Лес называется так потому, что там нет света»{630} (лат.).
(обратно)84
51. Суворов действительно делал все это сам. (Прим. Байрона).
(обратно)85
В целом, в большом масштабе (франц.).
(обратно)86
8. Алла-гу — собственно, боевой клич мусульман; с особенной силой они выкрикивают последний слог. Все вместе звучит дико и очень своеобразно. [Восклицание «алла-гу» означает: «он бог».] (Прим. Байрона).
(обратно)87
18. Смотри газетные отчеты о Ватерлоо. Я вспоминаю, что я тогда же сказал приятелю: «Вот что такое слава! Человек убит, имя его Гроз, а они пишут Гров». Я учился с покойным Грозом в университете. Это был очень приятный и умный человек, всеми любимый и широко известный своим остроумием, веселостью и застольными песенками. (Прим. Байрона).
(обратно)88
33. Считается, что этот монах изобрел порох. (Прим. Байрона).
(обратно)89
97. Русский военный орден. (Прим. Байрона).
(обратно)90
133. В русском оригинале значится:
Slava bogu! Slava vam!
Krepost vzata, i ya tam.
(Подобие двустишия, ибо он был поэтом.) (Прим. Байрона).
(обратно)91
Дурной тон (франц.).
(обратно)92
1. Вопрос наборщика: не следует ли читать «О, Ней!»? [См. прим. к этой строфе. (см. коммент. 689 — верстальщик)] (Прим. Байрона).
(обратно)93
«О! крепкие желудки жнецов!»{701} (лат.).
(обратно)94
«Что я знаю?» (франц.).
(обратно)95
47. Он был великой страстью великой Екатерины. См. ее «Жизнь», подзаголовок «Ланской». [Одним из источников Байрона была «Жизнь Екатерины II» В. Тука, 1800, перевод одноименной французской книги Ж.-Х. Кастера, 1797.] (Прим. Байрона).
(обратно)96
49. Это было написано задолго до самоубийства этого лица. (Прим. Байрона).
(обратно)97
«Худшая причина» (лат.).
(обратно)98
«Войн» (лат.).
(обратно)99
55. Гораций, Сатиры, кн. I, сат. III. (Прим. Байрона).
(обратно)100
79. Русские имения всегда оцениваются по количеству прикрепленных к ним рабов. (Прим. Байрона).
(обратно)101
Испытательница{726} (франц.).
(обратно)102
15. Примечание наборщика: «Не следует ли читать: «судебный процесс»?» [Игра слов: английское слово «soot» («сажа») звучит почти так же, как слово «suit» («судебный процесс»).] (Прим. Байрона).
(обратно)103
«Давние времена, доброе Старое время» (шотл.).
(обратно)104
25. Тиберий Гракх, будучи народным трибуном, именем народа потребовал введения аграрного закона, согласно которому все лица, земельные владения коих превосходили определенное количество акров, должны были отдать излишек в пользу беднейших граждан. (Прим. Байрона).
(обратно)105
27. «Mi ritrovai per una selva oscura» (Inferno, Canto I). [ «Я очутился в сумрачном лесу» (Данте, Ад, песнь I).] (Прим. Байрона).
(обратно)106
34. Метафора, заимствованная из выражения «сорок лошадиных сил» паровой машины. Известный шутник, достопочтенный Сидни Смит, после обеда, во время которого он сидел рядом со своим собратом священником, сказал, что его скучный сосед занимал его разговором «в двенадцать поповских сил». (Прим. Байрона).
(обратно)107
Смесь из ипекакуаны и настойки Сенны (лат.).
(обратно)108
Принимать пилюли сернокислого калия и трижды в день пить микстуру (лат.).
(обратно)109
По правилам искусства (лат.).
(обратно)110
49. Императрица ездила в Крым вместе с императором Иосифом уже не помню в каком году. [В 1787 г. в сопровождении Иосифа II Австрийского.] (Прим. Байрона).
(обратно)111
58. В годы правления императрицы Анны ее фаворит Вирен присвоил себе имя и герб фамилии Биронов из Франции. Эта фамилия существует доныне как во Франции, так и в Англии. Некоторые курляндские принцессы до сих пор носят это имя, и я помню, что одну из них, герцогиню С., я видел в Англии в благословенный для союзников 1814 год. Английская герцогиня Сомерсет представила меня ей как тезку. (Прим. Байрона).
(обратно)112
Моя старая гвардия!{740} (франц.).
(обратно)113
62. Святая Урсула и ее одиннадцать тысяч девственниц в 1816 году еще хранились в Кельне. Возможно, что они существуют там и сейчас. [Имеются в виду «мощи» в Кельнском соборе.] (Прим. Байрона).
(обратно)114
Водкой (нем.).
(обратно)115
Проклятая собака! (нем.).
(обратно)116
Любезность, сердечность (франц.).
(обратно)117
Черт меня побери (англ.).
(обратно)118
Прекрасный союз (франц.).
(обратно)119
Позолота (франц.).
(обратно)120
Лови мгновение{810} (лат.).
(обратно)121
Мой дорогой друг (франц.).
(обратно)122
Немногим больше; здесь: немного более важное (лат.).
(обратно)123
Столь ли{822} (лат.).
(обратно)124
Острые словечки, остроты (франц.).
(обратно)125
73. Известно, что русские выбегают из горячей бани и погружаются в Неву — приятная практическая антитеза, которая, кажется, не причиняет им никакого вреда. (Прим. Байрона).
(обратно)126
Великая страсть (франц.).
(обратно)127
Пресыщенный (франц.).
(обратно)128
86. Некий скульптор предложил высечь из горы Афон статую Александра Македонского; предполагалось, что в руке он будет держать город, а из кармана его будет вытекать река, — предполагалось и еще что-то в этом роде. Но Александра нет, а гора Афон по-прежнему стоит и вскоре, я верю, будет смотреть на свободный народ. (Прим. Байрона).
(обратно)129
«Я — Дав»{837} (лат.).
(обратно)130
Грешки (испан.).
(обратно)131
Ничему не удивляться (лат.).
(обратно)132
Мы были (лат.).
(обратно)133
Быть (лат.).
(обратно)134
Так путешествуют богачи! (итал.).
(обратно)135
Сельская дачная жизнь (итал.).
(обратно)136
«Та получает всеобщее одобрение, которая соединяет приятное с полезным»{853} (лат.).
(обратно)137
96. Миссис Адамс возражала мистеру Адамсу, что кощунство говорить о Священном писании вне церкви. И эту догму она внушала своему мужу — лучшему христианину, когда-либо изображенному в книгах, — см. «Джозеф Эндрюс» (роман Фильдинга). (Прим. Байрона).
(обратно)138
Тоска, скука (франц.).
(обратно)139
106. По крайней мере, это бы научило его гуманности. Этот сентиментальный дикарь, которого романисты цитируют, чтобы показать свою симпатию к невинным развлечениям и старым песням, учит, как, эксперимента ради, зашивать лягушек и ломать им лапки, — не говоря уже об искусстве рыболовства, самом жестоком, хладнокровном и глупом из всех видов спорта. Пусть поклонники его толкуют о красотах природы, но рыболов помышляет только о вкусном рыбном блюде; у него нет времени оторвать глаз от реки, и один-единственный «клев» для него дороже, чем все пейзажи. К тому же некоторые рыбы лучше клюют в дождливый день. Охота на кита, акулу, тунца представляет некоторую опасность и потому как-то благороднее; даже ловля рыбы сетями и т. п. — и то гуманнее и полезнее. Но уженье! Ни один удильщик не может быть хорошим человеком. [Уолтон Исаак (1593–1683) — английский писатель, автор сочинения «Искусный удильщик, или Досуг созерцателя», в котором прославляются прелести рыбной ловли (1653).]
«Один из лучших людей, каких я когда-либо знал, — гуманный, деликатный, великодушный, во всех отношениях прекрасный человек, — был удильщиком. Правда, он удил на нарисованных мух и не был бы способен на крайности, свойственные И. Уолтону».
Вышеприведенное добавление было сделано одним из моих друзей при чтении моей рукописи. «Audi alteram partem» [выслушайте другую сторону (лат.)]. Привожу эту запись, чтоб уравновесить мое собственное мнение. (Прим. Байрона).
(обратно)140
Бывшие молодые люди (франц.).
(обратно)141
«Я знаю, о чем говорю»{870} (лат.).
(обратно)142
«Пустяки, малой частью которых я был» (лат.).
(обратно)143
«Я запрещу тому, кто разгласил таинства Цереры»{871} (лат.).
(обратно)144
Плутни (франц.).
(обратно)145
Ложный шаг (франц.).
(обратно)146
59. Знаменитый канцлер [шведский канцлер Аксель Оксеншерна (1583–1654)] сказал своему сыну, изумленному тем, какие ничтожные причины порождают в политике великие следствия: «Ты видишь, сын мой, сколь мало мудрости у тех, кто правит государством». (Прим. Байрона).
(обратно)147
Но знаю что (франц.).
(обратно)148
Прекрасная Елена (франц.).
(обратно)149
«Вот барвинок!»{881} (франц.).
(обратно)150
«Блажен тот, кто далек»{882} (лат.).
(обратно)151
«Дел» (лат.).
(обратно)152
«Каждый познается по своим друзьям»{883} (лат.).
(обратно)153
Так называемое, так сказать (франц.).
(обратно)154
Точка опоры{887} (франц.).
(обратно)155
18. Во избежание недоразумений, столь нежелательных в наше время, я заявляю, что под «Божественным» я разумею Христа. Если бог когда-либо был человеком или человек — богом, то он был и тем и другим. Я никогда не отвергал его учения, но я всегда возмущался тем, какое употребление — или, вернее, злоупотребление — допускалось во имя его. Мистер Каннинг однажды пытался ссылками на христианство оправдать рабство негров, а мистер Уилберфорс не нашел никаких возражений в ответ. Неужели же Христос был распят для того, чтобы чернокожих били плетьми? В таком случае уж лучше бы он родился мулатом — тогда и черные и белые имели бы одинаковое право на свободу или хотя бы на спасение души. (Прим. Байрона).
(обратно)156
Импровизатор (итал.).
(обратно)157
«Матон хочет все говорить наилучшим образом, говори когда-нибудь и хорошо, говори средне, иногда говори и плохо»{892} (лат.).
(обратно)158
Пусть все идет своим чередом (франц.).
(обратно)159
35. Эта необычайная и процветающая немецкая колония в Америке вовсе не исключает брака вообще, в отличие от «шекеров», но налагает на супругов известные ограничения, в результате которых в течение определенного числа лет рождается лишь определенное число детей, которые (по сообщению м-ра Холма) обычно появляются одновременно, как ягнята в фермерском хозяйстве. Говорят, что его «гармонисты», названные так по имени их колонии, — люди чрезвычайно зажиточные, спокойные и набожные. Смотри различные сочинения об Америке за последние годы. [Гармонисты эмигрировали из Вюртембергского герцогства в 1803–1805 гг. во главе с Георгом Раппом и обосновались в ста двадцати милях к северу от Филадельфии.] (Прим. Байрона).
(обратно)160
38. Как указывает мистер Поп, Джекоб Топсон имел обыкновение называть своих авторов «прекрасными перьями», «людьми чести» и в особенности «выдающимися мастерами». Смотри его «Переписку». [Джекоб Тонсон — известный английский издатель.] (Прим. Байрона).
(обратно)161
«Хорошей жены»{900} (франц.).
(обратно)162
Любительница удовольствий (франц.).
(обратно)163
Женевские соуса (франц.).
(обратно)164
«По-испански» (франц.).
(обратно)165
«По-немецки» (франц.).
(обратно)166
Пирог с дичью (франц.).
(обратно)167
Пряное рагу (франц.).
(обратно)168
Гарниры (франц.).
(обратно)169
66. Этот герой покорил Восток, но более известен тем, что впервые привез в Европу вишневые деревья, а также дал свое имя некоторым весьма хорошим блюдам. Если исключить несварение желудка, я не уверен, что его стряпня не сослужила большей пользы человечеству, чем его завоевания. Вишневое дерево стоит больше, чем окровавленные лавры, а он к тому же умудрился прославиться и тем и другим. (Прим. Байрона).
(обратно)170
«Кладези любви» (франц.).
(обратно)171
Без варенья (франц.).
(обратно)172
68. Petits puits d’amour garnis de confiture [маленькие колодцы любви, украшенные вареньем] — классическое и хорошо известное блюдо, представляющее часть гарнира для второго. (Прим. Байрона).
(обратно)173
Дичь (франц.).
(обратно)174
Вкус (франц.).
(обратно)175
86. Subauditur non (подразумевается «non»); пропущено ради благозвучия. [Conditio sine qua non — необходимое условие (лат.).] (Прим. Байрона).
(обратно)176
96. Гоббс, сомневаясь в существовании своей души, однако оказывал душам других людей ту честь, что отклонял их визиты и относился к ним с опасением. [Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ-материалист.] (Прим. Байрона).
(обратно)177
Обо всех вещах и еще о некоторых других (лат.).
(обратно)178
43. Насколько я помню, Диоген попирал ногами ковер со словами: «Вот так же попираю я гордость Платона!» — «С еще большей гордостью», — возразил тот. Но память, видимо, изменяет мне: ведь ковры для того и существуют, чтобы их попирали ногами. Так что, вероятно, речь шла об одежде, или ткани, или скатерти, или дорогой, непривычной для киника мебели. (Прим. Байрона).
(обратно)179
«Мамочка моя!» (итал.)
(обратно)180
«Любовь моя!» (итал.).
(обратно)181
«С таким трепетом» (итал.).
(обратно)182
«Оставь меня» (итал.).
(обратно)183
«Прощай» (итал.).
(обратно)184
«Ты зовешь» (португал.).
(обратно)185
59. «Ausu Romano, aere Veneto» [ «Римской отвагой, венецианской медью» (лат.)] — такова надпись (уместная в данном случае) на стенах, ограждающих Венецию от Адриатического моря. Эти стены были делом республиканцев Венеции, а надпись как будто императорская, составленная Наполеоном I. Настало время вернуть ему этот титул, ибо вскоре будет еще и Наполеон II — spes altera mundi (новая надежда мира), — если ему суждено жить. Пусть же он не уничтожит эту надежду, как его отец. Во всяком случае, он будет лучше, чем Imbéciles [Болваны (франц.); имеются в виду французские короли Бурбоны.] Перед ним откроется поле славы, если он знает, как надо обрабатывать его. [Байрон имеет в виду сына Наполеона, герцога Рейхштадтского (1811–1832).] (Прим. Байрона).
(обратно)186
Вперед (франц.).
(обратно)187
97. По-французски — «mobilité» [ «изменчивость»]. Я не уверен, что существует английское слово «mobility»: оно выражает качество, более характерное для других стран, но иногда встречающееся и у нас. Его можно определить как чрезмерную чувствительность к непосредственным впечатлениям, не исключающую, однако, память о прошлом. Хотя это свойство иной раз полезно для того, кто обладает им, оно очень мучительно и тяжело. (Прим. Байрона).
(обратно)188
«Удивительным счастьем» (лат.).
(обратно)189
102. Curiosa felicitas [удивительное счастье (лат.)] — Арбитр Петроний [ «Сатирикон», глава 118. Автор «Сатирикона», римский писатель Петроний, умер в 66 г. н. э.]. (Прим. Байрона).
(обратно)190
Благодатная Венера{929} (лат.).
(обратно)191
Без штанов (франц.).
(обратно)192
«Оставьте надежду все, сюда входящие»{930} (итал.).
(обратно)193
3. Итальянцы, по крайней мере в некоторых частях Италии, называют незаконнорожденных и найденышей мулами, не могу сказать почему; может быть, они хотят сказать, что в законном браке рождаются ослы. (Прим. Байрона).
(обратно)194
Совершенно гладкий, округлый (лат.).
(обратно)195
Всегда один и тот же (лат.).
(обратно)196
Неистовый Геракл (лат.).
(обратно)197
А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в шести томах, т. V, Гослитиздат, М. 1950, стр. 41–42.
(обратно)Комментарии
1
Поэма Джорджа Гордона Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» («Childe Harold’s Pilgrimage») (песни первая и вторая) впервые увидела свет в 1812 году. Огромный успех ее не только в Англии, но и в других странах привлек внимание читателей к имени Байрона и его творчеству в целом. В начале 1815 года издатель Джон Мерри опубликовал первое Собрание сочинений поэта в четырех томах. Снабженные детальными примечаниями и историческими справками автора, песни первая и вторая поэмы составили первый том. Песни третья и четвертая, после выхода в свет отдельными изданиями в 1816 и 1818 годах, были опубликованы в последнем томе третьего Собрания сочинений поэта в семи томах (1818–1819).
Учитывая большой интерес читателей, начали печатать поэтические произведения Байрона на языке оригинала и некоторые издательства Франции и Германии: Галиньяни, Бодри и Амио в Париже (1819, 1822–1824), Флейшер в Лейпциге (1818–1822), Шуман в Двиккау (1818–1827).
Посмертное семнадцатитомное Собрание сочинений поэта, опубликованное под редакцией Томаса Мура издательством Джона Мерри с подлинных рукописей в 1832–1833 годах (четыре песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» составили VIII том), представляло значительный интерес богатством комментариев, при составлении которых были использованы не только ранее публиковавшиеся примечания Байрона, но и выдержки из его писем и дневников, высказывания современников поэта (Томаса Мура, Вальтера Скотта, Дж. — К. Хобхауза, Э. Бриджеса, Ф. Джеффри и Дж. Уилсона). Были приведены также варианты отдельных строф и строфы, не включавшиеся в текст поэмы в первых публикациях.
Еще более богатый материал был использован для комментариев к однотомному Собранию поэтических произведений Байрона, опубликованному Джоном Морри в 1837 году и названному «коллективное», так как в составлении его приняли участие многие поэты и критики — современники Байрона.
Последующие издания, выпущенные фирмой Джона Мерри (вплоть до издания 1891 г.), представляют лишь перепечатку однотомного издания 1837 года. Располагая богатейшим фондом подлинных рукописей почти всех поэтических произведений Байрона, издательство Джона Мерри много десятилетий сохраняет свои монопольные права на издание всех произведений, принадлежащих перу поэта. Многочисленные же издания произведений Байрона, которые в ряде стран мира систематически печатаются самыми различными издательскими фирмами, несравнимы с изданиями Мерри ни но объему комментариев, ни по точности приводимых текстов.
Самое полное и наиболее ценное Собрание произведений Байрона в тринадцати томах фирма Джона Мерри издала лишь в 1898–1904 годах. Поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» в этом издании отведен второй том. Точное следование подлинным рукописям, включение в комментарии всех вариантов и полных текстов ряда дополнительных строф поэмы, опущенных в первых изданиях, значительно расширяют представление о замыслах автора. Именно данный текст был взят за основу при переводе поэмы для настоящего издания.
Широко известны слова Ф. Энгельса о том, что Байрон и Шелли имеют в Англии больше всего читателей среди рабочих. Но не по дорогим изданиям, не по томам, переплетенным в кожу и сафьян, с золотым обрезом и драгоценными гравюрами знакомились трудящиеся Англии со свободолюбивой лирой поэта-борца, а по публикациям массовой радикально-демократической прессы (газета «Черный карлик»), по «пиратским» изданиям Уильяма Хопа (только лишь в 1817–1819 гг. опубликовавшего двадцать три выпуска поэтических произведений Байрона), по изданиям революционного демократа Ричарда Карлейля и его публикациям в еженедельнике «Республиканец», популярном среди народных масс Англии с 1819 года. Позже чартистские издательства неоднократно печатали в дешевых выпусках избранные произведения Байрона, в том числе и поэму «Паломничество Чайльд-Гарольда», популяризируя его как народного поэта.
Еще при жизни Байрона, в 1820–1823 годах, в русских периодических изданиях начали появляться первые переводы его поэтических произведений. Особенное внимание русских поэтов привлекали строфы песни четвертой «Паломничества Чайльд-Гарольда». С полным же переводом поэмы, выполненным Д. Минаевым, русские читатели познакомились лишь в 1864 году, когда он был напечатан в трехтомном издании «Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов» под редакцией
Н. В. Гербеля. Недостаточно точный и далекий от размера подлинника (14-строчная строфа вместо 9-строчной), перевод этот не удовлетворял взыскательных читателей; этим объясняется широкая популярность прозаических переводов К. Гумберта, А. Богаевского и Стальки, опубликованных в Полном собрании сочинений лорда Байрона, выпущенном Южно-русским книгоиздательством Ф. А. Йогансона в 1894 и 1904 годах. Перевод поэмы, выполненный С. Ильиным, Павлом Козловым, В. Лихачовым и О. Чюминой, опубликованный в трехтомном Полном собрании сочинений Байрона под редакцией С. А. Венгерова (издательство Брокгауз и Ефрон, 1904–1905) имел, по сравнению с переводом Д. Минаева, ряд достоинств, но был отмечен тем многословием, которое, но словам известного байрониста М. Н. Розанова, представляло «истинный бич» многих переводов XIX — начала XX века. Более точный перевод В. Фишера, выполненный размером подлинника — «спенсеровой строфой», был впервые напечатан в двухтомном издании: Байрон, Избранные сочинения под редакцией А. Е. Грузинского, издательство «Окто», 1912.
После Октябрьской революции поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» неоднократно публиковалась отдельными изданиями (1929, 1931, 1933), в составе однотомных Избранных произведений Байрона (1935, 1938, 1939, 1953) в переводах В. Фишера и Г. Шенгели. Чрезвычайно точный, глубоко раскрывающий мысль поэта, перевод Г. Шенгели не передает, однако, поэтических достоинств поэмы Байрона.
В настоящем издании поэма дана в новом переводе В. Левина, ранее печатавшемся в отрывках в серии «Школьная библиотека». — Джордж Гордой Байрон, Избранное, «Детская литература» (1951, 1960, 1964).
(обратно)2
В качестве эпиграфа к песням первой и второй поэмы Байрон взял вступительные строки из книги французского писателя и путешественника Фужере де Монброна (? — 1761) «Космополит, или Гражданин мира», Лондон, 1753. Он был предпослан поэме после возвращения Байрона в Англию, в момент подготовки рукописи первых двух песен поэмы к печати.
(обратно)3
Стр. 27. Эпир — западная часть Северной Греции. Акарнания — западная область Средней Греции.
(обратно)4
Иония — в Древней Греции средняя часть западного побережья Малой Азии с прилегающими островами.
(обратно)5
Фригия — в Древней Греции область на северо-западе Малой Азии.
(обратно)6
Столица Востока. — Байрон имеет в виду столицу Османской империи г. Стамбул (Константинополь).
(обратно)7
Чайльд — род титула для молодого английского дворянина, готовившегося к посвящению в рыцари (XIII–XIV вв.).
(обратно)8
«Прости, прости!» в начале песни первой навеяно «Прощанием лорда Максвелла» в «Пограничных песнях», изданных м-ром Скоттом. — Имеется в виду сборник народных баллад: «Песни пограничной Шотландии». Герой одной из баллад — лорд Джон Максвелл отомстил за гибель своего отца, за что был осужден на изгнание. Покидая свою страну, он спел прощальную песню, которая послужила Байрону образцом.
(обратно)9
Стр. 28. …некоторое сходство с различными стихотворениями, темой которых является Испания… — Байрон имеет в виду, в частности, поэму Вальтера Скотта «Видение дона Родериха», опубликованную в 1811 г.
(обратно)10
Спенсерова строфа — строфа в девять строк, впервые введенная великим английским поэтом Возрождения Эдмундом Спенсером (1552–1599). За основу ее взята октава, к которой добавлена девятая шестистопная александрийская строка. В отличие от октавы спенсерова строфа строится не на трех рифмах, а на четырех, трех и двух.
(обратно)11
Битти — английский поэт Джеймс Битти (1735–1803). Его неоконченная поэма «Менестрель» написана спенсеровой строфой.
(обратно)12
…освященном именами Ариосто… — Байрон говорит о великом итальянском поэте Лодовико Ариосто (1474–1533) и его поэме «Неистовый Роланд».
(обратно)13
Томсон Джеймс (1700–1748) — английский поэт. Его поэма «Замок праздности» написана спенсеровой строфой.
(обратно)14
Дополнение к предисловию впервые опубликовано в четвертом издании поэмы, в сентябре 1812 года.
(обратно)15
Стр. 29. …обычную порцию критики. — Основное обвинение, выдвинутое автором рецензии, помещенной в журнале «Квартальное обозрение» за март 1812 г., сводилось к тому, что Байрон высказал в поэме «нерыцарственное отвращение к войне».
(обратно)16
Сент-Пале — Ла Кюри де Сент-Пале, автор книги «Записки о старинном рыцарстве», изданной в Париже в 1781 г.
(обратно)17
Овидий Назон Публий (43 до н. э. — 18 н. э.) — великий древнеримский поэт, завоевавший мировую славу поэмой «Метаморфозы». Здесь Байрон имеет в виду любовную поэзию Овидия: «Песни любви», «Героини» и др.
(обратно)18
«Дворы любви»—средневековые ассамблеи рыцарей и дам, на которых обсуждались и утверждались правила галантного поведения.
(обратно)19
Роллан д’Эрсевиль — автор книги «Разыскания о правах дам при дворах любви», Париж, 1787.
(обратно)20
«…не трактирным слугой, а тамплиером». — Байрон приводит реплику из пародии на реакционно-романтическую поэзию «Паломники, или Двойной сговор» Дж. Хукхэла Фрера, одним из героев которой является рыцарь, переодетый по ходу пьесы в трактирного слугу. Рыцарь-тамплиер — член духовно-рыцарского ордена тамплиеров, или храмовников, основанного в 1119 г. в Иерусалимском королевстве.
(обратно)21
Стр. 29–30. Сэр Тристрам и сэр Ланселот — идеализированные образы рыцарей средневековых романов.
(обратно)22
Стр. 30. Орден Подвязки — орден св. Георгия, учрежденный в 1350 г. королем Эдуардом III для особо узкого круга приближенных (25 кавалеров) во имя «оживления военного духа». Легенда о том, что учреждение этого ордена некоторым образом связано с именем графини Сэлисбери, потерявшей на королевском балу подвязку, историками не подтверждается.
(обратно)23
Берку не следовало сожалеть о том… — Здесь Байрон наносит удар сторонникам реставрации абсолютизма во Франции, упоминая широкоизвестные в его времена «Размышления о революции во Франции» Эдмунда Берка (1730–1793), английского реакционного политического деятеля, проливавшего слезы не о временах рыцарства вообще, а о «галантном веке» Людовика XVI.
(обратно)24
Мария-Антуанетта. — С упоминания о встрече с королевой Франции Э. Берк начинает свои «Размышления».
(обратно)25
Баярд Пьер дю Терайль (1476–1524) — французский полководец; с течением времени, под воздействием легенды многовековой давности, образ Баярда полностью утратил свои реальные черты, воплотив в себе лишь отвлеченный идеал рыцаря.
(обратно)26
Сэр Джозеф Бенкс. — Байрон говорит о тех фрагментах из книги «Путешествие Хоксворта, составленное па основании судовых журналов нескольких капитанов и записок Джозефа Бенкса» (1773), которые посвящены королеве Таити.
(обратно)27
Современный Тимон. — Тимон Афинский жил в V в. до н. э., в годы Пелопоннесской войны в Древней Греции. Междоусобные распри, многолетние войны и бедствия, упадок нравственности превратили его в человеконенавистника, поселившегося в доме-башне. Зелуко — герой одноименного романа английского писателя Джона Мура (1729–1802). Ожесточенный и нравственно опустошенный, Зелуко не ставит преград своим прихотям, вызывая тем самым неприязнь окружающих.
(обратно)28
Посвящение было впервые опубликовано в седьмом издании поэмы, в феврале 1814 года. Адресовано одиннадцатилетией дочери графа Эдуарда Оксфорда Шарлотте Мэри Харли, с которой Байрон познакомился во время посещения поместья ее родителей.
Стр. 31. Ианта — имя, означающее цветок нарцисса.
(обратно)29
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
В автографе песен первой и второй поэмы помечено: «Байрон — Янина в Албании. Начал 31 октября 1809. Закончил, Песнь 2-я, Смирна, 28 марта, 1810. Байрон».
(обратно)30
1. Дельфы — древнегреческий город в Фокиде (Средняя Греция) у подножия горы Парнас. С IX в. до н. э. и до IV в. н. э. являлся важнейшим общегреческим религиозным, культурным и торговым центром. Дельфийский храм с знаменитым оракулом, который устами прорицательниц-пифий якобы предсказывал будущее, и священный Кастальский ключ были посвящены Аполлону — богу солнца и покровителю искусств.
Цифра в начале примечания обозначает номер соответствующей строфы.
(обратно)31
2. Альбион — древнейшее кельтское название Британских островов. Используется в возвышенном стиле, но с некоторым ироническим оттенком.
(обратно)32
Стр. 38. Предвидишь ты с французом бой… — С первых строф поэмы Байрон сталкивает своего вымышленного героя с реальной исторической обстановкой: бриг, на котором Чайльд-Гарольд отправился в свое паломничество, принадлежал Португалии — союзнице Англии и, в условиях войны между Англией и наполеоновской Францией, должен был подвергнуться нападению судов французского военного флота.
(обратно)33
14. Синтра — невысокий горный хребет Серра-да-Синтра в Португалии в пятнадцати милях к северо-западу от Лиссабона.
(обратно)34
Моря данник… Тахо… — река на Пиренейском полуострове, впадает в Атлантический океан. С древнейших времен в прибрежном песке там находили золото.
(обратно)35
15. …в эту землю вторглись палачи… — На основании секретного договора между Испанией и наполеоновской Францией (октябрь 1807 г.) о завоевании и разделе Португалии наполеоновские войска через территорию Испании вторглись в Португалию. В ноябре 1807 г. последняя утратила свою независимость. Воспользовавшись вспыхнувшим в 1808 г. восстанием португальцев, английское правительство направило туда свои войска, стремясь укрепить позиции на Пиренейском полуострове и Гибралтаре. Действуя совместно с португальскими повстанцами, английские войска нанесли французской армии поражение.
(обратно)36
16. Луз — мифический король древней Лузитании, страны, находившейся в западной части Иберийского (Пиренейского) полуострова.
(обратно)37
…охраняя трон… — Направив в августе 1808 г. в Португалию войска и флот, Англия стала на защиту феодальных порядков и поддерживала феодально-клерикальные силы Португалии, подавлявшие революционное движение в стране.
(обратно)38
18. Сиерру, Синтру, прозванную раем… — живописные места на склонах горного хребта Серра-да-Синтра и селение Синтра близ Лиссабона, где располагались многочисленные дворцы и монастыри.
(обратно)39
…Элизий, над которым // Завесы поднял бард… — Байрон имеет в виду произведение великого поэта Древнего Рима Вергилия (70–19 до н. э.) «Энеида». В шестой книге описано посещение Энеем подземного царства и царства теней — Элизия.
(обратно)40
22. Ватек. — Именем халифа Ватека, потомка Гаруна аль-Рашида — героя фантастической, полной ложной восточной экзотики повести «Ватек. Арабская сказка» (на франц. яз., 1780, на англ. яз., 1786), Байрон называет автора повести, английского писателя Уильяма Бекфорда (1760–1844), баснословно богатого аристократа, который в 1794–1796 гг. жил в Португалии в одном из замков близ Синтры, роскошно отделанном для него и позже совершенно заброшенном.
В автографе поэмы имеется еще одна строфа, посвященная У. Бекфорду, в которой поэт не только осуждает бессмысленное расточение богатств, но и гневно клеймит порок:
Несчастный Дайвс! Ты стал, по воле рока Природе вопреки, добычею порока. В немилость нынче ты и у Фортуны впал, Из лившей на тебя проклятия фиал. Пред блеском и умом твоим склонялся каждый. Какою светлою была заря твоя! Но несказанного греха нечистой жаждой Томился ты, и вечер бытия Влачить в презрении — нет горестнее доли — И в одиночестве полнейшем против воли.(Перевод О. Чюминой)
Родственник поэта Р.-Ч. Даллас настоял на изъятии этой строфы при первой публикации поэмы. После смерти поэта она была напечатана как самостоятельное стихотворение под названием «К богачу».
(обратно)41
24. …в этом замке был совет вождей… — Текст так называемой Синтрской конвенции, заключенной 30 августа 1808 г. между представителями английского и французского командования в Португалии, не был подписан, как ошибочно предполагал Байрон, в замке Марьяльва, в Синтре, а лишь отправлен оттуда.
(обратно)42
…карлик-шут, пустейший из чертей — зрительный поэтический образ, дающий представление не только о внешнем виде официального дипломатического документа начала XIX в. (пергаментный свиток с большой круглой сургучной печатью на шнуре), но и о неожиданном, почти шутовском характере условий, содержавшихся в Синтрской конвенции.
(обратно)43
25. Конвенция: на ней споткнулся бритт. — По условиям Синтрской конвенции, французской армии, побежденной 21 августа 1808 г. в битве при Вимиере, было предоставлено право эвакуировать свои войска из Португалии на английских судах, без предъявления требований не направлять эти части на театр военных действий сразу же по прибытии во Францию. Подписание Конвенции на столь унизительных для победителя условиях вызвало в Англии резкую критику политики торийского правительства со стороны оппозиционных кругов.
(обратно)44
Не побежденным здесь, а победившим горе! — Байрон не учел далеко идущие цели английского военного командования на Пиренейском полуострове: подписание Конвенции ненадолго поколебало престиж Англии, быстрейшее же освобождение территории Португалии от армии наполеоновской Франции укрепило стратегические позиции Англии на континенте и в Средиземном море.
(обратно)45
29. Мафра — колоссальных размеров дворец-монастырь близ Синтры. Многие годы был резиденцией Марии I Безумной (1734–1816), португальской королевы.
(обратно)46
Вавилонская блудница. — Имеется в виду католическая церковь.
(обратно)47
31. В соседстве с необузданным врагом // Испанец должен быть солдатом иль рабом — Фактическая оккупация Испании наполеоновской армией вызвала ряд восстаний народных масс в Аранхуэсе, Мадриде, Астурии, Валенсии, которые жестоко подавлялись французскими оккупантами.
(обратно)48
32. Сиерра — горный хребет Сьерра-Морена в южной части Испании.
(обратно)49
33. Лишь ручеек бежит… — По пути из Лиссабона в Севилью Байрон пересек границу между Португалией и Испанией на том участке, где пограничной линией является неглубокая речка Кайя.
(обратно)50
34. Гвадиана — река на Пиренейском полуострове, впадающая в Атлантический океан, на протяжении пятидесяти одного километра образует государственную границу между Испанией и Португалией.
(обратно)51
Двух вер враждебных там кипели станы. — С 711 г., когда на Пиренейский полуостров вторглись арабы и, разбив войска Родериха в битве при Хересе, захватили большую часть его, более семи столетий шла упорная борьба испанцев и португальцев за отвоевание своих земель (вошедшая в историю под названием «Реконкиста»). Католическая церковь, призывая испанцев и португальцев — христиан — к борьбе «за веру христову» против арабов-мусульман, достигла исключительного могущества.
(обратно)52
Мних — монах.
(обратно)53
35. Где крест, которым ты была сильна // Когда предатель мстил за слезы Кавы… — Население Пиренейского полуострова, захваченного в V в. вестготами, а в VI в. — Византией, ослабленное и истощенное, не смогло дать должный отпор захватчикам-арабам. Успешное сопротивление оказало лишь население горной Астурии на севере полуострова. В 718 г., в битве при Ковадонге, которую возглавил астурийский король Пелайо (? —737), арабам было нанесено поражение, остановившее дальнейшее их продвижение. Вспыхнувшая в Астурии партизанская борьба положила начало Реконкисте. Крест. — По преданию, в бою при Ковадонге у астурийцев вместо знамени был крест из астурийского дуба. Слезы Кавы. — Предательство вестготского полководца Юлиана, оборонявшего форпост Сеута в северо-западной Африке, который, будто бы желая отомстить королю вестготов Родериху за насилие над его дочерью Флориндой-Кавой, вступил в союз с наместником арабского халифа в Африке и способствовал внезапному нападению арабов на королевство вестготов, выдвигается некоторыми историками как основной повод для начала вторжения арабов на Пиренейский полуостров.
(обратно)54
…полумесяц пал, крестом сражен… — В 1492 г. отвоеванием территории Гранадского эмирата (современная Андалусия) закончилась Реконкиста.
(обратно)55
36. Теперь лишь в песнях отзвук тех побед… — то есть в романсеро и рыцарских поэмах XVI в.
(обратно)56
37. Коружию, испанцы! — Начало национально-освободительной борьбы испанского народа, ознаменовавшееся восстанием в Аранхуэсе в марте 1808 г. и отречением Карла IV от престола, вызвало всеобщий героический подъем и упорное сопротивление населения многих городов наступлению наполеоновской армии.
(обратно)57
38. Я слышу звон металла и копыт… — Стремясь окончательно сломить сопротивление испанского народа, в ноябре 1808 г. Наполеон двинул в Испанию огромную армию и начал новое наступление. 27–28 июля 1809 г., чтобы сдержать новое наступление войск наполеоновской Франция, соединенная англо-португало-испанская армия, в битве при Талавере близ Мадрида, нанесла французам поражение, но ценою огромных потерь.
(обратно)58
43. О поле скорбной славы, Альбуера! — 16 мая 1811 г. англо-испанские войска вновь нанесли поражение наполеоновской армии, но, так же как и в битве при Талавере, потери были огромны. «Еще одна такая победа, и мы погибнем», — заявил английский полководец герцог Веллингтон.
(обратно)59
45. Севилья — город на юге Испании в области Андалусия. По пути в Гибралтар Байрон посетил Севилью в июле — августе 1809 г. Полгода спустя, перед лицом значительных сил наполеоновской армии, население города капитулировало.
(обратно)60
Тир — крепость и важный порт древней Финикии. На протяжении пяти тысяч лет своего существования неоднократно попадал в подчинение другим державам, но в историю вошла осада Тира войсками Александра Македонского в 332 г. до н. э., длившаяся более семи месяцев, во время которой Александру Македонскому пришлось пустить в ход всю осадную технику и соорудить насыпь через пролив, отделявший островной город от материка.
(обратно)61
48. «Да здравствует король!» — точнее: «Да здравствует король Фердинанд VII!» — пароль-лозунг, которым испанские патриоты выражали свое доверие Фердинанду VII — сыну отрекшегося от престола Карла IV.
(обратно)62
Годой Мануэль (1767–1851) — испанский временщик; при Карле IV фактически управлял страной. После поражения Испании в войне против республиканской Франции подписал кабальный договор о союзе с ней, а в 1807 г. о совместной войне против Португалии, на основании которого в ноябре 1807 г. наполеоновские войска двинулись по территории Испании и фактически оккупировали страну.
(обратно)63
…Карла рогоносного клянет, // А с ним его Луизу… — В годы правления Карла IV (1748–1819), страдавшего слабоумием, власть принадлежала придворной клике, которую возглавляла испанская королева Мария-Луиза и ее фаворит Годой.
(обратно)64
49. Здесь орды вражьи… // Андалусийский селянин встречал. — В горах Сьерра-Морена, в Андалусии, значительная часть крестьян участвовала в партизанской войне против французских захватчиков. 19 июня 1808 г. в бою при Байлене двадцатитысячная французская армия была вынуждена сдаться окружившим ее отрядам партизан.
(обратно)65
50. Здесь, не надев на шляпу ленты красной… — Красную кокарду носили те испанские патриоты, которые требовали возвращения на престол испанского короля Фердинанда VII, отрекшегося от престола по требованию Наполеона в пользу его брата Жозефа.
(обратно)66
51. С нагих высот Морены… — Байрон проезжал через горы Сьерра-Морена до вторжения войск захватчиков, но население уже подготовилось к сопротивлению. «Были укреплены все проходы, через которые я проезжал на пути в Севилью», — уточняет поэт в примечании к этой строфе поэмы.
(обратно)67
52. Беллона — древнеиталийская богиня войны.
(обратно)68
Грифы — мифические чудовища с львиными туловищами и орлиной головой.
(обратно)69
Гадес — в древнегреческой мифологии царство мертвых.
(обратно)70
54. …дочь Испании… с мужами рядом полетела. — Среди защитников города Сарагоссы во время осады мужеством и отвагой прославилась девушка Августина, прозванная Сарагоссой. Она бесстрашно заменяла в боях павших повстанцев-артиллеристов.
(обратно)71
Минерва — в древнеримской мифологии богиня мудрости, олицетворение ума и изобретательности.
(обратно)72
Марс — в древнеримской мифологии бог войны.
(обратно)73
55. …вспомни Сарагоссы бастионы… — Байрон напоминает о героическом сопротивлении города Сарагоссы, дважды выдержавшего осаду наполеоновских войск.
(обратно)74
Горгона — согласно древнегреческому мифу, крылатое чудовище, взгляда которого было достаточно, чтобы все живое превратилось в камень.
(обратно)75
58. Амур — в древнеримской мифологии бог любви.
(обратно)76
Феб — у древних греков олицетворение солнечного света.
(обратно)77
59. Гурия Пророка — гурии — у мусульман, по Корану, вечно юные и благожелательные девы рая.
(обратно)78
60. Парнас — горный массив в Фокиде (Греция). Согласно древнегреческим мифам, у подножия Парнаса, в Дельфах, было место обитания Аполлона и муз.
(обратно)79
61. Парнас передо мной, — Байрон посетил деревушку Кастри, стоявшую на месте древних Дельф (см. прим. к I, 1) (см. коммент 30 — верстальщик) 16 декабря 1809 г.
(обратно)80
63. Лавр Дафны. — По древнегреческому мифу, нимфа Дафна, преследуемая Аполлоном, взмолилась о помощи к богам и была превращена в лавр — священное дерево Аполлона.
(обратно)81
64. …дни Эллады золотые… — Байрон имеет в виду классический период развития древнегреческой культуры в VII–IV вв. до н. э.
(обратно)82
Дельфийский хор. — Аполлон Дельфийский, согласно мифам, был предводителем хора муз.
(обратно)83
…звучали гимны пифии… — Согласно древнегреческим мифам, Фемоноя, дочь Аполлона и первая пифия — жрица Дельфийского храма, начала вещать «волю Аполлона» в стихотворной форме — гекзаметром.
(обратно)84
…горький мир твоей, о Греция, земли! — Байрон имеет в виду четырехвековый гнет турецкого господства в Греции, завоеванной Османской империей в середине XIV в.
(обратно)85
66. Пафос. — По древнегреческому мифу, на острове Кипре, в самом большом городе Пафосе было сто алтарей в честь Афродиты — богини любви.
(обратно)86
Киприда. — Согласно мифу, Афродита родилась из белоснежной морской пены около острова Киферы. Легким ветерком была принесена на остров Кипр и получила название Киприды.
(обратно)87
70. Почтить священный Рог — шутливый обычай «клятвы на рогах» в Англии.
(обратно)88
78. Бандерилья — зазубренный дротик, который втыкают в шею быка во время боя быков.
(обратно)89
Инесе (стр. 61). Агасфер — здесь: человек, вынужденный постоянно скитаться.
(обратно)90
85. Ты был средь бурь незыблемой скалой… — К началу 1810 г. наполеоновская армия заняла почти всю Андалусию, но была остановлена у стен Кадикса, население которого героически обороняло город более двух лет. В августе 1812 г., в связи с наступлением Наполеона в России, осада Кадикса была снята.
(обратно)91
…суд был над изменником презренным. — Маркиз Солано, губернатор и главнокомандующий испанскими войсками, был расстрелян, как изменник, за отказ выполнить приказ Центральной хунты атаковать французский флот, который стоял на рейде близ Кадикса.
(обратно)92
86. …бежал король… — В обстановке начавшейся национально-освободительной борьбы испанского народа против захватчиков и против предательской придворной клики испанский король Карл IV, а позже и его наследник Фердинанд VII были вынуждены отречься от престола и покинуть Испанию.
(обратно)93
88—93. Эти строфы в автографе поэмы отсутствуют. Байрон написал их по возвращении в Англию, осенью 1811 г., по следам событий.
(обратно)94
89. …вновь войска // Идут сквозь пиренейские проходы. — С июля 1809 г. национально-освободительная борьба испанского народа принимала все более широкие масштабы, сопровождалась кровопролитными сражениями. Здесь Байрон говорит о битвах при Талавере (июль 1809 г.), при Бароссе и Альбуере (май 1811 г.), в которых обе стороны понесли огромные потери.
(обратно)95
…за ней воспряло больше стран, // Чем раздавил Писарро. — Национально-освободительная борьба испанского народа положила начало выступлениям против наполеоновской Франции в ряде других стран Европы.
Писарро Франсиско (ок. 1471–1541) — один из испанских конкистадоров, который возглавлял завоевание огромной территории государства инков на западном побережье Латинской Америки (ныне государства Перу и Чили). Жестоко подавив восстание народа инков (1535–1537), разрушил ценнейшие памятники культуры, раздробил и уничтожил государство инков.
(обратно)96
Кито — древний индейский город в Южной Америке, в XIX в. центр испанской колонии Кито, население которого неоднократно восставало против испанского господства. 10 августа 1810 г. в Кито вспыхнуло восстание, положившее начало борьбе за независимость и образованию государства Эквадор.
(обратно)97
91—92. А ты, мой друг! — Эти строфы, написанные по возвращении в Англию, Байрон посвятил памяти своего школьного товарища Джона Уингфильда, офицера английской армии в Португалии, умершего в 1811 г. от лихорадки.
(обратно)98
93. …Там, где заморских варваров отряды // Бесстыдно грабили наследие Эллады. — Байрон имеет в виду лорда Элджина (1766–1842), шотландского пэра, археолога-любителя. В бытность свою в Греции в Афинах в качестве дипломата добился разрешения «вывезти из Афин несколько кусков мрамора» и почти опустошил афинский Парфенон. Варварски разрушая и разбивая на части архитектурные и скульптурные произведения, на нескольких кораблях вывез из Греции огромную коллекцию ценнейших памятников древнегреческой культуры.
(обратно)99
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
1. Богиня мудрости — древнегреческая богиня-воительница Афина, покровительница наук и города Афин. В афинском Акрополе было главное святилище Афины — Парфенон.
(обратно)100
Над Грецией прошли врагов знамена. — С середины XIV в. войска Османской империи начали захват территории Греции. После взятия турками Константинополя в 1453 г. и падения Византийской империи Греция в течение четырех веков была лишена национальной независимости.
(обратно)101
7. Сократ (ок. 469–399 до н. э.) — древнегреческий философ.
(обратно)102
Лета — в древнегреческой мифологии река забвения в Аиде — подземном царстве мертвых.
В автографе поэмы после седьмой строфы следует еще одна, развивающая и логически завершающая мысль поэта, изложенную в предыдущих строфах:
Угрюмый пастор! Не сердись, коль я Не вижу жизни там, где ты желаешь; Мне не смешна фантазия твоя; Нет, ты скорее зависть мне внушаешь: Так смело новый мир ты открываешь, Блаженный остров в море неземном; Мечтай о том, чего ты сам не знаешь; О саддукействе спор не поведем: Любя свой рай, ты всех не хочешь видеть в нем.(Перевод П. О. Морозова)
Выше приведенная строфа была снята родственником поэта Р.-Ч. Далласом при первой публикации поэмы.
(обратно)103
8. Саддукей — приверженец древнееврейской секты, основанной во II в. н. э. в среде ортодоксального иерусалимского жречества и названной по имени Садока, легендарного основателя секты. Саддукеи отрицали загробную жизнь и бессмертие души.
(обратно)104
Элизийская даль. — См. прим. к I, 18. (см. коммент. 38 — верстальщик).
(обратно)105
10. Сатурна сын — По древнеримской мифологии, сыном Сатурна был Юпитер — владыка неба.
(обратно)106
11. Сын шотландских гор — лорд Элджин (см. прим. к I, 93) (см. коммент. 98 — верстальщик); был шотландец по происхождению.
(обратно)107
12. Пикты. — Древнейшие кельтские племена, населявшие, наряду с гэлами, Север Британского острова до вторжения саксов и англов в V в. Здесь Байрон вновь имеет в виду Элджина.
(обратно)108
13. Полумира властелин. — Так Байрон называет Англию, в начале XIX в. завладевшую уже большим числом колоний.
(обратно)109
14. Ахилл — в древнегреческой мифологии храбрейший из героев, осаждавших Трою. Здесь Байрон вспоминает предание о том, что король вестготов Аларих, захвативший и ограбивший в 395 г. Афины, был повергнут в ужас при виде появившихся на Акрополе Афины и Ахилла.
(обратно)110
Плутон (иначе Аид) — в древнегреческой мифологии владыка подземного мира и царства мертвых.
(обратно)111
Стикс — в древнегреческой мифологии река, которая окружала подземное царство мертвых — Аид.
(обратно)112
21. Арион — древнегреческий поэт и музыкант (VII–VI вв. до н. э.). Согласно древнегреческой легенде, преследуемый пиратами Арион, спев прощальную песнь, бросился в море. Очарованный его песней, дельфин спас его.
(обратно)113
22. Две части света смотрят с двух сторон. — При прохождении судов через Гибралтарский пролив с северной, стороны виден испанский берег (Европа), с юга — марокканский (Африка).
(обратно)114
Геката — в древнегреческой мифологии богиня луны, ночных призраков, волшебства и заклинаний, повелительница теней в подземном царстве.
(обратно)115
24. Дианы рог. — Богиня луны в Древнем Риме изображалась с полумесяцем на голове.
(обратно)116
27. Обитель Афона. — Лесистые склоны горы Афон на юге полуострова Халкидика в Греции с VII в. были переданы в полное владение многочисленных монастырей.
(обратно)117
29. Острова Калипсо. — По древнегреческому мифу, прекрасная нимфа, дочь гиганта Атланта, жила на легендарном острове Огигия, куда после долгих странствий попал герой древнегреческих эпических поэм «Илиада» и «Одиссея», царь Итаки Одиссей.
(обратно)118
…нимфа слез уже не льет рекою, // Простив обиду смертному… — Калипсо пыталась уговорить Одиссея стать ее супругом, обещая за это вечную юность и бессмертие. Одиссей не мог забыть свою родину — Итаку и верную супругу Пенелопу. С помощью богини-воительницы Афины он покинул остров Калипсо.
(обратно)119
Ментор — наставник Телемаха, сына Одиссея. Легенда о Калипсо вдохновила многих писателей на создание оригинальных произведений. По роману французского писателя Ф. Фенелона «Приключения Телемаха», сын Одиссея также попал на остров Калипсо, но мудрый Ментор избавил Телемаха от коварных чар Калипсо, столкнул его со скалы в море и бросился вслед за ним сам.
(обратно)120
30. Флоренс Спенсер Смит — дочь австрийского посла в Константинополе и вдова Спенсера Смита — английского резидента в Штутгарте. Байрон познакомился с ней на о. Мальта в сентябре 1809 г. и посвятил ей некоторые из своих лирических стихов.
(обратно)121
36. Утописты наших дней. — Байрон был современником великих социалистов-утопистов К.-А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна.
(обратно)122
38. Искандер. // Героя тезка… — крупнейший военный и политический деятель средневековой Албании Георгий Кастриот — Скандербег (1405–1468). Служил в турецкой армии в качестве заложника, за выдающиеся военные способности получил титул бея и имя Искандер, как называли на Востоке великого полководца древности Александра Македонского (356–323 до н. э.). (Отсюда: Искандер-бей — искаженное Скандербег.) Бежал на родину и, возглавив борьбу албанского народа против ига Османской империи, объединил Албанию.
(обратно)123
Калойер — греческий монах-отшельник.
(обратно)124
39. …скалу… // Где скорбной Сафо влажная могила. — Знаменитая древнегреческая поэтесса Сафо (VII–VI вв. до н. э.), по преданию, бросилась в море с Левкадийской скалы из-за неразделенной любви к красавцу юноше Феону.
(обратно)125
40. Левкады — остров Лефкас в Ионическом море.
(обратно)126
Трафальгар. — Имеется в виду морское сражение у мыса Трафальгар на побережье Атлантического океана в Испании 21 октября 1805 г., в котором английская эскадра под командованием адмирала Нельсона (1758–1805) разгромила французский и испанский флоты и, завоевав господство на море, блокировала торговлю Франции и Испании с колониями.
(обратно)127
Акциум (точнее, Акций) — мыс у выхода из Амбракийского залива в Ионическое море. 2 сентября 31 г. до н. э. там произошло кровопролитное сражение между флотами Римской республики и Египта, закончившееся разгромом египетского флота. Явилось решающим этапом в борьбе за единоличную власть в Риме между триумвирами Октавианом (63 до н. э. — 14 н. э.) и Марком Антонием (82–30 до н. э.). Последний участвовал в сражении на стороне египетской царицы Клеопатры (69–30 до н. э.).
(обратно)128
41. Скала любви. — См. прим. к строфе 39. (см. коммент. 124 — верстальщик).
(обратно)129
42. Албания. — В момент пребывания Байрона в Албании страна находилась под игом Османской империи. Только население территории труднодоступных горных районов сохранило некоторую независимость. Фактически независимым государством были лишь земли на юге Албании с центром в городе Янина.
(обратно)130
Пинд — горная система в Греции, состоящая из нескольких параллельных горных цепей. Через Пинд проходит кратчайший путь из Фессалии в Эпир.
(обратно)131
44. Красный крест — крест св. Георгия, национальная эмблема Англии, в данном случае символ христианства.
(обратно)132
45. …залив, где отдан был весь мир // За женщину… — Римский триумвир Марк Антоний участвовал в сражении при Акции па стороне египетской царицы Клеопатры. Убедившись в неизбежности поражения египетского флота, бежал с места сражения в Египет следом за Клеопатрой, бросив на милость победителя экипажи уцелевших египетских кораблей. Вскоре покончил с собой.
(обратно)133
Продолжатель Цезаря. — Гай Юлий Цезарь был пожизненным диктатором Рима. Самоубийство триумвира Марка Антония открыло Октавиану путь на трон первого императора Рима.
(обратно)134
46. Город Побед — Никополь, построенный Октавианом на берегу Амбракийского залива в честь победы при Акции.
(обратно)135
Иллирийские долины — в древности область Иллирик на северо-восточном берегу Адриатического моря.
(обратно)136
Аттика — область на юго-востоке Средней Греции с главным городом Афинами.
(обратно)137
Дол Тампейский — живописная долина в Греции в Фессалии близ горы Олимп.
(обратно)138
47. Ахеруза — озеро в Греции близ города Янины.
(обратно)139
…лютый вождь Албанию гнетет… — Али-паша Тепеленский (ок. 1744–1822) — правитель фактически самостоятельного государства (1788–1822) в пределах Османской империи в западной части Балканского полуострова. С 1803 г., после жестокого подавления сопротивления племени сулиотов, — государь Албании, Эпира, Мореи с главным городом-цитаделью Яниной. Тайно поддерживал сношения с Англией, Францией, Россией и Австрией.
(обратно)140
48. Зитца — деревня и монастырь близ Янины.
(обратно)141
51. Альп химерских седловина — гряда Керавнских гор в Албании, севернее Янины.
(обратно)142
Ахерон — река в южном Эпире (современное название Фанариоти кос).
(обратно)143
Тартар — в греческой мифологии нижняя часть царства мертвых Аида.
(обратно)144
53. Додона — древнегреческий город в Эпире, центр культа Зевса, у подножия горы Томарос. Местонахождение древнейшего из оракулов. По шелесту листвы священного дуба жрецы-прорицатели вещали «волю Зевса».
(обратно)145
55. Томерит — гора в Эпире между Яниной и побережьем Ионического моря. В древности носила название Томарос.
(обратно)146
Лаос (точнее, Витосе) — самая полноводная река Северной Греции, впадающая в Адриатическое море, на которой расположен город Тепелена.
(обратно)147
58. Шкипетар — албанец.
(обратно)148
Дели — почетное звание, которое присваивалось турецким воинам.
(обратно)149
63. Гафиз (точнее, Хафиз) — выдающийся ирано-таджикский поэт XIV в.
(обратно)150
Анакреон (Анакреонт, ок. 570–487 до н. э.) — один из крупнейших древнегреческих поэтов-лириков.
(обратно)151
68. Сулиоты — свободолюбивое и воинственное племя в Албании. Многие годы успешно оказывало сопротивление натиску войск Али-паши Тепеленского.
(обратно)152
69. Ахелой — древнегреческое название реки Аспропотамос, разделяющей области Акарнанию и Этолию.
(обратно)153
70. Утракийский залив — на побережье Ионического моря, севернее города Превезы.
(обратно)154
71. Паликары — наименование солдат, говорящих по-ромейски (на новогреческом языке).
(обратно)155
Стр. 86. Тамбурджи — барабан, барабанщик.
(обратно)156
Кимериец — житель Химерских гор.
(обратно)157
Стр. 87. Паргийский пират. — Парга — морской порт в Албании во владениях Али-паши Тепеленского.
(обратно)158
Ты помнишь Превезу? — В 1798 г. город Превеза был отбит у Франции войсками Али-паши Тепеленского.
(обратно)159
Стр. 88. Мухтар — старший сын Али-паши Тепеленского, во время пребывания Байрона в Албании в 1809 г. находившийся на Дунайском фронте в связи с возобновлением Турцией в 1806 г. военных действий на Дунае против России.
(обратно)160
Гяур — «неверный», христианин.
(обратно)161
Бунчук — эмблема достоинства пашей в Турции.
(обратно)162
Селиктар — оруженосец.
(обратно)163
73. …неравный бой за Фермопилы… — Силы греков перед сражением у горной теснины Фермопилы (ключевая позиция на пути из Фессалии в Среднюю Грецию) в 480 г. до н. э. составляли лишь около пяти тысяч воинов. Им противостояли один миллион семьсот тысяч пехотинцев и восемьдесят тысяч всадников армии персидского царя Ксеркса. В момент решающей схватки греков под командованием спартанского царя Леонида бились только тысяча двести греческих воинов. Ни один не отступил.
(обратно)164
74. …за вольность бился Фразибул… — Афинский политический деятель, сторонник рабовладельческой демократии, изгнанный из Афин в 403 г. до н. э. аристократическим по составу «советом тридцати», Фразибул собрал сильный отряд единомышленников, захватил господствовавшую на подступах к Афинам крепость Филс и, овладев Афинами, избавил город от ненавистной олигархии «тридцати тиранов».
(обратно)165
77. Ятаган — кривой турецкий кинжал.
(обратно)166
Осман. — Так называли малоазиатских турок, проживавших на территории Османской империи, которая была основана эмиром Османом I (1258–1326) и названа его именем.
(обратно)167
Франки — племена западных германцев, расселившиеся с земель нижнего Рейна на территорию Восточной Галлии и в конце V в. образовавшие Франкское государство.
(обратно)168
Сераль — султанский двор, дворец и гарем турецких султанов.
(обратно)169
Ваххабиты — первоначально последователи Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба (1703–1787) и участники религиозного движения среди бедуинов Неджа на Аравийском полуострове в середине XVIII в. С расширением влияния секты движение было использовано с политической целью объединения разрозненных сил аравийских княжеств и племен в единое государство. В начале XIX в. ваххабиты подчинили государства Недж и Хиджас с городами Меккой и Мединой. Проповедуя единобожие и простоту, уничтожили храмы местных святых и сняли роскошные украшения с гробницы Магомета.
(обратно)170
79. София — храм св. Софии в Константинополе. После завоевания города Османской империей был превращен в мечеть.
(обратно)171
80. Владычица прилива и отлива — Луна.
(обратно)172
84. Сыны Лакедемона — спартанцы. Лакедемон (более известен под названием Спарта) — аристократическое рабовладельческое государство Древней Греции, расположенное на юге полуострова Пелопоннес в долине реки Эврот в Лаконике.
(обратно)173
86. …воздушный храм Афин, // Венчая холм… — Парфенон в афинском Акрополе.
(обратно)174
87. Мед Гимета. — Склоны горного массива Гимет на юго-востоке Средней Греции, близ Афин, в древности славились многочисленными пчельниками и особым сортом меда.
(обратно)175
88. Марафон. — Здесь Байрон говорит о замкнутой горами полукруглой Марафонской равнине в Аттике, на берегу моря, в сорока двух километрах от Афин, которую он посетил 25 января 1810 г.
(обратно)176
89. «Марафон» (Марафонская битва) — первое крупное сражение во время греко-персидских войн (12 сентября 490 г. до н. э.), в котором греческие войска одержали победу над армией персидского царя Дария I. Марафонская битва вошла в историю как пример победы над значительно превосходящими силами противника (одиннадцать тысяч афинян и платейцев бились против стотысячной армии персов) не только благодаря лучшему вооружению, но и ввиду непоколебимой стойкости воинов, отстаивавших независимость своей родины. Победа персов несла грекам рабство.
(обратно)177
90. Мидяне (точнее, мидийцы) — жители раннерабовладельческого государства Мидия, завоеванного персами в VI в. до н. э.
(обратно)178
93—98 строфы второй песни, так же как и строфа 9, написаны Байроном после возвращения в Англию в 1811 г.
(обратно)179
95. Любимая, кто всех мне заменила… — По утверждению самого Байрона, строфы 95–96 он посвятил памяти любимой женщины, умершей после его возвращения в Англию. В стихотворении, написанном 11 октября 1811 г., поэт условно назвал ее именем Тирза.
(обратно)180
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ
Стр. 96. Эпиграф к песни третьей взят Байроном из письма Фридриха II, короля Пруссии (1740–1786), к Жану-Лерону Даламберу (1717–1783), философу, математику и филологу, потерявшему своего друга. По этому поводу Фридрих II высказывает мысль о том, что горе утраты можно облегчить лишь напряженным трудом над какой-либо сложной теоретической проблемой.
(обратно)181
Песнь третью поэмы Байрон начал в первых числах мая 1816 года. Сохранилась лишь копия с подлинной рукописи песни третьей, выполненная Клер Клермонт — сводной сестрой Мэри Шелли, жены поэта П.-Б. Шелли. 10 июля 1816 года эта копия, вместе с сопроводительным письмом Байрона, была вручена П.-Б. Шелли и, по приезде последнего в Лондон, передана издателю Дж. Мерри. Опубликована 18 ноября 1816 года.
(обратно)182
1. Ада — Ада Августа Байрон, дочь поэта. Родилась 10 декабря 1815 г., умерла 27 ноября 1852 г. В последний раз Байрон видел ее в Лондоне 15 января 1816 г.
(обратно)183
И вновь плыву… — Байрон покинул Англию во второй и последний раз 25 апреля 1816 г.
(обратно)184
14. Халдей. — Халдеи — одна из народностей, населявших в древности Вавилонскую низменность. Видимо, им были уже известны начала астрономии, так как в легендах о них сохранилось представление как о звездочетах и магах.
(обратно)185
Телец — одно из двенадцати созвездий Зодиака в северном полушарии звездного неба.
(обратно)186
Дракон — созвездие в северном полушарии звездного неба между Большой Медведицей и Малой.
(обратно)187
Строфы 17–45 были написаны Байроном под впечатлением посещения поля битвы Ватерлоо в апреле 1816 г., то есть менее чем через год после кровопролитного сражения.
(обратно)188
17. Ты топчешь прах Империи… — Поражение наполеоновских войск в сражении при Ватерлоо привело к падению наполеоновской империи.
(обратно)189
Беллона. — См. прим. к I, 52. (см. коммент. 67 — версталщик).
(обратно)190
Но мир на самом страшном из полей // С победой получил лишь новых королей. — В годы реставрации и торжества дворянско-монархической реакции новые короли, герцоги, курфюрсты заняли троны во многих странах Европы: Бурбоны во Франции, Испании и Неаполитанском королевстве, король Нидерландов, тридцать восемь монархов в Германии.
(обратно)191
18. Ватерлоо — историческое сражение при поселке Ватерлоо в Бельгии близ Брюсселя 18 июня 1815 г., в ходе которого англо-голландские и прусско-саксонские войска под командованием А. Веллингтона (1769–1852) и Г.-Л. Блюхера (1742–1819) нанесли армии Наполеона сокрушительный удар.
(обратно)192
…Влачит он цепь над бездною соленой… — После Ватерлоо Наполеон сдался в плен англичанам и был сослан на остров Св. Елены.
(обратно)193
19. Пленный галл — здесь Наполеон.
(обратно)194
20. …в миртах меч… меч Гармодия, меч Аристогитона! — Гармодий и Аристогитон в 514 г. до н. э. убили тирана Афин Гиппарха кинжалами, спрятанными в ветках мирта.
(обратно)195
21. В ночи огнями весь Брюссель сиял… — 15 июня 1815 г. в Брюсселе, с ведома командования союзных войск, был дан бал, на котором присутствовало значительное число офицеров английской и голландской армий. На рассвете 16 июня началась битва при Катр-Бра близ Брюсселя — пролог Ватерлоо. Многие офицеры должны были идти в бой прямо с бала.
(обратно)196
23. Брауншвейгский герцог — Фридрих Вильгельм (1771–1815), племянник английского короля Георга III, был убит на следующий день после бала, 16 июня 1815 г., в битве при Катр-Бра. Отец герцога Карл-Вильгельм Фердинанд (1735–1806) погиб в 1806 г. в бою с наполеоновскими войсками при Ауэрштедте.
(обратно)197
26. «Кемроны, за мной!» — боевая песня шотландского клана кемронов. В бою при Катр-Бра представитель клана кемронов Джон Кемрон командовал 92-м шотландским полком и был смертельно ранен.
(обратно)198
Лохьел — титул главы шотландского клана кемронов.
(обратно)199
Элбин — кельтское (гэльское) название Шотландии.
(обратно)200
Эван и Дональд — представители шотландского клана кемронов, сражавшиеся за независимость Шотландии.
(обратно)201
27. Арденны. — Здесь Байрон ошибочно называет лес Суаньи Арденнским.
(обратно)202
29. Воспет их подвиг был и до меня… — Байрон имеет в виду поэму В. Скотта (1771–1832) «Поле Ватерлоо», опубликованную в 1815 г.
(обратно)203
…один средь них — он мне родня, — // Его отцу нанес я оскорбленье… — Фредерик Говард, родственник Байрона, погиб в битве при Ватерлоо. В поэме «Английские барды и шотландские обозреватели» Байрон неумышленно задел его отца — лорда Карлейля, который был опекуном поэта до достижения им совершеннолетия.
(обратно)204
35. Псалмист измерил наших дней число… — У христиан средний век человека считается семьдесят лет.
(обратно)205
36. Сильнейший там… не худший пал. — В строфах 36–46 Байрон говорит о Наполеоне.
(обратно)206
…вновь ему корону возвратил… — Байрон имеет в виду «Сто дней» пребывания Наполеона во Франции после бегства с острова Эльбы.
(обратно)207
41. Диоген (ок. 404–323 до н. э.) — древнегреческий философ. Утверждал, что счастлив только тот, кто ограничивает потребности самым малым.
(обратно)208
Филиппа сын. — Александр Македонский был сыном македонского царя Филиппа II.
(обратно)209
Стр. 112. Драхенфельс — развалины замка на вершине самой высокой из Семи гор на берегу Рейна, напротив Бонна.
(обратно)210
56. Кобленц — город Рейнской провинции в Германии, во время Великой французской революции — центр контрреволюционной эмиграции.
(обратно)211
Марсо Франсуа-Соверен (1769–1796) — генерал Французской республики. Писец по профессии, с первых дней Французской революции выдвинулся как талантливый полководец республиканской армии, «лев французской армии». За успехи в борьбе против контрреволюционного восстания в Вандее получил звание генерала. В бою близ Кобленца был смертельно ранен.
(обратно)212
58. Эренбрейтштейн — крепость близ Кобленца. Безуспешная осада этой крепости войсками республиканской Франции длилась два года (1795–1796). Капитулировала после вторичной осады в 1799 г.
(обратно)213
63. Морат — небольшой город в Швейцарии восточнее Невшательского озера. В сражении при Морате в июне 1476 г. ополчение городских и сельских кантонов Швейцарского союза, отстаивая независимость своей федерации, нанесло сокрушительный удар войскам бургундского герцога Карла Смелого.
(обратно)214
64. Канны — селение в юго-восточной Италии, где в годы второй Пунической войны произошла знаменитая битва (216 до н. э.), в которой карфагенский полководец Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.), после стремительного похода из Испании в Италию, добился полного окружения и разгрома римских войск. Римляне потеряли семьдесят тысяч убитыми, карфагеняне — шесть тысяч. Сопоставляя сражения при Ватерлоо и Каннах с битвами при Морате и Марафоне, Байрон отчетливо проводит границу между войнами завоевательными и войнами во имя независимости родины.
(обратно)215
65. Авентик (точнее, Авентикум) — столица древнеримской провинции Гельвеция (современный г. Аванш) в Швейцарии. Расположен в пяти милях к востоку от Невшательского озера.
(обратно)216
66. Юлия — Юлия Альпинула, личность легендарная.
(обратно)217
68. Леман — французское название Женевского озера.
(обратно)218
71. Рона — река в Западной Европе. Берет исток из Ронского ледника, протекает через Женевское озеро, по выходе из него пересекает Францию и впадает в Средиземное море.
(обратно)219
76. Онздесь рожден… — Имеется в виду Жан-Жак Руссо (1712–1778), великий французский писатель-просветитель XVIII в.
(обратно)220
77. Софизмы. — Здесь Байрон имеет в виду противоречивость некоторых высказываний Руссо.
(обратно)221
…Над книгой, полной чувств и мыслей новых, // Читатель слезы лил… — Байрон говорит о романе в письмах Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), волновавшем читателей своим глубоким раскрытием трагедии людей, чувствам которых сословные предрассудки ставили непреодолимые преграды. Он пользовался большой популярностью.
(обратно)222
81. …пифия на троне золотом. — В храме Аполлона в Дельфах (см. прим. к I, 1) (см. коммент. 30 — верстальщик) пифия-жрица вещала «волю Аполлона», сидя на золотом треножнике.
(обратно)223
…Народ, разбуженный Руссо с его друзьями. — Так иносказательно Байрон говорит о Великой французской революции.
(обратно)224
82. …мир опять узрел насилья торжество. — Байрон писал эти строки во времена разгула дворянско-монархической реакции в Европе, начавшейся после реставрации Бурбонов во Франции и заключения, в сентябре 1815 г., Священного союза между Россией, Австрией и Пруссией.
(обратно)225
86. Юра — горная гряда во Франции и Швейцарии.
(обратно)226
90. Пояс Афродиты. — По древнегреческим мифам, тайна обаяния Афродиты была скрыта в ее поясе.
(обратно)227
100. В Кларане всё — любви бессмертной след… — В романе Руссо «Новая Элоиза» действие развертывается в окрестностях швейцарского города Кларана. Во время пребывания в Швейцарии Байрон дважды посетил эти места.
(обратно)228
104. Психея — у древних греков олицетворение души. Возлюбленная бога любви Эрота.
(обратно)229
105. Лозанна и Ферней. — Лозанна — город в Швейцарии, где долгое время жил и писал свой труд «История упадка и разрушения Римской империи» английский ученый-просветитель Эдуард Гиббон (1737–1794). Ферней — поместье в Швейцарии близ Женевы, принадлежавшее Вольтеру (1694–1778), великому французскому писателю-просветителю и философу XVIII в.
(обратно)230
106. Протей — в древнегреческих мифах морское божество. Обладал способностью принимать любой облик и даром предсказывания будущего. В современном языке — образ многоликости.
(обратно)231
107. Другой — Э. Гиббон.
(обратно)232
110. …От войн, пресекших дерзость Карфагена… — Имеются в виду три Пунические войны (римляне называли карфагенян пунами), которые велись между Римом и Карфагеном за господство в Средиземном морском бассейне и длились с перерывами более ста лет (264–146 до н. э.).
(обратно)233
115 — 118. Ада Августа Байрон — талантливый математик; незадолго до кончины завещала похоронить ее рядом с отцом в семейном склепе Байронов в Хакнолл-Торкард.
(обратно)234
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Первый вариант песни четвертой поэмы, созданный Байроном в период с 26 июня по 17 июля 1817 года, составил сто двадцать шесть строф. С августа 1817 года Байрон начал писать дополнительные строфы и вплоть до начала весны 1818 года работал над ними, создав еще шестьдесят строф. Значительные по объему примечания к тексту этой песни, за немногими исключениями, были написаны другом поэта Джоном Кэмом Хобхаузом. Опубликована песнь четвертая 28 апреля 1818 года.
(обратно)235
Стр. 133. Хобхауз Джон Кэм (1786–1869) — друг Байрона, английский литератор и общественный деятель, путешествовал вместе с поэтом в 1809–1810 гг. и в 1816–1817 гг. Байрон посвятил ему также поэму «Осада Коринфа».
(обратно)236
Эвквайр (или сквайр) — в средние века оруженосец, позже титул наиболее крупного помещика-землевладельца в приходе.
(обратно)237
Стр. 134. …годовщина самого несчастного дня моей прошлой жизни… — 2 января 1815 г. день свадьбы Байрона.
(обратно)238
…китайцу в «Гражданине мира» Голдсмита. — Оливер Голдсмит (1728–1774) — известный английский поэт, прозаик и драматург. Здесь Байрон упоминает его книгу «Гражданин мира, или Письма от китайского философа из Лондона своему другу на Восток», опубликованную в 1762 г.
(обратно)239
Стр. 135. …великие имена… — Канова Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор; Монти Винченцо (1754–1828) — поэт; Уго Фосколо (1776–1827) — поэт и публицист, горячо поддерживал Великую французскую революцию, выступал за объединение и независимость Италии; Пиндемонте Джованни (1753–1828) — поэт-патриот, боролся за независимость Италии; Висконти Эрмес, маркиз (1751–1818) — итальянский патриот, журналист, критик; Морелли Микеле (1745–1819) — борец за независимость Италии, участник Неаполитанского восстания в 1820 г.; Чиконьяра Леопольдо (1767–1843) — критик и искусствовед; Альбрицци, графиня (1769–1836). Ее салон служил местом встреч многих выдающихся деятелей Италии, в том числе карбонариев. Часто посещал ее и Байрон. Медзофанти Джузеппе Кардина (1774–1849) — знаменитый итальянский полиглот; Маи Анджело, кардинал (1782–1854) — филолог; Мустоксиди Андреас (1787–1860) — греческий археолог; Альетти Франческо (1757–1836) и Вакка Андреа (1772–1826) — врачи.
(обратно)240
Альфьери где-то сказал… — Альфьери (Альфиери) Витторио (1749–1803) — выдающийся итальянский драматург, создатель итальянской классической трагедии. Источник цитаты не установлен.
(обратно)241
Стр. 136. Резня при Мон-Сен-Жан. — Так зашифрованно Байрон вынужден в 1818 г. упоминать о кровавой битве при Ватерлоо.
(обратно)242
…преданы Генуя, Италия, Франция, весь мир… — Байрон говорит о периоде Реставрации и Священного союза после Венского конгресса 1814–1815 гг. — разгуле реакции.
(обратно)243
…описали в произведении, достойном лучших дней нашей истории. — Байрон имеет в виду публикацию Джона Хобхауза «Содержание некоторых писем, посланных одним англичанином — резидентом в Париже в период последнего правления императора Наполеона», изданную в Лондоне в 1816 г. анонимно. Автором являлся Дж. Хобхауз.
(обратно)244
…отмена Habeas Corpus… — Байрон говорит об английском законе о неприкосновенности личности, принятом английским парламентом в 1679 г. В 1817 г. его действие было временно приостановлено.
(обратно)245
1. Ponte dei Sospiri (Мост вздохов; итал.) — крытый мост в Венеции, соединяющий Дворец дожей с тюрьмой Сан-Марко.
(обратно)246
1. Марк. — Св. Марк считался покровителем Венеции.
(обратно)247
2. Морей царица, в башенном венце… — Байрон сравнивает Венецию с Кибелой — фригийской богиней — матерью богов и всего живущего на земле, которая изображалась с венцом из башен на голове.
(обратно)248
Анадиомена — выходящая из воды. По древнегреческому мифу, Афродита возникла из морской пены, отсюда — Афродита Анадиомена.
(обратно)249
Вено — приданое, выкуп за невесту.
(обратно)250
3. …смолк напев Торкватовых октав… — Байрон упоминает о некогда широко распространенном обычае венецианских гондольеров петь отрывки из поэмы великого итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим».
(обратно)251
4. …дожей и богатства лишена… — Последний дож Венеции Лодовико Манин был смещен в 1797 г., а Венецию, по договору Кампо Формио, Наполеон передал Австрии. После битвы под Аустерлицем 2 декабря 1805 г. Венеция стала частью Неаполитанского королевства. 3 мая 1814 г., по Парижскому трактату, Ломбардия и Венеция вновь были переданы Австрии.
(обратно)252
Пьер, Шейлок и Отелло — герои произведений английских писателей, действие которых происходит в Венеции. Пьер — герой трагедии Томаса Отвея (1651–1685) «Спасенная Венеция» (1682), Шейлок и Отелло — герои пьес Шекспира «Венецианский купец» и «Отелло».
(обратно)253
10. «Среди спартанцев был не лучшим он». — Так ответила мать спартанского полководца Брасида чужеземцам, высказывавшим похвалы ее погибшему сыну.
(обратно)254
11. «Буцентавр» — название корабля Венецианской республики, на котором, по традиции, ежегодно в день Вознесения дож Венеции выезжал в открытое море и символически обручался с Адриатикой, бросая в море кольцо.
(обратно)255
…папе неугодный, // Склонился император… — один из знаменательных эпизодов борьбы римских пап за сохранение своего влияния на светскую власть. После битвы при Леньяно (1176) войска ополчений городов Ломбардии, объединенных в мощную Ломбардскую лигу, разбили рыцарей германского императора Фридриха I Барбароссы (ок. 1125–1190), отлученного римским папой Александром III от церкви. Чтобы снять отлучение, потерпевший поражение император был вынужден отправиться в Венецию, где находился папа, и проделать унизительную церемонию целования папской туфли в знак покорности воле папы.
(обратно)256
12. Шваб — здесь: король Фридрих I Барбаросса.
(обратно)257
Австриец — Франц I, австрийский император (1768–1835).
(обратно)258
Дандоло — Дандоло Энрико, венецианский патриций; в 1192 г., в возрасте восьмидесяти пяти лет, был избран дожем Венеции. Раскрыл свой блестящий коммерческий гений, умело использовав междоусобную борьбу претендентов на престол византийских императоров в качестве повода для направления на венецианских кораблях рыцарских войск Четвертого крестового похода, не «ко гробу господню», но в Византию. В 1204 г. девяностосемилетний Дандоло возглавил, под предлогом борьбы с вспыхнувшим в городе восстанием, штурм Византии, сопровождавшийся неслыханным разграблением города, уничтожением могущественного торгового конкурента и несметным обогащением венецианского купечества.
(обратно)259
13. Кони Марка — четыре бронзовых позолоченных коня, установленные на главном портале собора св. Марка в Венеции, по-видимому, римской работы времен Октавиана Августа. Дож Дандоло привез их из Византии в 1204 г.
(обратно)260
Дориа Пьетро — генуэзский адмирал. После захвата в 1370 г. Кьоджи близ Венеции генуэзским флотом на предложение Венеции заключить мирное соглашение он будто бы ответил, что генуэзцы «не даруют мира, пока не взнуздают коней св. Марка».
(обратно)261
Венеция… в родную глубь она… — В связи с медленным понижением дна Адриатического моря Венеция действительно опускается в море.
(обратно)262
14. Тир. — См. прим. к I, 45. (см. коммент. 60 — верстальщик).
(обратно)263
«Рассадник львов». — В Италии венецианцев издавна называют «панталони». Байрон ошибочно предполагает, что название это произошло от «pianta leone» — «водружающие львов». Вероятнее, что это прозвище идет от очень распространенного в северной Италии имени Панталеона и от местного покроя мужских брюк.
(обратно)264
…от Европы турок отразила. — В 1571 г. совместными силами объединенного флота Испании, Венеции и римского папы в Коринфском заливе, в морском сражении при Лепанто, турецкому флоту было нанесено крупное поражение: флотилия в 264 корабля была почти полностью разбита.
(обратно)265
16. Когда Афины шли на Сиракузы… — Сицилийская экспедиция 415 г. до н. э.; пример неудачи завоевательных стремлений Афинской морской державы. Флот из 260 судов и экспедиционная армия в сорок тысяч воинов смогли захватить на острове Сицилия лишь город Катану, а осада Сиракуз была безуспешна.
(обратно)266
…Стих Еврипида, сотни граждан спас. — Во время сицилийской экспедиции 415 г. до н. э. попытка продвинуть сухопутные войска внутрь острова привела к захвату в рабство семи тысяч афинян. Как сообщает Плутарх, из них на смягчение своей участи смогли надеяться лишь те афиняне, кто знал наизусть отрывки из популярных среди населения Сицилии трагедий великого древнегреческого драматурга Еврипида (480–406 до н. э.).
(обратно)267
18. Радклиф Анна (1764–1823) — английская писательница. В ее романе «Удольфские тайны» действие происходит в Венеции.
(обратно)268
Шиллер Фридрих (1759–1805) — великий немецкий писатель. Байрон имеет в виду его повесть «Духовидец».
(обратно)269
27. Фриулы — отроги Альп севернее Триеста и северо-восточнее Венеции. С 1420 г. территория принадлежала Венеции, а в 1814 г. передана Австрии.
(обратно)270
Селена — в древнегреческой мифологии богиня луны.
(обратно)271
28. Брента — река в Северной Италии, впадает в Адриатическое море.
(обратно)272
29. …дельфин… умирая, // Меняется в цветах… — Так считали древние греки.
(обратно)273
30. Аркуа — небольшое селение на склоне горы Вентолоне, в двенадцати милях юго-восточнее Падуи, где находится могила великого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304–1374).
(обратно)274
…Кто лавра соименницей была… — По-итальянски «лаура» — «лавр».
(обратно)275
34. Дантов ад. — «Ад» — первая часть поэмы великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) «Божественная комедия».
(обратно)276
35. Феррара — город в Северной Италии на реке По. С VII в. — главный торговый соперник Венеции. До XIII в. — городская коммуна, с XIII в. попал под власть тирании династии герцогов Эсте. Один из центров Возрождения. В Ферраре жили и творили: Л. Ариосто, Т. Тассо и другие выдающиеся итальянские поэты.
(обратно)277
…широкой симметричности твоей. — Город Феррара по своей планировке отличается от других средневековых городов Италии, так как в начале XVI в. перестраивался по планам Б. Россетти.
(обратно)278
36. Альфонсо II Эсте (ум. в 1597 г.) — феррарский герцог. По его приказу Т. Тассо был объявлен безумным и на семь лет посажен на цепь в больнице св. Анны для умалишенных.
(обратно)279
38. …гневу Круски дал он много пищи... — Круска — известная в Италии Academia della Crusca во Флоренции. Боролась за утверждение общеитальянского литературного языка на основе литературного языка великих поэтов-флорентийцев, но отметала живую народную речь. Некоторые ее члены высказали резкие суждения в адрес Т. Тассо и его поэмы «Освобожденный Иерусалим».
(обратно)280
Буало-Депрео Никола (1636–1711) — поэт и теоретик французского классицизма. До конца XVIII в. его стихотворный трактат «Поэтическое искусство» оказывал значительное воздействие на литературу Европы. Байрон не был согласен с критическими замечаниями Буало о поэзии Т. Тассо.
(обратно)281
40. «Божественной комедии» создатель — Данте Алигьери.
(обратно)282
Южный Скотт. — Знаменитого итальянского поэта Ариосто Байрон сравнивает со своим современником (называя его, в свою очередь, «наш Ариосто северный»), выдающимся английским писателем Вальтером Скоттом, автором романтических поэм и создателем исторического жанра романа.
(обратно)283
44. Друг Цицерона — Сервий Сульпиций Руф, римский консул. Был другом знаменитого оратора и политического деятеля Рима Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.). В письмах к Цицерону Сервий дал интересные описания мест, которые он видел во время поездки по Греции. Многие из упоминаемых им городов Байрон посетил во время путешествия в 1809–1811 гг.
(обратно)284
Мегара — главный город древнегреческой области Мегариды в северо-восточной части Коринфского перешейка. Некоторое время был подчинен Афинам и Спарте. Попытка Афин вновь покорить город привела к началу Пелопоннесской войны.
(обратно)285
Пирей — город на северо-восточном побережье Саронического залива, порт Афин. В ходе Пелопоннесской войны мощные крепостные стены города были разрушены.
(обратно)286
Эгина — полуостров в Сароническом заливе Эгейского моря.
(обратно)287
Коринф — крупный город на северо-востоке полуострова Пелопоннес у Коринфского залива. До V в. до н. э. — торговый соперник Афин. В 146 г. до н. э. был захвачен и разрушен римскими войсками.
(обратно)288
46. …рухнул Рим… — В 476 г. последний римский император был низложен, и Западная Римская империя пала.
(обратно)289
47. …веры нашей родина… — В 313 г., по Миланскому эдикту, была объявлена веротерпимость по отношению к христианской религии, в конце IV в. она становится единственной государственной религией Западной Римской империи.
(обратно)290
48. Арно — река в Средней Италии, берущая начало в Апеннинских горах. На ее берегах расположена Флоренция.
(обратно)291
Этрурия — область на северо-западе Апеннинского полуострова, населенная в древности этрусками. С III в. до н. э. подчинена Риму. Современная Тоскана.
(обратно)292
Наследница Афин. — Байрон называет так Флоренцию, которая сыграла значительную роль в истории культуры и искусства Италии.
(обратно)293
49. Вилла. — Здесь Байрон имеет в виду художественную галерею Уффици во Флоренции, где находится статуя Венеры Медицейской.
(обратно)294
50. …прав Парис… — По древнегреческой легенде, сын троянского царя Приама вручил богине любви Афродите яблоко с надписью «прекраснейшей».
(обратно)295
51. Анхиз — внук троянского царя Ила. Как повествует древнегреческая легенда, ослепленная любовью Афродита сама явилась к нему.
(обратно)296
Бог битв — Арей. По древнегреческому мифу, ревнивый супруг Афродиты Гефест поймал Арея и воспылавшую к нему любовью Афродиту в хитроумно расставленные сети.
(обратно)297
54. Санта-Кроче — церковь-усыпальница во Флоренции.
(обратно)298
Галилей Галилео (1564–1648) — великий итальянский физик и астроном.
(обратно)299
Буонарроти Микеланджело (1475–1564) — великий итальянский живописец и скульптор Возрождения.
(обратно)300
54. Макиавелли Никколо (1469–1527) — выдающийся итальянский политический деятель, историк и писатель.
(обратно)301
56. …где три брата кровных? — Байрон говорит о трех великих основоположниках итальянской литературы — Данте, Петрарке и Боккаччо.
(обратно)302
57. Как Сципион, храним чужою сенью… — Сципион Африканский Старший, Публий Корнелий (ок. 235–183 до н. э.) — римский полководец; завершил освобождение Испании из-под власти Карфагена, нанеся войскам Ганнибала решающее поражение в битве при Заме (202 до н. э.) близ Карфагена. По преданию, обиженный неблагодарностью граждан Рима, остаток дней провел далеко от столицы и там же был похоронен.
(обратно)303
Рассказчик ста новелл — Джованни Боккаччо (1313–1375), основоположник классической итальянской прозы. Сборник новелл «Декамерон», состоящий из ста новелл, принес ему мировую славу.
(обратно)304
…вдали твой Данте спит… — Данте, родившийся во Флоренции, умер в изгнании. Прах похоронен в Равенне, в церкви св. Франческо.
(обратно)305
…лавр носил Петрарка не родной… — За поэму «Африка» Петрарка был увенчан лавровым венком в Риме.
(обратно)306
…ограблен был… тобой. — Имущество отца Петрарки было конфисковано, а сам он изгнан из Флоренции вскоре после изгнания Данте.
(обратно)307
58. …надгробье снял ханжа презренный… — Ненавидевшие Боккаччо церковники в 1783 г. уничтожили его гробницу в церкви св. Михаила и Иакова в г. Чертальдо.
(обратно)308
59. …Когда на имя Брута лег запрет… — Брут Марк Юний (85–42 до н. э.) — римский политический деятель, республиканец, один из убийц Юлия Цезаря. На похоронах его сестры бюст Брута не несли впереди похоронной процессии, как это полагалось по обряду, но это лишь еще более способствовало его посмертной популярности.
(обратно)309
61. Собор над Арно. — Церковь-усыпальница Санта-Кроче во Флоренции расположена на берегу реки Арно.
(обратно)310
62. Тразимена… хитрость Карфагена… — Тразименское озеро в семнадцати милях от Флоренции. В 217 г. до н. э. во время второй Пунической войны (218–201 до н. э.) близ Тразименского озера произошла битва между армией Карфагена и римскими войсками. Втянутые в засаду и окруженные, войска консула Фламиния были полностью разбиты армией Ганнибала.
(обратно)311
63. …никто не замечал землетрясенья… — Некоторые историки утверждают, что во время битвы при Тразимене было сильное землетрясение.
(обратно)312
65. Сангвинетто — то есть окровавленный (итал.).
(обратно)313
66. Клитумн — речка между Фолиньо и Сполетто.
(обратно)314
69. Велино — река в Италии с известным водопадом Терни, в десяти милях от г. Терни.
(обратно)315
Opк (Оркус) — по верованиям древних римлян, божество смерти. Имя Орк, подобно древнегреческому Аиду, стало обозначать подземный мир вообще.
(обратно)316
Флегетон — у древних греков огненная река в преисподней.
(обратно)317
72. Ирида — в древнегреческих мифах богиня радуги.
(обратно)318
73. Монблан — самый высокий горный массив в Савойских Альпах на границе Швейцарии, Франции и Италии.
(обратно)319
74. Химари — Химерские горы в Албании, севернее г. Янины.
(обратно)320
Этна — вулкан на острове Сицилия.
(обратно)321
Ида — вершина в горной цепи близ Трои.
(обратно)322
Олимп — горный массив в Северной Фессалии в Греции. У древних греков считался священным и местопребыванием всего сонма богов.
(обратно)323
Соракт — гора в Италии, на границе Этрурии и земли сабинов.
(обратно)324
77. Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.) — великий римский поэт. Его оды и сатиры были широко известны и служили образцом для европейских поэтов многих поколений.
(обратно)325
79. Ниобея — по древнегреческому мифу, многодетная жена фиванского царя Амфиона. Разгневала Аполлона и Артемиду, которые убили ее двенадцать детей. Окаменев, превратилась в скалу, источающую слезы.
(обратно)326
Кенотаф — надгробие, сооруженное не на месте погребения, а лишь в память погибших (морякам и др.).
(обратно)327
80. Капитолий — один из холмов близ реки Тибр, на северо-западе от древнейшего поселения римлян — на холме Палатине. На Капитолии были расположены крепость и храмы Юпитера Капитолийского и Юноны.
(обратно)328
82. …торжество // Трехсот триумфов! — Считают, что за всю историю древнего Рима город был свидетелем трехсот двадцати триумфов — торжественных встреч полководцев-победителей.
(обратно)329
Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — древнеримский историк, автор огромного труда по истории Рима.
(обратно)330
83. Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — государственный деятель и талантливый полководец Древнего Рима. Первый неограниченный диктатор. Жестоким террором подавил сопротивление демократических слоев, дважды захватывал Рим военной силой.
(обратно)331
85. Кромвель Оливер (1599–1658) — крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII в., сторонник республики. После казни короля Карла I стал лордом-протектором республики, единоличным правителем Англии.
(обратно)332
…В день двух побед был смертью награжден… — Байрон подчеркивает, что третье сентября было фатальным числом в жизни Кромвеля: в этот день в 1650 и 1651 гг. он одержал победы над королевскими войсками и третьего же сентября 1658 г. умер.
(обратно)333
87. …монумент Помпея, // Пред кем… пал Цезарь… — колоссальная статуя в Палаццо Спада в Риме, возможно, портретная статуя Гнея Помпея (106—48 до н. э.) — римского политического деятеля и полководца, противника Юлия Цезаря, но, очевидно, не та, около которой был убит Цезарь.
(обратно)334
88. …в кого ударил дважды гром //… священная волчица… — скульптура легендарной волчицы в Риме, будто бы вскормившей Ромула — основателя города. По утверждению Цицерона, в нее однажды попала молния.
(обратно)335
89. Раб своих рабов. — Байрон имеет в виду Наполеона.
(обратно)336
90. Гость Клеопатры. — По преданию, влюбленный Цезарь долгое время оставался при дворе египетской царицы Клеопатры.
(обратно)337
…За прялкой изменяющий Алкид… — По преданию, Алкид (иначе Геракл) за убийство Ифита должен был три года служить рабом у лидийской царицы Омфалы, выполняя исключительно женскую работу.
(обратно)338
…Который вновь пойдет, увидит, победит… — «Пришел, увидел, победил» краткое донесение Цезаря сенату о победе над царем Боспора Фарнаком.
(обратно)339
96. …Каким… Колумбия, был воин твой и сын? — Имеется в виду Симон Боливар (1783–1830), выдающийся государственный деятель и полководец Латинской Америки, один из руководителей национально-освободительного движения в испанских колониях в Южной Америке, глава республики Колумбии и Боливии.
(обратно)340
Вашингтон Джордж (1732–1799) — один из руководителей борьбы за независимость английских колоний в Северной Америке, первый президент США.
(обратно)341
97. …сатурналия резни… — Байрон вспоминает Ватерлоо.
(обратно)342
…рабству мир себя обрек… — Так говорит Байрон об усилении реакционных сил в Европе в годы Реставрации и Священного союза.
(обратно)343
99. Мрачный бастион — мавзолей Цецилии Метеллы, жены римского триумвира Красса, расположенный на Аппиевой дороге в миле от порта Сан-Себастьяно. В средние века был перестроен и превращен в бастион.
(обратно)344
101. Корнелия — мать братьев Гракхов, Тиберия и Гая, возглавивших движение за проведение аграрной реформы в Древнем Риме (II в. до н. э.).
(обратно)345
102. Богов любимица. — Байрон вспоминает здесь крылатое выражение «боги любят молодых».
(обратно)346
106. Квиринал — холм в Риме.
(обратно)347
107. Крипта — у древних греков и римлян подземный ход со сводами, высеченный в скале: в них в первые столетия новой эры собирались первые христиане. Позже — подземная часовня.
(обратно)348
110. Тит Флавий Веспасиан (39–81 н. э.) — римский император (79–81).
(обратно)349
И там святой стоит, // Где император был умерший не зарыт. — Траян Марк Ульпий (53—117 н. э.) — римский император. В 1587 г. вместо статуи Траяна на колонне была установлена статуя св. Петра.
(обратно)350
114. Риенци Кола ди (1313–1354) — итальянский политический деятель, возглавивший восстание 1347 г. в Риме; был объявлен трибуном, но не смог продолжать борьбу за создание федерации вольных городов Италии.
(обратно)351
115. Эгерия — в древнеримской мифологии нимфа, супруга царя Нумы Помпилия, его добрая советчица в вопросах религии. Здесь: мудрая руководительница и советчица мужа.
(обратно)352
Аврора — в древнеримских мифах богиня утренней зари.
(обратно)353
129. Сатурн — у древних римлян бог посевов, древнейший царь Италии.
(обратно)354
132. Немезида — в древнегреческой мифологии богиня отмщения и возмездия.
(обратно)355
…Чтобы Ореста… // Свершившего неслыханное дело… — Орест, согласно древнегреческой легенде, сын Агамемнона и Клитемнестры. Убил мать в отмщение за то, что она, вместе со своим возлюбленным Эгистом, убила его отца, Агамемнона.
(обратно)356
136. Янус — древнеиталийский бог времени; изображался с двумя лицами. Здесь: образ лицемерия и двуличия.
(обратно)357
146. Пантеон — древнейший римский храм, посвященный всем богам, возведен ок. 125 г. н. э., позже был превращен в христианскую церковь.
(обратно)358
148—149. Байрон упоминает древнеримскую легенду, по которой дочь спасла сидевшего в темнице старика отца от голодной смерти, кормя его грудью.
(обратно)359
152. Башня Адриана — гробница римского императора Публия Элия Адриана (76—138 н. э.), возведенная в 135–140 гг. н. э.
(обратно)360
153—157. Байрон имеет в виду собор св. Петра в Риме.
(обратно)361
153. Храм Дианы — один из прекраснейших памятников древнегреческой архитектуры в г. Эфесе в Малой Азии. По преданию, был сожжен Геростратом с целью прославиться.
(обратно)362
154. Сион — гора в Палестине, здесь: вся Палестина в целом.
(обратно)363
160. Лаокоон — знаменитая античная скульптура, изображающая гибель троянского жреца Лаокоона и его двух сыновей. Хранится в музее Ватикана.
(обратно)364
161. Аполлон Бельведерский — античная статуя, хранящаяся в музее Ватикана.
(обратно)365
163. …похитил Прометей, небесный пламень… — Прометей — по древнегреческим мифам, титан, богоборец и защитник людей. Когда разгневанный на людей Зевс отнял у них огонь, Прометей вернул его людям, похитив с Олимпа в тростнике.
(обратно)366
167. Мать-принцесса. — Байрон говорит о смерти английской наследной принцессы Шарлотты, умершей в 1817 г.
(обратно)367
173—174. Неми и Альбано — озера в Италии к югу от Рима.
(обратно)368
174. Лациум (точнее, Лаций) — в древности область центральной Италии, включавшая Рим и населенная латинами.
(обратно)369
«Меч и муж». — Поэма Вергилия «Энеида» начинается со слов: «Arma virumque canò» («Оружье пою и мужей»).
(обратно)370
…славил Рим звезду тех грозных лет. — Имеются в виду события, отраженные в поэме Вергилия «Энеида».
(обратно)371
Туллий — Цицерон.
(обратно)372
175. Пролив Кальп — Гибралтар.
(обратно)373
Эвксинский Понт — Черное море.
(обратно)374
176. Симплегады — две скалы в Босфорском проливе.
О. Афонина
(обратно)375
«ДОН-ЖУАН»
Упоминания о «Дон-Жуане» («Don Juan») появляются в переписке Байрона в июле 1818 года. Песнь первую он начал еще в июне и кончил в ноябре 1818, вторую — в январе 1819 года. Несмотря на сопротивление Мерри, постоянного издателя Байрона, обе песни вышли из печати летом 1819 года. Поздней осенью того же года и ранней зимой следующего поэт работал над песнями третьей и четвертой. Раздраженный борьбой с Мерри и его «треклятым пуританским советом», протестовавшим против «непристойности» поэмы, Байрон лишь к концу 1820 года завершил песнь пятую. Опубликовать новые песни ему удалось только в августе 1821 года.
Под впечатлением возмущенных рецензий и обвинений в безнравственности даже со стороны близких ему людей, Байрон в течение полутора лет не прикасался к своей поэме. Возобновил он работу над «Дон-Жуаном» летом 1822 года и с необыкновенной быстротой, до весны 1823 года, написал одиннадцать песен (шестую — шестнадцатую и отрывок семнадцатой). Поэма осталась незавершенной из-за отъезда поэта в Грецию, где его целиком поглотила освободительная война греков против Турции.
В разгар работы над заключительными песнями Байрон передал «Дон-Жуана» новому издателю — Джону Ханту, известному своей политической смелостью. Благодаря его энергии все законченные поэтом песни были опубликованы в течение года. Последние (пятнадцатая и шестнадцатая) вышли в марте 1824 года, за несколько недель до его смерти.
Между 1824 и 1860 годами было напечатано, по крайней мере, сорок Собраний сочинений Байрона. Почти все они включали и «Дон-Жуана».
Начиная с издания 1833 года, в текст поэмы вошло и Посвящение, «двум Робертам» — Саути и Каслрею, поэту-лауреату и министру иностранных дел Англии. Поэт не позволил опубликовать Посвящение в прижизненных изданиях, поскольку, находясь в добровольном изгнании в Италии, не мог дать удовлетворения адресатам Посвящения. К тому же он вынужден был выступать анонимно и не хотел наносить удары «под покровом темноты».
Честь первого научного издания поэмы принадлежит Э.-Х. Кольриджу, опубликовавшему в 1898–1904 годах Полное собрание поэтических произведений Байрона (The Works of Lord Byron, Poetry, vols. 1–7). «Дон-Жуану» предоставлен шестой том (1903). Здесь впервые появились четырнадцать строф незавершенной семнадцатой песни. Наряду с каноническим текстом приводятся первоначальные черновые варианты, а также краткий комментарий. Несравненно более обширный комментарий содержится в четвертом томе издания, осуществленного американскими учеными Т.-Г. Стеффаном и У.-У. Прэттом (Т. G. Steffan, W. W. Pratt, Byron’s Don Juan, vols. 1–4. Univ. of Texas, 1957). В первом томе дан беглый анализ идейно-художественных особенностей поэмы, во втором и третьем — полный текст ее, со всеми сохранившимися черновыми вариантами. Это издание следует считать самым авторитетным. Наиболее распространенным является многократно переиздававшееся The Wprks of Lord Byron publ. by T. Moore, Scott, Crabbe etc., в которое, естественно, входит и «Дон-Жуан». Существует и советское издание поэмы на английском языке — Byron, Don Juan, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1948.
В России «Дон-Жуан» приобрел известность уже в двадцатые годы XIX века. Им восхищались многие русские поэты, начиная от Пушкина и Лермонтова. Переводить его тоже начали рано. Так, в 1825 году в «Московском телеграфе» появился прозаический перевод нескольких строф песни тринадцатой (описание Ньюстедского — у переводчика «Ньюстидского» — аббатства), а в 1829 году Н. Маркевич поместил там же свой опыт поэтического перевода из песни первой. Пренебрегая подлинником, Маркевич использует в своем переводе онегинскую строфу, допускает множество ошибок и отступлений. Впоследствии им была переведена вся песнь первая и опубликована отдельным изданием в 1863 году. Он же перевел отрывок из песни третьей. В те же годы «Московский телеграф» поместил довольно точный прозаический перевод песни четырнадцатой, подписанный буквой Ш.
Среди ранних переводчиков выделяется Иван Козлов, талантливый поэт, переложивший хорошими стихами строфы 122–123 песни первой (1829).
В середине XIX века с переводами довольно значительных отрывков из «Дон-Жуана» выступили Н. Жандр и Д. Мин. Н. Жандр опубликовал в 1846 году песнь первую, Д. Мин перевел описание гибели корабля и пребывания Жуана на острове пирата из второй песни и Ave Maria (песнь третья). Оба эти переводчика не возвысились над уровнем посредственности [Отмстим также переводы отрывков поэмы в исполнении В. Карпова, Ф. Червинского, В. Лихачова и др.].
Первым полным русским «Дон-Жуаном» оказался более чем вольный, развязный и в высшей степени нехудожественный пересказ В. Любича-Романовича (1847). Никакого представления о Байроне он не дает. Такое представление русский читатель впервые получил по полному переводу Дмитрия Минаева, напечатанному в шестидесятые годы в журнале «Современник». Автор владеет стихом, передает мысль английского поэта, некоторые его приемы и интонации. Неточности и несовершенства труда Минаева вызвали, однако, потребность в более точном воспроизведении байроновского подлинника. Так появился хороший прозаический перевод Александра Соколовского, который, в свою очередь, имел неизбежные и очевидные недостатки и потери. Он вошел в известное издание «Сочинения лорда Байрона в переводах русских поэтов» под редакцией Н. В. Гербеля. Здесь же был напечатан и перевод Минаева.
На фоне этих, в целом, неадекватных попыток создать русского «Дон-Жуана» крупным событием стал перевод Павла Козлова. Он печатался в восьмидесятые годы в журнале «Русская мысль» и отдельным изданием вышел впервые в 1889 году. В течение более полустолетия этот перевод был фактически единственным, по которому русские читатели могли знакомиться с Байроном. Он многократно перепечатывался — например, в томе III Полного собрания сочинений Байрона (изд. Брокгауз и Ефрон, 1904), в издании «Всемирной литературы» под редакцией М. Л. Лозинского (1923). Несмотря на ряд достоинств, перевод П. А. Козлова не доносил до читателя блеск и разнообразие творения Байрона, его революционный дух, злую иронию, пристрастие к словесной игре, к озорным рифмам. На первый план выступают у Козлова банально романтические, элегические интонации, а богатство идей, образов, каламбуров и рифм осталось невоспроизведенным.
В стремлении избежать этих ошибок и потерь Г. Шенгели в своем переводе, вышедшем в 1947 году, поставил перед собой невыполнимую цель — абсолютную точность и полноту. В результате, даже при замене пятистопного ямба подлинника шестистопным ямбом, стих Г. Шенгели оказался слишком перегруженным, перевод чересчур буквальным, а потому недостаточно поэтическим. Тем не менее труд Г. Шенгели помог советскому читателю подробнее ознакомиться с «Дон-Жуаном».
Предлагаемый перевод, выполненный Татьяной Гнедич, издается в третий раз (первое издание — 1959 г.; второе издание — 1964 г.).
Из крупных поэтов-переводчиков к «Дон-Жуану» в советское время обращались также М. Кузмин (малоудачный перевод песен девятой и десятой в книге «Избранные произведения в одном томе» под редакцией М. Н. Розанова, 1935), М. Лозинский (14 строф песни семнадцатой в издании «Всемирной литературы») и В. Левик (песнь первая, строфы 122–127 в его сборнике «Из европейских поэтов», 1966).
(обратно)376
ПОСВЯЩЕНИЕ
1. …Как «в пироге волшебном хор дроздов…» — Эта строка и первые три строчки второй строфы представляют собой слегка перефразированную цитату из известной фольклорной детской песенки о двадцати четырех черных дроздах, запеченных в пирог: «Когда пирог разрезали, дрозды запели, — разве такое изысканное блюдо не следовало бы подать королю?»
(обратно)377
2. Принц-регент — с 1820 г. король Георг IV; правил с 1811 г. вместо своего отца, слепого и безумного Георга III. Реакционная политика и крайняя моральная распущенность принца-регента сделали его излюбленным предметом нападок радикальной печати.
(обратно)378
Колридж-метафизик — намек на сложность критико-философского сочинения С.-Т. Колриджа «Biographia Literaria» («Литературная биография», 1817). Байрон резко осуждал мистицизм и туманный романтизм Колриджа, в особенности его прозы.
(обратно)379
4. «Прогулка» — обширная философско-дидактическая поэма У. Вордсворта, сопровождавшаяся прозаическим «Пояснением» (1814). Как и многие другие сочинения Вордсворта, она казалась Байрону искусственной и антипоэтической. К тому же его раздражала выраженная в поэме философия смирения.
(обратно)380
5. Кезик — местечко в Озерном крае, где жил Роберт Саути (1774–1843) и где бывали у него и другие лекисты (т. е. поэты «Озерной школы»): Уильям Вордсворт (1770–1850) и Сэмюэл Тейлор Колридж (1772–1834).
(обратно)381
…За океан озера принимать — намек на ограниченность тематики и эстетической системы лекистов.
(обратно)382
6. В акцизе служит Вордсворт… — В 1813 г. Вордсворт благодаря покровительству лорда Лонсдела получил синекуру — место акцизного чиновника.
(обратно)383
7. Мур Томас (1779–1852), Роджерс Сэмюэл (1763–1855), Кэмбел Томас (1777–1844), Крабб Джордж (1754–1832) — английские поэты, которых Байрон ценил и противопоставлял Вордсворту и Колриджу. Следует отметить, что Байрон переоценивал заслуги Роджерса и Кэмбела.
(обратно)384
10. …Всю жизнь тираноборцем остается. — Английский поэт Джон Мильтон (1608–1674), автор поэмы «Потерянный рай» (1667), был выдающимся деятелем революции и республики 1640–1650 гг.
(обратно)385
11. Самуил — библейский пророк. Разоблачая царский деспотизм, он предостерегал израильтян от избрания царя. Согласно библейской легенде, он был вызван из мертвых царем Саулом и предсказал ему гибель.
(обратно)386
12. Каслрей Роберт Стюарт, маркиз Лондондерри (1769–1822) — министр иностранных дел Англии, один из вершителей ее реакционной внутренней и внешней политики. Каслрей не раз служил мишенью ожесточенных нападок Байрона (см. предисловие к песням шестой, седьмой и восьмой). Здесь и далее Байрон обрушивается на Каслрея за его расправу с ирландским восстанием 1798 г., за его борьбу против свободы в Англии и на континенте.
(обратно)387
13. …ты говоришь парадный вздор… — насмешка над слабостью Каслрея как оратора.
(обратно)388
14. Созвать конгресс… — Речь идет о Венском конгрессе держав (1814–1815), переделившем Европу после падения Наполеона. Тогда же был создан реакционный Священный союз монархов для борьбы с революцией.
(обратно)389
15. Евтропий. — Байрон считает Каслрея «интеллектуальным евнухом» и сравнивает его с евнухом Евтропием, приближенным римского императора Аркадия (IV в.). Евтропий был казнен в 407 г.
(обратно)390
17. Цвет желто-голубой. — Желтый и голубой — цвета клуба партии вигов и обложки влиятельного журнала вигов «Эдинбургское обозрение».
(обратно)391
Юлиан Отступник (331–363) — римский император; отрекся от христианской религии и сделал попытку возродить языческую веру своих предков.
(обратно)392
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
Начата в Венеции 6 сентября и кончена 1 ноября 1818 года. Байрон предпослал ей следующий эпиграф: «Difficile est proprio communia dicere» — «Трудно говорить хорошо об обычных вещах» (Гораций).
(обратно)393
2. Байрон перечисляет здесь имена известных английских адмиралов и полководцев, карьера которых началась с блестящих успехов, но кончилась тяжелыми поражениями.
(обратно)394
…Они потомством Банко предо мною, // Как пред Макбетом, в сумраке встают — намек на известную сцену из трагедии Шекспира, в которой, по велению вещих сестер, перед Макбетом прошли тени будущих королей Шотландии, потомков убитого им Банко. Сам Банко шел за ним («Макбет», акт IV, сц. 1).
(обратно)395
3. Здесь перечислены имена известных политических деятелей и полководцев эпохи Французской революции 1789 г.; почти все они умерли насильственной смертью.
(обратно)396
4. Нельсон Горацио (1758–1805) — знаменитый английский адмирал. Был убит в битве при Трафальгаре, где возглавляемый им английский флот нанес решающее поражение французскому флоту.
(обратно)397
6. «Середина дела» — фраза из Горация (послание «О поэтическом искусстве»). Гораций советует эпическому поэту начинать с сути дела, не отвлекаясь длинными рассуждениями о предыстории событий, — не начинать историю Троянской войны «от яйца» («ab ovo»), из которого родились старшие братья Елены Прекрасной, ставшей причиной войны.
(обратно)398
9. Идальго — испанский дворянин.
(обратно)399
10. По мнению биографов и комментаторов, описание донны Инесы и ее отношений с мужем заключает многочисленные намеки на жену поэта, леди Байрон, и на историю ее разрыва с Байроном.
(обратно)400
11. Лопе (Лопе де Вега; 1562–1635) и Кальдерон (1600–1680) — великие испанские драматурги.
(обратно)401
Финэгл Грегор (1765–1819) — изобрел систему, облегчающую запоминание, которую пропагандировал в своих публичных лекциях.
(обратно)402
12. Аттически. — Имеется в виду известное выражение «аттическая соль», то есть «утонченное остроумие» (от Аттика — область Греции, имевшая своим центром Афины, средоточие древнегреческой культуры).
(обратно)403
15. Ромили Сэмюэл (1757–1818) — известный юрист и судебный деятель. Когда он после смерти жены покончил с собой, следствие, всегда ведущееся в Англии в случае неожиданной смерти, установило, что он был ненормальным. Байрон ненавидел Ромили, так как тот при разрыве поэта с женой встал на ее сторону и вынудил Байрона дать согласие на неофициальный развод.
(обратно)404
16. Миссис Триммер Сара (1741–1810) — автор «Элементарного введения в изучение природы» и ряда книг нравоучительного характера.
(обратно)405
Эджуорт Мария (1767–1849) — автор популярных романов и нравоучительных книг для детей.
(обратно)406
Целебс — герой назидательного романа «Целебс в поисках жены» (1809); автор его — английская моралистка Ханна Мор (1745–1833), известная своей филантропической деятельностью. Триммер и Мор отвратительны Байрону ханжеством и лицемерием своих нравственных и религиозных идей, своей преданностью интересам господствующей церкви и монархии.
(обратно)407
17. Гаррисон Джоп (1693–1776) — известный в свое время часовщик.
(обратно)408
21. …Хватает веер, а в руке прелестной // Он хуже всякой плетки, как известно — намек на строки из хроники Шекспира: «Черт побери! Попадись мне сейчас на глаза этот мерзавец, я раскроил бы ему череп веером его жены» («Генрих IV», ч. I, акт II, сц. 3).
(обратно)409
27. Эта строфа (как и строфы 28, 29, 32) заключает много намеков на семейную драму Байрона: жена его, считая поэта безумным, посылала к нему врачей, чтобы выяснить его состояние. Последние строки в строфе: Она считала (так она твердила), // Что честно перед богом поступила, — почти буквально заимствованы из письма леди Байрон Августе Ли, сестре и другу поэта.
(обратно)410
35. Нума Помпилий (см. прим. к «Чайльд-Гарольду», IV, 115.) — легендарный царь Рима. По преданию, его царствование было мирным и спокойным.
(обратно)411
42. Мораль Анакреона очень спорна… — Выдающийся греческий лирик. Анакреонт (см. прим. к «Чайльд-Гарольду», II, 63 (см. коммент. 150 — верстальщик) воспевал в своем творчестве вино и любовь.
(обратно)412
Катулл (I в. до н. э.) — римский поэт-лирик.
(обратно)413
Сафо. — См. прим. к «Чайльд-Гарольду», II, 39. (см. коммент. 124 — верстальщик)
(обратно)414
«Пастух Коридон к красавцу (Алексиду пылал…)». Вергилий, Буколики, Эклога II.
(обратно)415
43. Лукреций Кар (98–55 до н. э.) — римский поэт, автор материалистической философской поэмы «О природе вещей».
(обратно)416
Ювенал — римский поэт I–II вв. н. э. Его сатира отличается резкостью и обличительным пафосом.
(обратно)417
Марциал (ок. 42—101) — римский поэт, по происхождению испанец; прославился своими резкими, часто непристойными эпиграммами.
(обратно)418
46. Требник — книга с записью церковных служб.
(обратно)419
47. Гомилии — проповеди.
(обратно)420
Августин (354–450) — святой католической церкви, христианский писатель.
(обратно)421
56. Мавры. — В начале VIII в. Испания была завоевана арабами. Они пришли из Северной Африки, где население носило название мавров. Освобождение последнего мавританского центра, Гранады, произошло в 1492 г., после чего значительная часть мавров переселилась в Африку.
(обратно)422
64. Антоний — святой католической церкви; известен тем, что удалился в пустыню и изнурял себя всевозможными лишениями. Байрон намекает, что холода помогали Антонию справиться с томившим его искушением.
(обратно)423
66. Облако Зевеса. — Согласно греческому мифу, верховный бог Зевс (Зевес) и супруга его Гера предавались любви, окутавшись облаком.
(обратно)424
75. Тарквиний — сын Тарквиния Гордого, легендарного царя Древнего Рима, правившего, по преданию, в VI в. до н. э. На основании легенды о насилии, совершенном Тарквинием над добродетельной Лукрецией, имя его стало нарицательным для обозначения похитителя женской чести.
(обратно)425
79. Платон (427–347 до н. э.) — греческий философ. Теория чистой любви, о которой иронически говорит Байрон, была частью учения Платона. Платонической любовью называют любовь духовную, противоположную чувственной.
(обратно)426
85. Серафическая — ангельская, небесная.
(обратно)427
86. Медея — колхидская царевна, волшебница, героиня греческого мифа. Влюбленный в нее Ясон увез ее на своем корабле «Арго», на котором он совершил странствия в поисках волшебного золотого руна. Когда Ясон покинул Медею, она из мести убила своих детей от брака с ним и улетела на колеснице, запряженной огненными драконами. Медея была воспета рядом античных поэтов, в том числе Овидием.
(обратно)428
88. Первые четыре строчки этой строфы — цитата из поэмы Кэмбела.
(обратно)429
95. Гарсиласо де ла Вега (1503–1536) и Боскан Хуан (1500–1544) — испанские поэты.
(обратно)430
104. Анакреон-Мур. — Английский поэт Томас Мур, друг и биограф Байрона; переводил сборник подражаний Анакреону, которые еще в XIX в. приписывались последнему. См. также прим. к I, 42. (см. коммент. 411 — верстальщик).
(обратно)431
113. Двадцать первого июня (вернее, 22 июня) — самый длинный день и самая короткая ночь.
(обратно)432
118. Ксеркс (520–465 до н. э.) — персидский царь. Возглавлял поход персов на Грецию в 480 г. до н. э.
(обратно)433
120. Аристотель (384–322 до н. э.) — греческий философ. В своей «Поэтике» сформулировал ряд эстетических принципов, которые впоследствии, при возрождении интереса к античности, писателями-классицистами XVII–XVIII вв. были восприняты как абсолютные законы прекрасного. Сам Аристотель рассматривался ими как высший авторитет в области поэтики.
(обратно)434
132. Сэр Хэмфри Дэви (1778–1829) — знаменитый химик, изобретатель безопасной лампы для шахтеров.
(обратно)435
О'Рилли. — См. прим. Байрона к песни первой. (см. коммент. 29 — верстальщик).
(обратно)436
149. Итальянские фамилии Каццани и Корньяни имеют непристойное значение.
(обратно)437
Лорд Кофихаус — образчик комических фамилий, распространенных у Байрона (буквально: кофейня).
(обратно)438
164. Posse comitatus (лат.) — в английской юридической терминологии отряд из граждан, созываемый шерифом для подавления мятежа; здесь: в ироническом смысле.
(обратно)439
166. …Кларенс, сей любитель вин — намек на предание о том, что английского герцога Кларенса (1449–1478) утопили в бочке с вином. Достоверно лишь то, что он был казнен в лондонском Тауэре.
(обратно)440
168. Царь Давид — царь Израиля (Библия).
(обратно)441
186. Иосиф. — По библейскому мифу, Иосиф Прекрасный бежал от влюбленной в него жены Пентефрия, оставив в ее руках свою одежду.
(обратно)442
189. Герней (Герни, 1777–1855) — известный стенографист-репортер, писал отчеты о судебных процессах.
(обратно)443
198. «Она всюду следует за вами». — Печатка с таким девизом была у самого Байрона.
(обратно)444
203. Жуана черти в бездну утащили!.. — намек на популярные пьесы, изображавшие страшный конец грешника Дон-Жуана.
(обратно)445
204. Стагирит — Аристотель Стагирит (из Стагиры). — См. прим. к строфе 120 песни первой. (см. коммент. 433 — верстальщик).
(обратно)446
205. Настоящая строфа и следующая — пародия на библейские заповеди.
(обратно)447
Поп Александр (1688–1744) — английский поэт.
(обратно)448
206. Созби Уильям (1757–1833) — посредственный английский поэт.
(обратно)449
209—210. Редактор реакционного «Британского вестника» принял всерьез иронические стихи Байрона и опубликовал рецензию-опровержение.
(обратно)450
212. — «Я не стерпел бы этого в дни пылкой юности» (Гораций, Оды, III, XIV).
(обратно)451
219. Хеопс — египетский фараон (III тысячелетие до н. э.), по приказу которого была воздвигнута самая высокая из египетских пирамид.
(обратно)452
222. Первые четыре строки этой октавы принадлежат Саути и взяты из последней строфы его «Эпилога к песни лауреата».
(обратно)453
Боб — Роберт Саути.
(обратно)454
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
Начата в Венеции 13 декабря 1818 года. Окончена 20 января 1819 года. Опубликована вместе с песнью первой 15 июля 1819 года.
(обратно)455
8. Ковчег Ноя. — По библейскому преданию, в ковчеге спасся Ной, единственный праведник, которого пощадил бог во время всемирного потопа.
(обратно)456
12. Белея, тают берега Британии… — Берега Англии кажутся белыми из-за полосы меловых скал.
(обратно)457
16. Так плакали Израиля сыны… — перифраза псалма («На реках вавилонских, там мы сидели и плакали»), повествующего о пленении иудеев в Вавилоне.
(обратно)458
17. «Прекрасные — прекрасной» — «Гамлет», акт V, сц. 1.
(обратно)459
27 и дальше. Рассказ о буре, гибели корабля и трагической судьбе всех уцелевших после крушения основан на действительных, в разное время опубликованных описаниях путешествий, на отчетах о кораблекрушениях и о страданиях потерпевших. Байрон не раз подчеркивал абсолютное соответствие своего рассказа с реальными фактами.
(обратно)460
64. Парка — богиня, прядущая нить судьбы (римск. миф.). Когда нить обрывается, человек умирает.
(обратно)461
83. Уголино. — В XXXIII песни «Ада» Данте рассказана история Уголино, который, будучи заточен в башню врагами, умер голодной смертью вместе со своими сыновьями.
(обратно)462
95. …Им и его оливковою веткой. — Согласно библейской легенде, во время всемирного потопа Ной посылал из своего ковчега голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Во второй раз голубь вернулся с оливковым листком, что возвестило Ною о близости спасения.
(обратно)463
101. Ладья Харона — лодка, в которой, по древнегреческому мифу, Харон перевозил тени умерших через реку Стикс в Аид, подземное царство мертвых.
(обратно)464
105. Геллеспонт — древнее название пролива Дарданеллы, шириной около пяти километров. По греческому мифу, юноша Леандр переплывал этот пролив между малоазиатским городом Абидосом и фракийским городом Сестом, где жила его возлюбленная Геро. Превосходный пловец, Байрон однажды тоже переплыл Геллеспонт.
(обратно)465
119. …Одной ирландской леди красота… — Байрон имеет в виду известную в те времена красавицу леди Аделаиду Форбе.
(обратно)466
120. Баскина — юбка (испан.).
(обратно)467
127. Циклады — группа мелких островов в Эгейском море.
(обратно)468
137. «Повествованье» — «Рассказ достопочтенного Джона Байрона (начальника экспедиции во время кругосветного путешествия), содержащий отчет о великих страданиях, перенесенных им и его товарищами на берегах Патагонии, от 1740 г. до возвращения их в Англию в 1746. Написан им самим», Лондон, 1768.
(обратно)469
155. Минотавр — по древнегреческому мифу, чудовище, полубык-получеловек, плод любви Пасифаи, жены критского царя Миноса, и быка.
(обратно)470
165. Блер Хью (1718–1800) — английский богослов, священник, автор известного сборника «Проповеди» (1777–1801) и «Лекций по риторике» (1783).
(обратно)471
169. Церера — древнеримская богиня плодородия.
(обратно)472
170. Пан — древнегреческий бог лесов и пастбищ.
(обратно)473
Нептун — древнегреческий бог моря.
(обратно)474
174. Ио. — По древнегреческому мифу, Ио была по приказанию влюбленного в нее Зевса похищена Гермесом.
(обратно)475
192. Геенна — евангельское название ада.
(обратно)476
201. …Романы принимаются строчить — намек на леди Каролину Лэм, одну из возлюбленных Байрона. Покинутая поэтом, она изобразила его в самых черных красках в своем романе «Гленарвон» (1816).
(обратно)477
203. Каслрей. — См. прим. к «Посвящению» (см. коммент. 386 — верстальщик). Здесь Байрон намекает на налоговую политику торийского правительства Англии.
(обратно)478
205. Любовь! Сам Цезарь был твоим ценителем… — Байрон намекает на любовь Цезаря к Клеопатре, египетской царице.
(обратно)479
205. Антоний Марк (см. прим. к «Чайльд-Гарольду», II, 40, 45.) (см. коммент. 127, 132 — верстальщик). — римский полководец, государственный деятель. Пожертвовал славой и властью ради любви к Клеопатре.
(обратно)480
Флавий — Тит Флавий Веспасиан (см. прим. к «Чайльд-Гарольду», IV, 110) (см. коммент. 348 — верстальщик).: провел бурную молодость и был возлюбленным иудейской царицы Береники.
(обратно)481
207. Эпикур (342–270 до н. э.) — греческий философ. Считал стремление к наслаждению движущим принципом человеческой деятельности.
(обратно)482
Аристипп (V в. до н. э.) — греческий философ, учивший, что целью жизни является удовольствие.
(обратно)483
Ешь, пей, люби и не грусти нимало — // Таков девиз царя Сарданапала. — Античная легенда приписывала надпись такого содержания ассирийскому царю Сарданапалу.
(обратно)484
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ
Вчерне закончена 8 ноября 1819 года. Окончательный вариант датирован 30 ноября 1819 года. Переписана в 1820 году. Опубликована 8 августа 1821 года вместе с песнями четвертой и пятой.
(обратно)485
9. .любой пиит // О «Смерти» и о «Даме» уж молчит — шутливый намек на старую английскую балладу «Смерть и дама».
(обратно)486
10. Мильтон был действительно несчастлив в браке, но о семейной жизни Данте известно очень мало; намек Байрона опирается, по-видимому, на распространенные, но необоснованные представления. Беатриче воспета в «Божественной комедии» Данте; Ева — в поэме Мильтона «Потерянный рай».
(обратно)487
16. Матапан — южная оконечность полуострова Пелопоннеса в Греции.
(обратно)488
Триполи — город на средиземноморском побережье Африки (в современной Ливии).
(обратно)489
17. Левант — название прибрежных областей восточного Средиземноморья.
(обратно)490
Аликанте — город в Испании.
(обратно)491
18. Итака — остров на западном побережье Греции. Итака была родиной Одиссея, одного из героев Троянской войны, воспетого в гомеровских поэмах.
(обратно)492
23. Аргус — пес Одиссея, узнавший своего хозяина, когда тот, переодетый нищим, через двадцать лет странствий вернулся на родную Итаку («Одиссея»).
(обратно)493
25. Гимен (Гименей) — бог брака (древнегреч. миф.).
(обратно)494
29. Дервиши — члены религиозных мусульманских орденов, преимущественно нищенствующих. Во время проповеди они впадали в экстаз.
(обратно)495
Пиррический танец — старинный греческий воинственный танец.
(обратно)496
47. Гвельф — выпад против правящего Англией королевского дома Ганноверов, происходящих из немецкого дома Гвельфов.
(обратно)497
56. Ионийский — Среди древних греков ионийцы считались наиболее изнеженными и изысканными по своим вкусам.
(обратно)498
57. Циклоп — намек на эпизод из «Одиссеи», в котором изображена ярость ослепленного Одиссеем одноглазого великана (циклопа) Полифема.
(обратно)499
61—69. Байрон не раз подчеркивал точность своих описаний. В письме к Мерри 23 августа 1821 г. поэт писал: «Почти все в «Дон-Жуане» взято из действительной жизни, моей собственной или чужой. Кстати, многое из описания мебели в III песни заимствовано из книги Талли о Триполи, а остальное — из моих наблюдений».
(обратно)500
65. Валтасар. — По библейскому преданию (Книга Даниила, гл. V), во время ночной оргии во дворце последнего вавилонского царя Валтасара (VI в. до н. э.) невидимая рука огненными буквами написала на стене пророчество о его близкой гибели.
(обратно)501
Мемфис — древняя столица Египта. По словам древнегреческого историка Геродота, древние египтяне приносили на свои пиры мумии, чтобы веселящиеся не забывали о смерти.
(обратно)502
70—72. Описание наряда Гайдэ также основано на данных книги Талли о Триполи (1816).
(обратно)503
70. Джеллика — род безрукавки, надеваемой поверх сорочки.
(обратно)504
76. «Раскрашивать лилею…» — цитата из Шекспира («Король Джон», акт IV, сц. 2).
(обратно)505
79. Антиякобинец образцовый. — Имеется в виду Саути, ставший из ярого якобинца врагом революции.
(обратно)506
Крэшоу Ричард (1613–1649) — английский поэт. Байрон намекает здесь на то, что Крэшоу из рьяного протестанта стал рьяным католиком.
(обратно)507
84. «В Риме надо римлянином быть» — намек на английскую пословицу: «Когда ты в Риме, поступай, как поступают римляне».
(обратно)508
85. «Боже, храни короля!» — начальные слова британского государственного гимна.
(обратно)509
«Дело пойдет на лад!» — припев песни Французской революции 1789 г.
(обратно)510
Пиндар (ок. 518–422 до н. э.) — греческий поэт; в своих одах прославлял победителей на гимнастических состязаниях.
(обратно)511
86. Треченто — XIV век, обозначение начала эпохи Ренессанса в Италии.
(обратно)512
Де Сталь Жермен (1766–1817) — французская писательница, автор книги «О Германии» (1810), в которой дана характеристика немецкой литературы и философии.
(обратно)513
Стр. 351. Теосския и хиосския музы. — Подразумеваются Гомер и Анакреон.
(обратно)514
Саламинские скалы. — Саламин — остров у берегов Аттики (в Греции), где в морском сражении (480 до н. э.) греческий флот разбил во много раз превосходивший его флот персидского царя Ксеркса. Это сражение и последовавшие за ним победы греков вынудили громадную армию Ксеркса, состоявшую из представителей десятков народов, очистить Грецию и привели к освобождению ее от персидского ига.
(обратно)515
Стр. 352. Самосское вино. — Самос — греческий остров в Эгейском морс; в древности славился своим вином.
(обратно)516
Пиррова фаланга — древнегреческий военный строй. Пирр (318–277 до н. э.) — царь Эпира; прославился в войнах против Рима.
(обратно)517
Кадм — мифический царь Фив в Греции; ему приписывалось изобретение греческого алфавита.
(обратно)518
Поликрат — правитель (тиран) острова Самос (VI в. до н. э.), воевал с персами.
(обратно)519
Мильтиад — один из греческих героев времен греко-персидских войн (V в. до н. э.); был впоследствии правителем (тираном) на Херсонесе, полуострове Северной Греции.
(обратно)520
Дорийцы — древнегреческое племя, отличавшееся воинственностью. Байрон сравнивает с ним современных ему греков.
(обратно)521
Гераклиды — потомки легендарного Геракла. К ним причисляли себя дорийцы.
(обратно)522
Стр. 353. Франки. — Так назывались европейцы на всем Ближнем Востоке.
(обратно)523
Сунийские скалы. — Суний — южная оконечность полуострова Аттика в Греции.
(обратно)524
90. Хойль Эдмунд (1672–1769) — автор книги «Игры» и «Краткого трактата о висте» (1742).
(обратно)525
Мальборо Джон Черчилль, герцог Мальборо (1650–1722) — английский полководец; жизнь его описана Уильямом Коксом в «Воспоминаниях о Джоне, герцоге Мальборо» (1817–1819).
(обратно)526
91. Джонсон Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель и критик, автор книги «Жизнь Мильтона».
(обратно)527
92. Лорд Бэкон Фрэнсис (1561–1626) — английский философ, писатель и государственный деятель.
(обратно)528
Стрелял чужих оленей сам Шекспир… — Байрон намекает на распространенное, но ныне опровергнутое предание о браконьерстве Шекспира.
(обратно)529
93. «Пантисократия» («Всеобщее равенство»; греч.) — название общины, которую Колридж и Саути в середине 90-х годов XVIII в. собирались основать в Америке на берегах реки Сусквеханны. Предполагалось, что поэтов будут сопровождать их жены. В 1795 г. Саути женился на Эдит Фриккер, а Колридж — на ее сестре Саре. Ни та, ни другая не были модистками, как утверждает Байрон, но действительно до замужества занимались домашней работой в знакомых семьях в городе Бате.
(обратно)530
94. Ботани-бэй — место ссылки английских преступников (Австралия).
(обратно)531
95. Сауткотт Джоанна (1750–1814) — полубезумная «пророчица», популярная в Лондоне. Незадолго до смерти она объявила, что от нее должен родиться новый спаситель. Но «беременность» ее оказалась водянкой, от которой она и умерла.
(обратно)532
98. «Гомер порою спит» — цитата из Горация («Послание к Пизонам»).
(обратно)533
«Возница» — поэма Вордсворта (опубл. в 1819 г.).
(обратно)534
98—99. Ладья, воздушный шар — упоминаются в прологе к поэме Вордсворта «Питер Белл» (1819).
(обратно)535
100. «Возы», «Возницы», «Фуры» — намеки на стихи Вордсворта.
(обратно)536
…глупых Кэдов приговор… — Кэд Джек — руководитель крестьянского восстания 1450 г. в Англии. Байрон упоминает его имя как собирательное обозначение необузданной черни.
(обратно)537
Питер Белл — герой одноименной поэмы Вордсворта.
(обратно)538
Ахитофель. — Имеется в виду поэма Джона Драйдена «Авессалом и Ахитофель» (1681–1682). Байрон был возмущен пренебрежительным отношением Вордсворта к Драйдену и Попу (см. прим. к I, 206).
(обратно)539
105. …В лесу сосновом около Равенны… — В I в. н. э. Равенна была римским портом на Адриатическом море. В V в., после вторжения на север Италии полчищ Алариха, Равенна стала резиденцией римских императоров. В сосновом лесу возле города вождь германцев Одоакр нанес римлянам решающее поражение. В этом лесу, по рассказу Боккаччо («Декамерон», день V, новелла VIII), влюбленный в жестокую красавицу Настаджо дельи Онести увидел, как вооруженный всадник травит собаками обнаженную девушку. Оказалось, что эта травля — возмездие ада за ее жестокость. Этот сюжет обработан Дж. Драйденом в поэме «Теодор и Гонория».
(обратно)540
107. Геспер — вечерняя звезда.
(обратно)541
109. Нерон (37–68) — римский император, прославившийся жестокостью и развратом.
(обратно)542
111. «Поэтика»— название труда Аристотеля (см. прим. к I, 120).
(обратно)543
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Написана в ноябре 1819 года. Переписана в январе 1820 года. Опубликована 8 августа 1821 года.
(обратно)544
1. Пегас — крылатый конь, символ поэтического вдохновения (ант. миф.).
(обратно)545
4. Фетида — богиня моря, мать героя Ахилла; выкупала его в реке Стикс и тем сделала его неуязвимым (греч. миф.).
(обратно)546
6. Пульчи Луиджи (1432–1484) — итальянский поэт, автор комической рыцарской поэмы «Морганте» (1483), часть которой Байрон перевел.
(обратно)547
52. Кассандра — одна из дочерей Приама, царя Трои. Обладала пророческим даром, но ее пророчествам окружающие не верили (греч. миф.).
(обратно)548
75. «Связан, скован, заточен» — цитата из Шекспира («Макбет», акт III, сц. 4).
(обратно)549
Сигейский мыс — мыс на троянском берегу.
(обратно)550
77. Скамандр — река, протекающая возле Трои.
(обратно)551
78. …Пастух, едва ль похожий на Париса… — Парис в юности пас стада своего отца Приама.
(обратно)552
Улисс — Одиссей, герой Троянской войны.
(обратно)553
…Ну, а фригийцы где? — Фригия — см. прим. к «Чайльд-Гарольду», предисл., стр. 27 (см. коммент. 5 — верстальщик); фригийцами называли также троянцев.
(обратно)554
83. Принчипесса — итальянская принцесса.
(обратно)555
84. Гротеска — здесь: комическая певица.
(обратно)556
88. Раукоканти — «хриплое пение» (итал.).
(обратно)557
91. Фирман — указ султана; здесь: разрешение на въезд в Константинополь.
(обратно)558
96. «Мечтами о снегах… // Жар пламени не может быть умерен» — слегка измененная цитата из Шекспира («Ричард III», акт I, сц. 3).
(обратно)559
98. Прайор Мэтью (1664–1721) — английский поэт; Фильдинг Генри (1707–1754), Смоллет Тобайас (1721–1771) — английские писатели, и Ариосто Лодовико перечислены здесь Байроном с целью самозащиты: отводя от своей поэмы обвинение в безнравственности, Байрон ссылается на пример своих предшественников.
(обратно)560
103. О, юный де Фуа! — См. прим. Байрона к этой строфе[64].
(обратно)561
108. О вы, чулки небесной синевы… — одна из многих насмешек Байрона над учеными женщинами. Первоначально синими чулками называли участниц литературного салона миссис Монтегью (ок. 1750 г.), так как один из постоянных и популярных посетителей этого салона (Стиллингфлит) носил, вопреки моде, синие чулки.
(обратно)562
Кастальский чай — намек на «чашки чая» в литературных салонах (Кастальский источник, согласно мифу, рождает поэтическое вдохновение).
(обратно)563
109. Йорика скворец — намек на эпизод из романа английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768) «Сентиментальное путешествие» (1768). Герой романа, пастор Йорик, проникся сочувствием к скворцу, который, сидя в клетке, повторял: «Мне не выбраться!»
(обратно)564
110. Подвязки… того же тона… — намек на голубой цвет ленты ордена Подвязки — одного из высших английских орденов.
(обратно)565
112. Гумбольдт Александр (1769–1859) — немецкий ученый, естествоиспытатель и путешественник. Прибор, о котором говорит Байрон (кианометр), изобрел не Гумбольдт, а де Соссюр (1740–1799).
(обратно)566
115. Уилберфорс Уильям (1759–1833) — английский политический деятель, поборник освобождения негров.
(обратно)567
117. Дуан. — Прозаические поэмы «Песни Оссиана», написанные английским поэтом Джеймсом Макферсоном (1736–1796), разделяются на «дуаны» (песни).
(обратно)568
ПЕСНЬ ПЯТАЯ
Начата в Равенне 16 октября и кончена 27 ноября 1820 года. Опубликована 8 августа 1821 года.
(обратно)569
1. Назон — Овидий.
(обратно)570
3. Мэри Монтегью — леди Мэри Уортли Монтегью (1689–1762), английская писательница, известная своим остроумием и светскими талантами, сблизившими ее со многими литературными знаменитостями века Просвещения. Байрон намекает на ее «Константинопольские письма» (1763).
(обратно)571
4. …пристрастен к имени «Мария»! — намек на детскую любовь Байрона к Мэри Дэфф и на его длительную неразделенную привязанность к Мэри Энн Чаворт.
(обратно)572
15. Видин — город в Болгарии.
(обратно)573
31. Кандид — герой одноименного романа (1759) Вольтера.
(обратно)574
42. …одному поэту… — Возможно, Байрон имеет в виду самого себя или своего друга Томаса Мура. «Восточные» поэмы Байрона и «Лалла Рук» (1817), романтико-описательная поэма Мура, способствовали возникновению в Европе моды на восточную «экзотику».
(обратно)575
44. Варфоломей. — По преданию, со святого Варфоломея содрали кожу.
(обратно)576
Исав — по библейскому преданию, продал свое первородство брату Иакову за чечевичную похлебку.
(обратно)577
60. Навуходоносор — вавилонский царь (604–562 до н. э.). Согласно библейской легенде, за свое высокомерие был наказан безумием и, вообразив себя быком, стал есть траву.
(обратно)578
Даниил — легендарный библейский пророк. Был брошен в ров со львами, но появление ангела защитило его от их ярости.
(обратно)579
Пирам и Фисба — легендарные влюбленные, воспетые в поэме Овидия «Метаморфозы».
(обратно)580
Семирамида — легендарная царица Ассирии.
(обратно)581
61. Конь, конюх. — В подлиннике непереводимая игра слов: courseur (конь) и courier (курьер). Байрон здесь, как и в ряде других мест, намекает на постыдный бракоразводный процесс (1820) короля Георга IV и его жены Каролины, которую обвиняли в преступной любви к ее камергеру Бергами, в прошлом курьеру.
(обратно)582
62. Евреям верить не хотят они… — то есть не верят священной книге евреев — Библии, в которой содержатся древнейшие упоминания о Вавилоне.
(обратно)583
Клавдий Джеймс Рич — представитель Ост-Индской компании при дворе багдадского паши, автор двух трудов о развалинах Вавилона, изданных в 1815 и 1818 гг. Привез в Европу кирпичи из дворца Навуходоносора с клинообразными надписями.
(обратно)584
63. «И, забыв о могиле, строишь дома» (Гораций). — Байрон дает этой цитате юмористически-неточное объяснение.
(обратно)585
68. Эфенди — старинное турецкое обращение к знатному человеку.
(обратно)586
86. Константин (274–337) — римский император; с 330 г. столицей Римской империи стала Византия, названная в его честь Константинополем (ныне Стамбул).
(обратно)587
96. Пафосские глаза — то есть глаза богини любви Афродиты; намек на храм Афродиты в городе Пафос, на острове Кипр.
(обратно)588
98. Мария Стюарт (1542–1587) — шотландская королева. Ее красота и трагическая судьба стали темой многочисленных произведений.
(обратно)589
Нинон де Ланкло (1620–1705) — красавица, блиставшая во французских салонах XVII в., вдохновительница и друг многих писателей своего времени.
(обратно)590
100. «Ничему не удивляться». — Гораций, Послания, кн. I, послание VI.
(обратно)591
101. Первые две строки — цитата из «Подражаний Горацию» Александра Попа.
(обратно)592
Мерри — лорд Мэнсфилд, друг Попа, к которому поэт обращается в VI послании первой книги «Подражаний Горацию» на тему «nil admirari».
(обратно)593
Крич Томас (1659–1701) — переводил Горация и, в частности, вышеупомянутое послание (1684).
(обратно)594
102. …папе одному… — намек на обычай католиков целовать туфлю римского папы при приветствии.
(обратно)595
104. Атлант — по греческому мифу, гигант, который держит на своих плечах небесный свод.
(обратно)596
120. Самаритянка. — По евангельской легенде, женщина из враждебного иудеям племени самаритян напоила жаждавшего воды Иисуса. В Евангелии рассказывается также притча о милосердном самаритянине, оказавшем помощь раненному разбойниками иудею. Отсюда «самаритянин» — нарицательное обозначение милосердного человека.
(обратно)597
131. Федра (греч. миф.) — была отвергнута Ипполитом, леди Буби — Джозефом Эндрюсом, героем романа Фильдинга «Приключения Джозефа Эндрюса и его друга Абрахама Адамса» (1742).
(обратно)598
136. «Убить, убить, убить!» — цитата из Шекспира («Король Лир», акт IV, сц. 6).
(обратно)599
142. Первые две строки — намек на признание Боба Эйкра из пьесы Шеридана «Соперники» (1775): «Да, моя смелость покидает меня. Она исчезает! Я чувствую, как она сочится из моих ладоней» (акт V, сц. 3).
(обратно)600
147. Солиман — Сулейман II (1495–1566), прозванный Великолепным, — турецкий султан.
(обратно)601
158. Эта строфа не была включена в первое издание поэмы. Заметив это, Байрон написал письмо Мерри: «На каком основании вы пропустили одну из заключительных строф, которые я послал дополнительно? Не оттого ли, что она кончается строками:
Когда живут кентавром муж с женой, У них на вещи взгляд совсем иной.Раз навсегда должен сказать вам, что никому в мире не позволю так свободно распоряжаться моими сочинениями только потому, что я сам далеко. Прошу восстановить все пропуски (кроме строфы о Семирамиде) — в особенности строфу о браке в Турции» (письмо к Мерри, 31 августа 1821 г.).
(обратно)602
…живут кентавром муж с женой… — Байрон иронизирует по поводу принятого в европейском обществе единобрачия, когда муж и жена неотделимы друг от друга, как человеческая и лошадиная половины мифического существа — кентавра.
(обратно)603
ПРЕДИСЛОВИЕ БАЙРОНА К ПЕСНЯМ ШЕСТОЙ, СЕДЬМОЙ, ВОСЬМОЙ
После длительного перерыва Байрон возобновил работу над «Дон-Жуаном» в июне 1822 года. VI, VII, VIII песни были опубликованы 15 июля 1823 года Джоном Хантом, который сменил испуганного смелостью поэмы издателя Мерри. Тогда же, в 1823 году, Байрон решил предпослать поэме следующий эпиграф: «Уж не воображаешь ли ты, что если ты добродетелен, то не бывать больше на свете ни пирогам, ни пиву? Будут! И имбирь все так же будет обжигать рот!» (Шекспир, Двенадцатая ночь, или Как вам угодно, акт II, сц. 3). Этот эпиграф значится на титульном листе первого издания шестой, седьмой, восьмой песней. Поскольку они вышли отдельным изданием через два года после опубликования песни пятой, Байрон счел нужным сопроводить новое издание предисловием.
(обратно)604
Стр. 441. «История России нового времени» (полное название «Древняя и новейшая история России», 1-е изд., 1820); автор, маркиз Габриэль де Кастельно, некоторое время жил в Одессе, где встречался с герцогом Ришелье, участником осады Измаила.
(обратно)605
Стр. 442. Миссис Малапроп — комический персонаж пьесы Шеридана «Соперники» (1775). Малапроп — от франц. «mal à propos» — «некстати». Питая пристрастие к «ученым» словам и оборотам, миссис Малапроп все время искажала их. Отсюда термин «малапропизм», то есть искаженное, неуместное выражение.
(обратно)606
Уоддингтон Сэмюэл (1759–1821), Уотсон Джеймс (1766–1838) — известные радикалы. Уотсон участвовал в неудачном политическом заговоре в 1816 г., был обвинен в государственной измене, но оправдан.
(обратно)607
«вопли скорби, несущиеся…» — цитата из Шекспира («Макбет», акт IV, сц. 3).
(обратно)608
Коронер — следователь, производящий дознание в случае насильственной или скоропостижной смерти.
(обратно)609
…Антония… достоин такого Цезаря. — Байрон имеет в виду речь Антония над телом Цезаря (Шекспир, Юлий Цезарь, акт III, сц. 2).
(обратно)610
Сеяны Европы. — Сеян возвысился при римском императоре Тиберии благодаря своему усердию в подавлении восстания; прославился жестокостью и произволом, в 31 г. н. э. был казнен за заговор против императора.
(обратно)611
Граттан Генри (1746–1820) — ирландский патриот, боровшийся за независимость Ирландии.
(обратно)612
Вертер — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774); покончил жизнь самоубийством.
(обратно)613
Стр. 443. «…атеист». — Байрон имеет в виду Ричарда Карлейля (1790–1843), книгоиздателя и журналиста, известного своим свободолюбием и политическим радикализмом. В 1819 г. он был приговорен к трехлетнему тюремному заключению за опубликование произведений Томаса Пейна и других «безбожных» сочинений. В тюрьме он стал издавать журнал «Республиканец», за что срок заключения был продлен еще на три года.
(обратно)614
ПЕСНЬ ШЕСТАЯ
1. Приливы есть во всех делах людских… — цитата из Шекспира («Юлий Цезарь», акт IV, сц. 3).
(обратно)615
2. Якоб Беме (1575–1624) — немецкий философ-мистик. Байрон не раз сравнивает с ним Вордсворта.
(обратно)616
3. …Любого в манихея превратит! — Секту манихеев противники обвиняли в поклонении дьяволу.
(обратно)617
7. Катон Марк Порций (95–46 до н. э.) — отдал своему другу Гортензию свою жену Марцию и взял ее назад после его смерти.
(обратно)618
13. …будет съеден царский прах // Слепыми якобинцами-червями… — Здесь перефразированы известные слова Гамлета («Гамлет», акт IV, сц. 3).
(обратно)619
17. Святой Франциск (1182–1226). — По преданию, святой Франциск бросался в снег («в объятия ледяной девы»), чтобы подавить свои страсти.
(обратно)620
«Идя средним путем, ты идешь самым безопасным путем». — Байрон ссылается на Горация, который действительно высказывает аналогичную мысль («Послания», кн. I, XVIII), но приведенные слова взяты из «Метаморфоз» Овидия (кн. II).
(обратно)621
18. Просодия — паука, излагающая правила стихосложения.
(обратно)622
23. Афанасий (293–373) — епископ александрийский. На соборе в Никее (326 г.) провозгласил анафему арианской ереси.
(обратно)623
26. Хариты — грации (греч. миф.).
(обратно)624
27. Один тиран. — Имеется в виду римский император Калигула (12–41).
(обратно)625
28. Бриарей — сторукий и пятидесятиглавый великан (греч. миф.).
(обратно)626
31. Кантемир Димитрий (1674–1723) — молдавский господарь, ученый, автор «Истории возвышения и упадка Оттоманской империи» (англ. перевод — 1734 г.), отец русского поэта Антиоха Кантемира.
(обратно)627
Де Тот Франсуа, барон (1733–1793) — упоминает о «мамаше дев» в книге «Мемуары о состоянии Турецкой империи», 1786.
(обратно)628
42. «Сон убить» — не совсем точная ироническая цитата из Шекспира («Макбет», акт II, сц. 2). У Шекспира речь идет о действительном убийстве, совершенном во время сна.
(обратно)629
43. Пигмалион. — Согласно древнегреческому мифу, скульптор Пигмалион влюбился в созданную им статую, Галатею, и она превратилась в живую женщину.
(обратно)630
55. «Лес (lucus) называется так потому, что там нет света (non lucendo)» — наивное этимологическое толкование древнеримских грамматиков.
(обратно)631
56. Коринфская медь — сплав меди, золота и серебра, изготовлявшийся в Коринфе.
(обратно)632
68. Лота онемевшая жена. — По библейскому преданию, жена Лота превратилась в соляной столб.
(обратно)633
75. Дантов лес. — Описанием темного леса начинается «Божественная комедия» Данте: «В середине жизненного пути я очутился в темном лесу» («Ад», песнь I).
(обратно)634
86. Каф-гора. — В мусульманской легенде Каф — гора на краю света. Байрон употреблял выражение «гора Каф» также и для обозначения Кавказа.
(обратно)635
93. Законный внук. — Намек на распространенное мнение, что отец императора Александра I, Павел I, не был сыном Екатерины от ее мужа Петра III.
(обратно)636
95. …Она — для пышной гвардии своей — намек на то, что у Екатерины II среди гвардейцев были фавориты.
(обратно)637
111. Саллюстий Гай (86–34 до н. э.) — римский историк; в своей книге «Заговор Катилины» описывает Катилину как человека, лишенного всякого самообладания, и отмечает, в частности, неровность его походки.
(обратно)638
ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ
3. Соломон. — Древнееврейскому царю Соломону приписывается мрачная и скептическая по концепции мира книга Библии — «Екклесиаст», а также эротическая «Песнь песней».
(обратно)639
4. Свифт Джонатан (1667–1745) — английский писатель: Ларошфуко Франсуа (1613–1680) — французский писатель, автор сборника изречений «Максимы» (1665); Макиавелли (см. прим. к «Чайльд-Гарольду», IV, 54); Лютер Мартин (1483–1546) — основатель протестантского (лютеранского) вероучения, немецкий писатель; Фенелон Франсуа (1651–1715) — французский писатель, автор популярного в XVIII в. сатирико-нравоучительного романа «Приключения Телемаха» (1699); Уэсли Джон (1703–1791) — английский проповедник-моралист; Тиллотсон Джон (1630–1694) — английский богослов и проповедник. Названы Байроном как люди, трезво судившие и откровенно писавшие о жизни.
(обратно)640
Диоген — см. прим. к «Чайльд-Гарольду» III, 41 (см. коммент. 207 — верстальщик); Катон (234–149 до н. э.), прозванный Цензором, — римский писатель и государственный деятель. Байрон упоминает о них как о суровых судьях человеческих слабостей.
(обратно)641
8. Ее герой — Суворов. Отношение Байрона к Суворову было сложным: отдавая должное его стратегическим талантам, воинской доблести и внимательному отношению к простым солдатам, Байрон тем не менее видел в нем одного из деятелей милитаристической политики европейских держав. В своем изображении Суворова Байрон опирался на одностороннюю характеристику его в книге Г. Кастельно «Древняя и современная история России».
(обратно)642
9. Измаил — Штурм Измаила суворовскими войсками начался 30 ноября 1790 г.
(обратно)643
11. Вобан (1633–1707) — французский военный инженер, писатель и знаток фортификации.
(обратно)644
13. «Бисмилла!» — «Во имя бога!» (араб.)
(обратно)645
15—17. Байрон перечисляет комически искаженные фамилии русских военных руководителей, среди них, в соответствии со своим источником, Строганова, Чичагова, Разумовского, Шереметева, Куракина, Мусина-Пушкина.
(обратно)646
17. Муфтий — высокое духовное звание у мусульман.
(обратно)647
19. Джимми Томсоны носили имя английского поэта Джеймса Томсона (см. прим. к «Чайльд-Гарольду»), предисл., стр. 28). (см. коммент. 13 — верстальщик).
(обратно)648
…Врага под Галифаксом отразил… — намек на шуточную песенку из фарса Джорджа Колмена, в которой упоминается смелый капитан Смит из Галифакса.
(обратно)649
…татарам он служил — то есть русским. Еще в начале XIX в. русских в европейской печати иногда именовали татарами.
(обратно)650
21. Я слыхал // В одной из пьес… // Такую ж мысль… — Байрон имеет в виду слова Гамлета («Гамлет», акт IV, сц. 4).
(обратно)651
26. Лонгмен и Мерри — известные книгоиздатели.
(обратно)652
31—33. Дама, граф (1765–1823), Ланжерон, граф (1763–1831), де Линь, князь (1735–1814) — иностранные офицеры, служившие в русской армии и участвовавшие в русско-турецкой войне. Де Линь был также автором военных воспоминаний (1795), о которых Байрон упоминает в следующей строфе. Первые четыре строки 32-й строфы представляют пересказ отрывка из «Истории России» Кастельно.
(обратно)653
35. Де Рибас (1737 — ок. 1797) — адмирал русской службы.
(обратно)654
36—37. Потемкин Григорий Александрович, князь (1739–1791) — русский полководец и государственный деятель, один из фаворитов Екатерины II. Описание его заимствовано Байроном из книги Кастельно, а также из «Жизнеописания Екатерины II» Тука (1800).
(обратно)655
44. Джон Буль — шутливое обозначение англичанина.
(обратно)656
55. Мом — бог шутки (ант. миф.). Для нравственной характеристики Суворова Байрон использует, кроме названных трудов, также «Жизнь фельдмаршала Суворова» Л.-М.-П. Траншан де Лаверна, 1814, и книгу «Суворов» полковника Сполдинга.
(обратно)657
79. Омир — Гомер.
(обратно)658
82. «Комментарии» Цезаря. — Имеется в виду книга Юлия Цезаря «Записки о галльской войне» («Commentarii do bello Gallico», 52–51 до н. э.).
(обратно)659
84—85. …свинья // Способна видеть ветер. — Подразумевается: чувствовать приближающуюся бурю.
(обратно)660
87. Алла — бог (араб.).
(обратно)661
ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ
10. Шапо-Бра — Судя по первому варианту текста поэмы, имеется в виду герцог Ришелье (1767–1822), в те годы офицер русской армии и участник осады Измаила.
(обратно)662
22. Под Мольвитцем… — намек на длительное исчезновение Фридриха II, короля Пруссии, с поля битвы под Мольвитцем (20 апреля 1741 г.).
(обратно)663
23. Вся строфа представляет насмешку над ирландскими «учеными»-пационалистами, которые пытались установить родство своих предков (кельтов) с карфагенянами (пунийцами).
(обратно)664
Патрик — характерное ирландское имя.
(обратно)665
Эрин — поэтическое название Ирландии.
(обратно)666
29. Аякс — один из героев «Илиады» Гомера.
(обратно)667
34. Генерал Ласси Морис — командовал одной из первых колонн, вступивших в атаку при штурме Измаила.
(обратно)668
38. …Не так, как «духи бездн», о ком туманно // Нам Хотспер говорит… — намек на слова персонажа Шекспира Перси Хотспера («Генрих IV», ч. I, акт III, сц. 1).
(обратно)669
41. …туманный путь, // Которого и Гамлет опасался… — Имеется в виду монолог Гамлета («Гамлет», акт III, сц. 1), в котором выражен страх перед таинственным царством смерти.
(обратно)670
49. Гнейзенау Август (1760–1831) — прусский полководец, участник разгрома Наполеона при Ватерлоо.
(обратно)671
50. Храни нам, боже, короля! — иронический намек на британский национальный гимн «Боже, храни короля!».
(обратно)672
Иов — праведник, которому бог, по библейской легенде, желая испытать его, послал тяжелые и незаслуженные страдания. Символ долготерпения.
(обратно)673
51. Давид — библейский царь Израиля. В юности, будучи простым пастухом, вступил в единоборство с филистимлянским великаном Голиафом и убил его камешком из пращи.
(обратно)674
60. Каупер Уильям (1731–1800) — английский поэт. Байрон приводит известную цитату из поэмы «Задача», кн. 1 (буквально: «бог создал деревню, а человек создал город»).
(обратно)675
61—64. Бун Дэниель (1735–1820) — один из первых европейских поселенцев в североамериканской колонии Кентукки (впоследствии штате). До глубокой старости жил в глуши, оставаясь неутомимым охотником и питая восторженную любовь к природе. Байрон дает здесь несколько идеализированный портрет Буна. Эти строфы произвели впечатление на американского романиста Фенимора Купера (1789–1851) и повлияли на созданный им образ Натти Бумпо, героя цикла романов о Кожаном Чулке; в этом образе воспроизведены многие черты Буна.
(обратно)676
76. Есуцкой — русский подполковник; в «Истории» Кастельно, использованной Байроном, упоминается как командир Полоцкого полка.
(обратно)677
79. Мекноп Теодор — генерал русской армии, командовал одной из колонн, начавших штурм Измаила.
(обратно)678
Сераскир — военачальник (турецк.).
(обратно)679
84. …На мякоти, которую зову я // Твоим достойным именем, Ахилл! — Имеется в виду пята — согласно мифу, единственное уязвимое место у неуязвимого героя Ахилла (см. прим. к IV, 4).
(обратно)680
107. Шведский Карл — король Швеции Карл XII (1682–1713). Байрон намекает на упрямство, проявленное Карлом после поражения под Полтавой. Отступив (1 августа 1709 г.) до городка Бендеры, тогда принадлежавшего Турции, он упорно добивался возобновления войны, а после заключения Прутского мира согласился уехать из Турции только тогда, когда был взят в плен турками.
(обратно)681
121. Бей — высокий турецкий чин.
(обратно)682
Кто три хвоста на бунчуке имеет… — Имеется в виду трехбунчужный паша, один из высших турецких военных чинов.
(обратно)683
125—126. В обеих строфах Байрон говорит о тяжелых для английского народа последствиях длительной войны с Францией. Особенно мучительно было положение Ирландии, население которой по-настоящему голодало. В августе 1821 г. Георг IV совершил поездку в Ирландию и был подобострастно встречен местной аристократией. Байрон с негодованием говорит об этом в стихотворении «Ирландская аватара» (сентябрь, 1821), противопоставляя страдания народа официальным восторгам газет по поводу царственного гостя.
(обратно)684
131. Сабинянок удел — намек на легенду о похищении древними римлянами женщин из племени сабинян.
(обратно)685
133. Тимур (1336–1405) и Чингис-хан (ок. 1155–1227) — знаменитые восточные завоеватели, прославившиеся своей жестокостью и произведенными опустошениями.
(обратно)686
«Крепость взята, и я там! ». — В английском переводе книги Ж. -Х. Кастера «Жизнь Екатерины II», которой Байрон пользовался при написании песни седьмой, эти стихи приводятся по-русски и по-английски. Суворов написал их по поводу взятия Туртукая.
(обратно)687
134. «Мене, Мене, Текел» (в Библии: «Мене, мене, текел, уфарсин») — по библейскому преданию, таинственные слова, написанные огненной рукой на стене пиршественного зала вавилонского царя Валтасара (см. прим. к III, 65) и возвестившие его гибель.
(обратно)688
ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ
Написана в августе — сентябре 1822 года. Опубликована вместе с песнями десятой и одиннадцатой 29 августа 1823 года.
(обратно)689
1. Этот каламбур по адресу герцога Веллингтона повторялся во многих французских газетах после Ватерлоо.
…о Ней. — Здесь в подлиннике непереводимая игра слов: «Nay» по-английски значит «нет», но Байрон в примечании спрашивает, якобы от имени наборщика, не следует ли читать «Ney» (Ней). Ней Мишель (1769–1815) — наполеоновский маршал, известный храбростью. В то время, когда Веллингтон был командующим оккупационными силами во Франции,
Ней был расстрелян по приговору роялистской палаты пэров за переход на сторону Наполеона при его временном возвращении во Францию.
(обратно)690
2. Киннерд и Марине. — Байрон считал, что Веллингтон злоупотребил тайной лорда Киннерда, который по секрету сообщил ему, со слов неизвестного, что на него готовится покушение. Этот неизвестный (как оказалось, некто Марине) был в феврале 1818 г. арестован в Париже по приказу Веллингтона, у которого Киннерд в то время гостил. Возмущенный этим вероломством, Киннерд выразил свой протест в обращении во французскую палату пэров и в открытом письме к герцогу Веллингтону. Это последнее и явилось источником намека Байрона.
(обратно)691
3. …Реставрации в угоду, // Ты спас легитимизма костыли. — Байрон имеет в виду, что победа Веллингтона при Ватерлоо и его дальнейшая военная и государственная деятельность привели к восстановлению «законной» (легитимной) власти во Франции и Испании. В подлиннике также названа Голландия.
(обратно)692
…Хоть не дается бардам тема эта. — Имеются в виду неудачные, с точки зрения Байрона, стихи Скотта («Поле Ватерлоо»), Вордсворта («По поводу битвы при Ватерлоо») и других поэтов.
(обратно)693
4. «Головорез лихой». — Байрон ссылается на Шекспира. Макбет называет наемного убийцу «лучшим из головорезов» («Макбет», акт III, сц. 4).
(обратно)694
7. Цинциннат. — Байрон иронически сравнивает Веллингтона, получившего в дар от правительства огромную пенсию и богатое поместье, с римским консулом Цинциннатом (V в. до н. э.), который по зову государства оставил плуг, а исполнив свой долг, вернулся к сельскому труду в своем скромном хозяйстве.
(обратно)695
Сабинская ферма. — Здесь Байрон ошибается. Сабинское имение принадлежало не Цинциннату, а поэту Горацию.
(обратно)696
8. Эпаминонд (418–362 до н. э.) — греческий полководец, известный своей храбростью и бескорыстной преданностью родине. Бедность его засвидетельствована Плутархом.
(обратно)697
Вашингтон. — Несколько идеализируя Вашингтона, Байрон подчеркивает его бескорыстие, так как он во время войны отказался от жалованья главнокомандующего, а после победы — от ценного дара, предназначенного для него Конгрессом.
(обратно)698
Питт Уильям (1759–1806) — английский государственный деятель, с 1783 г. до своей смерти премьер-министр (с коротким перерывом). Был вдохновителем всех европейских коалиций против революционной Франции, организатором похода против демократических свобод в Англии, защитником торговых и колониальных интересов английской буржуазии. Отвергая реакционную политику Питта, Байрон иронически восхваляет его бескорыстие; известно, что Питт отказался от предложения лондонского купечества заплатить сто тысяч фунтов его долгов.
(обратно)699
14. «Быть иль не быть…» — «Гамлет», акт III, сц. 1.
(обратно)700
Александр. — Имеется в виду Александр Македонский.
(обратно)701
15. «О! крепкие желудки жнецов!» — Гораций, Эподы, III, 4.
(обратно)702
17. Монтень Мишель, де (1533–1592) — французский писатель, автор книги «Опыты» (1588), сборника философских размышлений. Свое скептическое отношение к религиозному и философскому догматизму выразил в формуле: «Что я знаю?»
(обратно)703
18. Пиррон (365–275 до н. э.) — греческий философ-скептик.
(обратно)704
19. Что небо для молитвы всем открыто… — неточная цитата из Шекспира («Отелло», акт II, сц. 3).
(обратно)705
«И воробей без промысла не пал» — не совсем точная цитата из Шекспира («Гамлет», акт V, сц. 2).
(обратно)706
20. Ликантропия. — Байрон обыгрывает двойное значение этого слова: 1) способность оборотня превращаться в волка; 2) вид безумия, при котором больной воображает себя волком.
(обратно)707
21. Меланхтон (1497–1560) — один из идейных вождей и теоретиков Реформации в Германии, отличавшийся мягкостью и нерешительностью.
(обратно)708
Моисей — библейский пророк, которому приписывается законодательство, отличавшееся суровостью. Байрон говорит о его доброте иронически.
(обратно)709
28. …У шпанской мухи и пчелы аттической — намек на освободительное движение в Испании и Греции.
(обратно)710
30. …измучен тряской… — Пушкин отмечал неточность этой фразы Байрона: «Измаил взят был зимою, в жестокий мороз… Зимняя езда не беспокойна, а зимняя дорога не камениста. Есть и другие ошибки, более важные. Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю» [А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в шести томах, т. V, Гослитиздат, М. 1950, стр. 41–42.].
(обратно)711
32. Фермер-дворянин — землевладелец, лично наблюдающий за обработкой своих земель.
(обратно)712
Цереры обессиленное тело… — Образ Цереры (см. прим. к II, 169 (см. коммент. 471 — верстальщик)) используется Байроном иронически для характеристики печального состояния сельского хозяйства Англии.
(обратно)713
…Пал Бонапарте — волею судеб // Монархи падают с ценой на хлеб. — После окончания войны с Наполеоном высокие цены на хлеб упали.
(обратно)714
35. …То на «мозоли лордов» наступаете… — намек на слова Гамлета («Гамлет», акт V, сц. 1).
(обратно)715
37—39. В этих строфах Байрон излагает космогоническую теорию французского ученого Жоржа-Леопольда Кювье (1769–1832). Согласно этой теории, мир испытывает периодические катастрофы, вследствие которых прежние живые организмы уничтожаются, а новые создаются в результате нового акта творения; эти новые организмы более мелки по сравнению с ископаемыми организмами предыдущей геологической эры.
(обратно)716
39—40. Георг Четвертый — См. прим. к «Посвящению» (см. коммент. 377 — верстальщик). Здесь Байрон намекает на тучность короля, над которой немало потешались сатирики и карикатуристы 10—20-х годов XIX в.
(обратно)717
41. Мир вывихнут — цитата из Шекспира («Гамлет», акт I, сц. 5).
(обратно)718
53. Парис, Менелай. — Согласно греческому мифу, Парис, сын троянского царя Приама, похитил у царя Спарты Менелая его жену Елену, что и явилось причиной десятилетней осады Трои (Илиона) греческими войсками.
(обратно)719
55. «Teterrima causa» всяких «belli» («Худшая причина всяких войн», лат.) — цитата из Горация («Сатиры», книга 1, сатира III).
(обратно)720
62. …в своем расцвете… — Байрон допускает неточность: в 90-х годах XVIII в. Екатерине II было за шестьдесят лет.
(обратно)721
66. «…горы, лобзавшей облака» — цитата из Шекспира («Гамлет», акт III, сц. 4).
(обратно)722
Меркурий — вестник богов (римск. миф.).
(обратно)723
72. Мессалина (I в. н. э.) — жена римского императора Клавдия, отличавшаяся жестокостью и развратным поведением.
(обратно)724
80. Клитемнестра. — Сравнивая Екатерину с Клитемнестрой, убившей своего супруга, царя Агамемнона, верховного вождя греков, Байрон намекает на причастность Екатерины к убийству ее мужа, императора Петра III.
(обратно)725
81. Елизавета I (1533–1603) — английская королева; приказала казнить своего фаворита, графа Эссекса, возглавившего в 1601 г. заговор против нее.
(обратно)726
84. Испытательница. — Лица, близкие ко двору, называли так Протасову, статс-даму Екатерины, за то, что царица будто бы поручала ей проверять качества претендентов на положение фаворита.
(обратно)727
ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ
Закончена 5 октября 1822 года. Опубликована 29 августа 1823 года.
(обратно)728
1. …О яблоке разумное сужденье… — намек на библейскую легенду о грехопадении Адама и Евы, вкусивших яблоко с древа познания добра и зла. Шутка Байрона основана здесь на игре слов: паденье (человека) и паденье (яблока), за которым наблюдал Ньютон.
(обратно)729
6. …как голубь молодой // Из книги псалмопевца-иудея — намек на 6-й стих 55-го псалма, приписываемого, как и все библейские псалмы, израильскому царю Давиду.
(обратно)730
11 — 16. Джеффри Фрэнсис (1773–1850) — английский критик, редактор влиятельного и популярного журнала «Эдинбургское обозрение», в котором была напечатана резкая и несправедливая рецензия на поэтический сборник Байрона «Часы досуга» (1807). Поэт ошибочно считал автором этой рецензии Джеффри и высмеял его в сатире «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809). В дальнейшем журнал изменил свое отношение к поэту, и он примирился с Джеффри. Называя его «судьей», Байрон намекает на его профессию юриста.
(обратно)731
16. «Давние времена» — слова из песни Роберта Бернса (1759–1796), взятые им из народной песни. До сих пор «Auld Lang Syne» (на слова Бернса) является любимой национальной шотландской песней.
(обратно)732
18. Дий, Дон — реки в Шотландии.
(обратно)733
19. …Во мне шотландца сердце закипело, //Когда шотландца брань меня задела. — Байрон считал себя шотландцем, так как его мать Кэтрин Гордон происходила из старинного шотландского рода. К тому же до десяти лет Байрон жил в шотландском городке Эбердине. Шотландцем был и Фрэнсис Джеффри.
(обратно)734
35. Вильгельм Завоеватель — герцог норманнский, покоривший Англию в 1066 г. Его сторонники (норманны) отобрали земли у побежденных англосаксонских племен.
(обратно)735
42. Закоцитные страны — загробный мир. Коцит (греч. миф.) — одна из рек, окружающих преисподнюю.
(обратно)736
Эскулап — латинское имя древнегреческого бога врачевания; нарицательное обозначение врача.
(обратно)737
45. …Фетиду бритт любой // Считает юридически рабой — намек на притязание Англии быть владычицей морей (Фетида — богиня моря).
(обратно)738
58. Курляндия — герцогство на территории современной Латвии.
(обратно)739
Бирон (1690–1772) — герцог Курляндский, фаворит русской императрицы Анны, фактический правитель России в 1730-е годы, отличавшийся грубой жестокостью.
(обратно)740
59. «Моя старая гвардия!» — восклицание Наполеона после битвы при Ватерлоо.
(обратно)741
Анжамбеман (франц. enjambement) — перенос из одного стиха в следующий слов, связанных по смыслу с первым стихом.
(обратно)742
Костюшко Тадеуш (1746–1817) — деятель польского национально-освободительного движения, участник войны американских колоний за независимость, руководитель польского восстания 1794 г.
(обратно)743
60. Кант Иммануил (1724–1804) — знаменитый немецкий философ, проживший всю жизнь в Кенигсберге.
(обратно)744
…В Германию герой мой покатил… — Под Германией Байрон имеет в виду объединение из тридцати пяти государств (так называемый Германский союз), в который не входило Прусское королевство.
(обратно)745
64. Остров свободы — ироническое обозначение Англии.
(обратно)746
66. …семь лет — обычный срок изгнанья // И высылки… — Байрон имеет в виду свою вынужденную разлуку с родиной: он уехал из Англии в 1816 г.
(обратно)747
67—68. Здесь Байрон характеризует реакционную роль феодально-буржуазной Англии во внешней политике Европы, подчеркивая ее готовность везде подавлять свободу.
(обратно)748
71. Кентербери — город в Англии; в Кентерберийском соборе похоронен епископ Томас Бекет (1117–1171), который был убит вследствие длительной вражды с английским королем Генрихом II.
(обратно)749
73. Шлем Эдуарда. — Имеется в виду сын английского короля Эдуарда III, по прозвищу «Черный принц» (1330–1376), известный своими подвигами во время Столетней войны с Францией.
(обратно)750
75. Назареяне — то есть христиане.
(обратно)751
78. Фаэтон — сын Гелиоса, бога солнца. Пытался управлять солнечной колесницей и, не совладав с конями, погиб.
(обратно)752
Йорк — город в Англии.
(обратно)753
79. Великий флорентинец — подразумевается Макиавелли.
(обратно)754
80. «Кокни» — пренебрежительное обозначение необразованных лондонцев, отличающихся своеобразным и очень выразительным говором.
(обратно)755
84—86. Миссис Фрай Элизабет (1780–1845) — была известна своей филантропической деятельностью, проповедовала благочестие и смирение среди заключенных. Байрон даст ей иронический совет начать свою проповедь нравственного совершенствования с Карлтона — резиденции Георга IV.
(обратно)756
86. Кертис Уильям (1752–1829) — лондонский буржуа, член парламента, дважды лорд-мэр Лондона, пользовался благосклонностью Георга IV и получил от него дворянское звание. Байрон сравнивает этого «толстого рыцаря» с Фальстафом, а Георга — с принцем Галем. Галь — фамильярное сокращение имени принца Генриха, сына английского короля Генриха IV, вступившего на престол под именем Генриха V. Похождения его молодости в обществе Фальстафа и его веселой компании описал Шекспир в исторической хронике «Генрих IV».
(обратно)757
87. Роландов рог. — Граф Роланд, герой французского эпоса «Песнь о Роланде» (XI в.), обладал волшебным рогом.
(обратно)758
ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ
Закончена 17 октября 1822 года. Опубликована 29 августа 1823 года.
(обратно)759
1. Беркли Джордж (1685–1753) — английский философ, представитель субъективно-идеалистического направления в философии. В «Трактате об основах человеческого познания» (1710) отрицал объективное существование материи, независимое от воспринимающего ее сознания. Строфы 1–2 посвящены шутливой полемике с Беркли.
(обратно)760
7. Тимбукту — город в Африке, расположенный на реке Нигер.
(обратно)761
9—10. Размышления Дон-Жуана, приведенные здесь, представляют собою пародию на принятые в официозной печати славословия английской свободе и английской веротерпимости, противопоставлявшихся фанатизму и жестокости католической церкви.
(обратно)762
20. Кеннингтон — район в южном Лондоне.
(обратно)763
25. Друидов рощи — священные дубовые рощи, в которых совершали свои обряды друиды (жрецы кельтского населения древней Британии).
(обратно)764
Стоун-хендж — древнее сооружение из гигантских камней, имевшее культовое назначение.
(обратно)765
Бедлам — название сумасшедшего дома около Лондона; также сумасшедший дом вообще.
(обратно)766
Ратуша. — В подлиннике — Mansion House, резиденция лондонского лорд-мэра.
(обратно)767
Аббатство. — Подразумевается Вестминстерское аббатство.
(обратно)768
26. Черинг-Кросс — один из районов Лондона.
(обратно)769
…Украсив фонари… // Не лампами, а просто подлецами — намек на события Французской революции 1789 г., когда на фонарях вешали враждебных народу аристократов.
(обратно)770
28. …И если Диогену наших дней… и пр. — Байрон имеет в виду известные слова, приписываемые греческому философу Диогену, — «Ищу человека». В поисках настоящего человека Диоген, по преданию, ходил днем по улицам города с зажженным фонарем.
(обратно)771
29. …Дворец Сент-Джеймсский и Сент-Джеймсский «ад». — В подлиннике непереводимая игра слов: Сент-Джеймсский дворец — резиденция короля, и Сент-Джеймсский «ад» — игорный дом.
(обратно)772
30. Феи пафосские — здесь: уличные женщины.
(обратно)773
38. Как Эрин, подчиняющийся власти — намек на подобострастный прием, оказанный ирландской знатью английскому королю Георгу IV во время его поездки в Ирландию в августе 1821 г.
(обратно)774
51. Иппокрена — источник, в котором черпали вдохновение поэты. Байрон шутливо утверждает, что под влиянием ученых («синих») дам воды Иппокрены становятся синими.
(обратно)775
54. …Как тени перед Банко… — См. прим. к I, 2 (см. коммент. 394 — верстальщик).
(обратно)776
56. Сравнивая себя с Наполеоном, Байрон сопоставляет его поражения под Москвой, под Лейпцигом и т. п. с собственными литературными неудачами. Известно, что поздние произведения Байрона, в частности «Марино Фальеро» и «Каин», имели очень мало успеха по сравнению с его ранними поэмами.
(обратно)777
La belle Alliance (франц.). — Здесь игра слов: Байрон называет союз монархов, победителей Наполеона, не Священным союзом, а Прекрасным союзом, намекая на название деревни Belle Alliance возле Ватерлоо, где союзники нанесли Наполеону окончательное поражение.
(обратно)778
57. Мур и Кэмбел. — См. прим. к «Посвящению» (см. коммент. 383 — верстальщик).
(обратно)779
Ханжи-поэты — намек на поэта-священника Джорджа Кроли (1780–1860).
(обратно)780
58. Евнух Спор — приближенный римского императора Нерона. Евнухом Спором Байрон называет посредственного поэта Генри Гарта Милмена (1791–1868). Резкость его характеристики объясняется отчасти тем, что Байрон ошибочно подозревал Милмена во враждебном отношении к «Дон-Жуану» и в воздействии на Мерри с целью заставить его отказаться от публикования поэмы.
(обратно)781
59. Эвфуэс — герой романа английского писателя Джона Лили (1553–1606) «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» (1578); Байрон называет именем этого героя, отличавшегося изысканностью выражений, поэта Барри Корнуолла (настоящее имя Проктер Брайан Уоллер, 1787–1874), потому что критики подчеркивали его нравственность и изящество по сравнению с грубостью и безнравственностью Байрона, которому Корнуолл подражал.
(обратно)782
Лэндор Уолтер Сэвидж (1775–1864) — английский поэт, который, по мнению Байрона, слишком высоко оценивал Саути.
(обратно)783
60. Китс Джон (1795–1821) — выдающийся английский поэт, рано умерший от туберкулеза. Байрон полагал, что Китса убила враждебная ему критика; автором одной из самых резких рецензий Байрон без достаточных оснований считал Милмена (см. прим. к XI, 58 (см. коммент. 780 — верстальщик)).
(обратно)784
Богов Эллады голос… — намек на античные мотивы в творчестве Китса (поэмы «Эндимион», «Гиперион» и др.).
(обратно)785
61. …тиранам тридцати своим… — Байрон имеет в виду «тридцать тиранов», то есть римских императоров во времена междоусобных войн (III в. н. э.).
(обратно)786
62. Преторианцы — составляли императорскую гвардию в Древнем Риме. Они пользовались рядом привилегий и оказывали большое влияние на политическую жизнь Рима, провозглашая и свергая императоров.
(обратно)787
65. …Геркулес… отравлялся… платьем. — Согласно античному мифу, Геркулес (Геракл) погиб, надев платье, пропитанное отравленной кровью кентавра Несса.
(обратно)788
66. «Сень — услада» — ироническая цитата из стихов Мура.
(обратно)789
76. Юнг Эдвард (1683–1765) — английский поэт; цитируемая Байроном мысль высказана в его известной лирико-философской поэме «Жалоба, или Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии» (1745) и повторена в поэме «Смирение» (1762).
(обратно)790
77. Шеридан Ричард Бринсли (1751–1816) — английский драматург и выдающийся политический оратор. Байрон имеет в виду его парламентскую деятельность.
(обратно)791
Королева, полная тревог. — См. прим. к V, 61 (см. коммент. 581 — верстальщик).
(обратно)792
Англии любимая принцесса — принцесса Шарлотта, дочь Георга IV и Каролины; умерла в 1817 г. Ей приписывались либеральные взгляды. Байрон посвятил ей стихотворение «Строки, обращенные к плачущей девушке» (1814).
(обратно)793
И где проценты… — намек на падение ценности биржевых бумаг.
(обратно)794
78. Бреммель Брайан Джордж (1778–1840), известный в те времена щеголь и острослов. В 1816 г. бежал во Францию, скрываясь от кредиторов.
(обратно)795
Уэлсли Уильям (1788–1857) — племянник герцога Веллингтона, известный своими светскими успехами. В 1822 г. была объявлена распродажа его имущества.
(обратно)796
И Третьего Георга схоронили, // Да только завещанья не нашли — намек, основанный на разногласиях между Георгом IV и его младшим братом герцогом Йоркским по поводу наследия их отца Георга III (ум. в 1820 г.). В связи с этими разногласиями распространились слухи об исчезновении подлинного завещания Георга III.
(обратно)797
Четвертого ж внезапно полюбили // Шотландцы… — насмешка над демонстрацией верноподданнической преданности шотландцев Георгу IV, поводом для которой послужила поездка Георга в Шотландию в 1822 г.
(обратно)798
Соуни — фамильярно-ироническое обозначение шотландца.
(обратно)799
79. Где клики Дублина? — намек на волнения в Ирландии.
(обратно)800
Гренвиллы — Уильям Уиндам Гренвилл (1759–1834) и его братья, известные деятели партии вигов. Гренвилл ушел в отставку в 1807 г.
(обратно)801
Что виги? Совершенно в том же виде. — Партия вигов была оттеснена от власти партией тори на протяжении почти тридцати лет (см. также строфу 82).
(обратно)802
80. «Морнинг пост» — консервативная газета, в которой значительное место занимала светская хроника.
(обратно)803
81. …ей достался только младший брат… — Младшие сыновья английских аристократов не наследуют ни состояния, ни титула своих отцов.
(обратно)804
83. …Как пыл политиканского трезвона // И герцога в болвана превратил — намек на герцога Веллингтона, вступившего после победы при Ватерлоо на политическую арену.
(обратно)805
…И освистал монарха гнев народа // И как потом его ласкала мода. — Речь идет о Георге IV.
(обратно)806
84. Гнусные судебные процессы — бракоразводный процесс королевы Каролины (см. прим. к V, 61 (см. коммент. 581 — верстальщик)).
(обратно)807
84. …И низости великого конгресса… — то есть Веронского конгресса Священного союза (1822), принявшего решение о подавлении революции в Испании.
(обратно)808
…Я видел, как народы, возмутясь, // Дворян и королей швыряли в грязь — намек на революционное движение в Италии и Испании.
(обратно)809
85. …Я видел, как топтал холуй лихой // Копытами коня людей бесправных… — вероятно, намек на расправу солдат с собранием безоружных рабочих Манчестера 16 августа 1819 г.
(обратно)810
86. «Лови мгновение» — Гораций, Оды, I, II.
(обратно)811
ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
Закончена в декабре 1822 года, опубликована вместе с песнями тринадцатой и четырнадцатой 17 декабря 1823 года.
(обратно)812
5. Ротшильд, Беринг — известные банкиры, имевшие значительное политическое влияние.
(обратно)813
6. Лафитт Жак (1767–1844) — французский финансист и государственный деятель, директор Французского банка.
(обратно)814
7. …И киников, и множества святых. — Киники — последователи «кинической» школы греческой философии, учившей, что нравственным долгом человека является подавление страстей и предельное ограничение потребностей.
(обратно)815
12. Лампа Аладдина — намек на известную сказку из «Тысячи и одной ночи»: бедняк Аладдин нашел волшебную лампу, с помощью которой получил возможность выполнять все свои желания.
(обратно)816
13. Первые строки — цитата из поэмы В. Скотта «Песнь последнего менестреля» (песнь II, строфа 2).
(обратно)817
14 и 21. Мальтус Томас Роберт (1766–1834) — английский экономист, автор трактата «О принципах перенаселения» (1798), в котором утверждал, что причины возрастающей нищеты лежат в чрезмерном увеличении численности населения, за которым не поспевает рост продуктов питания. Поэтому Мальтус ратовал за ограничение браков и деторождения среди бедняков. Трактат Мальтуса был одобрен английскими правящими кругами, так как снимал с них ответственность за страдания народа. Байрон, как и все передовые мыслители его времени, с отвращением относился к теориям Мальтуса.
(обратно)818
16. …Всегда его в пример мне Джеффри ставил. — Здесь Байрон намекает на статью Джеффри в «Эдинбургском обозрении», т. 36 (февраль, 1822, стр. 451), в которой Скотт противопоставляется автору «Каина» как образец нравственности.
(обратно)819
22. «Филогения» — шутливо-научный термин, с помощью которого Байрон обозначает пристрастие к воспроизведению себе подобных.
(обратно)820
25. «Тантализация» — здесь: искушение, намек на мнимую добродетель дам, подвергающих своих поклонников мукам Тантала, который, согласно мифу, карался в аду вечным голодом и зрелищем роскошных яств.
(обратно)821
26. Ослица Валаама. — По библейскому преданию, с пророком Валаамом однажды заговорила ослица, на которой он ехал верхом.
(обратно)822
33. Столь ли… — первое слово в цитате из Вергилия: «Столь ли велик гнев в небесных душах?»
(обратно)823
38. «И вправду жаль, и жаль, что правда это!» — слова Полония из «Гамлета» (акт II, сц. 2).
(обратно)824
42. «Сообщество по устраненью зла». — Имеется в виду «Общество по борьбе с пороком», одно из многочисленных в начале XIX в. филантропических обществ, которые под видом борьбы за нравственность во имя бога проповедовали низшим классам покорность судьбе, воздержанность и трудолюбие. По свидетельству историков, эти общества, открыто ополчаясь против всех проявлений вольномыслия, в особенности в религиозных вопросах, оказывали немалые услуги правительству в борьбе с революционным брожением масс.
(обратно)825
49. …в том не его вина… — Эти строки излагают размышления леди Пинчбек.
(обратно)826
51. Ладья мэра — намек на старинный обычай, согласно которому новоизбранный лорд-мэр Лондона совершал свой путь в резиденцию короля по реке на особом судне, которое передавалось каждому новому мэру как реликвия.
(обратно)827
Раковина Цитереи. — Венеру часто изображали стоящей на раковине среди вод.
(обратно)828
58. Игра в «гуська» — азартная игра в кости, при которой на каждой четвертой или пятой клетке разграфленного стола изображен гусь. Если игрок, согласно выпавшим костям, попадает в клетку с гусем, он двигается на двойное количество клеток (очков).
(обратно)829
64. Я становлюсь болтлив, о боги, боги! — неточная цитата из Шекспира («Венецианский купец», акт I, сц. 1).
(обратно)830
78. Марий Кай (156—86 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель. После захвата Рима диктатором Суллой вынужден был бежать. Скрывался одно время в развалинах Карфагена. Марий, сидящий на развалинах Карфагена, — нарицательный образ падшего величия.
(обратно)831
82. Грей Чарльз (1764–1847) — английский государственный деятель, представитель партии вигов.
(обратно)832
84. Принц — будущий английский король Георг IV. Отзыв Байрона, противоречащий его обычным высказываниям о Георге IV, характеризует те надежды, которые в 90-е и 1800-е годы возлагались на наследника престола в вигийских кругах. Эти надежды поддерживались отчасти внешней привлекательностью Георга, а еще более либеральными взглядами, которыми он щеголял, чтобы досадить своему отцу, Георгу III.
(обратно)833
89. …Традиций всех расшатана стена. — Байрон имеет в виду не только тяжелое финансовое положение Англии (в частности, огромный национальный долг), но и вообще критическое состояние английской экономики.
(обратно)834
А вы экономистов почитайте… — то есть политико-экономические сочинения Джеймса Милля, Томаса Тука, Давида Рикардо и других членов «политико-экономического клуба», образованного в 1821 г.
(обратно)835
ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ
Написана в феврале 1823 года. Опубликована 17 декабря 1823 года.
(обратно)836
12. Эдип. — Согласно мифу, Эдип разгадал загадки, предложенные ему Сфинксом.
(обратно)837
13. «Я — Дав» — начало цитаты из римского комедиографа Теренция («Андрия», акт I, сц. 2): «Я — Дав, а не Эдип».
(обратно)838
17. Законы персов и мидян — скрытая цитата из Библии («Книга Даниила»).
(обратно)839
39. Парри Уильям Эдуард (1790–1855) — английский исследователь Арктики; дважды руководил экспедициями, ставившими целью открыть северо-западный проход (1819–1820 и 1822–1823).
(обратно)840
41. Зороастр — мифический пророк, почитавшийся в Иране; по преданию, создатель религии, основанной на учении о борьбе в мире двух начал — добра и зла.
(обратно)841
45. …До греческих календ. — Календами у римлян назывался первый день месяца, когда производились все платежи (уплачивались долги). У греков календ вообще не было; отсюда ироническое выражение ad calendas graecas solvere — заплатить, когда настанут греческие календы, то есть никогда.
(обратно)842
53. Сам Поп давно прославил мастерство // Обедать, смело возглашая тосты — намек на слова из поэмы Попа «Дунсиада».
(обратно)843
55—72. Описание замка в этих строфах в точности соответствует внешнему и внутреннему облику фамильного замка Байронов — Ньюстедского аббатства. Такое название объясняется тем, что первоначально здесь помещался монастырь, основанный в XII в. В 1539 г., когда король Генрих VIII во времена Реформации разогнал монахов и закрыл монастыри, он подарил старинное здание предку поэта, сэру Джону Байрону. В 1817 г. Байрон вынужден был продать Ньюстедское аббатство.
(обратно)844
56. Карактакус (Карактак) — вождь бриттов, воевавший против римлян (I в. н. э.).
(обратно)845
60. Кавалеры. — Так называли в годы гражданской войны в XVII веке в Англии сторонников короля Карла I.
(обратно)846
64. Каменный Мемнон. — Мемнон, по греческому мифу, был сыном Зари. Позже его изображением считали две огромные статуи египетского царя Аменхотепа III. Одна из них на заре издавала странный звук, возникавший вследствие того, что под влиянием тепла составляющие статую глыбы песчаника раздвигались.
(обратно)847
67—72. Описание картинной галереи воспроизводит как бы в миниатюре историю английских нравов и вкусов на протяжении нескольких столетий.
(обратно)848
68. Лили (Лели) Питер (1618–1680) — английский художник, прославившийся портретами знатных лордов и придворных красавиц.
(обратно)849
69. Звездная палата — английское административно-судебное учреждение в XVI–XVII вв., превратившееся в орудие деспотизма и произвола. Упразднено в 1641 г., во время революции.
(обратно)850
71 — 72. Карло Дольни (1616–1686), Тициан Вечеллио (1477–1576), Сальваторе (Сальватор Роза, 1615–1673), Альбано (Альбани) Франческо (1578–1660), Караваджо Микеланджело Меризи (1573–1610) — итальянские художники; Лоррен Клод (1600–1682) — французский художник; Тенирс (Теньерс) Давид (1610–1690) — фламандский художник; Спаньолетто — прозвище испанского художника Хосе де Рибейра (1588–1652), изобразившего в ряде своих полотен мученичество святых.
(обратно)851
78. Немврод — по Библии, царь Вавилона и знаменитый охотник.
(обратно)852
79. Многие из имен, названных Байроном здесь и дальше, для современников заключали намеки на всем известных лиц. Но даже лучшие комментаторы Байрона считают невозможным полностью расшифровать эти намеки. Большая часть имен представляет характеристику наиболее распространенных общественных типов.
(обратно)853
81. «Та получает всеобщее одобрение, которая соединяет приятное с полезным» — слегка переделанная цитата из Горация («Послание к Пизонам»).
(обратно)854
83. Абсентеисты — буквально: отсутствующие (прозвище ирландских помещиков, покинувших свою родину).
(обратно)855
84. Пиррон. — Байрон иронически дает своему философу имя древнегреческого философа Пиррона (см. прим. к IX, 18 (см. коммент. 703 — верстальщик)).
(обратно)856
86. Маркиз де Рюз. — Рюз (Ruse) — по-французски «хитрость». Есть предположение, что здесь имеется в виду граф де Монтрон (1768–1843) — друг Талейрана, игрок и острослов, известный своей безнравственностью. Он провел два года в Англии (1812–1814).
(обратно)857
87. Достопочтенный — почтительное именование английского священника.
(обратно)858
88. Генерал Мордон (в подлиннике — Fireface). — Имеется в виду сэр Джордж Провост (1767–1816), известный своими неудачами во время второй американской войны.
(обратно)859
92. Твид — река в Шотландии.
(обратно)860
92. Картофельный вопрос. — Картофель в течение ряда столетий был основным предметом питания для беднейшего населения Ирландии.
(обратно)861
96. Руфь. — Согласно библейскому преданию, Руфь, покинув свою опустошенную голодом страну, собирала колосья на поле богача Вооза.
(обратно)862
Миссис Адамс — комический персонаж из романа Фильдинга «Джозеф Эндрюс».
(обратно)863
106. Уолтон. — См. прим. Байрона (см. прим. 139 — верстальщик).
(обратно)864
110. Фидий (V в. до н. э.) — греческий скульптор.
(обратно)865
Софья, Уэстерн, Том Джонс — герои романа Фильдинга «История Тома Джонса, найденыша» (1749).
(обратно)866
ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Написана в феврале — марте 1823 года. Опубликована 17 декабря 1823 года.
(обратно)867
1. …Как сыновей Сатурн… — В римской мифологии титан Сатурн (у греков — Кронос) пожирал собственных детей, боясь, что они отнимут у него власть. Жена его, Рея, спасла одного из сыновей, Юпитера (Зевса), подсунув вместо него Сатурну камень, завернутый в пеленку.
(обратно)868
8. Приведенная цитата (не вполне точная) заимствована из «Естественной истории» Бэкона (см. прим. к III, 92 (см. коммент. 527 — верстальщик)).
(обратно)869
12. …милым Девяти… — Подразумевается: музам.
(обратно)870
21. «Я знаю, о чем говорю» — Вергилий, «Энеида», II, 91.
(обратно)871
«Я запрещу тому, кто разгласил таинства Цереры» [быть со мной под одним кровом] — начало цитаты из Горация («Оды», III, 2). Байрон в шутку дает перевод заведомо неправильный.
(обратно)872
22. Парри, Ясон — ироническое сравнение современного Байрону полярного исследователя Парри (см. прим. к XIII, 39 (см. коммент. 839 — верстальщик)) и мифического мореплавателя Ясона (см. прим. к I, 86 (см. коммент. 427 — верстальщик)).
(обратно)873
35. Честерфилд Филипп Дормер Стэнхоп, граф (1694–1773) — английский политический деятель; известны его «Письма к сыну», опубликованные в 1774 г. Они содержат правила светского поведения.
(обратно)874
39. Камилла — быстроногая прислужница Дианы (римск. миф.).
(обратно)875
40. Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский художник. В его фреске летящую перед восходящим солнцем Аврору сопровождают Горы (часы).
(обратно)876
48. Иов, — Когда Иов (библ. миф.) был в беде, друзья убеждали его покаяться и признать грехи, в которых он не был повинен. Друзья Иова — распространенный образ безответственных и равнодушных советчиков.
(обратно)877
64. Вертер. — См. прим. к предисловию Байрона к песням шестой, седьмой и восьмой (см. коммент. 612 — верстальщик).
(обратно)878
70. Диван — совет при восточном монархе.
(обратно)879
73. Тиресий. — Согласно античному мифу, пастух Тиресий был на семь лет превращен в женщину, после чего опять стал мужчиной. Поэтому, когда Юпитер и Юнона заспорили о том, который из двух полов испытывает большее любовное наслаждение, они обратились к Тиресию с просьбой разрешить их спор.
(обратно)880
75. В Шекспировом саду неувядаемом… — Имеется в виду цитата из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт II, сц. 1), в которой упоминается цветок, названный девушками «любовью от безделья».
(обратно)881
«Вот барвинок!» — Эти слова взяты из романа Руссо «Новая Элоиза».
(обратно)882
77. «Блажен тот, кто далек от дел» — слегка переделанная цитата из Горация («Эподы», II).
(обратно)883
«Каждый познается по своим друзьям» — латинская поговорка, которую Байрон ошибочно приписывал Горацию.
(обратно)884
81. «И устрица бывает влюблена» (буквально: «И устрица бывает несчастлива в любви») — цитата из комедии Шеридана «Критик» (акт III).
(обратно)885
83. «Святая тройка» — намек на Священный союз, заключенный государями России, Австрии и Пруссии в 1815 г. для подавления революционного движения в Европе.
(обратно)886
Александр Лысый. — Имеется в виду русский император Александр I.
(обратно)887
84. Точка опоры — намек на известные слова Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю».
(обратно)888
86. Сизифова любовь. — Намек на греческий миф о Сизифе, который за свои грехи был осужден вечно поднимать на гору камень, упорно скатывающийся вниз («сизифов труд»).
(обратно)889
102. «Пещеры и пустыни» — цитата из трагедии Шекспира «Отелло» (акт I, сц. 3).
(обратно)890
ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
Написана в марте 1823 года. Опубликована 26 марта 1824 года.
(обратно)891
11. Алкивиад (451–404 до н. э.) — греческий полководец и политический деятель. Замечание Байрона об умении Алкивиада приспособляться к любому окружению основано на его биографии, написанной Плутархом.
(обратно)892
21. «Матон хочет все говорить наилучшим образом, говори когда-нибудь и хорошо, говори средне, иногда говори и плохо». — Марциал, Эпиграммы, X, 46.
(обратно)893
24. …Когда б мои стихи перо зоила // Насмешкой злобною не заклеймило. — См. прим. к X, 11–16.
(обратно)894
25. Лонгин (213–273) — древнегреческий ученый. «Поэтика» Аристотеля и трактат «О возвышенном», приписывающийся Лонгину, считались руководствами для поэтов.
(обратно)895
Стагирит — Аристотель (см. прим. к I, 204 (см. коммент. 445 — верстальщик)).
(обратно)896
35. Рапп. — См. прим. Байрона (см. прим. 159 — верстальщик).
(обратно)897
39. Гольбейн (1497–1543) — немецкий художник, автор серии рисунков «Образы смерти» (часто называемые «Пляска смерти»).
(обратно)898
53. …Антоний это знал // И от величья Цезаря страдал. — В подлиннике не совсем точная цитата из «Макбета» (акт III, сц. 1).
(обратно)899
59. Я стал опять «сзывать свою пехоту» — несколько измененная цитата из поэмы Вальтера Скотта «Песнь последнего менестреля».
(обратно)900
63. Суп «хорошей жены». — Здесь и далее Байрон иронизирует над французской номенклатурой аристократической кухни.
(обратно)901
65. Апиций (I в. до н. э.) — римский гастроном. До нас дошла приписываемая ему книга о кулинарном искусстве.
(обратно)902
Аммоно-убийственные вина — намек на невоздержанность Александра Македонского, который, по преданию, умер от пьянства (Александр провозгласил себя сыном бога Аммона).
(обратно)903
66. Лукулл (106—66 до н. э.) — римский богач, полководец и государственный деятель, прославленный блестящими пиршествами, которые он устраивал для своих друзей.
(обратно)904
71. Сальми — рагу из жареной дичи.
(обратно)905
Консоме — крепкий бульон.
(обратно)906
72. Goût. — В подлиннике непереводимая игра слов. Французское слово goût (вкус) пишется так же, как английское слово gout (подагра), хотя произносится иначе.
(обратно)907
73. Лукка — город в Италии; во времена Байрона — центр маленького государства, герцогства Лукка.
(обратно)908
87. Лорд Кук Эдуард (1552–1634) — английский юрист и политический деятель, известный подробным изложением и обоснованием английской правовой системы.
(обратно)909
92. Пресвитерьянец. — Байрон иронически причисляет себя к умеренным пресвитерианцам, религиозному течению, влиятельному в Шотландии, где прошли детские годы поэта.
(обратно)910
Умеренно люблю я Тир и Трою… — намек на стих из «Энеиды» Вергилия: «Я не делаю различия между Тиром и Троей».
(обратно)911
Элдон, граф — реакционный государственный деятель Англии. С 1801 по 1827 г. — лорд-канцлер. Байрон здесь иронически говорит о мнимом беспристрастии Элдона как председателя суда.
(обратно)912
Гекла — вулкан в Исландии.
(обратно)913
ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
Начата 29 марта и окончена 6 мая 1823 года. Опубликована 26 марта 1824 года вместе с песнью пятнадцатой.
(обратно)914
1. Кир. — Греческий историк Ксенофонт в своей книге «Воспитание Кира» («Киропедия») сообщает, что древние персы учили мальчиков стрелять из лука, ездить верхом и говорить правду. Так, по Ксенофонту, был воспитан Кир Старший, основатель персидской монархии (553–528 до н. э.).
(обратно)915
2. Но сам «эффект сугубо дефективен» — не вполне точная цитата из Шекспира («Гамлет», акт II, сц. 2).
(обратно)916
5. Монмут (умер в 1155 г.) — автор хроники о легендарных королях древней Британии.
(обратно)917
Турпин — архиепископ Реймессий (умер ок. 800 г.); ошибочно считался автором легендарной латинской хроники о деяниях Карла Великого и Роланда.
(обратно)918
«Quia impossibile» — часть формулы, употреблявшейся так называемыми отцами католической церкви для защиты свидетельств Священного писания: «Certum est quia impossibile est; credoquia absurdum est». — «Это достоверно, потому что невозможно; я верю, потому что это бессмысленно». Байрон ошибочно приписывает эту формулу Августину.
(обратно)919
10. Тирский пурпур — драгоценная краска, изготовлявшаяся в финикийском городе Тире. См. прим. Байрона (см. коммент. 60 — верстальщик)..
(обратно)920
11. Тит Флавий Веспасиан. — См. прим. к «Чайльд-Гарольду», IV, 110 (см. коммент. 348 — верстальщик); по свидетельству историка Светония, Тит сожалел о тех днях, когда ему не удавалось сделать доброго дела.
(обратно)921
27. Тук Джон Хорн (1736–1812) — английский писатель и политический деятель.
(обратно)922
46. Каледония — древнее наименование Шотландии.
(обратно)923
47. …То не был цвет возвышенной лазури… — здесь и дальше насмешка над романтической неясностью, которой Байрон противопоставлял классическую точность и ясность стиля Александра Попа.
(обратно)924
72—75. Эти строфы являются пародией на обычный стиль парламентских речей.
(обратно)925
81—83. Питер Пит — намек на известного проповедника Сидни Смита (1771–1845), автора «Писем Питера Плимли».
(обратно)926
84. …трудненько стало житься // Теперь и королевам иногда. — См. прим. к V, 61 (см. коммент. 581 — верстальщик).
(обратно)927
104. …как хитрый Аддисон… — Имеются в виду резкие строки Попа, который подчеркивал умение Аддисона
Губить хвалой, со всеми соглашаться
И, не смеясь, учить других смеяться.
(«Послание доктору Арбетноту», 1735)
(обратно)928
104. Аддисон Джозеф (1672–1719) — английский журналист, поэт и драматург.
(обратно)929
109. Благодатная Венера — начальные слова поэмы римского поэта Лукреция Кара (98–55 до н. э.) «О природе вещей».
(обратно)930
116. «Оставьте надежду все, сюда входящие» — надпись на вратах ада в поэме Данте «Божественная комедия» («Ад», песнь III).
(обратно)931
ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ
Четырнадцать строф этой песни написаны в мае 1823 года. Отправляясь в Грецию, Байрон взял их с собой. Они были обнаружены среди бумаг поэта после его смерти и переданы его другу Хобхаузу. Впервые они были опубликованы в Собрании сочинений Байрона под редакцией Э.-Х. Колриджа в 1903 году.
(обратно)932
7. Сэр Мэтью Хейлс (точнее, Хейл, 1609–1670) — английский судья, известный широтой и гуманностью своих правовых взглядов. Однако, следуя предрассудкам своего времени, он в 1664 г. все же осудил двух женщин на смерть за колдовство.
(обратно)933
8. Когда поставил солнце Галилей // На место, поместили Галилея // В тюрьму… — намек на суд над Галилеем, осужденным за распространение учения Коперника о вращении Земли вокруг Солнца.
(обратно)


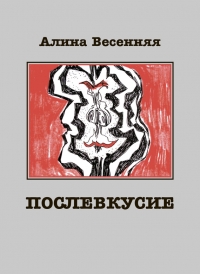

Комментарии к книге «Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан», Джордж Гордон Байрон
Всего 0 комментариев