Юрий Левитанский Черно-белое кино
© Юрий Левитанский, 2005
© «Время», 2005
* * *
Стороны света (1959)
«Что я знаю про стороны света?…»
Что я знаю про стороны света? Вот опять, с наступлением дня, недоступные стороны света, как леса, обступают меня. Нет, не стороны те и не страны, где дожди не такие, как тут, где деревья причудливо странны и цветы по-другому цветут, где природы безмерны щедроты и где лето полгода в году, — я сегодня иные широты и долготы имею в виду. Вот в распахнутой раме рассвета открываются стороны света. Сколько их? Их никто не считал. Открывается Детство и Старость, открывается Злоба и Ярость, море Нежности, озеро Жалость открывается в раме окна, и глухие низины Порока, и Любви голубая дорога, и в тумане багровом Война, – есть такая еще сторона с небесами багрового цвета, — и река под названием Лета, где живет перевозчик Харон… Ах, как много у света сторон! Все они обступают меня, проступают во мне, как узоры на зимнем окне, а потом они тают и вновь открываются в раме рассвета, незнакомые стороны света.«В ожидании дел невиданных…»
В ожидании дел невиданных из чужой страны, в сапогах, под Берлином выданных, я пришел с войны. Огляделся. Над белым бережком бегут облака. Горожанки проносят бережно куски молока. И скользят, на глаза на самые натянув платок. И полозья скрежещут санные, и звенит ледок. Очень белое все и светлое — ах, как снег слепит! Начинаю житье оседлое, позабытый быт. Пыль очищена, грязь соскоблена, и – конец войне. Ничего у меня не скоплено, все мое – на мне. Я себя в этом мире пробую, я вхожу в права. То с ведерком стою над прорубью, то колю дрова. Растолку картофель отваренный — и обед готов. Скудно карточки отоварены хлебом тех годов. Но шинелка на мне починена, нигде ни пятна. Ребятишки глядят почтительно на мои ордена. И пока я гремлю, орудуя кочергой в печи, все им чудится – бьют орудия, трубят трубачи. Но снежинок ночных кружение, заоконный свет — словно полное отрешение от прошедших лет. Ходят ходики полусонные, и стоят у стены сапоги мои, привезенные из чужой страны.«Грач над березовой чащей…»
Грач над березовой чащей. Света и сумрака заговор. Вечно о чем-то молчащий неразговорчивый загород. Лес меня ветками хлещет в сумраке спутанной зелени. Лес меня бережно лечит древними мудрыми зельями. Мягкой травой врачует — век исцеленному здравствовать, посох дорожный вручает — с посохом по лесу странствовать. Корни замшелого клена сучьями трогаю голыми, и откликается крона дальними строгими гулами. Резко сгущаются тени. Перемещаются линии. Тихо шевелятся в тине странные желтые лилии. Гром осыпается близко, будит округу уснувшую. Щурюсь от быстрого блеска. Слушаю. Слушаю. Слушаю.«Откуда вы приходите, слова…»
Откуда вы приходите, слова, исполненные доброго доверья? По-моему, оттуда, где трава. По-моему, оттуда, где деревья. Нам переходы света и теней за древними лесными деревами покажутся резными теремами, возникшими из света и теней. А дальше будет глуше и темней, и тропка лисья станет неприметной. Она и вправду стала неприметной, а все-таки давай пойдем по ней, пойдем на ошупь, ветки раздвигая. Эге-ге-гей! Ну где же вы, слова? «Слова, слова!..» – вздыхают робко листья, и тропка поворачивает лисья туда, где в листьях прячется сова. А может, так же прячутся слова за пнями и замшелыми камнями? Слова – они, наверное, корнями, как дерева, уходят в глубину. И тропка нас уводит в старину, туда, где бродит пращур волосатый по травам, не имеющим названья, где снег летит, не названный еще, поет еще не названная птица и звезды, у которых нет названья, в дремучих отражаются очах. И пращура охватывает трепет, едва доходит до его сознанья, какая тяжесть на его плечах. В нем глухо пробуждается художник, и, сладкие испытывая муки, он ждет вас, нерожденные слова. Он что-то удивительное лепит, мешая краски, запахи и звуки. Сначала это только смутный лепет, и вдруг он превращается в слова. Тогда травой становится трава, а этот сумрак зыблющийся – лесом, а этот холод падающий – снегом, а это чудо маленькое – птицей. И я беру из рук его слова. Они еще звенят, как тетива и как стрела, что пущена из лука. Они из цвета, запаха и звука. На них еще не высохла роса. В них травы отразились и деревья. И у меня кружится голова, пока я их несу тебе — слова, исполненные доброго доверья.Пейзаж
Горящей осени упорство! Сжигая рощи за собой, она ведет единоборство, хотя проигрывает бой. Идет бесшумный поединок, но в нем схлестнулись не шутя тугие нити паутинок с тугими каплями дождя. И после краткой подготовки, над перелеском покружив, повалят листья, как листовки, — сдавайся, мол, покуда жив. И сдачи первая примета — белесый иней на лугу. Ах, птицы, ваша песня спета, и я помочь вам не могу… Таков пейзаж. И если даже его озвучить вы могли б — чего-то главного в пейзаже недостает, и он погиб. И все не то, все не годится — и эта синь, и эта даль, и даже птица, ибо птица — второстепенная деталь. Но, как бы радуясь заминке, пока я с вами говорю, проходит женщина в косынке по золотому сентябрю. Она высматривает грузди, она выслушивает тишь, и отраженья этой грусти в ее глазах не разглядишь. Она в бору – как в заселенном во всю длину и глубину огромном озере зеленом, где тропка стелется по дну, где, издалёка залетая, лучи скользят наискосок и, словно рыбка золотая, летит березовый листок. То простодушно-величава, то целомудренно-тиха, она идет, и здесь начало картины, музыки, стиха. А предыдущая страница, где разноцветье по лесам, — затем, чтоб было с чем сравниться ее губам, ее глазам.Мальчики Из старой тетради
Мальчики как мальчики — дерутся, меняются марками, а едва городские сумерки за окном растают, занавесив лампы газетами или майками, мальчики читают, мальчики читают. Взмыленные лошади мчатся по полям и по рощам. Бородатые всадники пьют воду из медных фляг. Летит бригантина, и ветер над ней полощет с белым черепом черный пиратский флаг. А они упрямо отсчитывают версты и мили. А они до рассвета не гасят огонь. Мальчики живут еще в придуманном мире скальпов, томагавков и дерзких погонь. Еще к ним придет та нелегкая доблесть, тот ответ за обещанное «всегда готов!». На них уже бросили грозный отблеск малые войны тридцатых годов. По ночам через город войска идут на ученье. Тишина над городом как часовой стоит. Тишина эта тоже подчеркивает значенье того, что завтра мальчикам предстоит. Еще их фамилий не знают военкоматы. Еще невелик их начальный житейский опыт. Но время, неумолимое, как слова команды, уже их зовет, и требует, и торопит. Весь день сегодня в городе мимозой торговали, и на карнизах голуби влюбленно ворковали. А я припомнил белую сирень, ее метели, — над нею, над победною, колокола гудели. И я припомнил черные от копоти соборы — там дымом прокопченные работали саперы. Сапер с миноискателем в своей работе точен. Он, как хирург со скальпелем, на ней сосредоточен. И я припомнил добрую саперную работу. Я сам веду подобную саперную работу. Сквозь перекрытья грузные и сросшиеся камни глаза я вижу грустные, как дождевые капли. За той стеной парадною, где вывеска прибита, сейчас, как мина, спрятана вчерашняя обида. О, только бы не смели вы обиде поддаваться! О, только б не успели вы на мине подорваться! Сквозь шторы невесомые, сквозь плотные ворота веди меня, бессонная саперная работа!«За стеною – голоса и звон посуды…»
За стеною – голоса и звон посуды. Доводящие до умопомраченья разговоры за стеною, пересуды и дебаты философского значенья. Видно, за полночь. Разбужен поневоле, я выскакиваю из-под одеяла. Что мне снилось? Мне приснилось чисто поле, где-то во поле березонька стояла. Я кричу за эту стену: – Погодите! Ветер во поле березу пригибает. Одевайтесь, – говорю, – и выходите, где-то во поле береза погибает! Пять минут, – кричу, – достаточно на сборы. Мы спасем ее от ветра и мороза!.. — Пересуды за стеною, разговоры. Замерзает где-то во поле береза.«То снега да снега…»
То снега да снега, то трава эта вешняя. А тайга – все тайга. А тайга – она вечная. От ее пространств, от ее безбрежности — этот дух спокойствия и безгрешности. Топором рубили, и огнем губили — а ее не кончили, а ее не убили. Где-то рухнула лиственница, и упала, и смолкла. Где-то смолка закапала, обгоревшая смолка. Повалилась береза, топором изувеченная. А она – все такая же. А она – извечная. Неприметны рубцы ее, не видны переломы за ее буревалами, сквозь ее буреломы. Только волны зеленые ветер гонит по склонам. Что – отдельное дерево в этом мире зеленом? Просто рухнула лиственница, и упала, и смолкла, Просто смолка закапала, обгоревшая смолка, как росинка незрячая, как слезинка невинная, вся почти что прозрачная и почти что не видная.В оружейной палате
He березы, не рябины и не черная изба — всё топазы, всё рубины, всё узорная резьба. В размышленья погруженный средь музейного добра, вдруг я замер, отраженный в личном зеркале Петра. Это вправду поражало: сколько лет ни утекло, все исправно отражало беспристрастное стекло — серебро щитов и сабель, и чугунное литье, и моей рубахи штапель, и обличие мое. …Шел я улицей ночною, раздавался гул шагов, и мерцало надо мною небо тысячи веков. И под этим вечным кровом думал я, спеша домой, не о зеркале Петровом – об истории самой, о путях ее негладких, о суде ее крутом без опаски, без оглядки перед плахой и кнутом. Это помнить не мешает – сколько б лет ни утекло, все исправно отражает неподкупное стекло. Люблю осеннюю Москву в ее убранстве светлом, когда утрами жгут листву, опавшую под ветром. Огромный медленный костер в конце аллеи где-то гудит, как траурный костел, – там отпевают лето. И тополь гол, и клен поник, стоит, печально горбясь. И все-таки своя у них, своя у листьев гордость. Ну что с того, ну что с того, что смяты и побиты! В них есть немое торжество предчувствия победы. Они полягут в этот грунт, собой его удобрят, но их потомки их потом припомнят и одобрят. Слезу случайную утрут, и в юном трепетанье самопожертвенный их труд получит оправданье. …Парит, парит гусиный клин, за тучей гуси стонут. Горит, горит осенний клен, золою листья станут. Бульвар ветрами весь продут, он расстается с летом. А листья новые придут, придут за теми следом.Первая кровь Из старой тетради
А первую кровь мы видели так. Снегом нас обдавая, легкие танки берут разбег, выскочив на большак. Дымное зарево впереди. Скоро передовая. Сбоку идет старшина Свиридов, командует — шире шаг! Потом обгоняют нас на рысях конники в вихре белом. У эскадронного – белый чуб да на щеке рубец. У эскадронного по бокам — шашка и парабеллум, лихо несет его вороной в яблоках жеребец. А нам шагать еще и шагать — служба наша такая. Мы, говорят, царица полей — это, конечно, так. Нам шагать себе и шагать, службу не попрекая, сбоку идет старшина Свиридов, командует — шире шаг! И вдруг навстречу нам, из леска, словно бы от погони, оттуда, где орудийный гром ухает без конца, мчатся лошади без людей, дикие скачут кони, кровь на загривке у вороного в яблоках жеребца. Так и запомнилось навсегда. Дикие кони скачут. Черная лошадиная кровь падает на большак. Дымное зарево впереди. Бабы в деревне плачут. Сбоку идет старшина Свиридов, командует — шире шаг!«Каждое утро ходит отец за хлебом…»
Каждое утро ходит отец за хлебом. В булочной рядом он покупает хлеб. Он возвращается с черным и белым хлебом и режет торжественно черный и белый хлеб. Сердится мама: – Куда нам так много хлеба! Вот и вчерашний даже не съели хлеб… — Но завтра опять берет он две булки хлеба и режет старательно черный и белый хлеб. Милые, полно, чего уж тут пререкаться! Ведь между вами других разногласий нет. …О, голодная память далеких эвакуации, трудная память наших военных лет!«В городском нестройном гомоне…»
В городском нестройном гомоне, в людном гомоне и гуле по асфальту бродят голуби — гули-гули, гули-гули. Как под сводом тихой горницы, как в домашней обстановке, бродят турманы и горлицы у трамвайной остановки. Между рельсами похаживают, как привычною тропой. За ними бережно ухаживают, кормят пшенною крупой. И они отяжелели, ожирели, дышат еле. От крупы и отрубей — сытно, жарко. Крошки хлебные глотают, высоко не залетают. Мне их, сытых голубей, сильно жалко.Синяя лампочка
Это дело давнее. Не моя вина. Увезла товарищей финская война. Галочкой отметила тех, что в строю. – Рано! – ответила на просьбу мою. Я остался дома. По утрам в Сокольники почта приносила письма-треугольники. О своих раненьях и обмороженьях товарищи писали в кратких выраженьях. Ждать их наказывали. Нас мучила совесть. Мы на хлеб намазывали яблочный соус. Зимняя нас лавочка у ворот сводила. Синяя лампочка у ворот светила. Письма читали синими глазами. Девушки плакали синими слезами… Это дело давнее. Не моя вина. Выпала мне дальняя, долгая война. В рамах оконных стекла дрожали. В ямах окопных сверстники лежали. Мины подносили руками усталыми. Глину месили сапогами старыми. И домой вернулись старыми бойцами, в мятых гимнастерках, с чистыми сердцами… Это дело давнее. Не моя вина. Под холмом могильным зарыта война. Зарыта, забыта, но, душ леденя, Синяя лампочка смотрит на меня. Синяя лампочка стоит перед глазами. Девушки плачут синими слезами. Синие отсветы лежат на снегу. Выключить лампочку никак не могу.«Окна домов…»
Окна домов, улиц ночных удивительные глаза! Детские сны вы мои окружали. Помните, как на войну провожали Помните, окна, была гроза? Как вы печально тогда дрожали. Дальние зарева отражали. Окна – и вдруг на стекле слеза. О, как всегда меня поражали эти загадочные глаза! Окна домов, вы меня встречали светом веселья, цветом печали. Лампа горит, абажур, свеча ли — тысячи окон, тысячи глаз. Эти взирают на мир надменно, эти бесстрастно, недоуменно, эти так горестно и смиренно — веки опущены, свет погас. Где бы ни жил, куда ни поеду, с вами люблю затевать беседу, то ли по свету, то ли по цвету вдруг угадать, что таится за… Вечер, опять тебя жду затем лишь, что в темноте ты опять затеплишь окна домов, улиц ночных удивительные глаза.«Древнее, неразгаданное пространство…»
Древнее, неразгаданное пространство смотрит на землю холодно и бесстрастно. В темных глубинах маленькой светлой точкой спутник сейчас проходит орбитой точной. Чтоб заглянуть в безвестные те высоты, ни к чему ни двадцатый этаж, ни сотый. Лучик зеленый, парящий в туманных сферах, виден отчетливо в этих осенних скверах, где под грибком раскрашенным из фанеры утром играют в шашки пенсионеры, где возле булочной пахнет горячей сдобой — здесь, на земле этой будничной, строгой и доброй. А помню еще – за звездным полетом я наблюдал и в поле однажды летом. И был он так ясен в поле под черным небом, в поле, где сладко пахло печеным хлебом, где и доселе темные эти дали все еще что-то помнили о Дедале, смутное что-то, темное об Икаре, что-то о божьем гневе, о божьей каре. Там, над обрывом, тополи шелестели, словно бы крылья в небо взлететь хотели, словно бы крылья в небо взлететь пытались, путались, расплетались, переплетались, и за ночным овином, за старой ригой, где-то за дальним лугом, над темным логом, все раздавалось – прыгай, Иване, прыгай! — все шелестело – с богом, Иване, с богом!Огонь
Печной огонь. Ночной огонь на Трубной. Ручной, и неопасный потому. А он живет своею жизнью трудной, и незачем завидовать ему. Не то что в керогазах — в паровозах не смеет он считать себя огнем. Он всем необходим. Но в малых дозах. Чтоб суп варить. Чтоб руки греть на нем. А у него огромные размеры, и, полумеры люто не терпя, он иногда теряет чувство меры, стремясь полнее выразить себя. Его солдаты яры и поджары. Едва дозоры скроются на миг — он тут как тут. Тогда гудят пожары. И разговор ведется напрямик. Одна вода, вода его тревожит. Она одна грозит ему бедой. Он все урегулировать не может взаимоотношения с водой. Тут он молчит. Он вынужден смиряться. Урчит печурка. Тлеет головня. И все-таки воздержимся смеяться над видимой покорностью огня.Надпись на камне Джордано Бруно
Даже в малые истины людям не сразу верится. И хотя моя истина так проста и неоспорима, но едва я сказал им, что эта планета вертится, я был тотчас же проклят святыми отцами Рима. Вышло так, что слова мои рушат некие правила, оскверняют душу и тело бросают в озноб. И стал я тогда опасным агентом дьявола, ниспровергателем вечных земных основ. На меня кандалы не надели, чтоб греб на галере, свой неслыханный грех искупая в томительном плаванье, а сложили костер, настоящий костер, чтоб горели мои грешные кости в его очистительном пламени. Я заглатывал воздух еще не обугленным ртом. Сизоватым удушливым дымом полнеба завесило. Поначалу обуглились ноги мои, а потом я горел, как свеча, я потрескивал жутко и весело. Но была моя правда превыше земного огня и святейших соборов, которыми труд мой не признан. О природа, единственный бог мой! Частица меня пребывает в тебе и пребудет отныне и присно! Остаюсь на костре. Мне из пламени выйти нельзя. Вот опять и опять мои руки веревками вяжут. Но горит мое сердце, горит мое сердце, друзья, и в глазах моих темных горячие искорки пляшут.Ледяная баллада Из старой тетради
Скоро месяц выйдет. Суля беду, он встанет с левой руки. Обдирая ладони, ползем по льду, по шершавому льду реки. (Дома, наверное, спят давно. Ставень стучит в окно.) Тень часового. Удар клинка. Ракет осторожный свет. Короткий бой, и жизнь коротка, как светящейся пули след. (Дома, наверное, спят давно. Ставень стучит в окно.) А глаза бойца затянуло льдом, и рука холодна, как лед. Похоронная – это будет потом, нескоро она придет. (Дома, наверное, спят давно. Ставень стучит в окно.)«Промельк мысли. Замысел рисунка…»
Промельк мысли. Замысел рисунка. Поединок сердца и рассудка. Шахматная партия. Дуэль. Грозное ристалище. Подобье благородных рыцарских турниров — жребий брошен, сударь, нынче ваш выбор – пистолеты или шпаги. (Нотные линейки. Лист бумаги. Кисточка. Палитра. Карандаш. Холст и глина. Дерево и камень.) Сердце и рассудок. Лед и пламень. Страсть и безошибочный расчет. Шахматная партия. Квадраты белые и черные. Утраты все невосполнимее к концу Сердце, ты играешь безрассудно. Ты рискуешь. Ты теряешь в темпе. Это уже пахнет вечным шахом. Просто крахом пахнет, наконец. А рассудок – он играет точно (ход конем – как выпад на рапире!), он, рассудок, трезво рассуждает, все ходы он знает наперед. Вот он даже пешку не берет. Вот он даже сам предупреждает: что вы, сударь, что вы, так нельзя, шах, и вы теряете ферзя — пропадает ваша королева!.. Но опять все так же где-то слева раздается мерный этот звук — тук да тук, и снова – тук да тук (сердце бьется, сердце не сдается), тук да тук, все громче, тук да тук (в ритме карандашного наброска, в ритме музыкального рисунка, в ритме хореической строки) — чтоб всей силой страсти и порыва, взрыва, моментального прорыва, и, в конце концов, ценой разрыва победить, рассудку вопреки!Птицы в Кишиневе
В Кишиневе, зимой, а точней говоря – в декабре, я внезапно услышал, как птицы поют на заре. Где-то снег порошил, и морозы в ту пору крепчали, а у нас под окошком по-летнему птицы кричали. Приходили ко мне, по карнизу смешно семеня, и стучали в окно, и пораньше будили меня. Ах, как птицы галдели! Нисколько они не смущались. И мои представленья о времени года смещались. Все не верилось мне, что в разгаре зимы, в декабре, могут птицы, совсем как в июне, кричать на заре. – Что вы, птицы? – я спрашивал. – Что вы затеяли, птицы? Разве нету у лета границы, где стынут криницы, где грачи не кричат, где мороз продирает галчат? Разве нету у лета границы, где птицы молчат? — Со своей высоты, проявляя ко мне снисхожденье, отвечали мне птицы: – Понятно твое заблужденье! Лишь одно неприятно – что ты недоверчивым стал: даже нам, даже птицам, ты верить уже перестал! Ну, а есть ли у лета граница? Едва ли, едва ли. Просто лето зимою хранится в глубоком подвале. Где-то в темном подвале хранится оно, как вино. Если хочешь – услышишь, как бродит и дышит оно!.. — Так сказали мне птицы. Но, в зимнюю веря погоду, за стеной уже елку готовили к Новому году и охапками целыми вату носили домой, клали вату на ветки, довольны своею зимой. Я не ватному снегу – я птицам веселым поверил. И сейчас же откуда-то ветер июньский повеял, и трава поднялась, и тутовник зацвел во дворе… Вот что было со мной в Кишиневе зимой в декабре.«К птичьему прислушиваюсь крику…»
К птичьему прислушиваюсь крику. Вижу только море вдалеке. Море ходит. Море пишет книгу. Книгу о себе. О старике. Сети. Сеть ошибок. Сеть сединок. Медленно стихающий прибой. Что такое старость? Поединок. С берегами. С временем. С судьбой. Днища рассыхаются у лодок. Черный борт ракушками оброс. Призрачность улова. Сеть уловок. Кто кого? Неведомо. Вопрос. Как в корриде, перед мордой бычьей. Та же несущественность улик. Быть с добычей – или стать добычей. Только это. Выбор невелик. Только это. Прочее – подробности. Этим и подробности полны. Ощущенье краткости и дробности. Напряженной сжатости волны. Только волны. Волны, за которыми набегают волны, в свой черед. Это все подчеркнуто повторами. Взад-вперед. И снова – взад-вперед. Белый – синий. Белый цвет и синий. Дни и годы. Годы и века. Та же повторяемость усилий. То же повторение рывка. Поплавок неверен и обманчив. По воде расходятся круги. И тогда на свет выходит мальчик. Он глядит на свет из-под руки. Сети. Сеть ошибок. Сеть сединок. Слабенькая детская рука. Вьется леска. Длится поединок. Лишь вода – темна и глубока.Как отдыхает вино
Знаете, как отдыхает вино? Сорок дней и ночей, погруженное в сон, то бормочет оно, то вздыхает. Винодел на дубовые бочки глядел и почтительно так говорил винодел: – Здесь вино отдыхает! Тише, тише! Здесь дремлет языческий бог! Молодой и веселый языческий бог в тесной люльке дубовой вздыхает. До чего ж ему крепко намяли бока! Он еще им покажет себя, а пока он в покоях своих отдыхает. Беспокойные сны его так неясны — сорок дней и ночей он какие-то сны непонятные видит. Но однажды, презрев этот сонный покой, он о днище дубовое двинет ногой и на улицу выйдет. У него вся рубаха расшита огнем, и высокая черная шапка на нем из бараньего меха. Как швырнет он о землю ее сгоряча и пойдет по дорогам бродить, гогоча и шатаясь от смеха. Приступая к язычески щедрым дарам, будут жирных баранов колоть по дворам, и под окнами, шуму наделав, он пройдет, выгибая насмешливо бровь, ощущая, как бьется в нем крепкая кровь виноградарей и виноделов. А пока в погребах ему зреть – в погребах, где дощатый настил виноградом пропах, он лежит до поры, отдыхает. Тише, тише! Здесь дремлет языческий бог. Молодой и веселый языческий бог в тесной люльке дубовой вздыхает.Женщина, которой ничего не нужно
Что вы с собой делаете? Что вы себе думаете? Ничего не делаете. Ни о чем не думаете. Пусто засыпаете. Пусто просыпаетесь. Да и то лишь кажется, будто просыпаетесь. В накуренном зеркале – ваши руки дремлющие, ваши губы дремлющие, ничего не требующие. И кровать спальная – будто место лобное. Что-то в груди треснуло. Что-то в душе лопнуло. Под упругим свитером все мертво-мертвенно. Сигарета с фильтром дымит, дымит медленно. А много ли истрачено того тепла женского? Давно война кончена, и спросить не с кого. А вы все боль копите, в вине горе топите — то ли горе топите, то ли в море тонете. Тонете, тонете, уже не просыпаетесь, и лишь на дне снится вам, что вы просыпаетесь.«Вот мною не написанный рассказ…»
Вот мною не написанный рассказ. Его эскиз. Невидимый каркас. Расплывчатые контуры сюжета. А самого рассказа еще нет, хотя его навязчивый сюжет давно меня томит, повелевая — пиши меня, я вечный твой рассказ, пиши меня (и это как приказ), пиши меня во что бы то ни стало!.. Итак, рассказ о женщине. Рассказ о женщине, которая летала, и был ее спасительный полет отнюдь не цирковым аттракционом, а поиском опоры и крыла в могучем поле гравитационном земных ее бесчисленных тягот… Таков сюжет, уже который год томящий мою душу неотступно — не оттого ль, что, как сказал поэт, я с давних пор, едва ль не с детских лет, непоправимо ранен женской долей, и след ее, как отсвет и как свет, как марево над утренней рекою, стоит почти за каждою строкою, когда-либо написанною мной?.. Таков рассказ. Его сюжет сквозной. О чем же он? О женщине. Одной. (И не одной.) Навязчивый сюжет, томящий мою душу столько лет, неумолимо мне повелевая — пиши меня, я вечный твой рассказ, пиши меня (не просьба, а приказ), я боль твоя, я точка болевая!.. И я пишу. Всю жизнь его пишу. Пишу, пока живу. Пока дышу. О чем бы ни писал — его пишу, ни на мгновенье не переставая.Рубеж Из старой тетради
Травка в окопе жесткая и шершавая. Летное небо, невыносимо синее. Пьем скупыми глотками болотную воду ржавую, и от этого жажда становится невыносимее. А ведь есть где-то реки (то ли Волга, а то ли Висла), вода родниковая зябкая, как ветер рассвета. Но раскаленное солнце над нами повисло и снижается медленно, как осветительная ракета. А она смеется над нами – вода без меры и счета. Стороной идут облака, черные и горбатые. Раненый просит воды, поминая бога и черта, но раскаленное солнце медленно, медленно падает. И когда мы вылазим на бруствер, и бежим по песку прибрежному, и немцы бросаются вплавь, не надеясь на нашу милость, чувствую я, что солнце висит над нами по-прежнему, но что-то такое в мире переменилось. Это воде возвращается ее изначальная ценность. Волны зализывают кровь на песке и следы. И мир, на части разрозненный, вновь обретает цельность и вновь состоит из простых вещей – из солнца, земли, воды.«Не там, где сходятся…»
Не там, где сходятся, где встреча и на ромашках ворожат, где, губ не пряча, не переча, уже собой не дорожат, — совсем не там, а много позже есть час, незнаемый тобой, где две судьбы, еще не схожих, одной становятся судьбой. А до того, в горах плутая, на крутизну, под облака тебя ведет тропа крутая, не проторенная пока. Секут дожди и почву месят, грозя обвалами камней. …Который год, который месяц иду к тебе, а ты ко мне. О, как тропа моя извита, и ты на ней в иные дни то вдруг теряешься из виду, а то — лишь руку протяни. И снова пропасть под ногами непостижимой глубины, и равнодушными снегами мы, как стеной, разделены. В пути застигнуты пургою. С дороги сбились. Но весной все начинается другою, неповторимой новизной. И я смеюсь над буревалом, где страх меня одолевал, где я грустил, за перевалом увидев новый перевал. Ломая кромку ледяную, опять бежит моя тропа туда, где сходится вплотную с твоей судьбой моя судьба.«Моя любовь к тебе – как горная вершина…»
Моя любовь к тебе – как горная вершина или волна солоноватая морская. Все, чем я жил и чем живу, она вершила, ни на минуту от себя не отпуская. Я видел, как она растет и как шагает, то сокрушительна, а то нетороплива. Она то стужей леденит, то обжигает, пора прилива у нее, пора отлива. Она не бросит ни за что, но и не просит бежать за ней, когда за дверью непогода. Она раскинется тайгой, где нету просек, а то прикинется рекой, где нету брода. А ты все так же дорожишь лишь небом синим. Зачем ты веришь в эту ложь, не понимаю, и так растерянно дрожишь под небом зимним, и так испуганно живешь от мая к маю.«С мокрой травы в лесу…»
С мокрой травы в лесу стряхиваю росу. Хочешь, стихотворенье из лесу принесу? В комнате, еще темной, чмокнешь во сне губами. Земляникою пахнет теплой? Сеном? Или грибами? Где-то кузнец стрекочет, травинка щеку щекочет — тебя разбудить от солнца стихотворенье хочет. А ты все не просыпаешься, все ты не просыпаешься, одними губами сонными медленно улыбаешься: «Что, мол, опять за шалости? Нет в тебе, видно, жалости! Где же черты солидности, признаки возмужалости?..» Все это знаю издавна – не к чему повторенье. Тихо выходим из дому – я и стихотворенье. Мутную тишь дремотную ранняя птаха будит. Нет у меня солидности, видимо – и не будет. Дачу еще не выстроил, не обзавелся чином. Толстую палку выстрогал ножиком перочинным. Иду не спеша, помалкиваю, палкой своей помахиваю, с мокрой травы в лесу стряхиваю росу.«He бойся явных – бойся тайных тюрем…»
He бойся явных – бойся тайных тюрем. В одну из них тебя еще заманят. Застенчивыми шторами и тюлем решетки откровенные заменят. А там шкафы, насупленные, строже, чем стражники, глядящие из мрака. А там слоны поставлены, как стражи, на подписные томики Бальзака. Крепка тахта, окованная плюшем, — как в прочности семейной заверенье. …Приходим в гости. Ужинаем. Пляшем. Благодарим хозяйку за варенье. От музыки подрагивает горка, поставленная в узенький простенок. О, сладкое варенье! О, как горько от медленно играющих пластинок! О, ханжество тюремного комфорта, где пахнет прошлогоднею сиренью и газовая высится конфорка, как памятник забытому горенью! Похвальность добродетельности верной — не все равно ли, с милым ли, не с милым! …А на углу уже торгуют вербой. Она тревожит запахом несмелым. Она бела, как твой домашний кафель. Две ветки покупаю наудачу и, маленькие, влажные от капель, несу в твою тюрьму, как передачу.«Лес лопочет у окна…»
Лес лопочет у окна в полудреме. Женщина живет – одна в чужом доме. Дом не брошен, не забит. Войди в сени — и почувствуешь: забыт, забыт всеми. Полумрак и тишина, ничего кроме. Женщина живет – одна в чужом доме. На диване дремлет кот ожирелый. Муж ей дарит в Новый год ожерелье. Он ей много покупал, много купит. Тянутся к ее губам его губы. Занавешено окно, постель постлана. Все вокруг занесено. Уже поздно. Лес бормочет у окна в ночной дреме. Женщина живет – одна в чужом доме.«Как медленно тебя я забывал!..»
Как медленно тебя я забывал! Не мог тебя забыть, а забывал. Твой облик от меня отодвигался, он как бы расплывался, уплывал, дробился, обволакивался тайною и таял у неближних берегов — и это все подобно было таянью, замедленному таянью снегов. Все таяло. Я начал забывать твое лицо. Сперва никак не мог глаза твои забыть, а вот забыл, одно лишь имя все шепчу губами. Нам в тех лугах уж больше не бывать. Наш березняк насупился и смолк, и ветер на прощанье протрубил над нашими печальными дубами. И чем-то горьким пахнет от стогов, где звук моих шагов уже стихает. И капля по щеке моей стекает… О, медленное таянье снегов!Румынские цветы Из старой тетради
Пропыленные клены и вязы. Виноградные лозы в росе. Батальоны врываются в Яссы и выходят опять на шоссе. Здесь история рядом творится. И, входя в неизбежную роль, нас державные чествуют лица и приветствует юный король. Сквозь цветы и слова величальные мы идем, сапогами пыля, и стоят генералы печальные за спиной своего короля. Астры падают справа и слева, и, холодные хмуря черты, напряженно глядит королева на багровые эти цветы.«К морю стремился…»
К морю стремился, морем дышал на юге. Но когда мое сердце слушать начнут врачи — они услышат отчетливо посвист вьюги и голос филина, ухающего в ночи. Бьет кабарга копытцами дробно-дробно. Бьется над логом сохатого трубный зов. Это Сибирь в груди моей дышит ровно всей протяженностью древних своих лесов. Это во мне снега по весне не тают и ноздреватый наст у краев примят. Птицы Сибири в груди у меня летают. Реки Сибири в крови у меня гремят. Это во мне медведи заводят игры, грузно кряжи качаются на волне. Ветер низовый. Кедры роняют иглы. Хвойные иглы – это во мне, во мне. Это во мне поднялся и не стихает ветер низовый, рвущийся напролом. Смолка по старой лиственнице стекает. Бьет копалуха раненая крылом. Я ухожу из вьюги, из белой вьюги. Лодка моя качается на волне. Еду куда-то. Морем дышу на юге. Белые вьюги глухо гудят во мне.«Где-то в городе белом…»
Где-то в городе белом, над белой рекой, где белеет над крышами белыми дым и от белых деревьев бело — в этот час по ступеням, как горы, крутым, как его пролетевшие годы, крутым, поднимается он тяжело. Он в передней привычно снимает пальто, и никто не встречает его, и никто с ним не делит его вечеров. Здесь когда-то его обнимала жена, а теперь обнимает его тишина этих белых, как снег, вечеров. А на двери – железная ручка звонка и железные буквы – над ручкой звонка полукругом – «Прошу повернуть!». А друзьям недосуг – не звонят, не стучат, и весь вечер железные буквы кричат: повернуть! повернуть! повернуть! Надо срочно по улицам белым бежать, поскорее заставить звенеть, дребезжать позабытый друзьями звонок. Второпях пробегаем знакомый звонок, а потом покупаем в складчину венок, а всего-то был нужен звонок.«Как я спал на войне…»
Как я спал на войне, в трескотне и в полночной возне, на войне, посреди ее грозных и шумных владений! Чуть приваливался к сосне – и проваливался. Во сне никаких не видал сновидений. Впрочем, нет, я видал. Я, конечно, забыл – я видал. Я бросался в траву между пушками и тягачами, засыпал, и во сне я летал над землею, витал над усталой землей фронтовыми ночами. Это было легко – взмах рукой, и другой, и уже я лечу (взмах рукой!) над лугами некошеными, над болотной кугой (взмах рукой!), над речною дугой тихо-тихо скриплю сапогами солдатскими кожаными. Это было легко. Вышина мне была не страшна. Взмах рукой, и другой – и уже в вышине этой таешь. А наутро мой сон растолковывал мне старшина. – Молодой, – говорил, – ты растешь, – говорил, – оттого и летаешь… Сны сменяются снами, изменяются с нами. В мягком кресле с откинутой спинкой и белым чехлом я дремлю в самолете, смущаемый взрослыми снами об устойчивой, прочной земле с ежевикой, дождем и щеглом. С каждым годом сильнее влечет все устойчиво – прочное. Так зачем у костра-дымокура, у лесного огня, не забытое мною, но как бы забытое, прошлое голосами другими опять окликает меня? Загорелые парни в ковбойках и в кепках, упрямо заломленных, да с глазами, в которых лесные костры горят, спят на мягкой траве и на жестких матрацах соломенных, как убитые спят и во сне над землею парят. Как летают они! Залетают за облако, тают. Это очень легко – вышина им ничуть не страшна. Ты был прав, старшина: молодые растут, оттого и летают. Лишь теперь мне понятна вся горечь тех слов, старшина! Что ж я в споры вступаю? Я парням табаку отсыпаю. Торопливо ломаю сушняк, за водою на речку бегу. Я в траве молодой (взмах рукой, и другой!) засыпаю, но уже от земли оторваться никак не могу.Вдовы
Как части гарнизона, погибшего за Брест, — бессменно и бессонно несут они свой крест. Без жалобы и вздоха, грядущему на суд, тебе на суд, эпоха, свой крест они несут. Давно ушли мужчины от этих берегов. Оставили морщины. Оставили врагов. Оставили негусто, уйдя в небытие. Нетленное искусство. Бессмертие свое… Бессмертные романы. Посмертные листы. А между тем карманы — пусты они, пусты. Но вечно ждать готовы — всё ждут, что позовут, — седеющие вдовы надеждою живут. Всё верят, что воздастся за совесть и за честь. Что рукопись издастся, и смогут все прочесть. И что один приятель, им преданный навек, талантливый ваятель, но бедный человек, украсит ту могилу, тот холмик некрутой, надгробною фигурой, гранитною плитой… Посмертная страница. Бессмертная строка. Но все это хранится в безвестности пока. Но вечно ждать готовы, всё ждут, что позовут, — седеющие вдовы надеждою живут. О Живут, свое отплакав. Глотают стужу ртом. Платонов и Булгаков, мы встретимся потом. Минуты этой ради хранят они года те общие тетради их общего труда. Хранят светло и нежно, и всё у них в былом. Но вера и надежда сидят за их столом.Словно книга… Из старой тетради
Словно книга, до дыр зачитанная, гимнастерка моя защитная. Сто логов ее прочитали. Сто ветров над ней причитали. Сталь от самого от начала строчку каждую отмечала. И остались на ней отметки то от камня, а то от ветки, то от проволоки колючей, то от чьей-то слезы горючей. А она все живет, не старится. Я уйду, а она останется, как та книга, неброско изданная, но в которой лишь правда истинная, и суровая, и печальная, грозным временем отпечатанная.«По лужам бродили…»
По лужам бродили, едва лишь снега растаяли. Равнодушно слушали ручья торопливую речь. Во семнадцатилетние, воду ни в грош не ставили, к двадцати годам научились ее беречь. И бывало невесело безусому воинству. Дрожал на донышке фляги глоток последний. Зато научились оценивать по достоинству и флягу, и реку, и дождик летний… Рекам студеным, лесным родникам не изменим. Память о них благодарную сохраняем. С малой росинкой дружим и каплю ценим. Слез не роняем на ветер, слез не роняем.«Обманчива неправды правота…»
Обманчива неправды правота. Она – как та стоячая вода. Она прозрачной может быть, о, да, но течь она не может никуда. Я эту воду пил. Я молод был. Была такая жажда у меня! Она сама приказывала: пей! Ты не глупей и не умней других. Скрипел песок на молодых зубах, и на губах откладывался ил, но я сквозь марлю воду не цедил, я чистой находил ее и так. В ней плавал неба синего кусок. Он был высок. Он только узок был. Я честно пил. Немалый срок прошел все на зубах моих песок скрипит.«Стало многое изменяться…»
Стало многое изменяться — видно, было, что изменять. Стали многие извиняться, не привыкшие извинять. Люди сразу и подобрели, Обретая свои права, распрямляются, как в апреле оживающая трава. Стали меркой иною мерить, без опаски вступают в спор. Стали больше поэтам верить, чего не было до сих пор. И глазами глядят другими на открывшееся вокруг — были маленькими такими, великанами стали вдруг. Распаляются, как вулканы, выражают мненья свои… Ах вы, грозные великаны! Ах вы, маленькие мои!«В это жаркое время года…»
В это жаркое время года слишком тихого дня не жди. Грозовая стоит погода. Грозовые идут дожди. Словно боги под облаками восседают на облуках. Стопудовыми каблуками кто-то топает в облаках. Я стою под гудящим сводом. Вышибает из глаз слезу. Не желаю громоотводом отводить от себя грозу. Я на всё, что имею, годы оставляю вас за собой, грозовые мои погоды, воздух утренний грозовой. Белой молнии отраженье наполняет мои глаза. Здравствуй, высшее напряженье Принимаю тебя, гроза!«Приближаясь к спокойному устью…»
Узнаю тебя, жизнь, принимаю…
Приближаясь к спокойному устью, оставляя все дальше исток, иногда с неосознанной грустью календарный срываю листок. Я с непрожитых чисел снимаю отслужившее службу число, будто парус рукой поднимаю, заношу над водою весло. И несут меня быстрые воды, только веслами крепче ударь, — и смещаются даты и годы, и летит со стены календарь. Ты узнай меня, мама родная! Это я, в гимнастерку одет, прохожу от Днепра до Дуная и старею на тысячу лет. Я усы фронтовые не брею. В них впитался махорочный дым. Я мужаю, взрослею, старею и опять становлюсь молодым. Засыпаю при сполохах красных. Прохожу в перекрестном огне. И как будто два возраста разных по-соседски ужились во мне. Так живут в сочетании света и осенней лесной полутьмы все приметы недавнего лета и предчувствие близкой зимы. Будет вьюга. Ах, зимняя вьюга, у тебя не отнимешь права! Но за вьюгой, легка и упруга, пробивается к солнцу трава. Может, больше мой снег не растает, но жалеть ни о чем не могу. Пусть другая трава вырастает, перед той не оставшись в долгу. Я глаза к небесам поднимаю. Заношу над водою весло. Не тужу ни о чем, понимаю, по каким меня рекам несло.«Все сущее мечено временем…»
Все сущее мечено временем. А вот замечается вновь, что время рифмуется с бременем, с любовью соседствует кровь. Старинные связи не сломлены и медленно сходят на нет — так прочно они обусловлены всем опытом прожитых лет. Нам годы минувшие помнятся, не так наша память слаба. А все же смотрите, как полнятся значением новым слова. Иные уходят в предание, иные лишь стали верней. Я в будущем вижу братание не схожих по виду корней. Надежными узами связаны, сроднившись на все времена, там пальмы рифмуются с вязами, с планетою нашей – луна. И больше не кажется странностью, – то детям известно давно, — что время рифмуется с радостью, что людям созвучно добро.«Я хочу доставлять вам радость…»
Я хочу доставлять вам радость. Ну а как доставлять вам радость? А может, себя однажды почувствовать почтальоном, несущим тяжелый груз? И вот я себя однажды почувствовал почтальоном, несущим тяжелый груз. С грузом моим тащусь по городу, маюсь. Не на троллейбусе езжу – хожу пешком. Лифт у вас не работает – я поднимаюсь на пятый этаж, на десятый этаж пешком. Моя сумка наполнена вашими адресами. Поднимаюсь по лестницам, как в заоблачные края. Ну, а если хотите – приходите на почту сами: там окошки от А до К и от Л до Я. Отделеньям связи прикажу, чтоб были готовы. Никаких чтоб заминок не было и толчеи. Старенькие матери и солдатские вдовы, предъявите в окошко просто морщины свои! А я в этот час по Трубной иду, по Сретенке. Ноет плечо от кожаного ремня. И почтовые ящики, эти замкнутые посредники, смотрят глазами ждущими на меня. Хлопайте, ящики! Звонки на дверях, звените! День только начался. Мне ходить еще и ходить. Порой я еще запаздываю – извините. Но я постараюсь вовремя приходить.Земное небо (1963)
…Но землю с небом, умирая, он все никак связать не мог.
Езда в незнаемое
Никогда не наскучит езда в незнаемое. Днем и ночью идут поезда в незнаемое. Кто-то молча табак у окна раскуривает. Кто-то шумно бутылку вина раскупоривает. Кто-то пишет письмо, где клянется в верности. И на всем – загадочный отблеск вечности. Это грустное дело – езда в незнаемое. Ведь не каждый приедет туда, в незнаемое. Кто-то ночью сходит на тихой станции и уже остается на этой станции. Полыхает небо в туманной млечности. И на всем – обманчивый отблеск вечности. Но прекрасное дело – езда в незнаемое! За какой-то березкой, давно знакомою, в тишине открывается вдруг незнаемое — неизвестное, странное, незнакомое. Осторожно вглядываемся в незнакомое, будто видим что-то в нем незаконное. А оно все ширится, незнакомое, еще в рамки привычности не закованное. О, сигнал отправления! Ветер скорости. Вечный путь от скованности к раскованности. Обновление жизни. Езда в незнаемое. Покатилась где-то звезда в незнаемое. Никакой законченности и увенчанности. Только этот незыблемый отблеск вечности.Мое поколение
И убивали, и ранили пули, что были в нас посланы. Были мы в юности ранними, стали от этого поздними. Вот и живу теперь – поздний. Лист раскрывается – поздний. Свет разгорается – поздний. Снег осыпается – поздний. Снег меня будит ночами. Войны мне снятся ночами. Как я их скину со счета? Две у меня за плечами. Были ранения ранние. Было призвание раннее. Трудно давалось прозрение. Поздно приходит признание. Я все нежней и осознанней это люблю поколение. Жесткое это каление. Светлое это горение. Сколько по свету кружили! Вплоть до победы – служили. После победы – служили. Лучших стихов не сложили. Вот и живу теперь – поздний. Лист раскрывается – поздний. Свет разгорается – поздний. Снег осыпается – поздний. Лист мой по ветру не вьется – крепкий, уже не сорвется. Свет мой спокойно струится – ветра уже не боится. Снег мой растет, нарастает – поздний, уже не растает.Мои возраст
Не такой я и старый. А выходит, что старый. Сколько в жизни я видел? Много разного видел. Я дружил еще с лампой, с керосиновой, слабой. Был тот свет желтоватый, как птенец желторотый. Разбивались безбожно трехлинейные стекла. А достать было сложно эти хрупкие стекла. Нас за стекла наказывали. Нас беречь их обязывали. Их газетой оклеивали. Или ниткой обвязывали. Как давно это было! А давно ли то было? А когда ж электричество вдруг меня ослепило? А приемник детекторный? А экран звуковой? Самый первый, с дефектами, но уже звуковой. Вот настолько я старый, хоть не так уж и старый. Все во мне уместилось, улеглось, умостилось. Керосиновой лампы трехлинейные меры. Электронные лампы на орбите Венеры.Кое-что о моей внешности
Я был в юности – вылитый Лермонтов. Видно, так на него походил, что кричали мне – Лермонтов! Лермонтов! на дорогах, где я проходил. Я был в том же, что Лермонтов, чине. Я усы отрастил на войне. Вероятно, по этой причине было сходство заметно вдвойне. Долго гнался за мной этот возглас. Но, на некий взойдя перевал, перешел я из возраста в возраст, возраст лермонтовский миновал. Я старел, я толстел, и с годами начинали друзья находить, что я стал походить на Бальзака, на Флобера я стал походить. Хоть и льстила мне видимость эта, но в моих уже зрелых летах понимал я, что сущность предмета может с внешностью быть не в ладах. И тщеславья – древнейшей религии — я поклонником не был, увы. Так что близкое сходство с великими не вскружило моей головы. Но как горькая память о юности, о друзьях, о любви, о войне, все звучит это – Лермонтов! Лермонтов! — где-то в самой моей глубине.Земля
Я с землею был связан немало лет. Я лежал на ней. Шла война. Но не землю я видел в те годы, нет. Почва была видна. В ней под осень мой увязал сапог, с каждым новым дождем сильней. Изо всех тех качеств, что дал ей бог, притяженье лишь было в ней. Она вся измерялась длиной броска, мерам давешним вопреки. До второй избы. До того леска. До мельницы. До реки. Я под утро в узкий окопчик лез, и у самых моих бровей стояла трава, как дремучий лес, и, как мамонт, брел муравей. А весною цветами она цвела. А зимою была бела. Вот какая земля у меня была. Маленькая была. А потом эшелон меня вез домой. Все вокруг обретало связь. Изменялся мир изначальный мой, протяженнее становясь. Плыли страны. Вился жилой дымок. Был в дороге я много дней. Я еще деталей видеть не мог, но казалась земля крупней. Я тогда и понял, как земля велика. Величественно велика. И только когда на земле война – маленькая она.Мое воскресение
А как я умирал на железной койке, молодой, со вспоротым животом! Оказалось, что это сначала – горько, но совсем спокойно было потом. Я лежал в проходе, под мягким светом, и соседи, сгрудившиеся у моих ног, «Не жилец!» – твердили. Но я об этом ничего, разумеется, знать не мог. Я лежал в бреду и, сдаваясь бреду, рассуждал на исходе второго дня: в той стране печальной, куда я еду, есть друзья хорошие у меня. И по мере того, как сознанье гасло где-то в темных глубинах, на самом дне, на душе у меня становилось ясно и спокойствие разливалось по мне. Мне казалось – в светлом высоком зале моего пришествия ждут друзья… Умирал я. В тот вечер врачи сказали, что уже помочь тут ничем нельзя. Но я молод был. Я был юн. Я выжил. Был сужден мне, видно, иной удел. Опираясь на палку, я в город вышел. Я другими глазами на мир глядел. Я забвенью предал его пороки. Я парил над богом и над людьми. Все философы мира и все пророки мне казались маленькими детьми.Флаги
Годы людей стирают. Плачут они, стенают. А люди живут как люди. А люди белье стирают. Подсинивают его синькой. Крахмалят его крахмалом. Развешивают над землею фамильные свои флаги. И вот на жердях забора, над зеленью косогора, висят штаны Пифагора или трусы Платона. И ветер его трусами играет, как парусами. И это не обедняет – это объединяет. О, дворники и министры, как схожи у вас надежды! Как схожи у вас одежды, монахи и атеисты! Стекают капельки влаги с сорочек и комбинаций, и вьются они, как флаги объединенных наций.Смерть
Я давно знаю, что, когда умирают люди и земля принимает грешные их тела, ничего не меняется в мире – другие люди продолжают вершить свои будничные дела. Они так же завтракают. Ссорятся. Обнимаются. Идут за покупками. Целуются на мостах. В бане моются. На собраньях маются. Мир не рушится. Все на своих местах. И все-таки каждый раз я чувствую – рушится. В короткий миг особой той тишины небо рушится. Земля рушится. И только не видно этого со стороны.Ожиданье
В мирозданье, как в зданье пустом, — ни огня и ни звука. Эй, хоть кто-нибудь там, отзовитесь! Вы уснули, должно быть? Или просто уехали все по туманным шоссе на серебряных велосипедах — погулять, побродить по окрестным туманностям? На рыбалку ушли, на охоту, окончив работу в субботу, — на весь выходной? Завтра вечером вы возвратитесь домой с золотыми огромными рыбами и с охапками синих цветов. Вы забросите удочки в угол, поставите в банки цветы и положите рыб в холодильник. А потом заведете будильник на восемь и ляжете спать, чтобы вдруг не проспать на работу. Я стою в ожиданье, когда вы вернетесь домой, побродив по окрестным лесам. Очень долгим он кажется, ваш выходной, по земным моим быстрым часам!Бип-бип
Я сказал бип-бип, и вы уже поняли, что я имею в виду. Ракеты в небо ночное подняли маленькую звезду. А чужая планета, как шарик, вертится, мигает вдали, зовет. С детства хочется, с детства верится: кто-нибудь там живет. Это свойственный человечеству, нашей крови земной, с дней колыбели – страх одиночества, только масштаб иной. И я швыряю гудящим мячиком в полночные небеса. И он там бредет одиноким мальчиком сквозь сумрачные леса. Он пробирается черной чащею, черную мнет траву и в чащу, в ее темноту молчащую, громко кричит: – Ау! — А тьма кромешная все не кончится. А лес-то непроходим. А мы не верим, а нам не хочется – одиночества не хотим. В звезду оранжевую и в зеленую вглядываясь, зову. Как маленький мальчик, на всю Вселенную громко кричу: – Ау!У радиоприемника
Чертов ящик, моя страсть и наказанье! А не выключу, и лучше не проси! Только шорох, только легкое касанье — и пошла Земля вертеться на оси. Где дорога? Я в лесу глухом затерян. Сколько раз пытался выбраться – не мог. Вижу терем деревянный. Что за терем? Кто живет в тебе, о терем-теремок? В трех оконцах освещенных ветры свищут. Настежь ставенки, да двери на замках. Я в лесу глухом затерян. Меня ищут. Окликают – всё на разных языках. Окликают, суетятся бестолково, голоса их не умею различать. Заглушить один старается другого, каждый хочет остальных перекричать. Убеждают. Осуждают. Негодуют. То хулят меня, то пряник мне сулят. Я затерян в океане. Ветры дуют. Сорок ветров мою душу веселят. Сорок ветров – то синицей, то сиреной. Три фонарика, три маленьких огня. Я песчинка. Я затерян во Вселенной, и Земля никак не может без меня. Вот и плачет, и судачит бедный шарик, зажигает свой фонарик потайной, и бежит за мной с фонариком, и шарит, и зовет меня, и гонится за мной. Загорается фонарик троекратно. Бедный шарик, он выходит из себя. И тогда я говорю ему: – Ну ладно, ты не бойся, ну куда я без тебя! — И вздыхает, и бормочет, засыпая, на плечо мне свою голову клоня, одинокая планета голубая, как ребенок на коленях у меня.Ночью, за письменным столом
О сообщничество карандаша и бумаги! Ты подобно содружеству путника и дороги. А точнее – содружеству воина и равнины, где под хрупким снегом хитрые скрыты мины. О содружество карандаша и бумаги! Ты причина множества всевозможных последствий — величайших бедствий, дьявольских наваждений, человеческих озарений и заблуждений. О содружество карандаша и бумаги! Вот сидит человек. Что, безумец, берет он в руки Достает он пакетик с лезвием безопасным, и оно становится с этой поры опасным. Он опасным лезвием свой карандашик чинит. Он любовно над ним склоняется. Он колдует. Построгает слегка, пыльцу аккуратно сдует, и опять строгает, и дует, и снова чинит. Вот он в сторону отодвинул листок со стружкой. Придвигает поближе листик бумаги писчей. Тут не думай его отвлечь ни пивною кружкой, ни вином, ни женщиной, ни отборной пищей. Он исполнен сейчас решимости и отваги — ни о чем таком разговаривать он не будет. Вот его карандаш коснулся уже бумаги. Что-то будет сегодня ночью. О, что-то будет!Стихотворение, в котором появляется гусь
Годами сменяются годы. С годами меняются моды. Выходят из моды комоды, и оды выходят из моды. И вот седовласые барды несут свои перья в ломбарды, но денег ломбарды не платят за их устаревшие перья. Те перья исписаны так в угоду вчерашнему вкусу, что даже по старому курсу цена им примерно пятак. Но я не о бардах пекусь — пускай разбираются сами. А перед моими глазами проходит блистательный гусь. Нисходит он, как благодать, ко мне на окошко садится, и то, что он важная птица, по перьям легко угадать. Он весь как изящный сосуд холодного высокомерья. Он мне говорит: – Эти перья удачу тебе принесут. — И он говорит мне: – Прошу, возьми их, мне вовсе не жалко. Мне даже становится жарко, когда я их долго ношу. Бери их себе и пиши, как тот гениальный поручик, который не знал авторучек, а были стихи хороши. — Но я говорю ему: — Лгут не перья, а люди, по сути, и завтра в чугунной посуде за чванство тебя испекут. — И я говорю: – О сосуд холодного высокомерья! О гусь, твои вечные перья лжеца все равно не спасут. И дело не в перьях, о нет, а в совести, чести и вкусе. Но больше ни слова о гусе! Да, в сущности, гуся и нет. А что же касается мод, мне все-таки нравится мода, согласно с которою ода нелепа, как старый комод.Автоматы
Мне в соседство даны автоматы. Автоматы красны, как томаты. Автоматы торгуют водой. Автоматы – народ молодой. Ни унынья у них, ни печали. Их история в самом начале. У них первые как бы века, а дорога еще далека. Но ночами, когда не торгуют, о своем они чем-то толкуют. Марсианский их странен наряд, и глаза как-то странно горят. Там какие-то споры и крики. Там опасные зреют интриги. Раздается призыв к мятежу. И тогда я, как некий правитель, в пиджаке из хлопчатой бумаги под неоновый свет выхожу. Как тонка моя слабая кожа! Нет, она на металл не похожа. А под кожей — сплетение хрупких кровеносных сосудов моих. Эта кожа боится пореза, и ничтожны проценты железа в этом теле, которое весит только семьдесят пять килограмм. Но смолкают при мне автоматы. Автоматы – они трусоваты. И стоит, как щенок-попрошайка, автомат в переулке пустом: будто сахар ему показали и за это служить приказали, — вот и встал он на задние лапы и старательно машет хвостом.Человек
Человеку живется горько. У него и сервант, и горка. Есть диван, и жена под боком. А ему все выходит боком. Он в квартире своей томится. Перед ним океан дымится. Острова в океане дики. Он хотел бы плыть на Кон-Тики. Нет ни горки и ни серванта. Обстановочка серовата. Не в квартире, не на диване — человек плывет в океане. Он клянет его в бога, в душу. Он во сне уже видит сушу. Но кишит океан акулами, И дымком берега окутаны. Человека трясло, ломало — все ему, человеку, мало. Подавай ему плод запретный. Очень любит он плод запретный. Он и в тесном трамвае едет, и совсем никуда не едет — все равно он куда-то едет, все равно этим плодом бредит. Он к нему простирает руки, на губах ощущает сладость. Он не может без этой муки. Это старая его слабость.Элегия
Тихо. Сумерки. Бабье лето. Четкий, частый, щемящий звук — будто дерево рубят где-то. Я засыпаю под этот звук. Сон происходит в минувшем веке. Звук этот слышится век назад. Ходят веселые дровосеки, рубят, рубят вишневый сад. У них особые на то виды. Им смешны витающие в облаках. Они аккуратны. Они деловиты. У них подковки на сапогах. Они идут, приминая травы. Они топорами облечены. Я знаю – они, дровосеки, правы. Эти деревья обречены. Но птица вскрикнула, ветка хрустнула, и в медленном угасанье дня что-то вдруг старомодно грустное, как дождь, пронизывает меня. Ну, полно, мне-то что быть в обиде! Я посторонний. Я ни при чем. Рубите вишневый сад! Рубите! Он исторически обречен. Вздор – сантименты! Они тут лишни. А ну, еще разик! Еще разок! …И снова снятся мне вишни, вишни, красный-красный вишневый сок.«Мучительно хочется рисовать…»
Мучительно хочется рисовать. Повсюду тюбики рассовать. О, поющее, как свирель, название – акварель! Белые вижу во сне листы. Как чисты они! Как пусты! И я рисую на них лицо на тоненьких двух ногах. Оно насмешливо щурит глаз: — Ну, полно, ты ведь не рисовал! — Да, знаю, было – не рисковал, а вот захотел рискнуть. — И кисточку я опустил в стакан. Всю ночь стояла она в воде, а утром, этак часам к шести, вдруг начала расти. Пустила корни она, а там — набухли почки на ней, а там – раскинуло веточки над водой веселое деревцо. И толстые тюбики стали в круг, и начался танец, и это был танец маленьких дикарей из племени Акварель. Трубила розовая труба. Зеленый буйствовал барабан. Нес оранжевый человек солнце на голове. Дальше форменный был содом. Хлопал ставнями синий дом. Лошадь, красная, как пожар, по черной неслась траве. Но тут шагнуло под деревцо все то же действующее лицо, лицо страдающее – лицо на тоненьких двух ногах. Оно вскричало: – Порочный круг! Меня нарочно лишили рук, и я не вынесу этих мук, и я покончу с собой!.. А мне так хочется рисовать. Я буду пробовать, рисковать, и я спасу тебя, о лицо на тоненьких двух ногах! На верхней веточке деревца я нарисую тебе скворца и дам тебе четыре руки, и ты поймаешь его!Луковица Страничка из дневника
Двадцать восьмого марта утром я вышел в кухню. Чайник на газ поставил. Снег за окошком падал. В шкафчике, на газете, луковица лежала. Глупая толстая луковица. Барышня провинциальная. Но две зеленые стрелки у ней на макушке были. Две зеленые струйки фонтанчиком из нее били. Снег за окошком падал, крупка в окно хлестала. В шкафчике, на газете, луковица расцветала. Луковица на газете. Зеленая, как кузнечик. Этакий Чипполино. Луковый человечек. Чай погуще завариваю. С луковкой разговариваю. Что-то ей, видно, ведомо такое, что мне не ведомо. Свое она что-то знает. Знает, что снег растает. А снег все никак не тает. А луковица расцветает.Человек, умеющий всё
О человек, умеющий всё, имеющий две сильных руки! Он пальцем сделал дырку в земле и семечко в нее опустил. И утром того самого дня проклюнулся из дырки росток, и был он так высок, словно стог, а может быть, и больше того. И вечером того самого дня плод появился на месте том, и был он так высок, словно дом, а может быть, и больше того. Огромный плод лежит на земле, словно бы на большом столе. Тихо качается над землей огромный аэростат. О человек, умеющий все, имеющий две сильных руки! Скорей мне тайну свою открой, искусству своему научи! А он отвечает мне: – Пустяки! Тут вовсе тайны нет никакой — я пальцем сделал дырку в земле и семечко в нее опустил.Арбуз
И о том судя, и об этом — то о музыке, то о музе — что сказали б вы вот об этом — о зеленом простом арбузе? Он лежит на бахче осенней вне событий и потрясений. Он не тронут еще ножами, он как лысый толстяк в пижаме, что на юге проводит отпуск. Рядом бродят жена и отпрыск. Спит толстяк в тишине дремотной в полосатой пижаме модной… Но когда наступает вечер — он уже не арбуз. Он вечен. Никакого арбуза нету. Он похож сейчас на планету. Муравьишка шагает робко по остывшим ее вулканам. Проползает божья коровка по зеленым меридианам. Так проходит, наверно, вечность. И одна, и вторая вечность. И берет его в руки кто-то, и куда-то уносит кто-то. Переполнен тоской глубокой, он в тарелке лежит глубокой. Подступают к нему с ножами. В том числе – человек в пижаме. Он сперва постучит по коже, тронет хвостик – созрел, похоже. У него своя точка зренья. Тоже верная точка зренья.Человечек
Едет полем человечек маленький — маленький, как дождевая капелька. Конь под ним вышагивает маленький, а в руке поблескивает сабелька. — Кто, – говорит, – супротив меня, всех, – говорит, – саблей изрублю! — Вот что говорит. Я над ним склоняюсь осторожно, поднимаю очень аккуратно, опускаю на свою ладонь. На моей ладони скачет конь, человечек сабелькою машет, в трубочку подзорную глядит, отдает войскам распоряженья. Поле предстоящего сраженья под ногами многими гудит. Вот уже и утро настает. Скоро уже битва состоится. Маленькое солнце Аустерлица над долиной маленькой встает. Человечек даль обозревает, не сходя со своего коня… Человечек не подозревает, что он на ладони у меня.Кораблик
Б. Окуджаве
Весною мир – красочный. Весною он – сказочный. В листве грачи возятся. В ручьях сказки водятся. А в сказки я – верую. Я ветку взял вербную. Спрошу в бюро адресном: — А где живет Андерсен? Девчонка в бюро адресном по случаю дня вешнего глядит на меня радостно, мне отвечает вежливо: – Идите по Светлой улице, а после – по Теплой улице. Там во дворе – лужица. Над нею белье сушится. Зяблик над ней кружится. Кораблик по ней плавает. Кораблик тот – маленький, бумажный он, беленький. В кораблике том маленький сидит муравей, бедненький. Садитесь и вы как следует. Как раз он туда и следует. И я поплыла б с охотою — но я до пяти работаю… И я на прощанье девочке дарю половину веточки. Потом я иду по адресу, в кораблик сажусь маленький. В гости плыву к Андерсену. Со мной – муравей маленький. Над нами идут лошади. Как тучи они, черные. Над нами вверху троллейбусы. Как горы они, страшные. А небо в ручьях – синее. Течение в них – сильное. Скалы торчат острые. Радуги висят пестрые. Кораблик бежит – маленький. Бумажный он, беленький. Держись, мой дружок маленький, мой муравей бедненький!Портрет
Черной краской на бумаге ватманской мой портрет нарисовала девочка. Смотрят на портрет мои знакомые, говорят: – Ну просто замечательно! А с портрета я смотрю растерянно. У меня усы висят обиженно. Руки мои черные раскинуты — я стою, как ветряная мельница. Ничего в портрете нет случайного. Просто дети очень наблюдательны. Что за простодушье и доверчивость в этой милой их неискушенности! Акварелью рисовала девочка все, что она видела и слышала. Короля нарисовала голого, на редиску красную похожего. Дурака нарисовала круглого с головою маленькой, как пуговка. Человека грустного и странного, что руками машет, словно мельница. Все восхищены рисунком девочки, кистью ее зоркою и дерзкою, признаком искусства настоящего — этой непосредственностью детскою.Зачем дураку море
Подарили дураку море. Он потрогал его. Пощупал. Обмакнул и лизнул палец. Был соленым и горьким палец. Тогда в море дурак плюнул. Близко плюнул. Подальше плюнул. Плевать в море всем интересно. Дураку это даже лестно. Но устал он. И скучно стало. Сел дурак на песок устало. Повернулся спиной к прибою. Стал в лото играть. Сам с собою. То выигрывает, то проигрывает. На губной гармошке поигрывает. Проиграет дурак море!.. А зачем дураку море? С деревянным домом живу в ладу. Собираю хворост и в печь кладу. За водой иду и варю еду из картошки да из крупы. А потом я корни ищу в лесу. А потом я корни домой несу, чтобы там разобраться в них. А старательный дятел – всё тук да тук. А сосна надо мною – всё скрип да скрип. И стоит сыроежка, печальный гриб, дурачок на одной ноге… Вот ушел я от суеты сует. Ни о чем душа моя не болит. Телефонный мой торопливый быт где-то в прошлом – как неолит. Там под слоем пыли молчат часы. Там лежит в беспамятстве календарь. Телефонная трубка на рычаге, как удавленница, висит. А в лесу стоит деревянный дом и летит, как бабочка, желтый лист. Сыроежка, недальновидный гриб, хочет сам себя обмануть.Снег этого года
Из подъезда – и сразу в метель. Задохнуться от быстрого бега. В лебединое озеро снега, в суматошную ту канитель. Только нынешний снег – не такой. Он идет мимо нас виновато. Он лежит, как больничная вата, и блестит, как приемный покой. Он смыкается, как западня. Он спешит, как великий ученый, тот помешанный, тот обреченный, обрекающий вас и меня. Человечество сходит с ума. Этот снег – он идет, как расплата. Оседают крупицы распада на дворы, фонари и дома. Осторожней, на улице снег! Покупайте ушанки и шапки! Надевайте ушанки и шапки, чтоб не падал на волосы снег! Торопитесь купить и надеть! Только надо надвинуть поглубже. И тогда уже можно поглубже не глядеть, не глядеть, не глядеть. И тогда уже можно глаза у идущих навстречу не видеть. Это старое средство – не видеть у идущих навстречу глаза. Совершай свое дело, зима! Вот я тоже глаза прикрываю. Я дурацкий колпак надеваю. Человечество сходит с ума.Дерево добрых Из стихов о Ясной Поляне
1
…И сразу явственней и связанней зеленый ЗИЛ и зелень озими. О, сень яснополянских ясеней в начале дня, в средине осени! Не экскурсанты мы, а странники. Которое уж поколение. Деревья эти – тоже странники. Они пришли на поклонение. Их древний облик разрушается. Летит листва в траву надгробную. Но только им и разрешается украсить ту траву надгробную. Никто не рвет ее, не трогает. Возле нее стоят в молчании. Что нас, сегодняшних, так трогает в том целомудренном молчании? Сюда идут деревни ближние, заезжий принц и пролетарии. И все слова здесь уже лишние, и все излишни комментарии. Оконца в комнате под сводами и в окнах рощица осенняя яснее, чем экскурсоводами даваемые пояснения.2
Что за богатство в листьях тех медных! Дай мне копейку, дерево бедных! Сделай богатым, щедро даруя, — я не растрачу, все раздарю я. Дай твоей меди, колокол медный! Видишь, я маленький, видишь, я бедный. Дай мне уменья, к ближним вниманья — не всепрощенья, но пониманья. Дай теплоты мне рук твоих теплых, дерево бедных, дерево добрых!Мое море
Тр. Поженяну
Вот пришел я к морю твоему. К радостям и к горю твоему. Я глаза на море поднимаю. Это так тебя я понимаю. Сто цветов. Тона. Полутона. Неизменность морю не дана. Море там – и на щеке моей. Моря нет. Есть множество морей.1
Утром, лишь глаза я открываю — первым делом море открываю. Вот я выхожу на берег моря. Набегают волны, берег моя. Море я по капле собираю. Я сначала камни собираю. След карандаша на них и туши. Это чьи-то умершие души. Их скупая живопись так странна, будто эта живопись абстрактна. Камень – рыба. Камешек – божок. Чей-то профиль. Туфель. Сапожок. Все это сработано искусно. Это настоящее искусство — не для денег и не ради моды. Это на века, а не на годы. Морем разрисованные камни. Времени спрессованные капли.2
Я от моря глаз не отрываю. Целый день я море открываю. Мелкими шагами оно ходит. Ходит, себе места не находит. Взгляд его язвителен и едок. То ему не так и то не этак… Нервными шагами оно ходит. Ходит, будто слова не находит. Будто рядом слово, под рукою, да никак не взять его рукою… Крупными шагами море ходит. Ходит, будто рифму не находит. Та не хороша ему и эта. Так я открываю в нем поэта. В поисках единственного слова рвет бумагу, начинает снова. Не фальшивит, не пятнает ложью ту, как говорится, искру божью. Из себя выходит уже, ходит — ничего, считает, не выходит. А уже полнеба охватило… Если б у меня так выходило!3
Ночью, лишь глаза я закрываю, за стеною море открываю. Я лежу с закрытыми глазами — море у меня перед глазами. От моей стены до волнореза — гул работы, мерный лязг железа. Море? Что за море! Там завод. Море титанических забот. Слышу я его ночное бденье. Лязг металла. Ровное гуденье. Бьют кувалды. Плавится руда. Плавка продолжается года. Сколько еще надо переплавить, переделать, снова переправить и отправить в новые года!.. Бьют кувалды. Плавится руда. Я лежу с закрытыми глазами. Трубы у меня перед глазами.4
Сколько море я ни открываю — каждый раз другое открываю. Вот я слышу отзвук канонады. Натянулись нервы, как канаты. Черный вал. И встречная волна. Море – это вечная война. Дикая. Жестокая. Тотальная. То пристрелка ближняя, то дальняя. К бою изготовились расчеты. Тут свои нехитрые расчеты. Отвергая тактику обхода, бьется обреченная пехота. Гул идущих в полный рост валов. И салют из тысячи стволов. Постепенно оседает пена. Камни возвращаются из плена. Спят они. И снится им война. Черный вал. И встречная волна.5
В бесконечность моря отплываю. В море бесконечность открываю. Как они огромны и малы, эти бесконечные миры! Вот луна край моря осветила. Осторожно движутся светила. Там, должно быть, любят, изменяют. Измеряют время. Извиняют. Постигают тайны вещества странные иные существа. Там свои Ньютоны и Платоны. Длинные поэмы монотонны. Физиков и лириков проблемы и другие разные проблемы. Древние светила потухают. Новые, родившись, полыхают. Как они огромны и малы, эти бесконечные миры!6
Каждому – и радости, и горе. Каждому свое дается море. Нет на свете моря. Есть моря. Где ты, даль безбрежная моя? …Море собираем по куску. Ищем, ошибаемся и спорим. Тяжело ступаем по песку — по земле, соседствующей с морем.Машина памяти
Сколько я подарил тебе? Дал и слух, и зренье. Ты мое безумие и мое прозренье. Как там бьется боль моя электронная? У тебя не светелка, а зала тронная. Ты в ней царствуешь над листами чистыми, над большими формулами, над большими числами. Я включаю сам твои лампы умные. Я в свои руки беру твои лапы умные. Загораются строгие лампы памяти, подчиняясь мудрым законам памяти. Мы с тобой сочиним для начала сказочку. Немудреную сказочку про солдатскую скаточку. Извлечем эти корни, перемножим с дробями — чтобы черные корки, чтобы хлеб с отрубями. Подсчитаем все малые те величины и овчину, и лапоть, и копоть лучины. …Оживает далекое. Это память работает. Это день отошедший на грядущий работает.«В Москве меня не прописывали…»
В Москве меня не прописывали. Загород мне прописывали. …Поселюсь в лесопарковой зоне. Постелюсь на зеленом газоне. Книжку выну. Не книжку чековую, а хорошую книжку, Чехова. Чехов – мой любимый писатель. Он веселый очень писатель. Я «Крыжовник» перечитаю. Его многим предпочитаю. А потом усну в тишине. Сон хороший приснится мне. Будто я лежу молодой под Москвой, на передовой. Никакой у меня обиды. Два дружка у меня убиты. Я один остаюсь в траншее. Одному мне еще страшнее. Одна мысль у меня в мозгу: не пущу я врага в Москву. За спиною она, любимая. Спи, Москва моя! Спи, любимая!Трубач
Пока поеживается в постели мое постыдное Не хочу, упругим шагом приходит Надо — молоденький веселый трубач. Он сперва трубит под моим окошком, потом решительно входит в дом, и все заполняет сиянье меди, идущее от его трубы. Он стаскивает с меня одеяло, он мне приказывает – иди! Его повелительные глаголы наотмашь бьют меня по щекам. И я иду по пыльной дороге, и черное солнце висит над ней, и я понимаю – это всего лишь дорога, которую я пройду. И когда у первого поворота меня обдает взрывная волна, я понимаю – это всего лишь ветер времени моего. И когда бинтуют меня бинтами, склонившись у моего плеча, я ощущаю, как нежно-грубы руки веселого трубача.Туркменские арыки
Гром приближался. Он угрожал нам грозою. Дождь разряжался где-то за Фирюзою. Быстро светало. Пел соловей на чинаре. Сразу арыки тихо звенеть начинали. Было пустынно. Были пусты учрежденья. Шли пограничники вдоль полосы отчужденья. Плюшевый ослик брел из канавки напиться, и по асфальту дробно стучали копытца. Все просыпалось. День начинался базаром. Там на прилавках все полыхало пожаром. Шли письмоносцы, от духоты и от дури в медные трубы в двух санаториях дули. Сквозь эти трубы, гам и ослиные крики трудолюбиво, тихо звенели арыки. Бронзовый старец с трубкой погасшею длинной ставил в них камень, камень обмазывал глиной. Так отводил он поочередную воду каждому плоду, саду, двору, огороду. А за дворами трудно пустыня дышала. Даже под вечер губы жара иссушала. Путались тени на раскаленной брусчатке. Пары кружились на танцевальной площадке. Сквозь эти шумы, трубы, и вздохи, и крики тихо и скромно в сумерках жили арыки. Всё обнимали эти прохладные струйки, будто бы руки, чьи-то прохладные руки. … Мир учреждений, дач, магазинов и рынков спит, как ребенок, в добрых ладонях арыков.Зимний пейзаж
Д. Самойлову
Пока я спал, за окнами мело. И вот пейзаж зимы. Белым-бело. Белы кусты, дорога и забор. И белый бор торжествен, как собор. И Жучка у колодца вся бела, хоть накануне белой не была. Но вдруг над белым-белым – голубой. И это отдаленное пространство прозрачно, как намек на постоянство и на уменье быть самим собой. А к ночи все становится синей: и бор, и пар, летящий из сеней, и след саней, и Жучка – и за ней я тоже замечаю эту склонность. А небо стало пепельно-стальным, с пейзажем не сливаясь остальным. И это – как намек на убежденность, что гнаться, мол, за модой ни к чему.Популярность
Я живу сейчас на Садовой. Чехов тоже жил на Садовой. Этот маленький старый домик между нынешними домами — словно маленький скромный томик между кожаными томами. Домик ярко не освещается. Он не многими посещается. А на ближней Садовой где-то громко светится оперетта. Ее многие любят сильно. Там изящно страдает Сильва. Там публично грустит Марица. Туда дамы идут молиться. Слышу возле киоска ближнего: — Нет билетика? Нету лишнего? …Чехов. Шумное представление. Велико ты, кольцо Садовое! Здесь не противопоставление — ты не думай, кольцо Садовое! Просто вот какие полярности. Просто разные популярности.Сто друзей
Ста рублей не копил – не умел. Ста друзей все равно не имел. Ишь чего захотел – сто друзей! Сто друзей – это ж целый музей! Сто, как Библия, мудрых томов. Сто умов. Сто высотных домов. Сто морей. Сто дремучих лесов. Ста вселенных заманчивый зов: скажешь слово одно – и оно повторится на сто голосов. Ах, друзья, вы мудры, как Сократ. Вы мудрее Сократа стократ. Только я ведь и сам не хочу, чтобы сто меня рук – по плечу. Ста сочувствий искать не хочу. Ста надежд хоронить не хочу. …У витрин, у ночных витражей, ходят с ружьями сто сторожей, и стоит выше горных кряжей одиночество в сто этажей.Памятник
Памятники министрам и самодержцам. Памятники философам и поэтам. Памятники прославленным генералам и неизвестным памятники солдатам. Бронзовая и мраморная держава. Каменное, застывшее государство. Нету нехватки в памятниках, и все же новый сегодня памятник открываю. Между бараков, бань и высотных зданий, между пивной и башнею телецентра высится величаво на пьедестале, в небо упершись, газовая конфорка. Два часовых стоят у ее подножья, напоминая нам о путях прогресса: дед ее – старый воин в медалях — примус, бабка ее сварливая – керосинка. Вы догадались, правильно, перед вами — памятник неизвестной домохозяйке. Царство за царством рушится. Полыхает вечный огонь над газового конфоркой.В Ленинграде, когда была метель
И снег этот мокрый, и полночь, и ветер — впервые. На Невке, на Мойке я в этом столетье впервые. И вьюга мазурки все кружится. Здравствуйте, Лиза! Послушайте, Лиза, куда вы торопитесь, Лиза? Все вьюжит и вьюжит. Смотрите, вам холодно будет. Кончается полночь, а Германна нет, и не будет. Ну, будет вам, Лиза, не надо печалиться очень. Вы знаете, Лиза, ведь вы меня любите очень. Недаром же дверцу вы мне отворяете, Лиза, и смутное сердце вы мне доверяете, Лиза. Мы снова и снова все те же мосты переходим, и слово за словом мы с вами на ты переходим. Ты любишь, скажи мне? Ты любишь? Скажи мне, ты любишь? А ты меня любишь? А ты? Ну, а ты меня любишь? Люблю тебя, Лиза! Нет, Ольга! Зови меня Ольгой! Как странно — я звал тебя Лизой, я знал тебя Ольгой. Я все тебя путаю в этой старинной метели. Я бережно кутаю плечи твои от метели. И вьюга мазурки меня навсегда засыпает. И Лиза моя на руке у меня засыпает. И боязно губ этих сонных губами коснуться. И трудно уснуть, и совсем невозможно проснуться.«То было при вас и при мне…»
То было при вас и при мне. Нам выпала эта удача. О две Ярославны, два плача в Путивле на древней стене. Две разно звучащих струны. Две музыки, равно опасных. Два мудрых ребенка лобастых и две пограничных страны. Вы знаете их имена, поскольку событие это свершалось вот здесь, а не где-то, сейчас, а не в те времена. Среди уцененных вещей и неоцененных новинок они проходили на рынок, чтоб свежих купить овощей. Но все изменялось, едва они выходили на сцену. Меняли привычную цену звучавшие ране слова. Они открывали уста, пророчили и причитали, и все, что они прочитали, запомнили вы неспроста. Она воедино свела, высокая их одаренность, далеких миров отдаленность и ваши земные дела. И все-таки колокол бил в Путивле, и стрелы летели. Две женщины грустно глядели, как медленно колокол бил. И падали воины их, зане были силы неравны. И плакали две Ярославны о воинах милых своих.Трава
Марине
Всему свой срок. Сейчас пора травы. Она легко пробилась между строк, и, маленькая, ты по ней идешь, не замечая, как она густа. Ты тоже между строк в моих стихах. Ты тоже как травинка. Можешь лечь на белом поле этого листа и не привлечь вниманья моего. А я вверху. Я где-то там. Где бог. Что я могу? Что сделать для тебя? Карандашом я обвожу кружок. Вот это твой лужок. А дальше снег. А дальше поле. Белые листы. И белые кусты. И слабый след неровной строчки белого стиха. А ты тиха. Тебя пугает снег. Им окружен твой маленький лужок, и ты боишься выйти из него. А ты не бойся. Ты моя трава. Ты все равно пробьешься между строк, заполнив эти белые листы. А до того – белы они. Пусты. Пока ты не пробьешься между строк.«То ты в слезы, то в хохот…»
То ты в слезы, то в хохот. Столько шуму наделала. Убежала на холод. Хоть бы шубу надела! Ты под снежною крупкою стала хрупкою-хрупкою, стала маленькой-маленькой, совершенно беспомощной. Вот и кончился пригород. Как леса здесь бесшумны! Белки рыжие прыгают. Ну куда ты без шубы? Всё ты по снегу по снегу по вечернему, позднему, в этих туфельках бежевых, в этом свитере тоненьком. Ты затянута изморозью. То шагнешь, то оступишься. Как ты вырвешься из лесу? Ведь без шубы простудишься. Лес большой. Лес не кончится. Спать ужасно захочется. Ты прислонишься к дереву и задремлешь, усталая. Под холодными звездами я бегу за тобою. Я кружу между соснами. Я бегу за тобою. Я кричу: – Возьми шубу! — Я в сугробы проваливаюсь. Между тихими соснами — шубу! – слышится – шубу!Дождь
Смотрите, что делает дождь! А как настороженны липы! Вот тут вы как раз и вошли бы, пока не окончился дождь. Пока не случилась беда, вошли бы в мерцании капель. Я камень лежачий, я камень, заброшенный кем-то сюда. Вам так меня тронуть легко! И вы меня стронуть могли бы. Смотрите, как жертвенны липы, как дышится в ливень легко! Я все вам потом возмещу. Однажды зимой, при морозе, я все опишу это в прозе и всю ее вам посвящу. И я назову ее так: «Записки лежачего камня». А может быть – «Исповедь камня». А может быть, даже не так. И я назову ее «Дождь». И станет названье прологом. И станет великим пророком мне вас напророчивший дождь. Все это я вам подарю, чтоб так же и вас поднимало. И я понимаю, как мало я, в сущности, вам подарю.«Разлюбили. Забыли…»
Разлюбили. Забыли. Так однажды забыли, будто двери забили и все окна забили. В заколоченном доме моем не светает. Только слышу, как с крыши сосулька слетает. Кто-то мимо проходит. Кого-то зовут. В заколоченном доме моем только звуки живут. Только звуки приходят ко мне и гостят у меня. Звуки ваших часов. Звуки вашего дня. Вот я слышу, как вы зажигаете свет через тысячу стен от меня. Ваше платье упало на стул. Это вы раздеваетесь. Вы гребенкою чешете волосы. Это гроза. Через тысячу стен этих слышу, как вы раздеваетесь, как вы дышите, как закрываются ваши глаза, как становится тихо потом, а потом, погодя… Белый звук снегопада. Зеленые звуки дождя.Женщина в голубом
У курортного моря, в том безветрии голубом, я встречал одну женщину. Она вся была в голубом. Голубые туфельки. Шляпка модная голубая. И глаза голубые. И книга в руке – голубая. На нее молились изнемогшие от подагры пожилые курортники Старой и Новой Гагры. Не дыша глядели, стоя в садиках и в калитках, на нее, плывущую в этих пальмах и эвкалиптах. Вот она идет, то их милуя, то карая, по ковровой дорожке их голубого рая. Как всегда, с голубою книгой в руке идет. Голубая книга удивительно ей идет. И она это знает. Она не возьмет любую. Она выбирает обязательно голубую. Она равнодушна ко всем остальным книгам. Она знает жизнь по одним голубым книгам.Письмо
Пускай та поплачет…
Что делать мне, ума не приложу. Давайте я вас лучше провожу. Вы, с вашим недоверьем к чудесам, живите здесь, а я уеду сам. Уеду сам. Я взял уже билет. Я напишу вам через двести лет. Вас удивит ребячливость письма, короткого и вздорного весьма. Я напишу вам что-нибудь про то, что снова носят длинные пальто, что вот уже в теченье двух недель у нас не прекращается метель, что я курю и, в сущности, пока не думаю о вреде табака… От этого бессвязного листка охватит вас внезапная тоска. И старый пес, ложась у ваших ног, вздохнет о том, что тоже одинок. И будет думать добродушный пес, как отгадать причину ваших слез.Приятель
Как поживаешь? Ты хорошо поживаешь. Руку при встрече дружески пожимаешь. Мне пожимаешь, ему пожимаешь руку. Всем пожимаешь – недругу или другу. – Ах, – говоришь, – не будем уж так суровы! Будем здоровы, милый! Будем здоровы! — Ты не предатель, просто ты всем приятель и оттого-то, наверное, всем приятен. Ты себя делишь, не отдавая полностью, поровну делишь между добром и подлостью. Стоя меж ними, тост предлагаешь мирный. Ах, какой милый! Ах, до чего же милый! Я не желаю милым быть, не желаю. То, что посеял, – то я и пожинаю. Как поживаю? Плохо я поживаю. Так и живу я. Того и тебе желаю.«Ax, что это за странное вино…»
Ax, что это за странное вино – Изабелла! Не женщина ли выбежала в сад и запела? Не птица ли крылами на дороге забила? Ах, рог Изабеллы – ты как рог изобилья. Мне тамада рубиновое, терпкое цедит. Он видел в жизни всякое, и шутку он ценит. В глазах его пастушьих, поглядишь – облака, но то не облака в его глазах, а века. Вся правда их и вымысел ему – как вчера. Он эту глину вымесил рукой гончара. Он на огне обжег ее, как дивный сосуд. Рука его правдива, и правдив его суд. О ты, один из тех, что обжигают горшки! Ты душу мою тоже на огне обожги. Как чашу, мою душу обожги, чтоб запела. Чтоб в сердце – Изабелла, и в крови – Изабелла. Чтоб я ладонь – на облако, на дождь, на лучи. Руками трогать радугу меня научи. Чтоб с облаком и радугой, как ты, мне – на ты. Ах, терпкая капелька, глоток высоты!«Божественны стюардессы…»
Божественны стюардессы. Возвышенна их семья. Они твои поэтессы сегодняшние, Земля. В них все твои перемены и сдвиги отражены. Их волосы современны. Их руки напряжены. За ними гербы их родин, созвездия и ветра. Их орден международен. Профессия их мудра. Мне нравятся очень эти глядящие из-под век разумные твои дети, о мой неразумный век. Пока ты висишь над бездной и треплет тебя гроза, какой синевой небесной наполнены их глаза! Пока под раскаты грома ты вглядываешься во тьму, их брови нужнее брома смятению твоему. …Среди черноты зловещей, сквозь темные небеса, несутся улыбки женщин, их царственные глаза.«Я не был там какой уж год…»
Я не был там какой уж год. По праздности? По лени? Высокий белый пароход спускается по Лене. Кружится чайка за бортом, и на скамейке с краю с широкоскулым якутом я в шахматы играю. Подходит к нам его жена. Она садится слева. Какая у него жена – ну просто королева! Какие у нее глаза! Коса у ней какая! Я грустно отвожу глаза, ладью передвигая. Притом я смутно сознаю, что нравлюсь королеве. Я каждым ходом создаю угрозу королеве. Исход неясен до поры, но если б она знала, как я страшусь конца игры и как я жду финала!.. Потом проходит целый год. Вода не убывает. Высокий белый пароход все дальше уплывает. Там зябко на исходе дня. И лето на исходе. И странно мне, что нет меня на этом пароходе. О, захолустные места! Скрипучие ступени! И деревянного моста железное терпенье. Там женщина среди цветов идет, меня не зная, и радуга семи цветов – как ягода лесная.Осень
Кто-то вкрадчиво очень в мои окна стучится. Ничего, это осень. Ничего не случится. Я учитель. Я школьник. Я решаю задачи. У меня то удачи, то одни неудачи. Тех и этих отведав, я свое продолжаю. Я не знаю ответов. Я решаю, решаю. Вот задача о листьях, о горящей осине. А по сути – задача об отце и о сыне. За окном кто-то ходит, лопоча и судача. Это осень подходит. Это тоже задача. Вот и дождик защелкал по листве повители. Соловей – он отщелкал, журавли полетели. Звон негромкий из кузни, будто там, за рекою, кто-то трогает гусли осторожной рукою.Часы
Большие мои часы. И маленькие часы. Две стрелки моих часов – как две на лугу косы. По кругу они идут. Под корень траву секут. Секут стебельки секунд. Травинки моих минут. Не косы – а два меча, нацеленных на меня. Вернее – два палача, преследующие меня. Как пики у них усы. В различные лишь часы опущены их усы и вздернуты их усы. Повсюду они торчат. Повсюду часы стучат. Ворчат на меня. Кричат. За что на меня кричат? Издевка у них в глазах. Ухмылка у них в усах. – Смотри, – говорят, – смотри! А что на твоих часах? — И некуда мне бежать. Весь век я у них в плену. – Ты спишь? – говорят. – Так-так! – Встаешь, – говорят. – Ну-ну!Mama и космос Поэма
1
Сколько помню себя – помню очереди. Всей семьею стояли, по очереди. В темноте, как волшебные сети, вынимали авоськи соседи. Шли под звездами, тихо светлевшими, будто райскую птицу выслеживали, проплывал огонек папиросы. – Что дают? – раздавались вопросы. Окликали друг друга словами: – Кто последний? Я буду завами! Помню, ночь за окном еще темная и луна – как последний пятак. Печь протоплена. Она теплая. Цедят ходики: так-так-так. Я в постели лежу этой ранью. Мама в очереди за таранью. О великое чудо, таранка! Ты сияла над бедностью снеди, как сановник высокого ранга или рыцарь в кольчуге из меди. Эту бронзу, исполнены ласки, называли мы «карие глазки». Эту райскую рыбу копченую заедали горбушкою черною, отварною картошкой толченою, и в мундирах, и просто печеною. Время первых великих стараний и возвышенных самых идей было бронзовым веком тараней, веком каменным очередей. Ох и сыплет крупчатыми хлопьями! Сколько вьюга муки намела! Рукавицами очередь хлопает. Пересчитываются номера. Мама топает по снегу, греется. Ей таранка копченая грезится. На холодном рассвете лиловом, о авоська, наполнись уловом!2
Сколько в этом строю она выстояла! Сколько с ним прошагала и выстрадала! А теперь у ней ноги болят, и врачи ей ходить не велят. Ей бинты специальные куплены. У ней тромбами вены закупорены. Кровь от этого в венах бунтует. Мама ноги бинтами бинтует. Километрами тянется бинт. Он как стежечка тонкая-тонкая. Словно перечень давних обид. Словно очередь долгая-долгая. На рассвете мерещится маме: вьется очередь между домами. Вьется очередь между домами, проходными проходит дворами, где трава, и сараи с дровами, и таблички висят с номерами. Она движется еле заметно, как в кино лишь бывает – замедленно. Мимо паперти божьего храма. Мимо свалки железного хлама. Мимо каменных строек страны. По равнинам великой войны. А за дымом кумач развевается. А за домом фугас разрывается. После каждого взрыва фугасного сердце мамы моей разрывается. Ее ливень осколков сечет. Кровь по кофточке белой течет. Я по снегу на помощь бегу но никак добежать не могу. Ох и снег! На снегу стоит мельница. На больших жерновах время мелется. Там муку на весах мельник взвешивает, будто он на весах время взвешивает. Все движенья его очень медленны. Держит гирю он в белой руке. Он над строгими чашами медными — словно памятник белой муке. Он своей справедливой рукой наполняет авоськи мукой. Мама держит авоську у сердца. А мука-то сквозь дырочки сеется. Тает, тает мука, будто снег. Снег летает. Мука или снег? Высыпается он, высыпается. Лишь авоська в руке, холодна. За окошком, как шаньга, – луна. Рано мама моя просыпается. Очень зябнет она, когда спит. Белый бинт на ногах ее сбит. Он как стежечка тонкая-тонкая. Он как очередь долгая-долгая. Так и жизнь представляется маме: вьется очередь между домами.3
Сколько помню себя, помню очереди, и писать мне не стыдно про очереди. Я в них тоже входил со словами: – Кто последний? Я буду за вами! — В этих бденьях участвовал ранних. В спор вступал о последних и крайних. Как слова те из песни я выброшу? Ничего такой песней не выражу. Если слово из песни я выкину — я порву лучше песню и выкину. Вы не все еще кончились, очереди, — ничего украшать не хочу. Но иное у века на очереди, и иное ему по плечу. И горбушечка та первородная, подгоревшая до черноты, как луны сторона оборотная, только так и видна – с высоты. Мы не всех еще вдоволь насытили, но, как знаменье этого дня, поднимают ракеты-носители над обидами века меня. Он клокочет в радарных экранах. Он под пули идет в полный рост. Старый спор о последних и крайних, он еще и сегодня непрост. Не последние мы и не крайние — вон их сколько за нами идет! Звезды первые. Ранние-ранние. Между звездами мама идет. Ее волосы белые спутаны. Белый бинт на ногах ее сбит. Рядом с нею идут ее спутники по высоким ступеням орбит. Ее туфли широкие стоптаны. Темной ниткой очки скреплены. Всех светил оборотные стороны сквозь очки моей маме видны. Она хлеб от себя отрывает и, шагая по той крутизне, Море Ясности мне открывает, дарит Море Спокойствия мне. И светлеет луна, остывая на ладони ее дорогой, как дымящийся круг каравая, как грядущего хлеб даровой.Кинематограф (1970)
Вступление в книгу
Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет. А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно. Возникает звук рояля. Начинается кино. И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной! Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса заставляет меня плакать и смеяться два часа, быть участником событий, пить, любить, идти на дно… Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер этот равно гениальный и безумный режиссер? Как свободно он монтирует различные куски ликованья и отчаянья, веселья и тоски! Он актеру не прощает плохо сыгранную роль — будь то комик или трагик, будь то шут или король. О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом в этой драме, где всего-то меж началом и концом два часа, а то и меньше, лишь мгновение одно… Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты от нехватки ярких красок, от невольной немоты. Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва выразительностью жестов, заменяющих слова. И спешат твои актеры, всё бегут они, бегут — по щекам их белым-белым слезы черные текут. Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно… Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! Ты накапливаешь опыт, и в теченье этих лет, хоть и медленно, а всё же обретаешь звук и цвет. Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса. Слишком красные восходы. Слишком синие глаза. Слишком черное от крови на руке твоей пятно… Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино! А потом придут оттенки, а потом полутона, то уменье, та свобода, что лишь зрелости дана. А потом и эта зрелость тоже станет в некий час детством, первыми шагами тех, что будут после нас жить, участвовать в событьях, пить, любить, идти на дно… Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино! Я люблю твой свет и сумрак – старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны, как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить, потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно, жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!Время слепых дождей Фрагменты сценария
Вот начало фильма. Дождь идет. Человек по улице идет. На руке – прозрачный дождевик. Только он его не надевает. Он идет сквозь дождь не торопясь, словно дождь его не задевает. А навстречу женщина идет. Никогда не видели друг друга. Вот его глаза. Ее глаза. Вот они увидели друг друга. Летний ливень. Поздняя гроза. Дождь идет, но мы не слышим звука. Лишь во весь экран – одни глаза, два бездонных, два бессонных круга, как живая карта полушарий этой неустроенной планеты, и сквозь них, сквозь дождь, неторопливо человек по улице идет, и навстречу женщина идет, и они увидели друг друга. Я не знаю, что он ей сказал, и не знаю, что она сказала, но — они уходят на вокзал. Вот они под сводами вокзала. Скорый поезд их везет на юг. Что же будет дальше? Будет море. Будет радость или будет горе — это мне неведомо пока. Место службы, месячный бюджет, мненья, обсужденья, сожаленья, заявленья в домоуправленья — это все не входит в мой сюжет. А сюжет живет во мне и ждет, требует развития, движенья. Бьюсь над ним до головокруженья, но никак не вижу продолженья. Лишь начало вижу. Дождь идет. Человек по улице идет.Время слепых дождей
Время, бесстрашный художник…
Время, бесстрашный художник, словно на белых страницах, что-то все пишет и пишет на человеческих лицах. Грифелем водит по коже. Перышком тоненьким – тоже. Острой иглою гравера. Точной рукою гримера… Таинство света и тени. Стрелы, круги и квадраты. Ранние наши потери. Поздние наши утраты. Черточки нашего скотства. Пятна родимые страха. Бремя фамильного сходства с богом и с горсточкой праха. Скаредность наша и щедрость. Суетность наша и тщетность. Ханжество или гордыня. Мужество и добродетель… Вот человек разрисован так, что ему уже больно. Он уже просит: – Довольно, видишь, я весь разрисован! Но его просьбы не слышит правды взыскующий мастер. Вот он отбросил фломастер, тоненькой кисточкой пишет. Взял уже перышко в руку — пишет предсмертную муку. Самый последний штришочек. Малую черточку только… Так нас от первого крика и до последнего вздоха пишет по-своему время (эра, столетье, эпоха). Пишет в условной манере и как писали когда-то. Как на квадратной фанере пишется скорбная дата. Отсветы. Отблески. Блики. Пятна белил и гуаши. Наши безгрешные лики. Лица греховные наши… Вот человек среди поля пал, и глаза опустели. Умер в домашней постели. Выбыл из вечного боя. Он уже в поле не воин. Двинуть рукою не волен. Больше не скажет: – Довольно! — Все. Ему больше не больно.Воспоминанье об оранжевых абажурах
В этом городе шел снег, и светились оранжевые абажуры, в каждом окне по оранжевому абажуру. Я ходил по улицам и заглядывал в окна. В этот город я вернулся с войны, у меня было все впереди, не было лишь квартиры, комнаты, угла, крова. Снова и снова ходил я по улицам и заглядывал в окна. Под оранжевыми абажурами люди пили свой чай с послевоенным пайковым хлебом. Оранжевые абажуры были моей мечтой, символом всей несправедливости мира, в котором, как мне казалось, лишь у меня одного не было никакого пристанища, комнаты, угла, крова. У меня было все впереди, все впереди настолько, что я не мог оценить размеров своего богатства. – Скажите, пожалуйста, — спрашивал я, — здесь не сдается угол? – А в городе шел снег, и светились оранжевые абажуры, оранжевые тюльпаны за тюлевой шторкой метели, оранжевая кожура мандаринов на новогоднем снегу.Взаимосвязи
Слепому гневу солнечной короны подвластны наши ливни и ветра. А к ливню ломит кости у вороны, и оттого орет она с утра. Все бабочки, кузнечики и мухи, гиена, антилопа или тур испытывают дьявольские муки от разницы дневных температур. Но странно, что и мы, цари природы, творенья совершенные богов, зависим от превратностей погоды не меньше мух, жуков и пауков. Что столбик атмосферного давленья таранит наши мощные тела, и действуют небесные явленья на наши повседневные дела. И мы следим за сменою ненастий, морозов, снегопадов и дождей не меньше, чем за сменою династий, парламентов, правительств и вождей. Как странно знать, что в некий день весенний на части разрываются сердца из-за каких-то слабых сотрясений, случившихся в созвездии Стрельца. Что я могу испытывать страданье и жизнь моя мне кажется пуста лишь оттого, что где-то в мирозданье погасла безымянная звезда. Что и моя когда-нибудь дорога внезапно оборвется оттого, что где-нибудь в созвездье Козерога небесное распалось вещество.«Музыка, свет неближний…»
Музыка, свет неближний, дождь, на воде круги. Музыка, третий лишний, что же ты, ну, беги! Выдохлась? Притомилась? Хочешь не хочешь – пой? Музыка, сделай милость, очередь за тобой. С каждою перебежкой — дождь, на воде круги. Музыка, ну, не мешкай, музыка, ну, беги! Не дожидаясь зова, не выбирая дня, круг обеги, и снова встань впереди меня. Да не сочтем за муку этот, из века в век, по роковому кругу завороженный бег. Этот смиренный пафос и молчаливый зов перемещенья пауз, звуков и голосов. Это чередованье флейты и бубенца. Это очарованье дудочки и скворца. Это – сплетенье вьюги с песенкою дрозда. Это – синицей в руки выпавшая звезда. Это – звезда и полночь, дождь, на воде круги. Этот призыв на помощь — музыка, помоги!Иронический человек
Мне нравится иронический человек. И взгляд его, иронический, из-под век. И черточка эта тоненькая у рта — иронии отличительная черта. Мне нравится иронический человек. Он, в сущности, – героический человек. Мне нравится иронический его взгляд на вещи, которые вас, извините, злят. И можно себе представить его в пенсне, листающим послезавтрашний календарь. И можно представить в его письме какое-нибудь старинное – милсударь. Но зря, если он представится вам шутом. Ирония – она служит ему щитом. И можно себе представить, как этот щит шатается под ударами и трещит. И все-таки, сквозь трагический этот век проходит он, иронический человек. И можно себе представить его с мечом, качающимся над слабым его плечом. Но дело не в том – как меч у него остер, а в том – как идет с улыбкою на костер, и как перед этим он произносит: – Да, горячий денек – не правда ли, господа! Когда же свеча последняя догорит, а пламень небес едва еще лиловат, смущенно – я умираю – он говорит, как будто бы извиняется – виноват. И можно себе представить смиренный лик, и можно себе представить огромный рост, но он уходит так же прост и велик, как был за миг перед этим велик и прост. И он уходит – некого, мол, корить — как будто ушел из комнаты покурить, на улицу вышел воздухом подышать и просит не затрудняться, не провожать.«Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь…»
Утро – вечер, утро – вечер, день и ночь. Стрелки, цифры, циферблаты – сутки прочь. Гири, маятники, цепи, медный гуд. Все торопятся куда-то, все бегут. На ходу махнуть рукою, крикнуть «будь!», Съесть сосиску на ходу и снова в путь. Сдать багаж, и в самолет, и в облака. — Как там наши? – как там ваши? – ну, пока! Гири, цепи, шестеренки, медный звон. Телеграмма – вместо писем – телефон, телефонные кабины – о стекло стук монеты – ваше время истекло! Нету времени присесть, поговорить, покалякать, покумекать, покурить. Нету времени друг друга пожалеть, от несчастья от чужого ошалеть. Даже выслушать друг друга – на бегу — нету времени – приедешь? – не могу! На автобус, на троллейбус, в этот гон, в эту гонку, в переполненный вагон, то в обгон, а то вдогонку – на ходу — в эту давку, суматоху, чехарду, в автогонку, в мотогонку, в нету мест, в не толкайтесь, переулками, в объезд, и в затор у светофора – как в тупик… Что за время? Наше время, время пик. Только выхлопы бензина, дым и чад. Только маятники медные стучат. Только стрелки сумасшедшие бегут. Стрелки, цифры, циферблаты, медный гуд. Словно мир этот бессонный городской стал огромной часовою мастерской, часовою мастерскою, где со стен — циферблаты всех фасонов и систем, где безумные живут часовщики. Спать ложишься – ходят стрелки у щеки. Стрелки, цифры, циферблаты, медный зов. Засыпаешь под тиктаканье часов. И летишь под этим небом грозовым — как на бомбе с механизмом часовым.Воспоминанье о костеле
Костел назывался именем святой Анны, а может быть, как-то иначе. Я шел туда ночью, по полю, по черной пахоте, ночь была черной, и можно было идти не иначе, как перебирая рукою невидимую нитку провода, натянутого связистами, — жесткий провод скользил между пальцами и ладонью, обдирая ее до крови. В костеле был наблюдательный пункт наших артиллеристов. Стоял полусумрак, горели свечи, и еще был какой-то свет, и кто-то упорно и долго играл одним пальцем на старинном органе, выжимая из него по капле грустный какой-то мотивчик. Начало артподготовки было назначено на шесть ноль-ноль. Постепенно светало, и на стенах костела оживали старинные фрески, а в левом приделе, у входа, на черном огромном кресте печально и кротко светились глаза Иисуса и проступали темные пятна крови, нарисованной густо на руках и ногах в тех местах, куда были вколочены гвозди — дюймов, наверно, в десять-двенадцать, огромные черные гвозди, — неожиданно бытовая подробность в этом зыблющемся воспоминанье, где все так призрачно и нереально.Как показать лето
Фонтан в пустынном сквере будет сух, и будет виться тополиный пух, а пыльный тополь будет неподвижен. И будет на углу продажа вишен, торговля квасом и размен монет. К полудню на киоске «Пиво – воды» появится табличка «Пива нет», и продавщица, мучась от зевоты, закроет дверь киоска на засов. Тут стрелка электрических часов покажет час, и сразу полвторого, и резко остановится на двух. И все вокруг замрет, оцепенеет, и будет четок тополиный пух, как снег на полотне монументальном. И, как на фотоснимке моментальном, недвижно будет женщина стоять, и, тоненький мизинец оттопырив, держать у самых губ стакан воды с застывшими недвижно пузырьками. И так же за табачными ларьками недвижна будет очередь к пивной. Но тут ударит ливень проливной, и улица мгновенно опустеет, и женщина упрячется в подъезд, где очень скоро ждать ей надоест, и, босоножки от воды спасая, она помчит по улице босая, и это будет главный эпизод, где женщина бежит, и босоножки у ней в руках, и лужи в пузырьках, и вся она от ливня золотится. Но так же резко ливень прекратится, и побежит по улице толпа, и тополя засветится вершина, и в сквере заработает фонтан, проедет поливальная машина, в окно киоска будет солнце бить, и пес из лужи будет воду пить.Сон о забытой роли
Мне снится, что в некоем зале, где я не бывал никогда, играют какую-то пьесу. И я приезжаю туда. Я знаю, что скоро мой выход. Я вверх по ступеням бегу. Но как называется пьеса, я вспомнить никак не могу. Меж тем я решительно знаю по прихоти сна моего, что я в этой пьесе играю, но только не помню – кого. Меж тем я отчетливо помню — я занят в одной из ролей. Но я этой пьесы не знаю и роли не помню своей. Сейчас я шагну обреченно, кулисы раздвинув рукой. Но я не играл этой роли и пьесы не знаю такой. Там, кажется, ловят кого-то. И смута стоит на Руси. И кто-то взывает: – Марина, помилуй меня и спаси! И кажется, он самозванец. И кто-то торопит коней. Но я этой пьесы не знаю. Я даже не слышал о ней. Не знаю, не слышал, не помню. В глаза никогда не видал. Ну разве что в детстве когда-то подобное что-то читал. Ну разве что в давние годы, когда еще школьником был, учил я подобное что-то, да вскоре, видать, позабыл. И должен я выйти на сцену и весь этот хаос облечь в поступки, движенья и жесты, в прямую и ясную речь. Я должен на миг озариться и сразу, шагнув за черту, какую-то длинную фразу легко подхватить на лету. И сон мой все время на грани, на крайнем отрезке пути, где дальше идти невозможно, и все-таки надо идти. Сейчас я шагну обреченно, кулисы раздвинув рукой. Но я не играл этой роли и пьесы не знаю такой. Я все еще медлю и медлю. Но круглый оранжевый свет ко мне подступает вплотную, и мне уже выхода нет.«Собирались наскоро…»
Собирались наскоро, обнимались ласково, пели, балагурили, пили и курили. День прошел — как не было. Не поговорили. Виделись, не виделись, ни за что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел – как не было. Не поговорили. Так и жили – наскоро, и дружили наскоро, не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла – как не было. Не поговорили.Воспоминанье о куске сала
Правый берег реки возвышался над нашим, над левым, и мы сейчас были как на ладони на нашем отлогом, песчаном, у этой реки, где редкая птица долетает до середины, и нас засекли у самой воды, и снаряды стали ложиться ближе, и мы побежали — мы добежали до первой воронки и нырнули в нее, и снаряд разорвался рядом, немного не долетев, а потом позади и справа, и песок нас слегка присыпал, и надо было бежать, и тогда один из нас вытащил сало из кармана шинели, и мы стали есть его жадно и торопливо, хотя надо было бежать. Сало было розовым и соленым, веснушчатым и конопатым от песка и махорки, мы ели его жадно и торопливо, почти проглотили, и тогда мы выскочили и побежали, и пробежали совсем немного, когда снаряд, наконец, угодил в ту спасительную воронку, где мы перед тем сидели. Сало было розовое, как младенец, розовое и веснушчатое, как наш старшина после бани, этакий рыжий верзила с нахальной ухмылкой, некто хохочущий, некто ликующе розовощекий, этакий улыбающийся господин в цилиндре, некий факир по имени Сало, господин Сало, ах, господин Сало…«Горящими листьями пахнет в саду…»
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы. Сжигаю мосты. Чернеют листы, тяжелеет рука. Бикфордовым шнуром дымится строка. Последние листья, деревья пусты. Сжигаю мосты. Прощайте, прощальный свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы, чисты. Сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад. Иду, чтоб уже не вернуться назад. До ранней, зеленой, последней звезды сжигаю мосты.Время улетающих птиц Фрагменты сценария
Южный город. Море и песок. Берег пляжей. Выжженная зона. Остаются считанные дни до конца курортного сезона. Человек, распятый на песке. Он сейчас похож на Робинзона. Человек, лежащий у воды, не спеша песок ладонью роет, на песке песочный домик строит, крепость воздвигает на песке. В это время женщина приходит, по песку ступая, как по морю. Женщина с мужчиной на песке, но мы видим — женщина уходит, по песку ступая, как по морю. Женщина с мужчиной на песке, но уходит женщина, уходит. Час проходит или день проходит — женщина с мужчиной на песке, и все дальше женщина уходит. Человек чего-то еще ждет. Он еще надеется на что-то. Но едва он открывает рот, слышен трубный голос парохода, голос проходящих поездов, гул вокзала и аэродрома, цирка, стадиона, ипподрома и еще каких-то людных сборищ слившиеся в грохот голоса. И уходит, медленно уходит вдаль береговая полоса, и мы видим сверху — с самолета, с вертолета, с птичьего полета — по бескрайней выжженной пустыне маленькая женщина идет. И тогда возникнет панорама множества экранов, циркорама — на ступенях рухнувшего храма маленькая женщина стоит у подножья каменного Будды, и мы видим — каменного Будды каменные жесткие глаза, а потом отдельно — южный город, берег пляжей, море и песок и отдельно — хроники старинной некий завершающий кусок, и как смесь пролога с эпилогом будут в заключительном куске очертанья рухнувшей Помпеи, след полузабытой эпопеи, домик, возведенный на песке.«Я медленно учился жить…»
Я медленно учился жить. Ученье трудно мне давалось. К тому же часто удавалось урок на после отложить. Полжизни я учился жить, и мне за леность доставалось, — но ведь полжизни оставалось, я полагал – куда спешить! Я невнимателен бывал — то забывал семь раз отмерить, то забывал слезам не верить, урок мне данный забывал. И все же я учился жить. Отличник – нет, не получился. Зато терпенью научился, уменью жить и не тужить. Я поздно научился жить. С былою ленью разлучился. Да правда ли, что научился, как надо научился жить? И сам плечами лишь пожмешь, когда с утра забудешь снова не выкинуть из песни слова, и что посеешь, то пожнешь. И снова, снова к тем азам, в бумагу с головой заройся. – Сезам, – я говорю, – откройся Не отворяется Сезам.Воспоминанье о дороге
Дорога была минирована, но мы это поняли слишком поздно, и уже не имело смысла возвращаться обратно, и мы решили идти дальше, на расстоянии друг от друга, я впереди, он сзади, а потом менялись местами. Мы ступали осторожно, кое-где мины выглядывали из-под снега, темные коробочки, припорошенные снегом, такие безобидные с виду. Мы ступали осторожно, след в след, мы вспотели, хотя мороз был что надо, и сердце замирало, останавливалось, и начинало стучать не прежде, чем нога опиралась на твердое, и тогда стучало в висках, и вновь замирало перед следующим шагом. Потом повалил снег, потом послышались взрывы и крик: – Ложись! так вашу так! — а дальше, дальше ничего не помню, только дорога, и сердце замирает, и останавливается, и начинает стучать не прежде, чем нога обопрется на твердое, и снова стучит в висках, и вновь замирает перед следующим шагом.Квадратный человек
Как полуночный вздор, как на голову снег мой грозный командор, мой черный человек как поздний вестовой по гулкой мостовой квадратный человек с квадратной головой. Квадратное лицо. Квадратные очки. Квадратные глаза. Квадратные зрачки. И челюсти во рту гремят, как жернова, когда он говорит квадратные слова. Квадратный человек, сам черт ему не брат. В саду его растет квадратный виноград. И явственно видна, пока он говорит, квадратная луна в глазах его горит. О, этот человек, он выпрямить готов округлости полей, округлости прудов, и возвести в квадрат – и возвести стократ — квадрат своих затрат, квадрат своих оград. Квадратный человек, мой грозный командор, мой прошлогодний снег, мой полуночный вздор, нелепое звено из рода небылиц, — и все-таки одно из действующих лиц. И по спине сквозит нездешним холодком, когда он мне грозит квадратным кулаком.«Листья мокли под окном…»
Листья мокли под окном, намокали… – Дело к осени идет! — намекали. Протрубили журавли, пролетели, прокричали про снега, про метели. Эти голые поля, эти дали тоже мненье журавлей подтверждали. Только зрелые плоды, тяжелея, наливались, ни о чем не жалея. Да и мы с тобою, друг, не тужили, в камельке своем огонь не тушили. Хоть и видели, что день убывает, говорили: – Ничего! Все бывает!«Живешь, не чувствуя вериг…»
Живешь, не чувствуя вериг, живешь – бежишь туда-сюда. – Ну как, старик? – Да так, старик Живешь – и горе не беда. – Но вечером, но в тишине, но сам с собой наедине, когда звезда стоит в окне, как тайный соглядатай, и что-то шепчет коридор, как ростовщик и кредитор, и въедливый ходатай… Живешь, не чувствуя вериг, и все на свете трын-трава. – Ну как, старик? – Да так, старик Давай, старик, качай права! – Но вечером, но в тишине, но сам с собой наедине, когда звезда стоит в окне, как тайный соглядатай… Итак – не чувствуя вериг, среди измен, среди интриг, среди святых, среди расстриг, живешь – как сдерживаешь крик. Но вечером, но в тишине…Воспоминанье о Марусе
Маруся рано будила меня, поцелуями покрывала, и я просыпался на ранней заре от Марусиных поцелуев. Из сада заглядывала в окно яблоневая ветка, и яблоко можно было сорвать, едва протянув руку. Мы срывали влажный зеленый плод, надкусывали и бросали — были августовские плоды терпки и горьковаты. Но не было времени у нас, чтобы ждать, когда они совсем поспеют, и грустно вспыхивали вдалеке лейтенантские мои звезды. А яблоки поспевали потом, осыпались, падали наземь, и тихо по саду она брела мимо плодов червонных. Я уже не помню ее лица, не вспомню, как ни стараюсь. Только вкус поцелуев на ранней заре, вкус несозревших яблок.Как показать осень
Еще не осень – так, едва-едва. Ни опыта еще, ни мастерства. Она еще разучивает гаммы. Не вставлены еще вторые рамы, и тополя бульвара за окном еще монументальны, как скульптура. Еще упруга их мускулатура, но день-другой — и все пойдет на спад, проявится осенняя натура, и, предваряя близкий листопад, листва зашелестит, как партитура, и дождь забарабанит невпопад по клавишам, и вся клавиатура пойдет плясать под музыку дождя. Но стихнет, и немного погодя, наклонностей опасных не скрывая, бегом-бегом по линии трамвая помчится лист опавший, отрывая тройное сальто, словно акробат. И надпись «Осторожно, листопад!», неясную тревогу вызывая, раскачиваться будет, как набат, внезапно загудевший на пожаре. И тут мы впрямь увидим на бульваре столбы огня. Там будут листья жечь. А листья будут падать, будут падать, и ровный звук, таящийся в листве, напомнит о прямом своем родстве с известною шопеновской сонатой. И тем не мене, листья будут жечь. Но дождик уже реже будет течь, и листья будут медленней кружиться, пока бульвар и вовсе обнажится, и мы за ним увидим в глубине фонарь у театрального подъезда на противоположной стороне, и белый лист афиши на стене, и профиль музыканта на афише. И мы особо выделим слова, где речь идет о нынешнем концерте фортепианной музыки, и в центре стоит – «Шопен, соната № 2». И словно бы сквозь сон, едва-едва коснутся нас начальные аккорды шопеновского траурного марша и станут отдаляться, повторяясь вдали, как позывные декабря. И матовая лампа фонаря затеплится свечением несмелым и высветит афишу на стене. Но тут уже повалит белым-белым, повалит густо-густо белым-белым, но это уже – в полной тишине.Сон о рояле
Я видел сон – как бы оканчивал из ночи в утро перелет. Мой легкий сон крылом покачивал, как реактивный самолет. Он путал карты, перемешивал, но, их мешая вразнобой, реальности не перевешивал, а дополнял ее собой. В конце концов, с чертами вымысла смешав реальности черты, передо мной внезапно выросло мерцанье этой черноты. Как бы чертеж земли, погубленной какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной мерцал рояль передо мной. Рояль был старый, фирмы Беккера, и клавишей его гряда казалась тонкой кромкой берега, а дальше – черная вода. А берег был забытым кладбищем, как бы окраиной его, и там была под каждым клавишем могила звука одного. Они давно уже не помнили, что были плотью и душой какой-то праздничной симфонии, какой-то музыки большой. Они лежали здесь, покойники, отвоевавшие свое, ее солдаты и полковники, и даже маршалы ее. И лишь иной, сожженный заживо, еще с трудом припоминал ее последнее адажио, ее трагический финал… Но вот, едва лишь тризну справивший, еще не веря в свой закат, опять рукой коснулся клавишей ее безумный музыкант. И поддаваясь искушению, они построились в полки, опять послушные движению его играющей руки. Забыв, что были уже трупами, под сенью нотного листа они за флейтами и трубами привычно заняли места. Была безоблачной прелюдия. Сперва трубы гремела медь. Потом пошли греметь орудия, пошли орудия греметь. Потом пошли шеренги ротные, шеренги плотные взводов, линейки взламывая нотные, как проволоку в пять рядов. Потом прорыв они расширили, и пел торжественно металл. Но кое-где уже фальшивили, и кто-то в такт не попадал. Уже все чаще они падали. Уже на всю вторую часть распространился запах падали, из первой части просочась. И сладко пахло шерстью жженою, когда, тревогой охватив, сквозь часть последнюю, мажорную, пошел трагический мотив. Мотив предчувствия, предвестия того, что двигалось сюда, как тема смерти и возмездия и тема Страшного суда. Кончалась музыка и корчилась, в конце едва уже звеня. И вскоре там, где она кончилась, лежала черная земля. И я не знал ее названия — что за земля, что за страна. То, может быть, была Германия, а может быть, и не она. Как бы чертеж земли, погубленной какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной мерцал рояль передо мной. И я, в отчаянье поверженный, с тоской и ужасом следил за тем, как музыкант помешанный опять к роялю подходил.«Эта тряска, эта качка…»
Эта тряска, эта качка — ничего в ней нет такого. Это школьная задачка — поезд шел из пункта А. Это маленькая повесть все о том же – ехал поезд, ехал поезд, ехал поезд к пункту Б из пункта А. Это все куда как просто, время, скорость, расстоянье, время множится на скорость, восемь пишем, два в уме. Дождь и ветер, дым и сажа, три страницы, два пейзажа, трубы, церковь, элеватор, две березки на холме. Это все куда как просто, повесть, школьная задачка, мы свое уже решили, мы одни уже в купе. Мы дочитываем повесть, повесть, школьная задачка, будка, стрелка, водокачка, подъезжаем к пункту Б. Что ж, плати за чай и сахар, за два ломтика лимона — вкус лимона, вкус железа, колеи двойная нить. Остается напоследок три-четыре телефона — три-четыре телефона, куда можно позвонить.Воспоминанье о красном снеге
Я лежал на этом снегу и не знал, что я замерзаю, и лыжи идущих мимо поскрипывали почти что у моего лица. Близко горела деревня, небо было от этого красным, и снег подо мною был красным, как поле маков, и было тепло на этом снегу, как в детстве под одеялом, и я уже засыпал, засыпал, возвращаясь в детство под стук пролетки по булыжнику мостовой, на веранду, застекленную красным, где красные помидоры в тарелке, и золотые шары у крылечка — звук пролетки, цоканье лошадиных подков по квадратикам красных булыжин.«Темный свод языческого храма…»
Темный свод языческого храма. Склад и неусыпная охрана. Цепь, ее несобранные звенья. Зрительная память, память зренья… Тайный склад и строгая охрана. Полотно широкого экрана. Магниевых молний озаренья. Зрительная память, память зренья… Но – и полотно киноэкрана и – незаживающая рана, и – неутихающая мука повторенья пройденного круга. О, необъяснимое стремленье на мгновенье выхватить из мрака берег, одинокое строенье, женский профиль, поле, край оврага, санки, елку, нитку канители, абажур за шторкою метели, стеклышко цветное на веранде, яблоко зеленое на ветке… Память зренья, своеволье, прихоть, словно в пропасть без оглядки прыгать, без конца проваливаться, падать в память зренья, в зрительную память, и копать под черными пластами, в памяти просеивать, как в сите, слыша, как под черными крестами — откопайте! – просят – воскресите!.. Я копаю, день и ночь копаю, осторожно почву разгребаю, на лопату опершись, курю, – Бедный Йорик! – тихо говорю.«Сколько нужных слов я не сказал…»
Сколько нужных слов я не сказал, сколько их, ненужных, обронил. Сколько я стихов не написал. Сколько их до срока схоронил. Посреди некошеной травы, в чаще лебеды и лопухов, шапку сняв с повинной головы, прохожу по кладбищу стихов. Ни крестов, ни траурных знамен в этом месте темном и глухом. Звездочки стоят вместо имен по три, по три, по три над стихом. Голова повинная, молчу. Вглядываюсь вдаль из-под руки. Ставлю запоздалую свечу возле недописанной строки. Тихий свет над черною травой. Полночь неподвижна и тиха. Кланяюсь повинной головой праху Неизвестного стиха.Время зимних метелей Фрагменты сценария
Посредине фильма снег идет. Человек по улице идет… Снег валит на город густо-густо, снег гребут лопатой с тротуара, грузят на машины — и в машинах за город торжественно везут. Снег лежит на шапках у прохожих, на плечах прохожих и на спинах, и они его неутомимо на себе по городу несут. Где-то в этом городе огромном человек звонит из автомата. Женщина звонит из автомата где-то на другом конце земли, где-то на другом конце Вселенной, на какой-то улице соседней — долгие протяжные гудки в телефонных мечутся кабинах, в призрачно мерцающих глубинах долгие протяжные гудки, как сигналы спутников случайных, тщетно окликающих друг друга. Все быстрей, быстрей вращенье круга, диски, телефонные круги, все быстрее — диски, диски, диски, бешено вертящиеся диски, диски, телефонные круги, диски – сумасшедшие колеса паровоза и электровоза, электрички и автомобиля, диски, телефонные круги, диски-бубны, диски-барабаны, цирки, карусели, балаганы, диски, телефонные круги радиолы и магнитофона, в городском саду аттракциона — чертово вращенье колеса. Человек звонит из автомата, женщина звонит из автомата, вот его глаза, ее глаза — два бездонных, два бессонных круга, где сейчас неистовствует вьюга, и сквозь них, сквозь вьюгу, сквозь пургу — два огромных телефонных диска, два огромных круглых обелиска на равнине белой, на снегу.Новый год у Дуная
Камень старинный, башни, мосты, ограды. Гостеприимны древние эти грады. Благословенны тихие эти веси. Колокола воскресные в поднебесье. Под куполами, золотом, синевою я с непокрытой шествую головою. Колокол, солнце, елка стоит, сверкая. День новогодний – боже, теплынь какая! День новогодний, теплый, весенний, синий. А в эту пору снег идет над Россией. Ветер гудит по нашим великим рекам. Снег над Россией. Что там, за этим снегом? Что там за снегом – что он, кого он прячет? Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет? Кто там сейчас в лесу над костром колдует, дует в огонь, в озябшие руки дует? Господи, дай им солнца, тепла, капели! Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели! Синью наполни очи лесных проталин!.. К старости, что ли – стал я сентиментален. Даже не думал, что напишу такое… Хрустнула ветка где-то в лесном покое. Скрипнули сани и затерялись в поле. И никуда не деться от этой боли. Ветер гудит по северным нашим рекам. Снег над Россией. Что там, за этим снегом?Воспоминанье о Нибелунгах
Это было почти перед самой войной, мы смотрели немецкий фильм, Песню о Нибелунгах, фильм, конечно, немой, и веселый тапер из студентов наяривал лихо на пианино что-то смешное, и мы хохотали, когда белокурый красавец Зигфрид умывался кровью дракона под мелодию популярной в ту пору спортивной песни. Мы изучали тогда немецкое средневековье, миннезанг, майстерзанг, мы любили щегольнуть каким-нибудь звучным именем, каким-нибудь Вальтером фон дер Фогельвейде. Оставалось несколько месяцев до начала этой войны, с которой мы возвращались долгие годы, с которой не все мы вернулись, мы, от души хохотавшие над этой отличной шуткой — Зигфрид умывается кровью дракона, умывается кровью, ха-ха, умывается кровью!Дети
Дети, как жители иностранные или пришельцы с других планет, являются в мир, где предметы странные, вещи, которым названья нет. Еще им в диковину наши нравы. И надо выучить все слова. А эти звери! А эти травы! Ну, просто кружится голова! И вот они ходят, пометки делая и выговаривая с трудом: – Это что у вас? – Это дерево. – А это? – Птица. – А это? – Дом. Но чем продолжительнее их странствие они ведь сюда не на пару дней — они становятся все пристрастнее, и нам становится все трудней. Они ощупывают переборочки, они заглянуть стараются за. А мы их гиды, их переводчики, и не надо пыль им пускать в глаза! Пускай они знают, что неподдельно, а что только кажется золотым. – Это что у вас? – Это дерево. – А это? – Небо. – А это? – Дым.Старая женщина с авоськой
А вот явленье грусти бесконечной, хотя, на первый взгляд, и беспричинной. На остановке где-нибудь конечной старушка из автобуса выходит. Ах, город, эти новые дома, керамика, стекло и алюминий! Какая пестрота и легкость линий в меняющихся контурах его, какая гамма цветосочетаний! Здесь для примера я бы показал Центральный, скажем, аэровокзал или Дворец для бракосочетаний, куда подъехал свадебный кортеж с девчонкою в одежде подвенечной… Но вот картина грусти бесконечной, когда старушка площадь переходит. Ах, город, всё куда-то он спешит, торопится на ярмарки, на рынки, на свадьбы, на рожденья, на поминки, проглатывая прессу на ходу, прижав к себе попутные покупки, нет-нет еще косясь на мини-юбки, как бы стыдясь, что снова уличен в приверженности к моде быстротечной… Но вот картина грусти бесконечной, и я едва не плачу в этот миг, когда старушка площадь переходит, в скрещенье всех событий мировых шагает по дорожке пешеходной, неся свою порожнюю авоську, где, словно одинокий звук минорный и словно бы воробушек озябший, один лежит на донышке лимон.«Завидую, кто быстро пишет…»
Завидую, кто быстро пишет и в благости своей не слышит, как рядом кто-нибудь не спит, как за стеною кто-то ходит всю ночь и места не находит. Завидую, кто крепко спит, без сновидений, и не слышит, как рядом кто-то трудно дышит, как не проходит в горле ком, как валидол под языком сосулькой мартовскою тает, а все дыханья не хватает. Завидую, кто крепко спит, не видит снов, и быстро пишет, и ничего кругом не слышит, не видит ничего кругом, а если видит, если слышит, то все же пишет о другом, не думая, а что же значит, что за стеною кто-то плачет. Как я завидую ему, его уму, его отваге, его перу, его бумаге, чернильнице, карандашу! А я так медленно пишу, как ношу трудную ношу, как землю черную пашу, как в стекла зимние дышу — дышу, дышу и вдруг оттаиваю круг.Воспоминанье о дождевых каплях
Дождь проникал к нам запроста сквозь дырявую крышу, потолки протекали, на них выступали желтые пятна, кусочки известки падали на пол, а на полу стояли корыта, ведра, тазы, кастрюли, и за ночь, если дождь шел ночью, они наполнялись мягкой дождевою водой. Кап, кап, кап… Впрочем, меня это занимало мало. Детский мой сон был крепок, звуки паденья капель мне не мешали. Я вижу отчетливо комнату, эти кастрюли и ведра, расставленные в странном порядке, как шахматные фигуры в этой игре с дождем, вижу паденье капель, круги на воде и маленькие воронки, но, как ни стараюсь, не слышу звука — словно в немом кинофильме. – Звук! – я кричу, – звук! И он догоняет меня, звук пролетевшего самолета, назойливый стук метронома, колокол, частые взрывы — аж лопаются перепонки — кап, кап, кап…Как показать зиму
…но вот зима, и чтобы ясно было, что происходит действие зимой, я покажу, как женщина купила на рынке елку и несет домой, и вздрагивает елочкино тело у женщины над худеньким плечом. Но женщина тут, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке. В ней-то все и дело. Итак, я покажу сперва балкон, где мы увидим елочку стоящей как бы в преддверье жизни предстоящей, всю в ожиданье близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели, всю в блеске мишуры и канители, как бы в полете всю, и при свечах. И наконец, я покажу вам двор, где мы увидим елочку лежащей среди метели, медленно кружащей в глухом прямоугольнике двора. Безлюдный двор и елка на снегу точней, чем календарь, нам обозначат, что минул год, что следующий начат. Что за нелепой разной кутерьмой, ах, боже мой, как время пролетело. Что день хоть и длинней, да холодней. Что женщина… Но речь тут не о ней. Здесь речь о елке. В ней-то все и дело.Как показать зиму Диалог у новогодней елки
– Что происходит на свете? – А просто зима. – Просто зима, полагаете вы? – Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранней порою дома. – Что же за всем этим будет? – А будет январь. – Будет январь, вы считаете? – Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю, этот, с картинками вьюги, старинный букварь. – Чем же все это окончится? – Будет апрель. – Будет апрель, вы уверены? – Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен, будто бы в роще сегодня звенела свирель. – Что же из этого следует? – Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. – Вы полагаете, все это будет носиться? – Я полагаю, что все это следует шить. – Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить, недолговечны ее кабала и опала. – Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить! – Месяц серебряный, шар со свечою внутри, и карнавальные маски – по кругу, по кругу! – Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку и – раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три!..Воспоминанье о скрипке
Откуда-то из детства бумажным корабликом, запахом хвойной ветки, рядом со словом полька или фольга, вдруг выплывает странное это слово, шершавое и смолистое — канифоль. Бумажный кораблик, елочная игрушка, скрипочка, скрипка. Шумные инструменты моего детства — деревянные ложки, бутылки, а также гребенки, обернутые папиросной бумагой, — это называлось тогда шумовым оркестром, и были там свои гении и таланты, извлекавшие из всего этого звуки, потрясавшие наши сердца. Я играл на бутылках, на деревянных ложках, я был барабанщиком в нашем отряде, но откуда это воспоминанье о скрипке, это шершавое ощущенье смычка, это воспоминанье о чем-то, что не случилось?«Была зима, как снежный перевал…»
Была зима, как снежный перевал, с дымком жилья, затерянным в провале. Но я в ту пору не подозревал, что я застрял на этом перевале. Была такая длинная зима, когда любой вечернею порою уже легко – сойтись горе с горою и очень трудно не сойти с ума. Была зима, и загородный дом, где в сумерках мерцает телевизор и где гудит огонь, бросая вызов метелям, снегопадам, январю — всему, что нам на головы свергалось. Дни прибывали по календарю. К пяти часам у нас уже смеркалось. Когда в окно вползала чернота и все предметы делались иными, я видел, как подводится черта под нашими усильями дневными, под нашей каждодневною тщетой. А ниже, оставаясь за чертой, тянулась цепь таинственных пометок, и лес напоминал строеньем клеток и всей своею сущностью прямой, что он не только современник мой, но и другого века однолеток, и он другие помнит времена. Графический рисунок голых веток напоминал при этом письмена давно существовавшего народа. А я еще задач такого рода не знал, я перед ними пасовал и то и дело путался в ответах. Да и мороз к тому же рисовал на стеклах непонятные узоры и всякие загадывал загадки, которых я разгадывать не мог, хотя и упражнялся регулярно. А утром снова тоненький дымок стоял над крышей перпендикулярно, и даль передо мной была бела, и жизнь моя передо мной была как на ладони вся, как на экране, и можно было с легкою душой перечеркнуть написанное ране, переписать строку или главу, которая лишь сдавленно звучала, перемарать постылый черновик, и даже сжечь, и все начать сначала.Сон о дороге
И еще такой я видел сон. Люди, их несметное количество, все, кто жил на свете до меня, двести поколений человечества, в отблесках закатного огня по дороге шли мимо меня. Люди эти, малы и велики, выходя из тьмы своих веков, на себе несли своих богов темные таинственные лики, свои стяги и свои вериги, груз венков своих, своих оков, книги своих пастырей и книги вольнодумцев и еретиков, древние орудия познанья, множество орудий для дознанья и для целей всяческих других, чаши для куренья фимиама — словом, все, с чем шла когда-то драма их страстей и верований их. Как ее разрозненные звенья, времена смешав и поколенья, шли передо мною Брут и Цезарь и Марат с Шарлоттою Корде, армии афинян и троянцев, якобинцев и преторианцев, Азия бок о бок и Европа, вперемежку Рим и Карфаген. И почтенный киник из Синопа, седовласый старец Диоген, выступив на миг из полумрака, поднял свой фонарик над собою и сказал мне строго: – Для чего! — И подобно греческому хору, тысячи людей одновременно выдохнули разом: – Для чего! — Кто-то рявкнул басом: – Ты ответишь! — И шепнули рядом: – Ты все скажешь! Ты нам головой своей ответишь, если ты не скажешь — для чего!.. — Я хотел ответить, я пытался, я кричал, но звук терялся где-то — как всегда во сне бывает это, вымолвить не мог я ничего. А меж тем поток уже кончался, край его вдали обозначался, и, венчая шествие, качался одинокий факел позади. И тогда над темною дорогой, где шаги едва уже звучали, преисполнен гнева и печали, трубный глас раздался: – Проходи!!! — И тогда пошел я вслед за ними, как в конце военного парада с площади уходят музыканты, завершая шествие его. А потом дорога опустела, лишь трава тревожно шелестела, и звезда полночная блестела, грустно вопрошая: – Для чего?Тревожное отступление
Я выдохся. Кончился. Всё. Ни строки. И так я, и этак – и всё не с руки. Река замерзает, и ветер с реки. Пора ледостава, и время бесптичья. И в голову лезут одни пустяки. Одни пустяки начинают меня тревожить — ну, скажем, вопросы величья, забвенья и славы, наличья врагов, а то – еще лучше — вопросы наличья долгов перед кем-то и просто долгов, а то еще – тоже — вопрос безразличья влиятельных критиков, узких кругов, от коих зависят вопросы величья, а также вопросы наличья долгов. Вот ход моих мыслей. Примерно таков. Я выдохся. Кончился. До неприличья, до ужаса даже – пуста голова. С трудом вспоминаю простые слова. Совсем задыхаюсь от косноязычья. Но после бессонницы ночь напролет, когда уже, в лестничный глядя пролет, решаю — а что, если вниз головой? — внезапно я звук различаю живой, шуршанье и клекот, как будто бы птичья гортань прочищается. Тронулся лед! И что-то случилось. Почти ничего. Всего только дрогнули чаши весов. И ключ повернулся. И щелкнул засов. Но это, возникнув бог весть из чего, моих журавлей предвещало прилет. (Вот тут и поди разберись, отчего, откуда все это начало берет!) Но клекот, шуршанье, и сдавленный зов, и множество смутных еще голосов… Да что же случилось? Пока ничего. Но тронулся, тронулся, тронулся лед. Теперь не пытайтесь тягаться со мной! Нет, вам не подняться теперь до меня! О господи, что ж это было со мной? Неужто и впрямь начинали меня серьезно тревожить вопросы величья, забвенья и славы, наличья врагов, а то – еще лучше — вопросы наличья — ну, словом, весь этот набор пустяков? Нет, дудки! Ищите себе дураков! Моих журавлей начинается лет! И ветер охоты подул на листы, и пороховницы мои не пусты, и ход моих мыслей сегодня таков, что впору с богами соседствовать мне! Да что там – с богами! Я сам из богов! Движенье созвездий и ход облаков решительно благоприятствуют мне. И все-то мне на руку все мне с руки, и все на мою только мельницу льет. Так что же случилось? Пока ничего. Но тронулся, тронулся, тронулся лед.Второе тревожное отступление
Ну вот и вернулись твои журавли. И ветер охоты подул на листы. И пороховницы твои не пусты. Ну что же, прекрасно! И ход твоих мыслей сегодня таков, что можешь с богами соседствовать ты. Да что там – с богами! Ты сам из богов! Ну что же, возможно. А все же давай разберемся сперва — с чего закружилась твоя голова? Всего-то с того, что умеешь слова писать на бумаге? Что можешь придать им порядок такой, чтоб строки стояли строка над строкой и чтобы одна отвечала другой своим окончаньем? Что вместо, к примеру, весна и сосна ты нынче рифмуешь весна и весла — и в этом ты зришь своего ремесла прогресс несомненный, как если бы рифма весна и весла уменьшила в мире количество зла, хотя б одного человека спасла от пули, от петли? А ты не подумал, садясь за стихи, что, может быть, это и есть пустяки — уменье писать на бумаге стихи, стихи на бумаге? И разве тебе не казалось порой, что ты занимаешься детской игрой, в бирюльки играешь во время чумы, во время пожара? Что все эти рифмы – безделица, вздор, бубенчики на шутовском колпаке, мальчишки, бегущие с криками вдоль рядов похоронных? Ну что ж, опровергни, отбрось, отмети все знаки вопроса один за другим, предай осмеянью, сотри в порошок, чтоб камня на камне… А все же ты должен пройти этот круг сомнений, неверья, опущенных рук, пускай не сегодня, не сразу, не вдруг, а все же, а все же…Время раскрывающихся листьев Фрагменты сценария
Клавиши рояля, чей-то палец, пробежавший по клавиатуре, и сейчас же тысячи сосулек с грохотом летят на тротуар. Человек сидит в весеннем сквере, в сквере, где сейчас творится чудо, чудо непрерывности творенья, сотворенья ветки и куста, чудо воссозданья, повторенья, завершенья круга, воскрешенья линий изначального рисунка, формы прошлогоднего листа. Человек сидит в весеннем сквере, в сквере, переполненном грачами, их высокомерными речами, вздорностью грачиных пересуд. Черные пасхальные старухи с древними рублевскими очами белые платочки с куличами мимо сквера бережно несут. Человек сидит в весеннем сквере, улыбаясь грусти безотчетной, смотрит, как в песке играют дети, хлебцы выпекают на доске, как они песок упрямо роют, на песке песочный домик строят, крепость воздвигают на песке. А весенний гром, еще несмелый, первый, еще робкий, неумелый, тихо погромыхивает где-то, громыхает, душу веселит. А весенний дождик все смывает, облегчает, очищает душу, обещает радужное что-то, что-то неизвестное сулит, что-то позабывшееся будит — что-то будет, что-то еще будет, что-то еще здесь произойдет. И тогда в дожде, как наважденье, возникает давнее виденье — женщины забытые глаза, два бездонных, два бессонных круга, и сквозь них, сквозь дождь, неторопливо — человек по улице идет, и навстречу женщина идет, и они увидели друг друга.Воспоминанье о шарманке
В высоком и тесном дворе, как в глубоком колодце, на дне появлялся шарманщик, появлялась шарманка, появлялся мотивчик, наивный и грустный, и тогда открывались окошки, и двор оживал, и в окне проступало лицо, проступала рука, проступала ладонь под щекой, из окна вылетала монетка, завернутая в бумажку, и летела на дно колодца — летела копейка, летела слезинка, летела улыбка, летела ромашка, летела синица, жар-птица, райская птица, ах, спасибо, шарманщик! Но кончался мотивчик, уплывала шарманка, удалялся шарманщик, унося в кармане копейку, слезинку, улыбку, ромашку, синицу жар-птицу, райскую птицу и колодец двора наполнялся, как дождевою водой, тишиной, и она расходилась кругами, расходилась кругами, расходилась кругами…«Еще апрель таился у запруд…»
Еще апрель таился у запруд, еще была пуста его купель, а он не почитал уже за труд усилья капель складывать в капель — в копилку, по копеечке, копил, как скряга, а потом на эту медь себе рубаху синюю купил — ни мне, ни вам подобной не иметь. В рубахе синей, конопат и рыж, пустился в пляс, как молодой цыган, и все сосульки, виснувшие с крыш, запели, как серебряный орган. И тут уже поехало, пошло, а на вторые или третьи сутки, в один из этих дней, произошло самоубийство мартовской сосульки, которая, отчаявшись, упала с карниза и покончила с собой, чего никто, конечно, не заметил. Апрель был юн, он весел был и светел и щеголял в своей рубахе синей, которая казалась голубой.Птицы
Когда снега земли и неба в окне смешались заодно, я раскрошил краюшку хлеба и бросил птицам за окно. Едва во сне, как в черной яме, рассвет коснулся век моих, я был разбужен воробьями, случайной трапезою их. Они так весело стучали о подоконник жестяной, что показалось мне вначале, что это дождик за стеной. Потом их стук о подоконник родил уверенность во мне, что по дороге скачет конник морозной ночью при луне. Что это кто-то, по ошибке встав среди ночи, второпях строчит на пишущей машинке смешной рассказ о воробьях. А птицы шумно пировали и, явный чувствуя подъем, картины эти рисовали в воображении моем. Как будто впрямь благодарили меня за что-то воробьи, они на память мне дарили произведения свои. Они давали безвозмездно, а не за пищу и за кров, по праву бедных и безвестных и все же гордых мастеров. Они творили, словно пели, и, так возвышенно творя, нарисовали звук капели среди зимы и января. И был отчетливый рисунок в моем рассветном полусне — как будто капало с сосулек и дело двигалось к весне.Человек с транзисторным приемником
Вы еще привыкнете к нему, к этому звучанью резковатому!.. Человек идет по эскалатору. Он стоит от вас невдалеке. Ящичек свистящий и грохочущий, ящичек поющий и хохочущий держит, как воробушка, в руке. Он таскает ящичек по городу, по бульварам бродит да по скверикам. К морю выйдет — ходит по-над берегом, собственною музыкой томим. Кто ж он, этот странник, очарованный ящичком играющим своим? Эту вещь, недавно уникальную, хитрую шкатулку музыкальную, на себе несет он, как печать времени, которое молчать разучилось, да и не желает. – Эй, – ему кричат, – убавьте звук! – Сделайте, – кричат ему, – потише! Прекратите шум!.. — Да вот поди же, шум не прекращается никак. Спящие в домах раздражены. Сколько раз его ни унимали — всяческие меры принимали — так и не добились тишины. Продолжает ящичек звучать — петь, кричать и всякое другое. Потому что время не такое — не такое время, чтоб молчать!Воспоминанье о санках
Мама везет меня куда-то на санках, нас обгоняет извозчик, а мне, должно быть, года четыре, и мама идет впереди, а я смотрю в ее спину, уставился в одну точку и думаю о чем-то. – О чем ты там думаешь, мальчик? — говорю я ему, сидящему в санках. Я хочу забежать вперед, заглянуть в глаза и сказать ему что-то, предупредить его, что ли, о чем-то, предостеречь от каких-то опасных поступков, но санки все дальше и дальше, все гуще падает снег, и вот уже санки пропали из виду, и на снегу остается лишь след их узких полозьев, а потом и его заметает снегом.Как показать весну
Я так хочу изобразить весну. Окно открою и воды плесну на мутное стекло, на подоконник. А впрочем, нет, подробности – потом. Я покажу сначала некий дом и множество закрытых еще окон. Потом из них я выберу одно и покажу одно это окно, но крупно, так что вата между рам, показанная тоже крупным планом, подобна будет снегу и горам, что смутно проступают за туманом. Но тут я на стекло плесну воды, и женщина взойдет на подоконник и станет мокрой тряпкой мыть стекло, и станет проступать за ним сама и вся в нем, как на снимке, проявляться. И станут в мокрой раме появляться ее косынка и ее лицо, крутая грудь, округлое бедро, колени, икры, наконец, ведро у голых ее ног засеребрится. Но тут уж время рамам отвориться, и стекла на мгновенье отразят деревья, облака и дом напротив, где тоже моет женщина окно. И тут мы вдруг увидим не одно, а сотни раскрывающихся окон, и женских лиц, и оголенных рук, вершащих на стекле прощальный круг. И мы увидим город чистых стекол. Светлейший, он высоких ждет гостей. Он ждет прибытья гостьи высочайшей. Он напряженно жаждет новостей, благих вестей и пиршественной влаги. И мы увидим — ветви еще наги, но веточки, в кувшин водружены, стоят в окне, как маленькие флаги той дружеской высокой стороны. И все это — как замерший перрон, где караул построился для встречи, и трубы уже вскинуты на плечи, и вот сейчас, вот-вот уже, вот-вот.Сон об уходящем поезде
Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один, в пути, зимой, на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел. И я хочу бежать за ним – и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу, и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас — вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и, видно, неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь – так лечь, а рубят – так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон. Я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угле и в дыму. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег. Мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать – и не могу. И все-таки сквозь сон мучительно бегу и в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас.Прощание с книгой
Нескончаемой спирали бесконечные круги. Снизу вверх пролеты лестницы – беги по ним, беги. Там, вверху, под самой крышей, в темноте горит окно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! Я люблю сюжет старинный, где с другими наравне я не первый год играю роль, доставшуюся мне. И, безвестный исполнитель, не расстраиваюсь я, что в больших твоих афишах роль не значится моя, что в различных этих списках исполнителей ролей среди множества фамилий нет фамилии моей. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем, все проходит, все проходит, мы пришли, и мы уйдем. Все приходит и уходит в никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны, как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить, потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственною ролью плачу я и хохочу, по возможности достойно доиграть свое хочу — ведь не мелкою монетой, жизнью собственной плачу и за то, что горько плачу, и за то, что хохочу.Воспоминанье о цветных стеклах
Первое воспоминанье, самое первое, цветное, цветная веранда, застекленная красным, зеленым и желтым, красные помидоры в тарелке, лук нарезан колечками, звук приближающейся пролетки по булыжной мостовой, кто-то, должно быть, приехал, кованый сундучок и орехи в зеленых скорлупках с желтым запахом йода, золотые шары у крылечка, звук удаляющейся пролетки, цоканье лошадиных подков по квадратикам звонких булыжин, кто-то, должно быть, уехал, может быть, я, ну конечно, это я уезжаю, засыпая под звук пролетки, и только цветная веранда мигает вдали красным, зеленым и желтым, игрушечным светофором на том перекрестке, куда мне уже не вернуться.«Отмечая времени быстрый ход…»
Феликсу Светову
Отмечая времени быстрый ход, моя тень удлиняется, что ни год, что ни год удлиняется, что ни день, все длиннее становится моя тень. Вот уже осторожно легла рука на какие-то пастбища и луга. Вот уже я легонько плечом задел за какой-то горный водораздел. Вот уже легла моя голова на какие-то теплые острова. А она все движется, моя тень, все длиннее становится, что ни день, а однажды, вдруг, на исходе дня и совсем отделяется от меня. И когда я уйду от вас в некий день, в некий день уйду от вас, в некий год, здесь останется легкая моя тень, тень моих надежд и моих невзгод, полоса, бегущая за кормой, очертанье, контур неясный мой… Словом, так ли, этак ли – в некий час моя тень останется среди вас, среди вас, кто знал меня и любил, с кем я песни пел, с кем я водку пил, с кем я щи хлебал и дрова рубил, среди вас, которых и я любил. Будет тень моя тихо у вас гостить, и неслышно в ваши дома стучать, и за вашим скорбным столом грустить, и на вашем шумном пиру молчать. Лишь когда последний из вас уйдет, навсегда окончив свой путь земной, моя тень померкнет, на нет сойдет, и пойдет за мной, и пойдет за мной, чтобы там исчезнуть среди корней, чтоб растаять дымкою голубой, — ибо мир предметов и мир теней все же прочно связаны меж собой. Так живите долго, мои друзья. Исполать вам, милые. В добрый час. И да будет тень моя среди вас. И да будет жизнь моя среди вас.«Когда земля уже качнулась…»
Когда земля уже качнулась, уже разверзлась подо мной и я почуял холод бездны, тот безнадежно ледяной, я, как заклятье и молитву, твердил сто раз в теченье дня: – Спаси меня, моя работа, спаси меня, спаси меня! — И доброта моей работы опять мне явлена была, и по воде забвенья черной ко мне соломинка плыла, мой тростничок, моя скорлупка, моя свирель, моя ладья, моя степная камышинка, смешная дудочка моя…День такой-то (1976)
«Давно ли покупали календарь…»
Давно ли покупали календарь, а вот уже почти перелистали, и вот уже на прежнем пьедестале себе воздвигли новый календарь, и он стоит, как новый государь, чей норов до поры еще неведом, и подданным пока не угадать, дарует ли он мир и благодать, а может быть, проявится не в этом. Ах, государь мой, новый календарь, три сотни с половиной, чуть поболе, страниц надежды, радости и боли, спрессованная стопочка листков, билетов именных и пропусков на право беспрепятственного входа под своды наступающего года, где точно обозначены уже часы восхода и часы захода, рожденья чей-то день, и день ухода туда, где больше нет календарей, и нет ни декабрей, ни январей, а все одно и то же время года. Ах, государь мой, новый календарь! Что б ни было, пребуду благодарен за каждый лист, что будет мне подарен, за каждый день такой-то и такой из тех, что мне бестрепетной рукой отсчитаны и строго, и бесстрастно. …И снова первый лист перевернуть — как с берега высокого нырнуть в холодное бегущее пространство.Пробужденье
Просыпаюсь – как заполночь с улицы в дом торопливо вбегаю и бегу через сто его комнат пустых, в каждой комнате свет зажигаю — загораются лампочки, хлопают двери, тяжелые шторы на окнах легко раздвигаются сами, постепенно весь дом наполняется шумом и шорохом, шелестом, шепотом, топотом ног, суетой, беготней, голосами, с этажа на этаж – суетой, беготней – все быстрее — обрывками фраз о вчерашних делах и событьях, о том, о другом, о делах, о погоде, с этажа на этаж, из пролета в пролет — все быстрей – коридорами – дайте пройти! не торчите в проходе! — сто звонков, сто машинок – звенят телефоны, трещат арифмометры, щелкают счеты, с этажа на этаж – все быстрей – резолюции, выписки, списки, расчеты, подсчеты, дом гудит уже весь, он гудит, словно улей, и все его окна сияют, раскрыты навстречу встающему солнцу поющим синицам, идущему мимо трамваю. …Это я просыпаюсь. Проснулся. Глаза открываю.Проторенье дороги
Проторенье дороги, предчувствие, предваренье. Тихое настроенье, словно идет снег. И хочется написать длинное стихотворенье, в котором сошлись бы на равных и это и то. Что-нибудь вроде – гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, – и дальше, строка за строкой, где будут на равных провидящие и слепые, и нищий певец, скорбящий о тех и других. И чтобы в финале – семь городов состязали за мудрого корень – и несколько еще слогов, слагающихся из звуков паденья снега и короткого звука лопающейся струны… Проторенье дороги, евангелье от Сизифа, неизменное, как моленье и как обряд, повторенье до, повторенье ре, повторенье мифа, до-ре-ми-фа-соль одним пальцем сто лет подряд. И почти незаметное, медленное продвиженье, передвиженье, медленное, на семь слогов, на семь музыкальных знаков, передвиженье на семь изначальных звуков, на семь шагов, и восхожденье, медленное восхожденье, передвиженье к невидимой той гряде, где почти не имеет значенья до или после и совсем не имеет значенья когда и где, и дорога в горы, где каждый виток дороги чуть выше, чем предыдущий ее виток, и виток дороги – еще не итог дороги, но виток дороги важней, чем ее итог, и в конце дороги – не семь городов заветных, а снова все те же, ощупью и впотьмах, семь знаков, как семь ступенек едва заметных, семь звуков, как семь городов на семи холмах… Проторенье дороги, смиренье, благодаренье. Шаг, и еще один шаг, и еще шажок. Тихий снежок, ниспадающий в отдаленье. За поворотом дороги поющий рожок. И как отзвук той неизбывной светлой печали, в сумерках, одним пальцем, до-ре-ми-фа-соль, и огарок свечи, и рояль, и опять, как вначале, — до-ре-ми-фа-соль, до-ре-ми-фа-соль, до-ре-ми-фа-соль…«Всего и надо, что вглядеться, – боже мой…»
Всего и надо, что вглядеться, – боже мой, всего и дела, что внимательно вглядеться, — и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться, – боже мой, всего и дела, что помедлить над строкою — не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль не узнанной до времени строки. И все ж строка – она со временем прочтется, и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза – они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли, и не отрыть уже, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас, за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете, и в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья. Я жил как все. Вначале слово безраздельно мной владело. А дело после было, после было дело, и в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел — покуда мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел!Попытка убыстренья
Я зимнюю ветку сломал, я принес ее в дом и в стеклянную банку поставил. Я над ней колдовал, я ей теплой воды подливал, я раскрыть ее листья заставил. И раскрылись зеленые листья, растерянно так раскрывались они, так несмело и так неохотно, и была так бледна и беспомощна бедная эта декабрьская зелень — как ребенок, разбуженный ночью, испуганно трущий глаза среди яркого света, как лохматый смешной старичок, улыбнувшийся грустно сквозь слезы.«Не руки скрещивать на груди…»
Не руки скрещивать на груди, а голову подпереть руками, смежить ресницы, сидеть и слушать, пока услышишь, — и ты услышишь. И ты услышишь неясный шорох и ветра легкое дуновенье, неясный шорох, шуршанье крыльев, шаги неслышные за спиною, и чьи-то легкие две ладони, почти прозрачны и невесомы, тебе на глаза осторожно лягут, и ты прозреешь — и ты увидишь. … И ты увидишь в кромешном мраке, как кружится ворон над спящей Троей, и ты разглядишь в коне деревянном ахейских воинов смуглолицых, ты разглядишь их лица и руки, их оружье и их доспехи, и различишь печальные очи каменной девы в пустынном храме… … И ты услышишь однажды ночью звездного неба зов отдаленный, и ты услышишь в полночном небе лунного света звонкие льдинки, тонкое теньканье лунных капель, тайную музыку лунной ночи, ее пассажи, ее аккорды, ее сонатное построенье… Не руки скрещивать на груди, а голову подпереть руками — вот жест воистину величавый, и он единственно плодотворен. Голову подпереть руками, ждать спокойно и терпеливо, и ты увидишь, и ты услышишь, во всяком случае — есть надежда. Вещая птица и мертвый камень. Девы скорбящей печальны очи. Тонкое теньканье лунных капель. Вечная музыка лунной ночи.Гибель «титаника»
Желтый рисунок в забытом журнале старинном, начало столетья. Старый журнал запыленный, где рой ангелочков пасхальных бесшумно порхает по выцветшим желтым страницам и самодержец российский на тусклой обложке журнальной стоит, подбоченясь картинно. Старый журнал, запыленный, истрепанный, бог весть откуда попавший когда-то ко мне, в мои детские руки. Желтый рисунок в журнале старинном – огромное судно, кренясь, погружается медленно в воду — тонет «Титаник» у всех на глазах, он уходит на дно, ничего невозможно поделать. Крики, стенанья, молитвы, проклятья, отчанье, вопли отчаянья, ужас. Руки и головы, шляпы и зонтики, сумочки, доски, игрушки, обломки. – Эй, не цепляйтесь за борт этой шлюпки! — (веслом по вцепившимся чьим-то рукам!) — мы потонем, тут нет больше места!.. Сгусток, сцепленье, сплетенье страстей человеческих, сгусток, сцепленье, сплетенье. С детской поры моей, как наважденье, все то же виденье, все та же картина встает предо мной, неизменно во мне вызывая чувство тревоги и смутное чувство вины перед кем-то, кто был мне неведом. …Крики, стенанья, молитвы, проклятья, отчаянье, вопли отчаянья — тонет «Титаник». Тонет «Титаник» – да полно, когда это было, ну что мне, какое мне дело! Но засыпаю – и снова кошмаром встает предо мною все то же виденье, и просыпаюсь опять от неясного чувства тревоги, тревоги и ужаса — тонет «Титаник»!Попытка оправданья
О, все эти строки, которые я написал, и все остальные, которые я напишу, — я знаю, и все они вместе, и эти, и те, не стоят слезинки одной у тебя на щеке. Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, с моею бедою, с постыдной моей маетой! И снова уходит земля у меня из-под ног, и снова расходится слово и дело мое. Так, может быть, к черту бумагу, и перья на слом, и сжечь корабли бесполезной флотилии той! Но что же мне делать с проклятым моим ремеслом, с моею старинной, бессонной моей маетой! Все бросить, и броситься в ноги, прийти, осушить, приникнуть губами – все брошу, приду, осушу — дрожащую капельку, зернышко горькой росы, в котором растет укоризна и зреет упрек. О да, укоризна, всемирный разлад и разлом, все бури и штормы пяти потрясенных морей… И все-таки что же мне делать с моим ремеслом, с моею бедой, с бессонною мукой моей! И вновь меня требует совесть на праведный суд. И речь тут о сути самой и природе греха. И все адвокаты на свете меня не спасут — я сам отвечаю за грешную душу стиха. И вот я две муки неравных кладу на весы, две муки, две боли, сплетенные мертвым узлом. Но капелька эта, но зернышко горькой росы… И все-таки что же мне делать с моим ремеслом! О слово и дело, я вас не могу примирить, и нет искупленья, и нет оправданья греху. И мне остается опять утешать себя тем, что слово и есть настоящее дело мое. Да, дело мое – это слово мое на листе. И слово мое – это тело мое на кресте. Свяжи мои руки, замкни мне навечно уста — но я ведь и сам не хочу, чтобы сняли с креста. О слово и дело, извечный разлад и разлом. Но этот излом не по-детски сведенных бровей!.. Так что же мне делать с проклятым моим ремеслом и что же мне делать с горчайшей слезинкой твоей!«Светлый праздник бездомности…»
Светлый праздник бездомности, тихий свет без огня. Ощущенье бездонности августовского дня. Ощущенье бессменности пребыванья в тиши и почти что бессмертности своей грешной души. Вот и кончено полностью, вот и кончено с ней, с этой маленькой повестью наших судеб и дней, наших дней, перемеченных торопливой судьбой, наших двух переменчивых, наших судеб с тобой. Поддень пахнет кружением дальних рощ и лесов. Пахнет вечным движением привокзальных часов. Ощущенье беспечности, как скольженье на льду. Запах ветра и вечности от скамеек в саду. От рассвета до полночи тишина и покой. Никакой будто горечи и беды никакой. Только полночь опустится, как догадка о том, что уже не отпустится ни сейчас, ни потом, что со счета не сбросится ни потом, ни сейчас и что с нас еще спросится, еще спросится с нас.Ялтинский домик
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой, вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой, как мне ни странно и как ни печально, увы, — старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы. Годы проходят, и, как говорится, сик транзит глория мунди, – и все-таки это нас дразнит. Годы куда-то уносятся, чайки летят. Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят. Грустная желтая лампа в окне мезонина. Чай на веранде, вечерних теней мешанина. Белые бабочки вьются над желтым огнем. Дом заколочен, и все позабыли о нем. Дом заколочен, и нас в этом доме забыли. Мы еще будем когда-то, но мы уже были. Письма на полке пылятся – забыли прочесть. Мы уже были когда-то, но мы еще есть. Пахнет грозою, в погоде видна перемена. Это ружье еще выстрелит – о, непременно! Съедутся гости, покинутый дом оживет. Маятник медный качнется, струна запоет… Дышит в саду запустелом ночная прохлада. Мы старомодны, как запах вишневого сада. Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом. Мы уже были, но мы еще будем потом. Старые ружья на выцветших старых обоях. Двое идут по аллее – мне жаль их обоих. Тихий, спросонья, гудок парохода в порту. Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.Человек, строящий воздушные замки
Он лежит на траве под сосной на поляне лесной и, прищурив глаза, неотрывно глядит в небеса — не мешайте ему, он занят, он строит, он строит воздушные замки. Галереи и арки, балконы и башни, плафоны, колонны, пилоны, пилястры, рококо и барокко, ампир и черты современного стиля, и при всем совершенство пропорций, изящество линий — и какое богатство фантазии, выдумки, вкуса! На лугу, на речном берегу, при луне, в тишине, на душистой копне, он лежит на спине и, прищурив глаза, неотрывно глядит в небеса — не мешайте, он занят, он строит, он строит воздушные замки, он весь в небесах, в облаках, в синеве, еще масса идей у него в голове, конструктивных решений и планов, он уже целый город воздвигнуть даже сто городов — заходите, когда захотите, берите, живите! Он лежит на спине, на дощатом своем топчане, и во сне, закрывая глаза, все равно продолжает глядеть в небеса, потому что не может не строить своих фантастических зданий. Жаль, конечно, что жить в этих зданьях воздушных, увы, невозможно, ни мне и ни вам, ни ему самому, никому, ну а все же, а все же, я думаю, нам не хватало бы в жизни чего-то и было бы нам неуютней на свете, если б не эти невидимые сооруженья из податливой глины воображенья, из железобетонных конструкций энтузиазма, из огнем обожженных кирпичиков бескорыстья и песка, золотого песка простодушья, — когда бы не он, человек, строящий воздушные замки.«Вдали полыхнула зарница…»
Вдали полыхнула зарница. Качнулась за окнами мгла. Менялась погода – смениться погода никак не могла. И все-таки что-то менялось. Чем дальше, тем резче и злей менялась погода, менялось строенье ночных тополей. И листьев бездомные тени, в квартиру проникнув извне, в каком-то безумном смятенье качались на белой стене. На этом случайном квадрате, мятежной влекомы трубой, сходились несметные рати на братоубийственный бой. На этой квадратной арене, где ветер безумья сквозил, извечное длилось боренье издревле враждующих сил. Там бились, казнили, свергали, и в яростном вихре погонь короткие сабли сверкали и вспыхивал белый огонь. Там, памятью лета томима, томима всей памятью лет, последняя шла пантомима, последний в сезоне балет. И в самом финале балета, его безымянный солист, участник прошедшего лета, последний солировал лист. Последний бездомный скиталец шел по полю, ветром гоним, и с саблями бешеный танец бежал, задыхаясь, за ним. Скрипели деревья неслышно. Качалась за окнами мгла. И музыки не было слышно, но музыка все же была. И некто с рукою, воздетой к невидимым нам небесам, был автором музыки этой, и он дирижировал сам. И тень его палочки жесткой, с мелодией той в унисон, по воле руки дирижерской собой завершала сезон… А дальше из сумерек дома, из комнатной тьмы выплывал рисунок лица молодого, лица молодого овал. А дальше, виднеясь нечетко сквозь комнаты морок и дым, темнела короткая челка над спящим лицом молодым. Темнела, как венчик терновый, плыла, словно лист по волнам. Но это был замысел новый, покуда неведомый нам.«Замирая, следил, как огонь подступает к дровам…»
Замирая, следил, как огонь подступает к дровам. Подбирал тебя так, как мотив подбирают к словам. Было жарко поленьям, и пламя гудело в печи. Было жарко рукам и коленям сплетаться в ночи… Ветка вереска, черная трубочка, синий дымок. Было жаркое пламя, хотел удержать, да не мог. Ах, мотивчик, шарманка, воробышек, желтый скворец упорхнул за окошко, и песенке нашей конец. Доиграла шарманка, в печи догорели дрова. Как трава на пожаре, остались от песни слова. Ни огня, ни пожара, молчит колокольная медь. А словам еще больно, словам еще хочется петь. Но у Рижского взморья все тише стучат поезда. В заметенном окне полуночная стынет звезда. Возле Рижского взморья, у кромки его берегов, опускается занавес белых январских снегов. Опускается занавес белый над сценой пустой. И уходят волхвы за неверной своею звездой. Остывает залив, засыпает в заливе вода. И стоят холода, и стоят над землей холода.«Как зарок от суесловья, как залог…»
Как зарок от суесловья, как залог и попытка мою душу уберечь, в эту книгу входит море – его слог, его говор, его горечь, его речь. Не спросившись, разрешенья не спросив, вместе с солнцем, вместе в ветром на паях, море входит в эту книгу, как курсив, как случайные пометки на полях. Как пометки – эти дюны, эта даль, сонных сосен уходящий полукруг… Море входит в эту книгу, как деталь, всю картину изменяющая вдруг. Всю картину своим гулом окатив, незаметно проступая между строк, море входит в эту книгу, как мотив бесконечности и судеб и дорог. Бесконечны эти дюны, этот бор, эти волны, эта темная вода… Где мы виделись когда-то? Невермор. Где мы встретимся с тобою? Никогда. Это значит, что бессрочен этот срок. Это время не беречься, а беречь. Это северное море между строк, его говор, его горечь, его речь. Это север, это северные льды, сосен северных негромкий разговор. Голос камня, голос ветра и воды, голос птицы из породы Невермор.Годы
Годы двадцатые и тридцатые, словно кольца пружины сжатые, словно годичные кольца, тихо теперь покоятся где-то во мне, в глубине. Строгие годы сороковые, годы, воистину роковые, сороковые, мной не забытые, словно гвозди, в меня забитые, тихо сегодня живут во мне, в глубине. Пятидесятые, шестидесятые, словно высоты, недавно взятые, еще остывшие не вполне, тихо сегодня живут во мне, в глубине. Семидесятые годы идущие, годы прошедшие, годы грядущие больше покуда еще вовне, но есть уже и во мне. Дальше – словно в тумане судно, восьмидесятые — даль в снегу, и девяностые — хоть и смутно, а все же представить еще могу, Но годы двухтысячные и дате — не различимые мною дали — произношу, как названья планет, где никого пока еще нет и где со временем кто-то будет, хотя меня уже там не будет. Их мой век уже не захватывает — произношу их едва дыша — год две тысячи — сердце падает и замирает моя душа.Белая баллада
Снегом времени нас заносит – все больше белеем. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям, белые, словно парусные корабли. И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные. И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед. Пятидесяти орудий залпы неслышные. Пятидесяти невидимых молний свет. И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья. И вечным прощеньем пахнущая трава. …Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья. Последней Надежды туманные острова. И снова подводные рифы и скалы опасные. И снова к глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое – плывите, парусные! Может, еще и вправду земля кругла. И снова нас треплет качка осатанелая. И оста и веста попеременна прыть. … В белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая. Неведомо, сколько кому остается плыть. Белые хлопья вьются над нами, чайки летают. След за кормою – тоненькая полоса. В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают попутного ветра не ждущие паруса.«Окрестности, пригород – как этот город зовется?…»
Б. Слуцкому
Окрестности, пригород – как этот город зовется? И дальше уедем, и пыль за спиною завьется. И что-то нас гонит все дальше, как страх или голод, — окрестности, пригород, город – как звать этот город Чего мы тут ищем? У нас опускаются руки. Нельзя возвращаться, нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город, встающий за клубами пыли, — тот город, те годы, в которых мы молоды были? Над этой дорогой трубили походные трубы. К небритым щекам прикасались горячие губы. Те губы остыли, те трубы давно оттрубили. Зачем нам те годы, в которых мы молоды были? Но снова душа захолонет и сердце забьется — вон купол и звонница – как эта площадь зовется? Вон церковь, и площадь, и улочка – это не та ли? Не эти ли клены над нами тогда облетали? Но сад затерялся среди колоколен и башен. Но дом перестроен, но старый фасад перекрашен. Но тех уже нет, а иных мы и сами забыли, лишь память клубится над ними, как облачко пыли. Зачем же мы рвемся сюда, как паломники в Мекку? Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку? Мы с прошлым простились, и незачем дважды прощаться. Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод, — окрестности, пригород, город – как звать этот город?Молитва о возвращенье
Семимиллионный город не станет меньше, если один человек из него уехал. Но вот один человек из него уехал, и город огромный вымер и опустел. И вот я иду по этой пустой пустыне, куда я иду, зачем я иду, не знаю, который уж день вокруг никого не вижу, и только песок скрипит на моих зубах. Прости, о семимиллионный великий город, о семь миллионов добрых моих сограждан, но я не могу без этого человека, и мне никого не надо, кроме него. Любимая, мой ребенок, моя невеста, мой праздник, мое мученье, мой грешный ангел, молю тебя, как о милости, – возвращайся. Я больше ни дня не вынесу без тебя! (О господи, сделай так, чтоб она вернулась, о господи, сделай так, чтоб она вернулась, о господи, сделай так, чтоб она вернулась, ну что тебе стоит, господи, сделать так!) И вот я стою один посреди пустыни, стотысячный раз повторяя, как заклинанье, то имя, которое сам я тебе придумал, единственное, известное только мне. Дитя мое, моя мука, мое спасенье, мой вымысел, наважденье, фата-моргана, синичка в бездонном небе моей пустыни, молю тебя, как о милости, – возвратись! (О господи, сделай так, чтоб она вернулась, о господи, сделай так, чтоб она вернулась, о господи, сделай так, чтоб она вернулась, ну что тебе стоит, господи, сделать так!) И вот на песке стою, преклонив колена, стотысячный раз повторяя свою молитву, и чувствую – мой рассудок уже мутится и речь моя все невнятнее и темней. Любимая, мой ребенок, моя невеста (но я не могу без этого человека), мой праздник, мое мученье, мой грешный ангел (но мне никого не надо, кроме него), мой вымысел, наважденье, фата-моргана (о господи, сделай так, чтоб она вернулась), синичка в бездонном небе моей пустыни (ну что тебе стоит, господи, сделать так)!«Что-то случилось, нас все покидают…»
Что-то случилось, нас все покидают. Старые дружбы, как листья опали. …Что-то тарелки давно не летают. Снежные люди куда-то пропали. А ведь летали над нами, летали. А ведь кружили по снегу, кружили. Добрые феи над нами витали. Добрые ангелы с нами дружили. Добрые ангелы, что ж вас не видно? Добрые феи, мне вас не хватает! Все-таки это ужасно обидно — знать, что никто над тобой не летает. Лучик зеленой звезды на рассвете. Красной планеты ночное сиянье. Как мне без вас одиноко на свете, о недоступные мне марсиане! Снежные люди, ну что ж вы, ну где вы, о белоснежные нежные девы! Дайте мне руки, раскройте объятья, о мои бедные сестры и братья! …Грустно прощаемся с детскими снами. Вымыслы наши прощаются с нами. Крыльев не слышно уже за спиною. Робот храпит у меня за стеною.Из цикла «Старинные петербургские гравюры»
Плач о майоре Ковалеве
Это надо же, как распустились иные носы, это надо же, как распустились! Не простились ни с кем, никого не спросились, по Питеру шляться пустились! Плачь, коллежский асессор, майор Ковалев, о своей драгоценной пропаже, плачь о сыне возлюбленном, чаде заблудшем своем, плачь о носе своем несравненном! Это надо же, экий проказник бесстыжий, шалун, шалопай, вы подумайте, экий негодник! Нос – жуир, донжуан, прощелыга и щеголь, повеса и мот, греховодник и дамский угодник! Франт в мундире с шитьем золотым, и при шпаге, и в шляпе с плюмажем, разъезжает в карете, скажите пожалуйста, чем вам не статский советник! Стыд и срам, господа, ну пускай бы там палец мизинный какой или что-нибудь в этаком роде — а ведь это же нос, господа, нос по Питеру бродит при всем при честном-то народе! Да уже при одной только мысли об этом, представьте, впадает в смущенье даже сам надзиратель квартальный, и пристав, и прочие все благородные люди… Плачь, майор Ковалев, плачь, коллежский асессор, кричи и стенай, пред святыми молись образами! Громче плачь, рви рубаху нательную, бей себя в грудь, день и ночь обливайся слезами! Ибо самое страшное в нашей истории даже совсем и не это, по сути, ибо самого главного ты и не знаешь покуда, и ведать не можешь, понеже все тайной покрыто глубокой. …Он вернется к тебе, твое чадо любезное, блудный твой нос, твоя плоть, твоей плоти безгрешной частица. Блудный сын твой вернется к тебе, блудный нос твой однажды к тебе возвратится. Только он ли, не он ли вернется к тебе, — вот где главная видится нам закавыка. Что как черти его подменили, другим заменили, хотя и отменно похожим по внешнему виду? Ты премногие беды приимешь, майор Ковалев, от него, ты претерпишь еще превеликие муки, и однажды ты все же отвергнешь его, ты отторгнешь его по суровым законам врачебной науки. По законам природы отторгнешь его, по суровым законам премудрой природы, ибо плоть его будет, майор Ковалев, несовместна отныне с твоею. …Поздний зимний рассвет петербургский, ах, что-то случится сегодня, ах, что-то, должно быть, случится! Ну-ка, выглянь в окошко, майор Ковалев, кто-то в дверь твою тихо стучится. Вот уже и по лестнице слышится шарканье ног, вот уже в глубине коридора слышен звук характерный сморканья и топот шагов — грозный шаг твоего Командора.Плач о господине Голядкине
Господин Голядкин, душа моя, человече смиренный и тихий, вольнодумец тишайший, бунтарь незадачливый, сокрушитель печальный! Это что за погода у нас, что за ветер такой окаянный! Это что за напасти такие одна за другою на голову нашу! Господин Голядкин, душа моя, старый питерский житель, утешитель опальный, бедолага отпетый, страстотерпец строптивый! Это что там за мерзкие рожи мелькают за этой треклятой вьюгою на Невском прошпекте, что за гнусные хари, что за рыла свиные, Люциферово грязное семя! Господин Голядкин, душа моя, человек незлобливый и кроткий, вольтерьянец смиренный, Дон-Кишот на манер петербургский! Что за хитрые сети плетет сатана вокруг нас, что уже нам и шагу ступить невозможно, — это что за потрава на нас, это что за облава, как словно все разом бесовские силы сошлись против нас в этом дьявольском тайном комплоте! Господин Голядкин, душа моя, старый питерский житель, мой двойник, мой заветный тайник, мой дневник, не написанный мною, он стоит на холодном ветру, потирая озябшие руки, отвечает смиренно и кротко – авось обойдется! Господин Голядкин, душа моя, в чем воистину его сила, не подвержен унынью – все авось, говорит, обойдется, может, все еще к лучшему, все еще к лучшему вдруг обернется, к нам фортуна лицом повернется, судьба улыбнется! А вьюга-то, вьюга на проспекте на Невском все пуще и пуще, а свиные-то рыла за этой треклятой вьюгою уже и вконец обнаглели — то куснуть норовят, то щипнуть, то за полу шинели подергать, да к тому же при этом еще заливаются смехом бесстыжим. Господин Голядкин, душа моя, человек незлобливый и кроткий, да ведь тоже недолго ему осерчать не на шутку! Да ведь ежели этак-то дело пойдет, тут уже и амбицией пахнет! Сатисфакцией пахнет, а может быть, даже того — конфронтацией даже! Тут уж, ежели что, господа, тут такое пойдет, тут такое начнется! Тут достанется, может быть, даже сиятельным неким особам! Эй, коня господину Голядкину черт побери, да кольчугу, да шпагу! Острый меч господину Голядкину, да поживее!.. Барабаны бьют на плацу барабаны бьют, барабаны. Чей-то конь храпит, чей-то меч звенит, чья-то тень вдоль стены крадется. Колокольчик-бубенчик звенит вдалеке, звенит колокольчик. Только все обошлось бы, о господи, — авось обойдется, авось обойдется!«Дня не хватает, дни теперь все короче…»
Дня не хватает, дни теперь все короче. Долгие ночи, в окнах горят огни. А прежде нам все никак не хватало ночи. А прежде – какие длинные были дни! А прежде, я помню, день бесконечно длился — солнце палило, путь мой вдали пылился, гром вдали погромыхивал, дождик лился, пот с меня градом лился, я с ног валился, падал в траву, как мертвый, не шевелился, а день не кончался, день продолжался, длился — день не кончался, длился и продолжался, сон мой короткий явью перемежался, я засыпал, в беспамятство погружался, медленно самолет надо мной снижался, он надо мной кружился, он приближался, а день не кончался, длился и продолжался — день продолжался, длился и не кончался, я еще шел куда-то, куда-то мчался, с кем-то встречался, в чье-то окно стучался, с кем-то всерьез и надолго разлучался, и засыпал, и пол подо мной качался, а день продолжался, длился и не кончался…«Были смерти, рожденья, разлады, разрывы…»
Были смерти, рожденья, разлады, разрывы — разрывы сердец и распады семей — возвращенья, уходы. Было все, как бывало вчера, и сегодня, и в давние годы. Все, как было когда-то, в минувшем столетье, в старинном романе, в Коране и в Ветхом завете. Отчего ж это чувство такое, что все по-другому, что все изменилось на свете? Хоронили отцов, матерей хоронили, бесшумно сменялись над черной травой погребальной за тризною тризна. Все, как было когда-то, как будет на свете и ныне и присно. Просто все это прежде когда-то случалось не с нами, а с ними, а теперь это с нами, теперь это с нами самими. А теперь мы и сами уже перед господом богом стоим, неприкрыты и голы, и звучат непривычно – теперь уже в первом лице — роковые глаголы. Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, это здесь, а не где-то. В остальном же, по сути, совсем не существенна разница эта. В остальном же незыблем порядок вещей, неизменен, на веки веков одинаков. Снова в землю зерно возвратится, и дети к отцу возвратятся, и снова Иосифа примет Иаков. И пойдут они рядом, пойдут они, за руки взявшись, как равные, сын и отец, потому что сравнялись отныне своими годами земными. Только все это будет не с ними, а с нами, теперь уже с нами самими. В остальном же незыблем порядок вещей, неизменен, и все остается на месте. Но зато испытанье какое достоинству нашему, нашему мужеству, нашим понятьям о долге, о чести. Как рекрутский набор, перед господом богом стоим, неприкрыты и голы, и звучат все привычней — звучавшие некогда в третьем лице — роковые глаголы. И звучит в окончанье глагольном, легко проступая сквозь корень глагольный, голос леса и поля, травы и листвы перезвон колокольный.Попытка утешенья
Все непреложней с годами, все чаще и чаще, я начинаю испытывать странное чувство, словно я заново эти листаю страницы, словно однажды уже я читал эту книгу. Мне начинает все чаще с годами казаться — и все решительней крепнет во мне убежденье этих листов пожелтевших руками касаться мне, несомненно, однажды уже приходилось. Я говорю вам – послушайте, о, не печальтесь, о, не скорбите безмерно о вашей потере — ибо я помню, что где-то на пятой странице вы все равно успокоитесь и обретете. Я говорю вам – не следует так убиваться, о, погодите, увидите, все обойдется – ибо я помню, что где-то страниц через десять вы напеваете некий мотивчик веселый. Я говорю вам – не надо заламывать руки, хоть вам и кажется небо сегодня с овчину — ибо я помню, что где-то на сотой странице вы улыбаетесь, как ничего не бывало. Я говорю вам – я в этом могу поручиться, я говорю вам – ручаюсь моей головою, ибо, воистину, ведаю все, что случится следом за тою и следом за этой главою. Я и себе говорю – ничего, не печалься. Я и себя утешаю – не плачь, обойдется. Я и себе повторяю – ведь все это было, было, бывало, а вот обошлось, миновало. Я говорю себе – будут и горше страницы, будут горчайшие, будут последние строки, чтобы печалиться, чтобы заламывать руки, да ведь и это всего до страницы такой-то.«Море по-латышски…»
Море по-латышски называется юра, но я не знал еще этого, когда вышел однажды под вечер на пустынное побережье и внезапно увидел огромную, указывающую куда-то вдаль стрелу, на которой было написано мое имя (как на давних военных дорогах — названья чужих городов, не взятых покуда нами). Это было забавно и странно, хотя и немного жутко одновременно. Казалось, что кто-то мне дарит простую такую возможность найти наконец-то себя в этом мире. Это было игрой под названьем «Ищите себя» (и, конечно, в нем слышалась просьба «ищите меня!», ибо сам не найдешь себя, если кто-то тебя не найдет)… Ах, друзья мои, как замечательно было б поставить на наших житейских дорогах подобные стрелы с нашими именами — от скольких бы огорчений могло бы нас это избавить! …Ищите меня, ищите за той вон горой, у той вон реки, за теми вон соснами — теперь уже вам не удастся сослаться на то, что вы просто не знаете, где я!«Я был приглашен в один дом…»
Я был приглашен в один дом, в какое-то сборище праздное, где белое пили и красное, болтали о сем и о том. Среди этой полночи вдруг хозяйка застолье оставила и тихо иголку поставила на долгоиграющий круг. И голос возник за спиной, как бы из самой этой полночи шел голос, молящий о помощи, ни разу не слышанный мной. Как голос планеты иной, из чуждого нам измерения, мелодия стихотворения росла и росла за спиной. Сквозь шум продирались слова, и в кратких провалах затишия ворочались четверостишия, как в щелях асфальта трава. Но нет, это был не пророк, над грешными сими возвышенный, скорее ребенок обиженный, твердящий постылый урок. Но три эти слова – не спи, художник! – он так выговаривал, как будто гореть уговаривал огонь в полуночной степи. И то был рассказ о судьбе пилота, но также о бремени поэта, служение времени избравшего мерой себе. И то был урок и пример не славы, даримой признанием, а совести, ставшей призванием и высшею мерою мер. …Я шел в полуночной тиши и думал о предназначении, об этом бессрочном свечении бессонно горящей души. Был воздух морозный упруг. Тянуло предутренним холодом. Луна восходила над городом, как долгоиграющий круг. И летчик летел в облаках. И слово летело бессонное. И пламя гудело высокое в бескрайних российских снегах.«Красный боярышник, веточка, весть о пожаре…»
Красный боярышник, веточка, весть о пожаре, смятенье, гуденье набата. Все ты мне видишься где-то за снегом, за вьюгой, за пологом вьюги, среди снегопада. В красных сапожках, в малиновой шубке, боярышня, девочка, елочный шарик малиновый где-то за снегом, за вьюгой, за пологом белым бурана. Что занесло тебя в это круженье январского снега — тебе еще время не вышло, тебе еще рано! Что тебе эти летящие косо тяжелые хлопья, кипящая эта лавина? Что тебе вьюги мои и мои снегопады — ты к ним не причастна и в них не повинна! Что за привязанность, что за дурное пристрастье, престранная склонность к бенгальскому зимнему свету, к поре снегопада! Выбеги, выберись, выйди, покуда не поздно, из этого белого круга, из этого вихря кромешного, этого снежного ада! Что за манера и что за уменье опасное слышать за каждой случайной метелью победные клики, победное пенье валькирий! О, ты не знаешь, куда заведет тебя завтра твое сумасбродство, твой ангел-губитель, твой трижды безумный Вергилий! Как ты решилась, зачем ты доверилась этому позднему зимнему свету, трескучим крещенским морозам, январским погодам? Ты еще после успеешь, успеешь когда-нибудь после, когда-нибудь там, у себя, за двухтысячным годом. Эти уроки тебе преждевременны, о, умоляю тебя, преклонив пред тобою колена, — выбери, выдерись, вырвись, покуда не поздно, из этого белого круга, из этого зимнего плена! Я отпускаю тебя – отпусти мне грехи мои — я отпускаю тебя, я тебя отпускаю. Медленно-медленно руки твои из моих коченеющих рук выпускаю. Но еще долго мне слышится отзвук набата, и словно лампада сквозь сон снегопада, сквозь танец метели, томительно-однообразный, — красное облачко, красный боярышник, шарик на ниточке красный.«Все уже круг друзей, тот узкий круг…»
Все уже круг друзей, тот узкий круг, где друг моих друзей – мне тоже друг, и брат моих друзей – мне тоже брат, и враг моих друзей – мне враг стократ. Все уже круг друзей, все уже круг знакомых лиц и дружественных рук. Все шире круг потерь, все глуше зов ушедших и умолкших голосов. Уже друзей могу по пальцам счесть, да ведь и то спасибо, если есть. Но все плотней с годами, все плотней невидимых разрывов полоса. Но все трудней с годами, все трудней вычеркивать из книжки адреса — вычеркивать из книжки имена, вычеркивать, навечно забывать, вычеркивать из книжки времена, которым уже больше не бывать, вычеркивать, вести печальный счет, последний счет вести начистоту — как тот обратный медленный отсчет перед полетом в бездну, в пустоту, когда уже – прощайте насовсем, когда уже – спасибо, если есть, в последний раз вычеркивая – семь, в последний раз отбрасывая – шесть, в последний раз отсчитывая – пять, и до конца – отсчитывая вспять, до той черты, когда уже не вдруг — четыре, три – и разомкнётся круг. Распался круг – прощайте – круга нет. Распался – ни упреков, ни обид. Спокойное движение планет по разобщенным эллипсам орбит. И пустота, ее надменный лик все так же ясен, грозен и велик.Человек, похожий на старую машину
Человек, похожий на старую машину, сделанную в девятнадцатом веке — что-то от стефенсоновского паровоза, от первых летательных аппаратов, из породы воздушных шаров и аэростатов, с примесью конки и дилижанса, экипажа и музыкальной шкатулки — ржавые поршни и рычажки, стершиеся шестеренки и втулки, — и все это издает при ходьбе поскрипыванье, пощелкиванье, дребезжанье. Человек, похожий на старую машину, сделанную в девятнадцатом веке, он покупает в ближайшей аптеке какие-то странные мази для растиранья, у которых такие таинственные названья бриони, арника, оподельдок, а потом еще долго поскрипывает ледок у него под ногами, пока он вышагивает к себе домой неуверенными шагами. Человек, похожий на старую машину, сделанную в девятнадцатом веке, он поднимается к себе на этаж, не снимая пальто, присаживается на кушетку, которую по-старинному называет софа и которая откликается звуком фа, когда он на нее садится… Так и сидит он, не зажигая огня, человек, похожий на старую машину, сделанную в девятнадцатом веке, старая усталая машина, или просто сум, как он в шутку себя называет, хотя он при этом вряд ли подозревает, что сум по-украински означает печаль, да и по-русски звучит достаточно грустно.Ars poetica
Все стихи однажды уже были. Слоем пепла занесло их, слоем пыли замело, и постепенно их забыли — нам восстановить их предстоит. Наше дело в том и состоит, чтоб восстановить за словом слово и опять расставить по местам так, как они некогда стояли. Это все равно как воскрешать смутный след, оставленный в душе нашими младенческими снами. Это все равно как вспоминать музыку, забытую давно, но когда-то слышанную нами. Вот и смотришь – так или не так, вспоминаешь – так или не так, мучаешься – так ли это было? Примеряешь слово – нет, не так, начинаешь снова – нет, не так, из себя выходишь – нет, не так, господи, да как же это было? И внезапно вздрогнешь – было так! И внезапно вспомнишь – вот как было!О свободном стихе
Ну конечно – так оно и было, только так и было, только так! – Что? – говорят. – Свободный стих? Да он традиции не верен! Свободный стих неправомерен! Свободный стих – негодный стих! Его, по сути говоря, эстеты выдумали, снобы, лишив метрической основы, о рифме уж не говоря!.. Но право же, не в этом суть, и спорить о свободе метра — как спорить о свободе ветра, решая, как он должен дуть. Всё это праздные слова. Вам их диктует самомненье. Как можно ставить под сомненье его исконные права! Нет, ветер, дождь или трава свободны по своей природе — а стих, он тоже в этом роде, его природа такова. И как ни требовал бы стих к себе вниманья и заботы — все дело в степени свободы, которой в нем поэт достиг. Вот Пушкина свободный стих. Он угрожающе свободен. Он оттого и неугоден царям и раздражает их. Но вы смотрите, как он жжет сердца глаголами своими! А как свободно правит ими! И не лукавит! И не лжет! О, только б не попутал бес, и стих по форме и по мысли свободным был бы в этом смысле, а там – хоть в рифму или без!Песочные часы
Проснуться было так неинтересно, настолько не хотелось просыпаться, что я с постели встал, не просыпаясь, умылся и побрился, выпил чаю, не просыпаясь, и ушел куда-то, был там и там, встречался с тем и с тем, беседовал о том-то и о том-то, кого-то посещал и навещал, входил, сидел, здоровался, прощался, кого-то от чего-то защищал, куда-то вновь и вновь перемещался, усовещал кого-то и прощал, кого-то где-то чем-то угощал и сам ответно кем-то угощался, кому-то что-то твердо обещал, к неизъяснимым тайнам приобщался и, смутной жаждой действия томим, знакомым и приятелям своим какие-то оказывал услуги, и даже одному из них помог дверной отремонтировать замок (приятель ждал приезда тещи с дачи) ну, словом, я поступки совершал, решал разнообразные задачи — и в то же время двигался, как тень, не просыпаясь, между тем как день все время просыпался, просыпался, пересыпался, сыпался и тек меж пальцев, как песок в часах песочных, покуда весь просыпался, истек по желобку меж конусов стеклянных, и верхний конус надо мной был пуст, и там уже поблескивали звезды, и можно было вновь идти домой и лечь в постель, и лампу погасить, и ждать, покуда кто-то надо мной перевернет песочные часы, переместив два конуса стеклянных, и снова слушать, как течет песок, неспешное отсчитывая время.* * *
Я был частицей этого песка, участником его высоких взлетов, его жестоких бурь, его падений, его неодолимого броска, которым все мгновенно изменялось, того неукротимого броска, которым неуклонно измерялось движенье дней, столетий и секунд в безмерной череде тысячелетий. Я был частицей этого песка, живущего в своих больших пустынях, частицею огромных этих масс, бегущих равномерными волнами. Какие ветры отпевали нас! Какие вьюги плакали над нами! Какие вихри двигались вослед! И я не знаю, сколько тысяч лет или веков промчалось надо мною, но длилась бесконечно жизнь моя, и в ней была первичность бытия, подвластного устойчивому ритму, и в том была гармония своя и ощущенье прочного покоя в движенье от броска и до броска. Я был частицей этого песка, частицей бесконечного потока, вершащего неутомимый бег меж двух огромных конусов стеклянных, и мне была по нраву жизнь песка, несметного количества песчинок с их общей и необщею судьбой, их пиршества, их праздники и будни, их страсти, их высокие порывы, весь пафос их намерений благих. К тому же, среди множества других, кружившихся со мной в моей пустыне, была одна песчинка, от которой я был, как говорится, без ума, о чем она не ведала сама, хотя была и тьмой моей, и светом в моем окне. Кто знает, до сих пор любовь еще, быть может… Но об этом еще особый будет разговор.* * *
Хочу опять туда, в года неведенья, где так малы и так наивны сведенья о небе, о земле… Да, в тех годах преобладает вера, да, слепая, но как приятно вспомнить, засыпая, что держится земля на трех китах, и просыпаясь — да, на трех китах надежно и устойчиво покоится, и ни о чем не надо беспокоиться, и мир – сама устойчивость, сама гармония, а не бездонный хаос, не эта убегающая тьма, имеющая склонность к расширенью в кругу вселенской черной пустоты, где затерялся одинокий шарик вертящийся… Спасибо вам, киты, за прочную иллюзию покоя! Какой ценой, ценой каких потерь я оценил, как сладостно незнанье и как опасен пагубный искус — познанья дух злокозненно-зловредный. Но этот плод, ах, этот плод запретный — как сладок и как горек его вкус!..* * *
Меж тем песок в моих часах песочных просыпался, и надо мной был пуст стеклянный купол, там сверкали звезды, и надо было выждать только миг, покуда снова кто-то надо мной перевернет песочные часы, переместив два конуса стеклянных, и снова слушать, как течет песок, неспешное отсчитывая время.«Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен…»
Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана, а потом все быстрей и быстрей, подчиняясь ключу, как в «Прощальной симфонии», ближе к финалу, – ты помнишь, у Гайдна — музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу и уходит, – в лесу все просторней теперь – музыканты уходят — партитура листвы обгорает строка за строкой — гаснут свечи в оркестре одна за другой – музыканты уходят — скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой — тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины, и, по мере того как с осенних осин облетает листва, все прозрачней становится лес, обнажая такие глубины, что становится явной вся тайная суть естества — все просторней, все глуше в осеннем лесу – музыканты уходят — скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача — и последняя флейта замрет в тишине – музыканты уходят — скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча… Я люблю эти дни, в их безоблачной, в их бирюзовой оправе, когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом, когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе, и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.Полночное окно
В чужом окне чужая женщина не спит. Чужая женщина в чужом окне гадает. Какая карта ей сегодня выпадает? Пошли ей, господи, четверку королей! Король бубей, король трефей, король червей, король пиковый, полуночная морока. Все карты спутаны – ах, поздняя дорога, пустые хлопоты, случайный интерес. Чужая женщина, полночное окно. Средина августа, пустынное предместье. Предвестье осени, внезапное известье о приближенье первых чисел сентября. Чужая женщина, случайный интерес. Все карты спутаны, последний лепет лета. Средина августа, две дамы, два валета, предвестье осени, девятка и король. Предвестье осени, преддверье сентября. Невнятный шелест, бормотанье, лепетанье. Дождя и тополя полночное свиданье, листвы и капель полусонный разговор. Чужая женщина, полночное окно. Средина августа, живу в казенном доме. Преддверье осени, и ночь на переломе, и масть бубновая скользит по тополям. Чужая женщина, последний свет в окне. И тополя меняют масть, и дом казенный спит, как невинно осужденный и казненный за чьи – неведомо, но тяжкие грехи.«Сам платил за себя, сам платил, никого не виня…»
Сам платил за себя, сам платил, никого не виня. Никогда не любил, чтобы кто-то платил за меня. Как же так получилось, что я оказался в долгу — все плачу и плачу – расплатиться никак не могу! С покаянной душой в твои двери стократно стучусь. Я еще расплачусь, говорю, я еще расплачусь. Я за все заплачу, я за все расплатиться хочу — будто легче тебе оттого, что и я заплачу! Так живу день за днем в заколдованном этом кругу. Все плачу и плачу – расплатиться никак не могу. Все плачу и плачу – остаюсь в неоплатном долгу. До последнего дня расплатиться уже не смогу.«Говорили – ладно, потерпи…»
Говорили – ладно, потерпи, время – оно быстро пролетит. Пролетело. Говорили – ничего, пройдет, станет понемногу заживать. Заживало. Станет понемногу заживать, буйною травою зарастать. Зарастало. Время лучше всяких лекарей, время твою душу исцелит. Исцелило. Ну и ладно, вот и хорошо, смотришь – и забылось наконец. Не забылось. В памяти осталось – просто в щель, как зверек, забилось.«Снег под утро реже, реже…»
Снег под утро реже, реже, и как промельк в облаках — белый дом на побережье, возле моря в двух шагах. В этом доме белом-белом, где шаги приглушены, где иных не слышно звуков, кроме звука тишины, в этом доме тихом-тихом, где покой и полумрак, там свои бушуют бури — не подумаешь никак. Там гремят такие грозы — просто вам их не слыхать. Там такие вихри кружат — просто вам их не видать. Там гудят такие шквалы, дуют ветры всех широт. Там и взрывы, и обвалы вулканических пород… В этом доме, таком тихом, я зимой однажды жил. Тихо музыка играла, снег за окнами кружил. И никто б не мог подумать, что за тою вон стеной день и ночь бушует лава, ходит почва подо мной. И никто б не мог представить, что на том вон этаже подо мною твердь земная разверзается уже. Грозно пламя бушевало, грохотал девятый вал — сам не помню, как, бывало, я на берег выплывал… Зимний берег побелевший, зимних сосен бахрома. Белый дом на побережье, дом как дом, как все дома. Гаснет в окнах луч прощальный, свет зажегся там и тут. Ходит шторм девятибалльный. Рододендроны цветут.«Промчался миг, а может, век…»
Промчался миг, а может, век, а может, дни, а может, годы — так медленно рождался снег из этой ветреной погоды. Все моросило, и текло, и капало, и то и дело тряслось оконное стекло, свистело что-то и гудело. Когда метель пошла кружить, никто из нас не мог решиться хотя бы и предположить, чем это действо завершится. Простор дымился и дымил, и мы растерянно глядели, как он творился, этот мир, из солнца, ветра и метели. Но поутру однажды вдруг все кончилось, и тихо стало, и все в округе и вокруг заискрилось и заблистало. И получился день такой, как будто этот день творенья и был той самою строкой известного стихотворенья. И солнце било через край, и белоснежны были кущи, и это был небесный рай, где дни, увы, быстротекущи. И я в конце концов решил, что ждал развязки не напрасно что тот, кто это совершил, с задачей справился прекрасно Но ведать я не мог того (а угадать я не старался), что тайный замысел его гораздо дальше простирался. И, тихо выйдя за предел сего пленительного рая, он на меня уже глядел, довольно руки потирая. Он отходил все дальше в тень. Он покидал свои владенья. И оставался только день до моего грехопаденья.«Часы и телефон…»
Часы и телефон в их сути сокровенной — и фабула, и фон для драмы современной. Ристалище. Дуэль. Две партии в дуэте. Безмолвный диалог. Неравный поединок. А телефон молчит — что делать, извините! А маятник стучит — ну что ж вы не звоните! Звучанье тишины, воистину зловещей для третьего лица, сидящего напротив. А телефон молчит — весь день одно и то же. А маятник стучит — ну что же вы, ну что же! И вдруг звонок, и вдруг такой удар по цели — как пистолета звук, как выстрел на дуэли. И тот, кто был убит, теперь он оживает. Его еще знобит, но рана заживает. Его еще трясет, язык его немеет, но все это уже значенья не имеет. Теперь он будет жить. Он к трубке тянет руку как тонущий пловец к спасательному кругу. Он все забыл, чудак, твердит одно и то же: – Ну, что ж вы меня так! Ну что же вы, ну что же!«Весеннего леса каприччо…»
Весеннего леса каприччо, капризы весеннего сна, и ночь за окошком, как притча, чья тайная суть неясна. Ax, странная эта задача, где что-то скрывается под из области детского плача, из области женских забот, где смутно мерещится что-то, страшащее нас неспроста, из области устного счета хотя бы сначала до ста, из области школьной цифири, что вскоре нам душу проест, и музыки, скрытой в эфире и в мире, лежащем окрест. Ах, лучше давайте забудем, как тягостна та благодать. Давайте сегодня не будем на гуще кофейной гадать. Пусть леса таинственный абрис, к окну подступая чуть свет, нам будет нашептывать адрес, подсказывать верный ответ — давайте не слушать подсказок всех этих проныр и пролаз из тайного общества сказок, где сплетни плетутся про нас. Пусть тайною тайна пребудет, пусть капля на ветке дрожит. И пусть себе будет что будет, уж раз ему быть надлежит.«Что делать, мой ангел, мы стали спокойней…»
Что делать, мой ангел, мы стали спокойней, мы стали смиренней. За дымкой метели так мирно курится наш милый Парнас. И вот наступает то странное время иных измерений, где прежние мерки уже не годятся – они не про нас. Ты можешь отмерить семь раз и отвесить, и вновь перевесить, и можешь отрезать семь раз, отмеряя при этом едва. Но ты уже знаешь, как мало успеешь за год или десять, и ты понимаешь, как много ты можешь за день или два. Ты душу насытишь не хлебом единым и хлебом единым, на миг удивившись почти незаметному их рубежу. Но ты уже знаешь, о, как это горестно – быть несудимым, и ты понимаешь при этом, как сладостно, – о, не сужу! Ты можешь отмерить семь раз и отвесить, и вновь перемерить, и вывести формулу, коей доступны дела и слова. Но можешь поверить гармонию алгеброй и не поверить свидетельству формул – ах, милая алгебра, ты неправа! Ты можешь беседовать с тенью Шекспира и с собственной тенью. Ты спутаешь карты, смешав ненароком вчера и теперь. Но ты уже знаешь, какие потери ведут к обретенью, и ты понимаешь, какая удача в иной из потерь. А день наступает такой и такой-то, и с крыш уже каплет, и пахнут окрестности чем-то ушедшим, чего не избыть. И нету Офелии рядом, и пишет комедию Гамлет о некоем возрасте, как бы связующем быть и не быть. Он полон смиренья, хотя понимает, что суть не в смиренье. Он пишет и пишет, себя же на слове поймать норовя. И трепетно светится тонкая веточка майской сирени, как вечный огонь над бессмертной и юной душой соловья.Человек, отличающийся завидным упорством
Все дело тут в протяженности, в протяженности дней, в протяженности лет или зим, в протяженности жизни. Человек, отличающийся завидным упорством, он швыряет с размаху палку (камень, коробку, консервную банку) и отрывисто произносит: – Шарик, возьми! Друг человека Шарик, занятый, как обычно, проблемами совершенно иного рода, издалека виновато машет хвостом и мысленно как бы разводит руками — для нас это слишком сложно! И все повторяется снова. Человек, отличающийся завидным упорством, швыряет с размаху палку… Дальше происходит множество всевозможных событий, бесконечной чередою проходят, сменяя друг друга, дни и недели, дожди и метели, солнечные затменья, землетрясенья, смены погоды, годы, — словом, проходит жизнь. Но история эта конца не имеет, ибо он, человек, отличающийся завидным упорством, не подвержен старенью, дряхленью и умиранью. Человек, отличающийся завидным упорством, швыряет с размаху палку…«Когда в душе разлад…»
Когда в душе разлад — строка не удается: строке передается разлаженность души. Пока разлад в душе, пока громам не стихнуть — не пробуйте достигнуть гармонии в стихе. Тут нужен лад иной, нужны иные меры — старинные размеры тут вряд ли подойдут. Попробуйте забыть о ямбе и хорее и перейти скорее к свободному стиху. Попробуйте сменить те горные стремнины на вольные равнины свободного стиха. Пускай он грубоват и даже разухабист, но дактиль и анапест пока вам не нужны. Лишь он сейчас для вас былина и баллада, и музыке разлада в нем дышится легко. В нем есть простор душе он волен и раскован, хоть кажется рискован свободный этот лад. Но нет, здесь риска нет, и никакой угрозы, и в час, когда все грозы над вами отшумят, когда утихнет гром и тучи разойдутся, вы сможете вернуться к тем далям вековым, к тем далям снеговым, к тем неоглядным высям чей воздух независим от воздуха долин. Там даль лежит в снегах, там ямб медноголосый, как бог светловолосый, рокочет в облаках. Он весело звенит. Он презирает скуку. Он краткую разлуку легко вам извинит.«Когда я решил распрощаться уже и проститься…»
Когда я решил распрощаться уже и проститься с моею печалью, с моими минувшими днями, какая-то с облаком схожая черная птица как бы ненароком в окошко мое заглянула. Когда я решил и решился уже распрощаться с моими прошедшими днями, с печалью моею, та странная птица, как бы на правах домочадца, негромко, но твердо в окошко мое постучала. Как бы на правах прорицателя и ясновидца, которому тайны разгадывать – плевое дело, та странная, с облаком схожая черная птица насмешливым глазом своим на меня поглядела. Как бы на правах ясновидца, провидца, пророка, которому ведомо все, что случится со мною, она посмотрела насмешливо – дескать, не выйдет, она головой покачала – и нечего думать. Но я уже принял решенье, решил и решился, и ваша усмешка, она здесь едва ли уместна, Я знаю давно вас, и мне ваше имя известно — вы просто нахальная глупая птица, и только. А я уже принял решенье, и я уплываю — решил и решился, и я уплываю, прощайте — по черной воде уплываю, прощаясь безмолвно с прошедшими днями, с минувшей печалью моею. Я принял решенье, решился, и как отрешенье от той миновавшей печали и дней миновавших внизу подо мною темнеет мое отраженье, по черному руслу, по черной воде уплывая. По черному руслу – прощайте – все дальше и дальше, все глуше и глуше, все тише вокруг и безлюдней. И только одна эта странная черная птица все смотрит мне в душу насмешливым глазом печальным.«Каждый выбирает для себя…»
Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы. Шпагу для дуэли, меч для битвы каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы. Посох и заплаты. Мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбираю тоже – как умею. Ни к кому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.«Кровать и стол, и ничего не надо больше…»
Кровать и стол, и ничего не надо больше. Мой старый стол, мое фамильное владенье, моя страна, моя великая держава, и мой престол, где я владыка суверенный, где, высшей власти никому не уступая, так сладко царствовать, хотя и не спокойно. Мой старый стол, мое распаханное поле, моя страда, моя поденная работа, моя неспешно колосящаяся нива, где так губительны жара и суховеи, и так опасны эти ливни затяжные, но тем прекрасней время жатвы запоздалой. Мой старый стол, мои форты, мои бойницы, мои окопы и поля моих сражений, мои лежащие во прахе Фермопилы, мой Карфаген, который трижды был разрушен, Бородино мое и поле Куликово, следы побед моих былых и поражений, где в двух шагах от Шевардинского редута — Аустерлица окровавленные камни. Мой старый стол, мой отчий край мои дальний берег, моя земля обетованная, мой остров, мой утлый плот, моя спасительная шлюпка над штормовою глубиной девятибалльной, меня несущая меж Сциллой и Харибдой на свет маячный, одинокий свет зеленый горящей за полночь моей настольной лампы. Мой старый стол, моя невольничья галера, мой горький рай, моя сладчайшая Голгофа, я так люблю твою негладкую поверхность, и мне легко, когда я весь к тебе прикован, твой раб смиреннейший, твой узник добровольный, я сам иду к тебе сквозь все, что мне мешает, сквозь все, что держит, что висит на мне и давит — сквозь лабиринты, сквозь чащобу, сквозь препоны — Лаокооном – сквозь лианы – продираюсь, к тебе, к тебе – скорей надеть свои оковы!.. Кровать и стол, и ничего не надо больше… Ты скажешь – полноте, мой друг, в твои-то лета! Но я клянусь тебе, что это не притворство, не лицемерье, не рисовка и не поза, и ты живи себе как знаешь, бог с тобою, а мне и этого хватило бы с лихвою — мой старый стол, где я пирую исступленно и с всемогущими богами пью на равных, моя кровать, где я на миг могу забыться и все забыть, и всех забыть, и быть забытым, чтоб через миг услышать вновь, как бьет копытом и мордой тычется в меня своей шершавой мой старый стол, мой добрый друг четвероногий, мой верный конь, мой Росинант неутомимый. – Вставай, вставай, – он говорит, – уже светает, уже проснулись и Севилья, и Кордова, и нам пора опять в далекую дорогу, где ждут нас новые и новые сраженья и где однажды свою голову мы сложим (а это, в сущности, и есть мое призванье) во славу нашей несравненной Дульсинеи (чего же мне еще желать, скажи на милость!), во имя правды и добра на этом свете (а мне и вправду ничего не надо больше!). Моя страна, моя великая держава. Моя страда, моя поденная работа. Моя земля обетованная, мой остров. Мой горький рай, моя сладчайшая Голгофа. … И к голове моей прощально прикоснется его суровая негладкая поверхность.«Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет…»
Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится – как близко черемухой пахнет, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признаньем, жизнь впереди – как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится – как быстро черемуха чахнет, сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет, пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется, кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется – как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой, пахнет снегами, морозом, зимой, холодами и – ничего не поделать – черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признаньем. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой – и ничего не поделать!«Если бы я мог начать сначала…»
Если бы я мог начать сначала бренное свое существованье, я бы прожил жизнь свою не так — прожил бы я жизнь мою иначе. Я не стал бы делать то и то. Я сумел бы сделать то и это. Не туда пошел бы, а туда. С теми бы поехал, а не с теми. Зная точно что и почему, я бы все иною меркой мерил. Ни за что не верил бы тому, а тому и этому бы верил. Я бы то и это совершил. Я бы от того-то отказался. Те и те вопросы разрешил, тех и тех вопросов не касался. Словом, получив свое вдвойне, радуясь такой своей удаче, эту вновь дарованную мне, прожил бы я жизнь мою иначе. И в преддверье стужи ледяной, у конца второй моей дороги, тихий, убеленный сединой, я подвел бы грустные итоги. И в конце повторного пути, у того последнего причала, я сказал бы – господи, прости, дай начать мне, господи, сначала! Ибо жизнь, она мне и сама столько раз давала убедиться — поздний опыт зрелого ума возрасту другому не годится. Да и сколько жизней не живи — как бы эту лодку ни ломало — сколько в этом море ни плыви — все равно покажется, что мало. Грозный царь на бронзовом коне. Саркофаги Греции и Рима. Жизь моя, люблю тебя вдвойне и за то, что ты неповторима. Благодарен ветру и звезде. Звукам водопада и свирели. … Струйка дыма. Капля на листе. Грозовое облако сирени. Ветер и звезду благодарю. Песенку прошу, чтоб не молчала. – Господи всевышний! – говорю. Если бы мне все это сначала!Письма Катерине или прогулка с Фаустом (1981)
Приглашенье к прологу
И все-таки смог. Вознамерился. Стрелки, решил, передвину. Все сроки нарушу. Привычные связи разрушу. Начну все сначала, решил. И дьяволу душу не продал, а отдал за милую душу, и с Фаустом вместе ту самую чашу до дна осушил. Ну что же, в дорогу, душа моя, с богом, начнем понемногу. Приступим к прологу Мгновенье, воскликнем, гряди! …И, под вечер из дому выйдя, пустился я тихо в дорогу, и странный попутчик мой шел со мной рядом и чуть впереди. Уже нас виденья в ночи окружают причудливым роем. Багровая молния где-то за нами проводит черту. Какие ж мы тайны с тобою откроем, едва приоткроем ту звездную занавесь неба, завесу заветную ту! Сферический купол над нами качается, ночь еще длится, размеренно движутся сонмы бесчисленных звезд и планет. И вот постепенно из тьмы проступают какие-то лица. Тебя еще нет среди них, Катерина, пока еще нет. Но все, что вокруг, – удивительно так, необычно и ново, и все это значит, что ты уже есть и ты где-то в пути, пылинка, туманность, дождинка, снежинка из века иного, и суть, и загадка его, и разгадка, и дух во плоти. Снежинка и ветер, легчайшее облачко, смутная дата, дыханье, мерцанье, мгновенье какого-то дня, то самое лучшее что-то, что будет когда-то со мною, при мне, и потом еще, после меня. Мое очищенье, мое искупленье, мое оправданье, мое испытанье — заведомо знать и не думать о том, каким быстротечным окажется позднее это свиданье, как скоро приходит за ним неизбежное это потом. И все-таки жду и ловлю благодарственно первый твой шаг осторожный. Иди и не бойся, душа моя, день наступает, пора. И легок руке моей посох — как перышко легок мой посох дорожный, и тысячекрат тяжелее свинцовая тяжесть пера.«Остановилось время. Шли часы…»
Остановилось время. Шли часы, а между тем остановилось время, и было странно слышать в это время, как где-то еще тикают часы. Они еще стучали, как вчера, меж тем как время впрямь остановилось, и временами страшно становилось от мерного тиктаканья часов. Еще скрипели где-то шестерни, тяжелые постукивали стрелки, как эхо арьергардной перестрелки поспешно отступающих частей. Еще какой-то колокол гудел, но был уже едва ль не святотатством в тумане над Вестминстерским аббатством меланхолично плывший перезвон. Стучали падуанские часы, и педантично страсбургские били, и четко час на четверти дробили Милана мелодичные часы. Но в хоре этих звучных голосов был как-то по-особенному страшен не этот звон, плывущий с древних башен по черепицам кровель городских — но старые настенные часы, в которых вдруг оконце открывалось и из него так ясно раздавалось лесное позабытое ку-ку. Певунья механическая та зрачками изумленными вращала и, смыслу вопреки, не прекращала смешного волхвованья своего. Она вела свой счет моим годам, и путала, и начинала снова, и этот звук пророчества лесного всю душу мне на части разрывал. И я спросил у Фауста: на целый мир воскликнув громогласно «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» забыли вы часы остановить! И я спросил у Фауста: – К чему, легко остановив движенье суток, как некий сумасбродный предрассудок, вы этот звук оставили часам! И Фауст мне ответил: – О mem Herr, живущие во времени стоящем не смеют знать о миге предстоящем и этих звуков слышать не должны. К тому же все влюбленные, mein Freund, каким-то высшим зреньем обладая, умеют жить, часов не наблюдая. А вы, mein Herz, видать, не влюблены?! И что-то в этот миг произошло. Тот старый плут, он знал, куда он метил. И год прошел – а я и не заметил. И пробил час – а я не услыхал.«Шла дорога к Тракаю…»
Шла дорога к Тракаю, литовская осень была еще в самом начале, и в этом начале нас озера Тракая своим обручали кольцом, а высокие кроны лесные венчали. Все вокруг замирало, стремительно близился рокот девятого вала и грохот обвала. И Прекрасной Елены божественный лик без труда Маргарита моя затмевала. Плыл, как лодочка, лист по воде, и плыла тишина, и легко показаться могло временами, что уже никого не осталось на этой земле, кроме нас — только мы и озера, и травы под нами, и кроны над нами. А меж тем кто-то третий все время неслышно бродил вокруг нас и таился в траве над обрывом, у самого края. То, наверно, мой Фауст за нами следил из прибрежных кустов, ухмыляясь в усы и ладони хитро потирая. Холодало, темнело, виденье Тракайского замка в озерной воде потемневшей все тише качалось. Начиналась литовская ранняя осень, короткое лето на этом кончалось. И, не зная еще, доведется ли нам к этим добрым озерам приехать когда-нибудь снова, я из ветки случайной лесной, как господь, сотворил человечка лесного смешного. Я его перочинным ножом обстрогал добела, человеческим ликом его наделил, и когда завершил свое дело, осторожно поставил на толстую ветку его и шпагатом к стволу привязал его хрупкое тело. И, когда мы ушли, он остался один там стоять над холодной вечерней водой, и без нас уже листья с осенних дерев облетели. … В этот час, когда ветер тревожно стучится в ночное окно, в этот час января и полночной метели, до озноба отчетливо вдруг представляю, как он там сейчас одиноко стоит над застывшей водой, за ночными снегами и мглою морозно-лиловой, от всего отрешенный, отвергнутый идол любви, деревянный смешной человечек из ветки еловой.Сцена в погребке
Небольшая комната в подвале винного погребка. Почти все места заняты. За одним из столиков – Иронический человек за бутылкой вина и Квадратный человек за бутылкой минеральной.
Входят Поэт и Фауст.
Фауст
Вон там два места – справа, у окна.
Подходит к Ироническому человеку.
Простите, сударь,
здесь у вас свободно?
Иронический человек
Свободно, сударь,
если вам угодно!
Квадратный человек (в сторону)
Откуда их, ей-богу, черт несет!
Фауст
Благодарю вас…
Присаживается со своим спутником.
Что ж, передохнем,
пропустим рейнской влаги понемногу,
а после снова пустимся в дорогу.
Делает едва заметное движенье, и тот час на столе появляются две бутылки с вином и два стакана.
Иронический человек
Вы, сударь – маг?
Фауст
Увы, когда-то был… Поэт.
Но кажется, вас что-то тяготит.
Души томленье? Или что похуже?
Вы влюблены,
вы любите,
к тому же
любимы —
так чего же вам еще?
Вы так помолодели в эти дни,
так изменились – не узнаешь, право,
вы выглядите молодо и браво,
а молодость – она всегда к лицу!
Иронический человек
К лицу – когда и возраст, и лицо – в одном лице
и, так сказать, едины.
А то, бывает, в бороду – седины, а бес – в ребро?..
Фауст
О бесе – ни гугу!
Поэт
Да, волосы…
Мне помнится, тогда
уже вы были в возрасте почтенном —
вам было сто,
иль что-то в этом роде,
а ныне,
в дни совместных наших странствий,
уже почти что полтысячелетья,
и мне известно,
сколько всякой чуши,
невежественных вымыслов и сплетен
так долго окружали ваше имя
и сколько вам пришлось перестрадать.
Но ваш великий тезка, Иоганнес,
о вас так мощно возвестивший миру,
вас понял,
и простил великодушно,
и оправдал,
и, оградив от ада,
он вашу душу отдал небесам.
А буду ли и я оправдан тоже
за боль,
что и без умысла,
невольно,
а все-таки я причинил кому-то,
за то, что жизнь
хотел начать сначала,
что молодость вернуть себе пытался,
когда виски припорошило снегом, —
за все это я буду ли прощен?
Иронический человек
Наверно, тот, кто кается,
притом
себя и чище мнит,
и благородней?..
Фауст
Уж будь бы здесь хозяин преисподней —
вы б этак не изволили шутить!
Поэту.
Но я от вас никак не ожидал!
Вас ад страшит, мой друг, —
но разве надо
стремиться в рай
или страшиться ада,
когда мы носим их в себе самих!
Поэт
В себе, в себе…
Не знаю, может быть,
мы это пламя сами раздуваем,
лишь чиркни спичкой —
и уже пылает,
но спичку-то
не сами поднесли…
Фауст
А вы, мой друг, зловещего огня
не раздувайте…
Время быстротечно,
и пусть ваш рай
пребудет с вами вечно,
и пусть ваш ад
сгорит в своем огне!
Давайте лучше рейнского глотнем
и двинемся —
дорога будет длинной,
к тому же и свиданье с Катериной
вам не сегодня завтра предстоит.
Квадратный человек
То «рай», то «ад»! Ну, прямо спасу нет!
Куда начальство смотрит!
Дали волю
тут всяким разным…
Хватит! Не позволю!
По мановенью Фауст а превращается в пустую винную бочку.
Голос из бочки Отставить!
Запрещаю!
Прекратить!
Рисунок
И когда мне захотелось рисовать, и руки мои потянулись к бумаге и краскам, как руки голодного тянутся к черствому хлебу, я взял акварельные краски, бумагу и кисти, и, замысла своего пока еще не зная сам, я стал рисовать три руки, растущие из земли, три руки, обращенные к небу, к беззвездным ночным, чернильно синеющим, небесам. Я не жалел ни труда и ни сил, ни бумаги, ни акварели, то ультрамарин, то охру и умбру поочередно беря. И одна рука получилась маленькой и почти изумрудно-зеленой, как лист в апреле, а вторая чуть больше (зеленое с красным), а третья большая и красная, как последний лист сентября. Я творенье свое разглядывал, еще не совсем понимая, что бы это все означало, но после я понял, вглядевшись внимательнее в эти руки, растущие, как деревца, что они последовательно означали собою – начало, и – продолженье начала, и – приближенье конца. И все это выразилось теперь с отчетливостью такою, как утреннее облако отражается в тихой рассветной реке. И я понял, что замысел, который движет нашей рукою, выше, чем вымысел, который доступен нашей руке. И поэтому вовеки не будет наш труд напрасным, а замысел — праздным, и будет прекрасным дело, которое изберем, и все наши годы – лишь мягкие переходы между зеленым и красным, перемены погоды между апрелем и сентябрем.«– Кто-то так уже писал…»
– Кто-то так уже писал. Для чего ж ты пишешь, если кто-то где-то, там ли, здесь ли, точно так уже писал! Кто-то так уже любил. Так зачем тебе все это, если кто-то уже где-то так же в точности любил! – Не желаю, не хочу повторять и повторяться. Как иголка, затеряться в этом мире не хочу. Есть желанье у меня, и других я не имею — так любить, как я умею, так писать, как я могу. – Ах, ты глупая душа, все любили, все писали, пили, ели, осязали точно так же, как и ты. Ну, пускай и не совсем, не буквально и не точно, не дословно, не построчно, не совсем – а все же так. Ты гордыней обуян, но смотри, твоя гордыня — ненадежная твердыня, пропадешь в ней ни за грош. Ты дождешься многих бед, ты погибнешь в этих спорах — ты не выдумаешь порох, а создашь велосипед!.. – Ну, конечно, – говорю, — это знают даже дети — было все уже на свете, все бывало, – говорю. Но позвольте мне любить, а писать еще тем паче, так – а все-таки иначе, так – а все же не совсем. Пусть останутся при мне эта мука и томленье, это странное стремленье быть всегда самим собой!.. И опять звучит в ушах нескончаемое это — было, было уже где-то, кто-то так уже писал!Строки из записной книжки
Когда-то, давным-давно, еще в юности, меня поразило впервые в одном из Бетховенских квартетов вдруг возникает русская тема… Пушкин пишет стихи на французском. Рильке пытается писать на русском. Эти и множество других подобных примеров о чем говорят они? Случайность? Причуды гения? Нет – осознанно или неосознанно – всем этим движет жизненно необходимое для всякого подлинного искусства глубинное взаимодействие внешне несхожих культур различных народов и наций. Вот так-то!
* * *
В одном из самых давних свидетельств о докторе Фаусте было написано: «Маг этот Фауст, гнусное чудовище и зловонное вместилище многих бесов… Говорю об этом единственно с целью предостеречь юношей, дабы не спешили они доверяться подобным людям».
* * *
«Слыхал я также, что Фауст показывал в Виттенберге студентам и одному знатному лицу Гектора, Улисса, Геркулеса, Энея, Самсона, Давида и других, каковые появились с недовольным видом, всех устрашив своей грозной осанкой, и снова исчезли. Говорят, что среди присутствующих и глядевших на все это лиц были и владе тельные особы…»
Из старинной книги о Фаусте* * *
Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом…Уроки истории
Зимние сны, размытые, стертые и неясные, словно древние письмена, смутные и расплывчатые, как смутные времена, длинные, бесконечно долгие, как столетние войны. (Зимние сны, они почему-то не так чисты и ясны, как легкие сновиденья весны, полные света, солнца, голубизны.) Зимние сны, туманные, темные, как темница, как бунт, как придворный заговор, судушеньем, с горячими пятнами крови, с плачем невинных младенцев. Зимние сны, томительные, мучительные и тягостные, отрешенно мерцающие, как молебственная свеча, зыбкие, словно сотканные из паутины, тяжелые, как топор палача, острые, как нож гильотины. Зимние сны, запутанные, неизъяснимо причудливые, со смешеньем времен и племен, с Наполеоном, Нероном, горящим Римом, и — на пространстве необозримом — отзвуками нестихающего сраженья. Зимние сны, нечеткие изображенья, странно перемежаемые латинскими изреченьями типа — жизнь коротка, а искусство вечно.22 июня 81-го года
Застучала моя машинка, моя печатная, моя спутница, и веселая и печальная, портативная, изготовленная в Германии, что естественно отразилось в ее названии, для меня особо значительном – «Рейнметалл». Ах, как этот рейнский металл надо мной витал! Из Мангейма, из Кельна, из Дуйсбурга, шквал огня, как хотел он любой ценою настичь меня! …Глухо била с правого берега батарея, и мальчишка, почти оглохший в этой пальбе — Лорелея, шептал я, ну что же ты, Лорелея, ты зачем так губительно манишь меня к себе!.. Что, машинка моя печатная, заскучала? Ты пиши себе, моя милая, ты пиши!.. … И запела моя машинка, и застучала, откликаясь движенью рук моих и души. Угасает июньский день, и, тревожно тлея, догорает закат, замешанный на крови. И поет над Рейном темнеющим Лорелея о прекрасной своей, опасной своей любви.Отец
Он лежал на спине, как ребенок, я поил его чаем из ложки, вытирал его лоб и губы влажной больничной марлей, не отходя от него все десять дней и ночей, не зная еще, что будут они последними. Он лежал на спине, как ребенок, глядя печально куда-то перед собой. – Трудно, – любил говорить он, — бывает только первые пятьдесят лет. Это была его любимая поговорка. Легкой жизни не знал он. Ничего за жизнь не скопил. – После войны, — говорил, размечтавшись когда-то, всем куплю по буханке хлеба и одну из них съем сам. — Так за всю свою жизнь ничего не скопил, ничего не имел. Не умел. Чувство юмора было единственным его капиталом — тем единственным драгоценным металлом, которым столь щедро его наделил господь… Господи, помоги же и мне до последнего дня не растратить его и сберечь, королевское это наследство — кстати сказать, далеко не худшее средство для безбедного существованья на этой земле.«Ну что с того, что я там был…»
Ну что с того, что я там был. Я был давно. Я все забыл. Не помню дней. Не помню дат. Ни тех форсированных рек. (Я неопознанный солдат. Я рядовой. Я имярек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед — я в нем, как мушка в янтаре.) Но что с того, что я там был. Я все избыл. Я все забыл. Не помню дат. Не помню дней. Названий вспомнить не могу. (Я топот загнанных коней. Я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже. Я пламя Вечного огня и пламя гильзы в блиндаже.) Но что с того, что я там был, в том грозном быть или не быть. Я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я не участвую в войне — она участвует во мне. И отблеск Вечного огня дрожит на скулах у меня. (Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. Уже меня не излечить от той зимы, от тех снегов. И с той землей, и с той зимой уже меня не разлучить, до тех снегов, где вам уже моих следов не различить.) Но что с того, что я там был!..Самоуверенный человек
Эти жесты, эта походка — сама уверенность. Ах, какое славное свойство — самоуверенность! Он охотно вам даст ответы на все вопросы — отчего вредней сигареты, чем папиросы, отчего не точны прогнозы Бюро прогнозов, и еще на тысячу всяких разных вопросов — отчего, скажем, вымерли мамонты и динозавры… Он глядит на меня сочувственно, соболезнуя, ибо знает прекрасно, как я ему завидую (а ведь если признаться — и впрямь я ему завидую — вот что ужасно!) Так железно уверенный в железной своей правоте, он идет — в своей правоте — как в броне, как в железе. – Значит, так! – он мне говорит, — вот так, молодой человек, вот так, в таком вот разрезе!Банальный монолог
Я б мог сказать: – Как сорок тысяч братьев!.. — Я б мог вскричать: – Сильней всего на свете!.. — Я мог бы повторить: – Дороже жизни!.. — Но чей-то голос вкрадчиво и тихо нашептывает мне, напоминая, как мало можно выразить словами, а это все — слова, слова, слова… И все-таки всей грешной моей плотью, душою всею, клеточкою каждой, всем существом моим ежеминутно не я, но тот, во мне живущий кто-то, опять кричит: – Как сорок тысяч братьев!.. — и вопиет: – Сильней всего на свете!.. — едва ли не навзрыд: – Дороже жизни!.. — но к этому язык мой непричастен, но все это помимо моей воли, но все это — не говоря ни слова и даже звука не произнося.Сентябрь. праздник зеленого цвета
Куда с тобой мы собрались в такой не ранний час? Такси зеленый огонек зажегся и погас. Смотри, как зелен этот мир, как зелены моря! Отпразднуем же этот цвет в начале сентября. Еще так зелена лоза, так зелен виноград. Да будет нам зеленый цвет наградой из наград. И в чарке зелено вино, и зелены глаза, и в них качается уже зеленая гроза. И вот мы слышим этот звук, мгновенье погодя — зеленый звон, зеленый шум осеннего дождя. Но эта влага не про нас, и в поздний этот час такси зеленый ветерок подхватывает нас. И пахнет прелою листвой, и легкая, как дым, парит зеленая звезда над лесом золотым.«Славный город Виттенберг…»
Славный город Виттенберг, ты и поздний, ты и ранний не отверг моих стараний и надежд не опроверг. Я по улицам твоим вместе с Фаустом шатался, суть вещей постичь пытался с милым доктором моим. Ничего, что ночь темна, — что нам темень, если близок дух капусты и сосисок, запах пива и вина… Был подвальчик тих и мал, дым над столиками плавал. Но и дьявол, старый дьявол, он ведь тоже не дремал. Мы, смеясь и веселясь, наблюдали временами, как он шествовал за нами, в тело пуделя вселясь. И, на черный глядя хвост, говорили: – Пусть позлится — ведь нашел в кого вселиться, старый сводник и прохвост! Фауст был отменно мил — за друзей и за подружек пиво пил из толстых кружек, папиросами дымил. Лишь порой он вспоминал, как его (о meine Mutter!) здесь когда-то Мартин Лютер поносил и проклинал. Я ж не смел, да и не мог прикоснуться к этой ране… Мирно спали лютеране, плыл над крышами дымок. В тиглях плавился металл, и над камнем преткновенья дух борьбы и дерзновенья безбоязненно витал.Вальс на мотив метели
Белые на фоне черных деревьев, черные на фоне белого неба, кружатся снежинки тихо и плавно, с неба опускаются бесшумно на землю. Белые десантники спускаются с неба на своих невидимых белых парашютах, сонмища неведомых белых пришельцев в маленьких скафандрах, блестящих и белых. Грозное нашествие белых пришельцев. Кто они, откуда они, чего им здесь надо! Уже ни зги не видно, мне страшно, мне жутко чего они хотят от земли нашей милой!.. Ах, полно тебе, право, что за детские страхи! Все твои тревоги совершенно напрасны. Это просто нервы, ты, видно, устала, — вот и разыгралось у тебя воображенье. Это просто бал, просто вальс новогодний скрипачи играют на скрипочках белых. Белый дирижер поднял белую руку — вот и закружились эти белые пары… Медленные звуки новогоднего вальса, плавное круженье новогоднего бала. Медленно и плавно кружатся по кругу белые девчонки в белых одеяньях. Кружатся по кругу, положив на плечи белым кавалерам белые руки, белые на фоне черного леса, черные на фоне белого неба.Музыка
Вл. Соколову
Есть в музыке такая неземная, как бы не здесь рожденная печаль, которую ни скрипка, ни рояль до основанья вычерпать не могут. И арфы сладкозвучная струна или органа трепетные трубы для той печали слишком, что ли, грубы, для той безмерной скорби неземной. Но вот они сошлись, соединясь в могучее сообщество оркестра, и палочка всесильного маэстро, как перст судьбы, указывает ввысь. Туда, туда, где звездные миры, и нету им числа, и нет предела. О, этот дирижер – он знает дело. Он их в такие выси вознесет! Туда, туда, все выше, все быстрей, где звездная неистовствует фуга… Метет метель. Неистовствует вьюга. Они уже дрожат. Как их трясет! Как в шторм девятибалльная волна в беспамятстве их кружит и мотает, и капельки всего лишь не хватает, чтоб сердце, наконец, разорвалось. Но что-то остается там на дне, и плещется в таинственном сосуде остаток, тот осадок самой сути, ее безмерной скорби неземной. И вот тогда, с подоблачных высот, той капельки владетель и хранитель, нисходит инопланетянин Моцарт и нам бокал с улыбкой подает. И можно до последнего глотка испить ее, всю горечь той печали, чтоб, чуя уже холод за плечами, вдруг удивиться – как она сладка!Строки из записной книжки
«…он придумал себе подходящее на его взгляд звание: Магистр Георгий Сабелликус, Фауст младший, кладезь некромантии, астролог, преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант и преуспевающий гидромант».
Аббат Тритемий* * *
«Приехав в Венецию и желая поразить людей невиданным зрелищем, он объявил, что взлетит в небо. Стараниями дьявола он поднялся в воздух, но столь стремительно низвергся на землю, что едва не испустил дух, однако остался жив…»
* * *
«И ныне еще встречаются маги, которые кичатся тем, что силою своих чар они могут, оседлав коня, перенестись на нем за несколько мгновений в отдаленнейшее место. Но в конце концов они по лучат от черта заслуженную награду за эти поездки…»
Из старинных свидетельств о докторе Фаусте* * *
Он будет пить – и вдоволь не напьется. Он будет есть – и он не станет сыт!..«Шампанским наполнен бокал…»
Шампанским наполнен бокал. Июльская ночь на ущербе. Прощай, Баденвейлер, ich sterbe![1] И допит последний глоток. Немецкий уснул городок. Подумай, какая досада! Лишь ветки вишневого сада белеют в июльской ночи. Колеблется пламя свечи. Актриса известная плачет. Не знаю, зачем она прячет последние слезы свои. К чему здесь сейчас соловьи! Последние слезы горючи. Шиповника стебли колючи. Крыжовника иглы остры. И будут рыдать три сестры И многие сестры иные. Немногие братья родные и множество братьев иных. …Немецкий уснул городок. Но он уже скоро проснется. Его это тоже коснется, но только потом, и не так. Зачем эти розы цветут! Как все в этом мире похоже. И на Новодевичьем тоже такие же розы, как тут. Я тоже уеду туда, к тем розам, к березе и к вербе. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe — и это уже навсегда.Память
1
Бездна памяти, расширяющаяся Вселенная, вся из края в край обжитая и заселенная, вместе с вьюгами, снегопадами и метелями, как реликтовый лес не вянущий, вся зеленая. Бездна памяти, беспредельное мироздание, расходящиеся галактики и туманности, где все давнее только четче и первозданнее, очевиднее и яснее до самой малости. Расширяющаяся Вселенная нашей памяти. Гулкой вечностью дышит небо ее вечернее. И когда наши звезды, здесь умирая, падают, в небе памяти загорается их свечение. И уходят они все дальше путями млечными, и, хранимое небом памяти, ее безднами, все земное мое ушедшее и минувшее с высоты на меня очами глядит небесными. И звучат, почти как земные, только пронзительней, погребальные марши, колокола венчальные, и чем дальше даль, тем смиреннее и просительней эти вечные очи, эти глаза печальные. Бездна памяти, ты как моря вода зеленая, где волна к волне, все уходит и отдаляется, но вода, увы, слишком горькая и соленая, пьешь и пьешь ее, а все жажда не утоляется. И опять стоишь возле этой безлюдной пристани, одиноко под небесами ночными темными, и глядишь туда все внимательнее и пристальней, еще миг один – и руками коснешься теплыми.2
Небо памяти, ты с годами все идилличнее, как наивный рисунок, проще и простодушнее. Умудренный мастер с холста удаляет лишнее, и становится фон прозрачнее и воздушнее. Надвигается море, щедро позолоченное, серебристая ель по небу летит рассветному. Забывается слишком пасмурное и черное, уступая место солнечному и светлому. Словно тихим осенним светом душа наполнилась, и, как сон, ее омывает теченье теплое. И не то что бы все дурное уже не помнилось, просто чаще припоминается что-то доброе. Это странное и могучее свойство памяти, порожденное зрелым опытом, а не робостью, — постепенно воспоминанья взрывоопасные то забавной, а то смешной вытеснять подробностью. И все чаще мы, оставляя как бы за скобками и беду, и боль, и мучения все, и тяготы, вспоминаем уже не лес, побитый осколками, а какие там летом сладкие были ягоды. Вспоминается спирт и брага, пирушка давняя, а не степь, где тебя бураны валили зимние, и не бинт в крови, и не коечка госпитальная, а та нянечка над тобою – глазищи синие. Вспоминаются губы, руки и плечи хрупкие, и приходит на память всякая мелочь разная. И бредут по земле ничейной ромашки крупные, и пылает на минном поле клубника красная.3
Небо памяти, идиллический луг с ромашками, над которым сияет солнце и птица кружится, но от первого же движенья неосторожного сразу вдребезги разлетается все и рушится. И навзрыд, раздирая душу, клокочут заново те взрывные воспоминанья, почти забытые. И в глазах потемневших дымное дышит зарево, и по ровному белому полю идут убитые. Прикипают к ледовой корке ладони потные. Под руками перегревается сталь каленая… И стоят на столе стаканы, до края полные, и течет по щеке небритой слеза соленая.Ожидание Катерины
Осенняя роща, едва запотевший янтарь, и реки, и броды. Пора опадающих листьев, высокий алтарь притихшей природы. Пора опадающих листьев, ты что мне сулишь? Живу ожиданием встречи. А все, что меня окружает, – всего только лишь кануны ее и предтечи. Чего ожидаю? Зачем так опасно спешу все метить особою метой? Живу ожиданьем, одним только им и дышу, как рощею этой. Осенняя роща, о мой календарь отрывной, мой воздух янтарный, где каждый березовый лист шелестит надо мной, как лист календарный. О мой календарь, упаси и помилуй меня, приблизь эти числа! Иначе все дни и все числа без этого дня лишаются смысла. Живу ожиданьем, помилуй меня, календарь, — живу ожиданием встречи. …Осенняя роща, природы священный алтарь, и теплятся свечи.Испытанье тремя пространствами
… И вот, когда моя заблудшая звезда достигла самого, казалось бы, зенита, и я подумал с облегчением – finita, то бишь, окончена комедия моя; когда, казалось мне, приспел уже конец всем злоключениям души моей и тела, и он дошел уже до крайнего предела, их мимолетный кратковременный союз, — в тот час мне голос был. И вещий голос тот, как бы из будущего времени идущий, мне предрекал мою судьбу, мой день грядущий, хотя скорее предлагал, чем предрекал. Но выходило, тем не менее, что я так задолжал уже и дьяволу, и богу, что должен в новую отправиться дорогу для очищенья моей плоти и души. Что ко всему я должен был на этот раз, перетерпев неисчислимые мытарства, не три каких-нибудь там царства-государства, но три пространства безымянных пересечь. И, видно, чувствуя, как тает на глазах мой прежний пыл, моя уверенность былая, приободрить меня хоть как-нибудь желая, он приобщал меня к премудрости своей. И он сказал: – Запомни истину сию, и пусть она в твой трудный час тебе поможет: чему не должно быть, того и быть не может, а то, что быть должно, того не миновать…1
И с этим в первое пространство я вступил. И этим первым было белое пространство. Его безжизненной окраски постоянство вселяло ужас и могло свести с ума. Передо мной лежал огромный белый мир, до горизонта словно выбеленный мелом, и посреди его, в пространстве этом белом, зияло пятнышко неясное одно. Там, на снегу почти стерильной белизны, стояла старая заржавевшая койка, и было странно мне понять, и было горько вдруг осознать, что это я на ней лежу. Да, это я на ней распластанный лежал, как бы от смертного уставший поединка, и только острая серебряная льдинка тихонько ёкала и таяла в груди. Уже я звал к себе на помощь докторов — эй, кто-нибудь, хотя б одна душа живая!.. И в тот же миг, из белой бездны выплывая, мой доктор, Фауст мой, возник передо мной. И он сказал мне: – Этот зыблющийся свет пускай, мой друг, вас не страшит и не смущает. Ведь белый цвет, он, как известно, совмещает в себе всю радугу, семь радужных цветов, и, пропустив его сквозь сердце, как сквозь призму (сквозь эту острую серебряную льдинку), мы расщепим его на части составные и жизни цвет вечнозеленый извлечем. Ибо сказано было — чтобы приготовить эликсир мудрецов, или философский камень, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока она превратится в зеленого льва. Ибо история философского камня, о друг мой, есть история души очищающейся, история святых и героев. Ибо даже металлы, мой друг, пораженные порчей, и те возрождаются — несовершенное становится совершенным. И еще было сказано — что бы там мудрецы ни писали о высях небесных, малейшие силы души моей выше всякого неба!.. Поэтому, друг мой, вставайте, и да свершится то, чему должно свершиться. … И мы пошли. Мы снова шли в белесой мгле меж твердью неба и земною этой твердью, как между жизнью ускользающей и смертью, исподтишка подкарауливавшей нас. Мне было странно сознавать, что, лежа там, на той же койке, неподвижен, как полено, я вслед за Фаустом иду одновременно, и там и здесь одновременно находясь. Так минул день, и минул год, и минул век, а может, миг, понеже, времени не зная, ни твердь небесная, ни эта твердь земная нам ни малейших не являли перемен. И лишь однажды мы увидели – вдали, у самой кромки заметенного оврага, неспешно двигалась нестройная ватага каких-то призрачно мерцающих теней. Там, над нелепым этим шествием ночным, в немом пространстве без конца и без начала, негромко музыка какая-то звучала, сопровождаемая скрежетом костей. Простой мотив, легко пробивший тишину, ее, как паузу случайную, заполнил. Но я мотива, к сожаленью, не запомнил, хотя слова отлично помню наизусть.Хор ночных теней
Мы бесплотные духи, мы тени, мы стали скелетами. Были сильными, были могучими, были атлетами. А пот ом наши души покинули наши тела. Вот какие дела. Мы и пиво пивали, и кашу едали с котлетами. Киверами блистали, мундирами и эполетами. А пот ом наши души покинули нас навсегда. Вот какая беда. Мы блондинами были, мы жгучими были брюнетами. Были смердами, были царями и были поэтами. А пот ом наши души умчались в небесную даль Вот какая печаль, вот какая печаль, вот какая печаль… Стихало пенье, замирали голоса, и лишь один из удалявшихся со злостью нам погрозил рукою скрюченной, и костью, берцовой, кажется, вдогонку запустил. И Фауст молвил: – Что поделаешь, мой друг! Издержки прошлого. Дурное воспитанье. Зато сегодняшнее ваше испытанье вы с честью выдержали, должен вам сказать. Но торопитесь, ибо день вчерашний наш, хоть и блистательным увенчанный эффектом, он все равно минувший день, плюсквамперфектум, а наша цель — футурум первый и второй. И твердо помните – вам истина сия в ваш трудный час еще послужит и поможет чему не должно быть, того и быть не может, а то, что быть должно, того не миновать.2
И с этим в новое пространство я вступил. И этим новым было красное пространство. Его окраски темно-красной постоянство дышало пламенем и резало глаза. Передо мной лежал огромный красный мир имевший форму человеческого сердца, и где-то в нем зияла крохотная дверца, напоминавшая разрез или разрыв. И это красное — и все, что было в нем, — еще работало, пульсировало, билось безостановочно, хотя и торопилось, как будто близящийся чувствуя конец. И мы брели, неспешно двигаясь опять меж твердью неба и земною этой твердью, как между жизнью ускользающей и смертью, на всем пути подкарауливавшей нас. Но было все вокруг огнем озарено — дымились печи и попыхивали горны, неукоснительно послушны и покорны неутомимым человеческим рукам. Темнели ссадины на спинах и плечах, натужно дыбились натруженные вены, но были руки их легки и вдохновенны, и дерзновенны одержимые глаза. – О, посмотрите же, — сказал мне Фауст, — обратите вниманье на них, на этих людей — они не подвержены лени, не ходят в гордых одеждах, но прилежно занимаются своими работами, обливаясь потом у своих печей. Обратите вниманье, мой друг, они и не пробуют тратить время на развлеченья, но лабораториям своим преданы бесконечно. Они покрыты сажей, мой друг, подобно кузнецам и рудокопам, и не гордятся нисколько красивым и чистым своим лицом… …Я слушал Фауста, и все в его речах, в его словах до глубины меня пронзало, но что-то главное все время ускользало, не достигая разуменья моего. И я спросил его: – К чему ж он, этот мир, так странно сплавленный из пламени и крови? И он ответил мне, слегка нахмурив брови: – О да, вы главного не поняли, мой друг! Ибо главное, — говорил Фауст, — главное — это философский камень, а суть его — красные капли, кровь человеческая, дитя, увенчанное пурпуром царским. Сказано же недаром — начинай работу при закате солнца, когда красный муж и белая жена соединяются в духе жизни, чтобы жить в любви и спокойствии, в точной пропорции воды и земли. Землю же, сказано, от огня отдели, тонкое от грубого, с величайшею осторожностью, с трепетным тщанием. Тонкий легчайший огонь, взлетев к небесам, тотчас же возвратится на землю сам, сам низойдет на землю. Так вот свершится, сказано было, единение всех вещей, горних и дольних. И вот уже, сказано было, вселенская слава в дланях твоих. И вот уже — разве не видишь? — мрак убегает прочь!.. Вот суть. Вот главное. Цвет крови и огня, их красный цвет, символизирует рожденье, — в нем вы обрящете, мой друг, вознагражденье за все мытарства бесконечные свои!.. …Меж тем от нас уже совсем невдалеке, за плотной занавесью зарева и пыли, вставали башенки старинные и шпили, и это был, конечно, город Виттенберг. Оттуда, с узких этих улочек кривых, перекрывая адский грохот и шипенье, к нам донеслось на миг размеренное пенье, и мы умолкли и прислушались к нему.Песня виттенбергскнх алхимиков
Раскалились кирпичи, дым кругом и пламень. Ты варись, варись в печи, философский камень. Дух синильной кислоты, олова и ртути. Мы хоть ликом не чисты, но чисты по сути. Мы из жди, господа, золото добудем. Не добудем – не беда, горевать не будем. Мы привычны с давних пор, мы не знаем страха — пусть грозит нам хоть топор, пламя или плаха. Век нам кончить суждено адом, а не раем. Мы горим, горим давно — всё не догораем.И едва песня затихла, Фауст сказал мне:
– Да, я растроган. Я хочу остаться здесь,
и нам придется с вами временно расстаться
(семья и прочее), но вскоре,
может статься,
уже и завтра,
мы увидимся, мой друг.
Но поспешите, ибо день вчерашний наш,
хоть и блистательным увенчанный эффектом,
он все равно вчерашний день,
плюсквамперфектум,
а наша цель —
футурум первый и второй.
И не забудьте – ибо истина сия
еще не раз вам и послужит, и поможет —
чему не должно быть, того и быть не может,
а то, что быть должно, того не миновать.
3
И с этим в новое пространство я вступил. И это было сплошь зеленое пространство. Его окраски изумрудной постоянство своей законченностью радовало глаз. Передо мной лежал большой зеленый мир, весь перемытый очистительной грозою, как бы причастный в этот миг и к мезозою, и к нашей эре, и к грядущим временам. В нем все дышало влажным ветром и травой, едва раскрывшимися листьями и хвоей, и, как бы связанною с Дафнисом и Хлоей, той первозданной первобытной чистотой. И я не знал, куда мне следует идти от этих рощ, от этих пущ, от их опушек, от этих трепетно кукующих кукушек, от этих вкрадчиво трепещущих синиц. И я увидел, как на кончике листа почти невидимая капелька держалась, в которой явственно до боли отражалась и вся Вселенная, и малый стебелек. И эта капля на березовом листе сейчас была уже не каплей, а слезою, принадлежавшей всем векам – и мезозою, и нашим дням, и всем грядущим временам. И я не знал, куда идти мне и зачем от этих трав, от этих птиц, от этих трелей, перед которыми все песни менестрелей (о да простят меня!) не стоят ничего. И я хотел уж было Фауста просить мне оказать давно обещанную милость — чтобы мгновенье это вмиг остановилось, едва лишь я ему скажу – остановись! Но был мне голос. Был он тихим, как трава и как предутреннего ветра дуновенье. И он сказал: – Вся наша жизнь – одно мгновенье, так как же можем мы его остановить! Ты должен знать уже, что наш вчерашний день, хоть там каким ни завершившийся эффектом, он все равно вчерашний день, плюсквамперфектум, а наша цель — футурум первый и второй. И твердо помни эту истину – она в твой трудный час еще не раз тебе поможет — чему не должно быть, того и быть не может, а то, что быть должно, того не миновать.Явление Катерины
И сначала какой-то кузнечик легонько подпрыгнул разок и другой и зашелся, запел — Катерина идет, Катерина! А потом закачалась трава, покачнулась и тоже давай и давай шелестеть — Катерина идет, Катерина! А потом зашуршала листва на столетних дубах, словно некий неведомый нам календарь с декабрями, еще не пришедшими, и январями. А потом все луга и долины, и горы с лесами, и реки с морями — все звенело вокруг, стрекотало и пело на сто голосов, все сильней и все громче звучало — Катерина идет! — возвещая тем самым приход Катерины, явленье ее и начало. Кто ж ты есть, Катерина — пароль, заповедное слово, знаменье, явленье природы? Или то не пришедшее время — футурум второй — те совсем еще дальние годы, над которыми сумрак покуда клубится, неясная дымка, туман, дымовая завеса? …А меж тем у черты горизонта над темною кромкою дальнего леса, показалось внезапно какое-то облачко, и поднималось, и ширилось, и не спеша вырастало, и явилось, предстало пред миром, и раннее солнце на нем заблистало. А оно подымалось все выше в своем восхожденье великом навстречу бездонному небу и солнечным бликам, и ни темной черты горизонта, ни кромки далекого леса уже не касалось. И казалось порою божественным женским задумчивым ликом, а порою застывшей в полете неведомой птицей казалось.Строки из записной книжки
«…заговорили за столом о красивых женщинах, и тут один из них сказал, что он ни одну женщину не желал бы так увидеть, как прекрасную Елену из Греции, из-за которой погиб славный город Троя. На что доктор Фауст ответил: – Раз уж вы так жаждете увидеть прекрасный образ царицы Елены, Менелаевой супруги и дочери Тиндара и Леды, то я ее вам представлю…»
* * *
«– Да, да, это она, та самая, которую я некогда видел в Греции. Пойдем со мной, в мою комнату, теперь ты – моя Елена!..»
* * *
«…Царица Елена следовала за ним по пятам и была дивно хороша собой. Явилась эта Елена в драгоценном черном платье из пурпура, волосы у нее были распущены, они чудно, прекрасно блестели как золото, такие длинные, что падали ей до самых колен…»
* * *
Я мог тебя прийти заставить, Но удержать тебя не мог…«Задумал силой меряться…»
Задумал силой меряться не с кем-нибудь – с судьбой. Как Дон Кихот и мельница, воюю сам с собой. То вскачь гремлю доспехами, то, спешившись, бегу. Особыми успехами похвастать не могу. С насмешливыми лицами, все злей день ото дня, мои соседи рыцари взирают на меня. Но пусть гидальго бедного не лавры ждут, увы, а все ж он таза медного не сдернет с головы. Там, под щитом и латами, душа его болит и в бой идти с крылатыми колдуньями велит… Неспешно время мелется, идет неравный бой. Как Дон Кихот и мельница, воюю сам с собой. Зияют раны рваные там, слева, под плечом, и крылья деревянные изрублены мечом.«Но так мне хотелось…»
Но так мне хотелось тебя привести и с тобой прошагать по местам, где я жил, по местам, где я шел и прошел день заднем, год от года — хотя жизни моей для такого похода едва ли хватило б теперь — но в Киев, но в Киев, на Малую Васильковскую, угол Рогнединской, в Киев, так тянуло меня с тобою прийти, Катерина, и вот я пришел в этот двор (только он и остался, а дома давно уже нет), в этот двор, где под шорох и шелест каштановых листьев прошло мое детство, — и теперь я испытывал чувство такое, как будто тяжелый свалил с себя груз, и дышал облегченно, и счастливыми видел глазами, как легко совпадают и как совмещаются наши с тобою следы — словно две параллельных, что сходятся где-то в пространстве, в бесконечном пространстве бесчисленных лет — шаг за шагом, след в след, под шуршанье каштановых листьев.«Падают листья осеннего сада…»
Падают листья осеннего сада, в землю ложится зерно. Что преходяще, а что остается — знать никому не дано. Беглый мазок на холсте безымянном, вязи старинной строка. Что остается, а что преходяще — тайна сия велика. Пламя погаснет и высохнет русло, наземь падут дерева. Эта простая и мудрая тайна вечно пребудет жива. Так отчего так победно и громко где-то над талой водой — все остается! все остается! — голос поет молодой? И отчего так легко и звеняще в гуще сплетенных ветвей — непреходяще! непреходяще! — юный твердит соловей?«Ребенок стоял на паркетном полу…»
Ребенок стоял на паркетном полу, а зимнее солнце февральского дня в балконное било стекло. И он, непонятною силой влеком, на солнечный блик осторожно ступил и сделал еще один шаг. Ребенок, открыв удивленно глаза, босыми ступнями несмело ступал по теплым паркетным брускам, а зимнее солнце февральского дня, подобно шуршанью осенней листвы, бесшумно текло перед ним. Ребенок шел по полу, как по воде, и в стороны руки свои разводил, и хлопал в ладони, и пел — да, что-то он пел, этот юный дикарь, в невнятном языческом пенье своем то У повторяя, то А. Дикарь? – но скорее, как юный пророк, язычник? – нет, юный апостол босой в рубахе почти что до пят, так шел он, неведомой силой влеком, как будто бы слышал все время вдали какой-то настойчивый зов. Ребенок шел по полу, как по воде, прощался со мной, уходил от меня в такую безумную даль, куда мне не только вовек не дойти, но даже и глазом одним заглянуть уже никогда не дано.«Так дни неслись, так быстро время мчалось…»
Так дни неслись, так быстро время мчалось, что нам не удавалось наблюдать, как листья блекли, и не замечалось, как успевали листья облетать, как вновь они раскрыться успевали, и, с дождиком сойдясь накоротке, цвела сирень, и сливы поспевали, и дыни золотились на лотке, и небо постепенно прояснялось, и как-то утром, выглянув в окно, спохватывались вдруг, и выяснялось, что снег лежит на улице давно, что искрится за ближней подворотней, как елочные хрупкие шары, не прошлогодний снег, а новогодний, в накрапах мандаринной кожуры, и дети уже возятся с санями, и не вчера ли выстроенный дом весь заселен и светится огнями… Но все это заметилось потом, когда у нас вовсю сверкала елка, и мы, почти совсем уже без сил, сидели за столом, и кто-то долго за тостом новый тост произносил и говорил, что можно жить без боли, и есть к тому достойные пути, чтоб день начать – как будто выйти в поле, и жизнь прожить – как поле перейти.«Катя, Катя, Катерина…»
Катя, Катя, Катерина, в сердце, в памяти, в душе нарисована картина, не сотрешь ее уже. Кантилена, Каталина, слов бесчисленная рать. Все труднее, Катерина, стало рифму подбирать. Голова моя туманна, рифма скоро ли придет. А уже приходит Анна, Анна в комнату идет. А уже приходит Ольга, и подхватывает их элегическая полька, парный танец на троих. Парный танец на два счета, или на три – наплевать. Нет причины, нет расчета нам сегодня унывать. Елка, праздник, именины, день рожденья, Новый год. Ольги, Анны, Катерины бесконечный хоровод. Месяц, тоненькая долька, из окна глядит на нас… Катерина, Анна, Ольга засыпают в этот час. Но за реки и поляны, через горы и леса, Катерины, Ольги, Анны всё несутся голоса.«Настежь ворота, не заперта дверь…»
Настежь ворота, не заперта дверь. Где же ты, бедная гостья моя? Жду тебя здесь, в этом доме чужом, в доме на Клязьме. Первые листья, десятый апрель. Вспомни, какое сегодня число. Как меня, боже, сюда занесло, в эту обитель? Парус изодран, и мачту снесло. Кренится лодка, разбито весло. Что же, случается, – не повезло лодочке нашей. Где наши гости? Не будет гостей. Где наши чаши? Не будет вина. Да не посетуй, что будешь одна гостьей моею. Я ведь и сам буду гостем твоим. Будем с тобой друг у друга гостить. Все-таки грех нам с тобою грустить в этом апреле. Чем одарю тебя? В темном бору листьев зеленых тебе наберу — пусть они тоже у нас на пиру будут гостями. Первые листья, десятый апрель. Мы еще вспомним когда-то о нем, в пору иную и в месте ином — там, за лесами, — только б он выстоял, жив и здоров, все наши горести переборов, дом Катерины, отеческий кров Анны и Ольги.«Сперва вдали едва гремело…»
Сперва вдали едва гремело, а после все заволокло, и капли первые несмело забарабанили в стекло. И вот в саду раскаты грома, и сонно ясени скрипят… Пусть дождь идет, пока мы дома и наши дети сладко спят, пока скамейки опустели, и черен двор и нелюдим, и мы лежим уже в постели и в темень черную глядим, пока мы глаз не закрываем и смотрим в темень и пока мы уплываем, уплываем туда, где гром и облака, и наши звезды нас венчают и нам расстаться не дают, и наши ветры нас качают, и наши грозы нам поют, и обнимает нас истома, и мир дремотою объят… Пусть дождь идет, пока мы дома и наши дети сладко спят, пока внизу, меж деревами, гремят и рушатся миры и сокрушенно головами качают желтые шары.«Как мой дом опустел, все уехали, дом обезлюдел…»
Как мой дом опустел, все уехали, дом обезлюдел, в нем так неуютно теперь непривычно и странно Нынче спать лягу рано, и буду лежать неподвижно и слушать, как тикают стрелки и медленно падают капли из крана. Удивительно, как изменяются вещи, то вдруг совершенно ненужными нам становясь, то, напротив, глядишь — и дороже тебе, и нужнее, и другое совсем обретают значенье и вес, будто ты их увидел впервые, и вот уже смотришь нежнее. Стол и стул, и кровать, полотенце и кружка, часы и все прочие вещи сегодня другого исполнены смысла и стали иными, чем прежде. Выразительный жест одиночества вдруг проступает отчетливо в этой недвижно висящей на стуле забытой одежде. Подойдешь и поправишь, погладишь рукою, на краешек стула присядешь, устав от пустого шатанья. Словно это не дом, а вокзал или зал ожиданья, где нет никого, лишь одни ожиданья, одни ожиданья. И уносится ветром попутным куда-то все дальше летящее мимо транзитное облачко дыма, и проносятся мимо мои поезда, все проносятся мимо, проносятся мимо.«Откуда я – где жил я и где рос?…»
Откуда я – где жил я и где рос? В каких местах? Неведомо. Вопрос. Так много мест, где рос я и где жил, и новосел тех мест, и старожил, где я и жил, и рос, и вырастал, как вырастает ветка и кристалл, и становился старше, и старел… Мой отчий дом в огне войны сгорел. Кочевником, кочующим в седле, всю жизнь меня мотало по земле. И я в себе своею жизнью всей соединил Дунай и Енисей. И от Днепра, от тех высоких круч, до сей поры храню заветный ключ. И берега больших сибирских рек — мой отчий дом и мой родимый брег. Откуда ж я? И верится с трудом, что все это я в сердце уместил. И там моя земля, и там мой дом, и там я тоже жил, а не гостил… Когда уйду, глаза смежив навек, предай меня, мой друг, земле сырой там, где-нибудь в пространстве этих рек, в пространстве меж Днепром и Ангарой.Строки из записной книжки
«…Я видел перед собой Константинополь, а в Персидском и Константинопольском море увидел множество кораблей и войска, двигавшиеся взад и вперед. И представлялось мне, глядя на Константинополь, будто там едва три дома, а люди величиной с вершок. Смотрел я туда и сюда, на восход и на поддень, к закату и пол ночи, и если в одном месте шел дождь, то в другом гремела гроза, здесь падал град, в другом была хорошая погода…»
* * *
«…самая малая звезда на небе, что нам снизу едва ли покажется с большую восковую свечку, на самом деле больше, чем целое княжество. И это действительно, и я сам это видел…»
* * *
«В том, что происходит со звездами, когда они светят и падают на землю, нет ничего необыкновенного, это бывает каждую ночь. Когда мы замечаем вспышки или искры, это знак, что со звезд падают капли, и капли эти вязкие и зеленовато-черные…»
* * *
«Облака же на небе движутся с такой силой с востока на запад, что звезды, луна и солнце вовлечены в это движение. И хотя мне казалось, что солнце у нас величиной едва ли с днище от бочонка, на самом же деле оно больше всей земли, так что я не мог видеть, где оно кончается…»
* * *
«Он не отрицал, а открыто заявлял, что имя его Фауст, и, расписываясь, прибавлял – «философ философов»».
Филипп БегардиИ все же ты – лишь Фауст, человек!
«Нет, не бог всемогущий…»
Нет, не бог всемогущий, всего только маленький слабый божок, сотворил я Вселенную в три деревца, в три рождественских елочки хрупких, чтоб ныне, как скряга, над веточкой каждой трястись, над иголочкой каждой. Три рождественских елочки, три одиноких тростинки, три тонких травинки всего-то и есть у меня, вот затем и трясусь, как скупой над своим сундуком, над травинкою каждой. Три травинки, три легких снежинки лежат на ладони моей, три снежинки всего и богатства, три звездочки зябких. Три снежинки, три звездочки зябких, три зыбких надежды мои, осторожно пускаю с ладони, и вот уже тает ладонь моя, воску подобно. Так стою, как свеча среди поля. И только три звездочки зябких. Три зыбких надежды мои. Три звезды Вифлеемских.«Бывает ли это теперь…»
Бывает ли это теперь, как прежде когда-то бывало, — чтоб вьюга в ночи завывала и негде укрыться в пути? Случается ль это теперь, как прежде когда-то случалось, — чтоб снежная ветка стучалась в ночное слепое окно? Бывает ли это теперь… Конечно, конечно, бывает — и вьюга в ночи завывает, и негде укрыться в пути, и долго в ночное окно мохнатая ветка стучится… Да, все это может случиться, но только уже не с тобой. Давно улеглись по углам бураны твои и метели. Отпели давно, отсвистели все лучшие вьюги твои. … И снова мне снится всю ночь, как вьюга вдали завывает, все кличет меня, зазывает, все манит и манит к себе.«– Что нового? послушай, говорят…»
– Что нового? послушай, говорят, кругом огни, кругом огни горят. Пора и нам! осмелимся, шагнем, потешимся, нашутимся с огнем! Пора и нам, огонь горит в окне. – Смотри, смотри, сгорим с тобой в огне! – Сгорим в огне? Ну что ж, не мы одни. Кругом огни, кругом горят огни. Куда же ты, постой!., а говорят, кругом огни, кругом огни горят…Женщина, которая летала
Женщина, девочка, почти что подросток, веснушчатая, угловатая (этакий гадкий утенок), — и в любви все никак не везло. А город был южный, душный, и там, на площадке его танцевальной, потные пары, плотно прижавшись друг к другу, кружились по кругу, целовались тайком и смеялись, и пластинки то и дело сменялись, — а она все стояла одна, все ждала, чтоб ее пригласили, и глаза умоляли, глаза просили — тщетно, напрасно. А потом было белое танго, и это давало ей право самой пригласить кавалера, а она не могла, не хотела, и тогда, словно птица, взмахнула руками и полетела над танцевальной площадкой (да, пусть они видят, пусть знают!), и сделала круг, и еще, и – полетела, и полетела… Ну что же ты, глупенькая, опустись на землю!.. Не опускается. Так и летает. Так до сих пор и летает.«В будапештской гостинице, в номере, на стене…»
В будапештской гостинице, в номере, на стене — деревенский зимний пейзаж в деревянной раме. На исходе сумерек, знойными вечерами, он так странен здесь, в этой комнате городской. Деревенский зимний пейзаж, тишина и снег, и пустынный двор, и колодец, и дом с сенями, и неясный след, оставшийся за санями, на которых кто-то уехал давным-давно. Отчего же томит меня этот далекий звук, этот сонно скользящий санный поющий полоз, и зачем я хочу представить лицо и голос незнакомой женщины, едущей в тех санях? Для чего мне надо увидеть забор и дом на степной равнине где-то за Орошхазой, и на мягких ресницах женщины темноглазой осторожно тающий теплый январский снег? В будапештской гостинице, в номере, на стене… Но зачем мне помнить, думать и знать об этом через столько лет, будапештским горячим летом, в этом тесном, душном номере небольшом! А за окнами – зелень, марево, зной, Дунай, пешеходы, колокола и обрывки речи. И бесшумно падает, падает мне на плечи этот давний-давний, теплый венгерский снег.«И щебет, и кукованье…»
И щебет, и кукованье, и посвисты, и раскаты… Все больше люблю рассветы. Все меньше люблю закаты. Прелюдия дня и утра, их трепетное рожденье. Какой-нибудь новой жизни начало и пробужденье… Но, скажешь ты, это утро и раннее это поле — всего только образ, символ, метафора, и не боле. И все же – зачем так быстро сменяются дни и даты!.. Все дальше наши рассветы. Все ближе наши закаты.«На шумном пиру отпирую…»
На шумном пиру отпирую, а после, допивши вино, все страсти свои зашифрую, лишь имя оставлю одно. А может быть, даже не имя, не полный рисунок его, а только две буквы начальных останутся вместо него. Останутся инициалы на белой странице одной, как бедные провинциалы в безлюдье столицы ночной. Уснули троллейбусы в парке, трамваи не ходят давно. В чужом опустевшем квартале последнее гаснет окно. И нет ни друзей, ни знакомых, ни дальней хотя бы родни. И только вокзалов полночных распахнуты двери одни.«Пред вами жизнь моя…»
Пред вами жизнь моя – прочтите жизнь мою. Ее, как рукопись, на суд вам отдаю, как достоверный исторический роман, где есть местами романтический туман, но неизменно пробивает себе путь реалистическая соль его и суть. Прочтите жизнь мою, прочтите жизнь мою. Я вам на суд ее смиренно отдаю. Я все вложил в нее, что знал и что имел. Я так писал ее, как мог и как умел. И стоит вам хотя б затем ее прочесть, чтоб все грехи мои и промахи учесть, чтоб всех оплошностей моих не повторять, на повторенье уже время не терять, — мне так хотелось бы, чтоб повесть ваших дней моей была бы и правдивей, и верней!«За рощей туман сгущался…»
За рощей туман сгущался, все чаще дождь моросил. Я с молодостью прощался, прощенья у ней просил. – Еще, – говорил, – побуду. – Пора, – отвечала, – в путь. О, я тебя не забуду! О, ты меня не забудь! Двенадцать часов пробило. Темно за окном, черно. – Когда это, милый, было? – Вчера, – говорю, – давно. Луна в облаках бродила, шуршала у ног трава. Ах, молодость, ты правдива! Ах, молодость, ты права! И тщетно взываю к чуду, и что-то сжимает грудь… О, я тебя не забуду! О, ты меня не забудь!«Мундиры, ментики, нашивки, эполеты…»
Д. Самойлову
Мундиры, ментики, нашивки, эполеты. А век так короток – господь не приведи. Мальчишки, умницы, российские поэты, провидцы в двадцать и пророки к тридцати. Мы всё их старше год от года, час от часа, живем, на том себя с неловкостью ловя, что нам те гении российского Парнаса уже по возрасту годятся в сыновья. Как первый гром над поредевшими лесами, как элегическая майская гроза, звенят над нашими с тобою голосами почти мальчишеские эти голоса. Ах, танец бальный, отголосок погребальный. Посмертной маски полудетские черты. Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным демоном сходившийся на ты. Каким же ветром обдиралась эта кожа, какое пламя видел он, какую тьму, чтоб, словно жизнь безмерно долгую итожа, в конце сказать – «и зло наскучило ему»! He долгожители, не баловни фортуны — провидцы смолоду, пророки искони… Мы всё их старше, а они всё так же юны, и нету судей у нас выше, чем они.«Снег валил до полуночи…»
Снег валил до полуночи, рушился мрак над ущельями, а потом стало тихо, и месяц взошел молодой… Этот мир, он и движим и жив испокон превращеньями, то незримой, то явной, бесчисленной их чередой. Чередуется свет с темнотой, обретенья – с потерями, и во всем этом свой, несомненно, и смысл, и резон. Череда превращений, закон сохраненья материи — как догадка твоя дерзновенна, Овидий Назон! Все, действительно, так, и, покуда планета вращается, и природа, ликуя, справляет свое торжество, всякий миг завершается что-то, и вновь превращается существо в вещество, и опять вещество в существо. Как в кольце лабиринта глухими бредем коридорами, как в преддверии часа, когда разразится гроза, переходами темными движемся, между которыми обжигающий пламень на миг ослепляет глаза. Недоверчиво смотрим, как трагик становится комиком, сокрушенно взираем, как старость вступает в права, как гора рассыпается в прах, и над маленьким холмиком, выбиваясь из сил, молодая восходит трава. И однажды осенней порой, прислонясь к подоконнику, вдруг легко различаем сквозь морок и зябкий туман, как наш давний роман переходит в семейную хронику, и семейным преданьем становится старый роман. Мы себя убеждаем – ну, что там печалиться попусту, но подстреленной птицей клокочет и рвется в груди этот сдавленный возглас – как вслед уходящему поезду — о мгновенье, помедли, помешкай, постой, погоди!Студия звукозаписи
Успеть, пока вертится круг и вьется магнитная лента. Не ждать напряженно момента, когда остановится круг. Успеть, пока кружится диск, но только не думать о диске. Не думать все время о риске, что все не успеешь сказать He надо форсировать речь, и, четко скандируя строки, старайся не думать о сроке, который тебе отведен. Спокойно выкладывай их, свои сокровенные думы, а все посторонние шумы сотрутся в положенный срок. Бесстрашно выстраивай в ряд свои путеводные вехи, а все шумовые помехи механик потом уберет. Расставится все по местам, и где-нибудь в памяти века проявится вся дискотека записанных им голосов. Но ты говори, говори, ты даже не думай об этом. Смотри, каким медленным светом наполнена рама окна. А ты не смотри, не смотри, как движется час календарный. Смотри, как медово-янтарный по дереву движется сок. Смотри, как решительно вдруг набухла апрельская завязь. И все не кончается запись, и плавно вращается круг.Сцена у озера
Озеро Тракай в Литве. Берег. Старинный замок вдали. Раннее утро. На берегу Поэт и Фауст.
Фауст
Мне кажется, что я сегодня вновь, как в дни былых скитаний многотрудных, сижу у вод Эгейских изумрудных на бесподобном празднестве морском. И нереиды в этот ранний час гуляют, как купальщицы по пляжу, а после принимаются за пряжу, садятся прясть на прялках золотых… Восходит солнце. Снова будет день, еще один из множества несметных обычных наших дней и дней бессмертных, которым кануть в Лету не дано. А нам все мало, мало, нас опять куда-то вдаль влечет – ворочать горы, искать волшебный корень мандрагоры иль камень философский добывать…Поэт
Да вы поэт, мой Фауст, видит бог! Я дам сейчас вам перья и бумагу, и вы, мой друг, садитесь и пишите, и сочиняйте все, что вам угодно — канцону, пастораль или сонет — сей дар похоронить в земле – преступно!Фауст
Ну, что ж, кому прекрасное доступно, кто любит – тот действительно поэт.Поэт
Да, вы поэт, мой Фауст, в этом суть, и потому вы так великодушны, и я не знаю, что мне должно сделать, чтоб вам воздать за вашу доброту. И все-таки, и все-таки опять я смею вас обеспокоить просьбой, последней моей просьбою смиренной и самой сокровенною моей. Мне б так хотелось, о мой добрый Фауст, хотя бы раз, хотя бы на мгновенье, воочию увидеть Катерину в том времени, немыслимо далеком, в том будущем, в котором, неизвестно, смогу ли увидать ее хоть раз…Фауст
Хотя, насколько помнится, mein Freund, подобным обещаньем я не связан, но раз вам это нужно – я обязан, и вашу просьбу выполню тотчас. Глядите ж!..Возникает утро какого-то дня две тысячи первого года.
Комната Катерины. Катерина, молодая женщина лет двадцати семи, в кресле, с раскрытою книгой на коленях.
Катерина
Не первый раз листаю эту книгу. Когда-то мне казалось необычным ее названье – «Письма Катерине или Прогулка с Фаустом», а вот привыкла – и читаю, словно адрес, написанный однажды на конверте, в котором столько лет хранятся письма, когда-то адресованные мне…Читает наизусть.
«Я дьяволу души не продавал — хоть с Фаустом сошлась моя дорога, но он с меня не спрашивал залога, моей души не требовал взамен…» Конечно, нынче так уже не пишут. И, верно, слог немного старомоден. И эти рифмы – кто ж теперь рифмует! Ax, день минувший, мой двадцатый век, вчерашнее уже тысячелетье — извечный спор архаики с модерном, их бурные ристалища и распри и странный их в итоге симбиоз. И все же я к тебе, мой прошлый век, то странное испытываю чувство, которое подобно ностальгии — и сладок его вкус, и горьковат.Раскрывает книгу и начинает читать.
Поэт
Вы посмотрите, Фауст, посмотрите — слезинка по щеке ее скатилась! Я к ней пойду! Хотя бы на мгновенье! Я только ее волосы поправлю, слезинку набежавшую утру!..Несмотря на запрещающие знаки, которые подает ему Фауст, бросается к Катерине. Виденье тотчас исчезает. По щеке Поэта текут слезы.
Фауст
Увы, нам только кажется порой, что мы свой жребий сами выбираем. А мы всего лишь слезы утираем, чужие ли, свои – не все ль равно!«Освобождаюсь от рифмы…»
Освобождаюсь от рифмы, от повторений дланей и ланей, смирении и озарений. В стихотворенье — как в воду, как в реку, как в море, надоевшие рифмы, как острые рифы, минуя, на волнах одного только ритма плавно качаюсь. Как прекрасны его изгибы и повороты, то нежданно резки, то почти что неуловимы! Как свободны и прихотливы чередованья этих бурных его аллегро или анданте! На волнах одного только ритма плавно качаюсь. Как легко и свободно катит меня теченье. То размашисто заношу над водою руку, то лежу на спине, в небеса гляжу, отдыхаю… Но внезапно, там, вдалеке, где темнеют плесы, замечаю, как на ветру шелестят березы. Замечаю, как хороши они, как белёсы, и невольно к моим глазам подступают слезы. И опять, и вновь, вопреки своему желанью — о любовь и кровь! — я глаза утираю дланью. И шепчу, шепчу — о березы мои, березы! — повторяя — березы, слезы, морозы, розы…«Меж двух небес…»
Меж двух небес (начала и конца), меж двух стихий (как в кресле брадобрея — меж двух зеркал), стремительно старея, живешь на этом тесном пятачке, в двух зеркалах бессчетно повторяясь и постепенно в них сходя на нет, там, за чертой, за гранью дней и лет, последним звуком нисходящей гаммы. Две бронзы. Две латуни. Два стекла. Два тонких слоя ртутной амальгамы. Вот тайна и развязка этой драмы. Меж двух стихий (начала и конца), меж двух страстей (как в кресле брадобрея меж двух зеркал)… Гораций и Катулл, Шекспир и Дант сидели в этом кресле. Они ушли. Они навек воскресли и в глубине зеркал остались жить. Ну что ж, мой друг, приходит наше время. Эй, брадобрей, побрить и освежить!.. И вдруг поймешь – ты жизнь успел прожить, и, задохнувшись (годы пролетели), вдруг ощутишь, как твоего чела легко коснулись вещие крыла благословенной пушкинской метели… Ну что ж, мой друг, двух жизней нам не жить, и есть восхода час и час захода. Но выбор есть и дивная свобода в том выборе, где голову сложить!Строки из записной книжки
…Вот я вижу, как он сдергивает с головы свой блестящий цилиндр и ловким движеньем, привычным движеньем мага и чародея, извлекает из него то пеструю шаль цыганскую, то тулупчик какой-то заячий, то веером распахнет игральные карты, надо же – тройка, семерка, туз!.. У каждого поэта должен быть свой цилиндр. Но сколько мы, грешные, тащим все из того же пушкинского цилиндра!..
* * *
Может быть книга подобна чистому хвойному лесу, сосновому бору. Может быть книга подобна березовой роще – и это тоже пре красно. И все-таки смешанный лес, по-моему, лучше.
* * *
Популярность поэта при жизни (даже поэта хорошего) – чаще всего долговременной она не бывает. Тут все, как в любви, – бурное увлеченье, медовый месяц, семейная жизнь, привычка.
* * *
Прощай. Вдали, в великой отдаленности от этих мест, с тобою мы увидимся…«Я дьяволу души не продавал…»
Я дьяволу души не продавал — хоть с Фаустом сошлась моя дорога, но он с меня не спрашивал залога, моей души не требовал взамен. В том многотрудном странствии своем, не помышляя прошлое обидеть, стремились мы не прошлое увидеть, а в будущее время заглянуть. И я, идя за Фаустом вослед, в нем чувствуя надежную опору, скорее сам был Фаустом в ту пору, а он был Мефистофелем моим. Но опытом своим отягощен, наученный на собственном примере, мне тайные распахивая двери, моей души взамен он не просил. Спасибо тебе, доктор Иоганн, за все, что мы увидели с тобою, покуда, ратоборствуя с судьбою, мы бег времен пытались задержать. Спасибо за дерзанье и напор, сдвигающие камень преткновенья, спасибо за волшебные мгновенья свиданья с Катериною моей. Прощайте, я и вас благодарю, магические камни Виттенберга, за эту многоцветность фейерверка на карнавальном празднестве души. А что же до расплаты – мы и так в конце концов за все сполна заплатим своим истцам, и братьям и собратьям, и всем сестрам, которым мы должны.«Этот поздний рассвет обнажил и ясней обозначил…»
Этот поздний рассвет обнажил и ясней обозначил перемены в природе, а значит, и в нашей судьбе. Сколько лет, сколько зим с той поры пронеслось, как я начал их писать, эти письма мои, Катерина, тебе? Паутинки летят над осенним пустеющим садом. Августовских лесов загорелись вдали купола. Ты пришла, Катерина, и стала моим адресатом до того, как явилась, и прежде еще, чем была. И когда меня в мокром окопе секла непогода, и когда я вставал, повинуясь армейской трубе, и когда я лежал на снегу сорок первого года — это все были письма мои, Катерина, тебе. Я тебе посылал их в такие безбрежные дали, я тебе их писал, лишь о том затаенно скорбя, что ответа уже отправитель дождется едва ли — нет, нескоро еще эти письма дойдут до тебя. Но и самые трудные в жизни моей положенья, в передрягах ее, в беспощадной ее молотьбе, все тревоги мои, все победы и все пораженья — это все были письма мои, Катерина, тебе. Всею кровью писал их, писал, погибая от жажды, всею болью своею, одно лишь имея в виду, что пускай не сейчас, не сегодня, а все же однажды ты прочтешь их когда-то в две тысячи первом году. День сменяется днем, и эпоху сменяет эпоха. Все приемлю как есть, ни на что не пеняю судьбе. Благодарно припомню за миг до последнего вздоха все идут еще письма мои, Катерина, тебе.Над старой тетрадью
Вчерашний день, вчерашние стихи, вчерашний снег, вчерашняя погода. А на дворе – иное время года, и день стоит иной в календаре. Вчерашние стихи, вчерашний день, все дальше друг от друга мы уходим, а встретимся – и сходства не находим с привязанностью давешней своей. Вчерашний дождь, вчерашняя гроза, вчерашний штурм, вчерашняя атака, ах, Одиссей, к чему тебе Итака, где у тебя ни дома, ни жены! Вчерашние стихи, вчерашний день. Прощаемся, как с первою любовью. С той первою, соседствующей с кровью и неспроста рифмующейся с ней. Я мог бы вам сказать – я вас любил, трудней сказать – любовь еще, быть может… Вчерашний день, хоть как он там ни прожит, а все равно он день вчерашний мой. И все-таки, и все-таки тот день, вчерашний мой, и он был не напрасен, и был под вами снег недаром красен, мои листы, исписанные мной. Поэзия, сестра семи скорбей, семи печалей верная подруга. И стаи строф – как стаи голубей. И невозможно вырваться из круга.Вместо эпилога
А что же будет дальше, что же дальше, уже за той чертой, за тем порогом? А дальше будет фабула иная и новым завершится эпилогом. И, не чураясь фабулы вчерашней, пока другая наново творится, неповторимость этого мгновенья в каком-то новом лике повторится. И станет совершенно очевидным, пока торится новая дорога, что в эпилоге были уже зерна и нового начала, и пролога. И снова будет дождь бродить по саду, и будет пахнуть сад светло и влажно. А будет это с нами иль не с нами — по существу, не так уж это важно. И кто-то вскрикнет: – Нет, не уезжайте Я пропаду! Пущусь за вами следом!.. — А будет это с нами иль с другими — в конечном счете, суть уже не в этом. И кто-то от обиды задохнется, и кто-то от восторга онемеет… А будет это с нами или с кем-то — в конце концов, значенья не имеет.Белые стихи (1991)
«Время белых стихов…»
Время белых стихов, белизна, тихий шаг снегопада, морозная ясность прозрачного зимнего дня, византийская роспись крещенских морозов на стеклах души, как резьба, как чеканка – по белому белым — дыши не дыши — не оттает уже ни единый штришок на холодном стекле. Время белых стихов, эти белые строки, как белые рощи, зиянье резной белизны, где случайные рифмы, как редкие вспышки рубиновых ягод рябин, хоронящихся в тень, как снегирь, как синичка – на кончике ветки — внезапно — тень-тень! — хотя речь тут совсем не о рифме, нет, дело не в рифме, и речь тут идет не о ней. Время белых стихов, эти строки, всего только время и сроки, мгновенье и час обостренного зренья, последних прозрений, последних надежд и последних утрат, это возраст души, это воздух предгорий и горных вершин, Эверест, Арарат, где останки ковчега под снегом с последним ночлегом так просто уже рифмовать. Это строгие строки классической прозы, и белые розы у вас на окне, и внезапные слезы, причина которых не страх перед черною бездной и горным обвалом куда-то несущихся лет, а щемящий восторг перед чудом творенья и чудом явленья на свет, перед этой счастливой удачей — однажды случайно возникнуть, явиться и быть. Здравствуй, белое пламя, мой белый костер, догораю на белом костре, не прощаюсь, прощаю, и вы меня тоже простите, я вам говорю, вы, которые здесь уже были, и вы, кто еще только будете, вы меня тоже простите, смиренно прошу, потому что вы жили, а вы еще будете жить, а я жив, я хожу по земле, я живу, я дышу. И объемлет меня все плотней мое белое пламя, мой белый огонь, этот вечно кружащийся рой, рой цветов, поцелуев, улыбок, исписанных наспех листков и совсем еще девственно чистых листков, рой снежинок, и рой мотыльков, и бесчисленный рой лепестков белых лилий и белых акаций, которые завтра уже расцветут.«Кто-то упрямо и властно…»
Кто-то упрямо и властно мне смотрит в затылок, требуя — обернись, оглянись! А я не оглядываюсь — догадываюсь, что увижу, когда обернусь. Там, у меня за спиною, — мосты, сожженные мною, взрывов огненные кусты, крест у двести второй версты, свет одинокой звезды. А дальше, если дальше еще оглянуться назад, — сад, где яблоки до сих пор на ветках висят, и листья не увядают. Яблоки моего детства не опадают. Яблоки моего детства, там, у меня за спиною, упадут только со мною, однажды, когда я обернусь туда. Вот и иду, стараясь не оборачиваться, хотя слышу, как яблони мои шелестят в тишине, и дорога моя, удлиняясь, все укорачивается, и чем дальше они — тем ближе они ко мне.«Делаю то, что должен…»
Делаю то, что должен, а не то, что хочу. Тяжкий крест несу терпеливо. Тяжкий камень в гору качу. Я привык уже – чувство долга — и не то чтоб кого корю, только что-то уж больно долго. – До каких же пор? – говорю. …И вот уже трое, трое бредем мы сквозь чащи таежные — впереди протопоп с протопопицей, а за ними и аз себе, грешный, тащусь понемногу. – Долго ли, – то ли я говорю, то ли Марковна, протопопица, вопрошает, — долго ли будет мука сея, протопоп? И он отвечает так мягко, а вместе решительно — то ли Марковне, протопопице, он ответствует, то ли мне говорит: – До самыя смерти, – говорит, — до самыя смерти! Так что ты, – говорит, — не печалуйся, человече. Вон какой отмахали путь! А теперь уже – недалече. Дошагаем уж как-нибудь. остается совсем недолго нам брести по этим лесам. И кто знает, где чувство долга, а где то, что ты выбрал сам!.. И по древним, словно предание, летописным этим лесам, будто эхо дальнее-дальнее — сам! – разносится — сам! сам!«Изо всего, что видел…»
Изо всего, что видел в подлунном мире, — море, вот что люблю в наибольшей мере — море-прародина, море-праматерь, как женщину люблю, как ребенка, до спазма, до дрожи, до мурашек по коже при одном лишь воспоминанье, при одной только мысли о том, что ты существуешь, о море, amore mioL Но жизнь моя как-то так несуразно складывалась, что встреча наша, увы, всякий раз откладывалась из-за ненужных и нужных каких-то дел, из-за семейных всяческих неурядиц, из-за отсутствия денег, из-за того и другого, пятого и десятого, встававшего непреодолимой стеною между морем и мною… Изо всех вещей и предметов, которыми я обладал или ныне владею, самым любимым моим предметом (я уже как-то писал об этом) был и остался стол — новый не новый, фанерный, дубовый, пусть даже кухонный или столовый — только поверхность была б у него побольше, чтобы можно свободно поставить пепельницу, разложить сигареты, бумагу, карандаши и сидеть в непривычной этой тиши, от души предаваясь занятью, что подобно объятью любовному и распятью, без которых не стоила б жизнь моя ни гроша. А жизнь моя, между тем, как-то так несуразно складывалась, что встреча наша, увы, так часто откладывалась по причинам, частично уже перечисленным выше, из-за того и другого, пятого и десятого, встававшего непреодолимой стеною между ним и мною. Вот и это стихотворенье, незатейливое по форме, я сочинял по дороге к пригородной платформе, вышагивая одиноко под одинокой луною и слыша, как вскачь он несется следом за мною, вынырнув из-за ближайшего палисадника, словно медный державный конь, хотя и без всадника, и грозит мне вдогонку — вот ужо тебе, погоди!.. А море все так же плескалось где-то там впереди, томительное в тех пространствах недосягаемых, как приснившийся ночью и почти позабывшийся стих, как одно слагаемое среди многих других слагаемых суммы всего, чего я не смог, не сумел, не достиг.«Я полагаю, Пушкин, говоря…»
Лета к суровой прозе клонят…
Я полагаю, Пушкин, говоря о том, что, мол, года к суровой прозе, не так-то прост и в этом был вопросе и не одно лишь то имел в виду, что перейти готов к иному жанру, то бишь забыв о рифме, о размере, скорей засесть за повесть, за роман — нет, думал он, поэзия – обман, пленительный, а все ж в какой-то мере обман, да-да, пленительный обман, как облачко, как утренний туман, клубящийся над грешною землею, возвышенно витающий над ней, а проза, она все-таки земней, и будь хоть соловей там или роза, питает их, поди, все та же проза, и червячок не вреден соловью, равно как розе – горсточка навоза (была бы лишь умеренною доза!) — так что ж нам прозу не пустить в стихи, житейской не чураясь чепухи, не устрашась Гоморры и Содома… И я сегодня прозе говорю — входи в мои стихи и будь как дома! Тебе навстречу двери я открыл и окна отворил тебе навстречу. И если скажут мне – твой стих бескрыл, ты крыл его лишил! – что я отвечу, что критикам моим скажу тогда? А ничего. – Года, – скажу, – года!«Только ритмы, одни только ритмы…»
Только ритмы, одни только ритмы, бесконечное множество ритмов, их биенье, круженье, теченье, и пересеченье, и противоборство. Вся Вселенная – скопище ритмов, грандиозная ярмарка ритмов, их ристалище, форум, арена. Мы живем на космической ярмарке ритмов, мы наполнены ими, пронизаны ими, мы просто напичканы ими. Мы и сами — круженье космической пыли, мы малые ритмы Вселенной. Все планеты и звезды, трава и цветы, и пульсация крови, искусство, политика, страсть — только ритмы, одни только ритмы. Такова и поэзия, кстати, — ее стержень, и ось, и основа — напряжение ритма, движение речи, пульсация слова. Вы, возможно, заметили, как я легко обхожусь временами без рифмы, но без ритма — о нет, извините, без ритма всему наступает конец, это смерть, ибо только она существует вне ритма, и не оттого ли мы над ней водружаем свои сокровенные ритмы — величавые ритмы прощальной молитвы, колокольного звона тяжелые мерные ритмы, звуки траурных маршей, написанных в ритме рыданья.«Координаты времени условны…»
Координаты времени условны. Привычно говорим – задолго до. До нас. До наших дней. До нашей эры. До Рима. До Пилата. До Голгофы. До Ноя. До ковчега. До потопа. История – вся сплошь – задолго до. Живущие меж прошлым и грядущим, все тщимся заглянуть как можно дальше. За нами – тьма, и перед нами – тьма. Так и живем меж тою тьмой и этой, на крохотном пространстве между ними живем, как в ожидании Годо. И как ни жаль, о друг мой, но похоже, что мы с тобой живем на свете тоже задолго до, мой друг, задолго до.Маугли
Из ненаписанных стихотворений Когда меня спрашивают, как же это случилось со мною, как мог я не понимать и не видеть, когда все это так понятно, так просто и очевидно, я отвечаю — перечитайте, пожалуйста, этот роман, там все обо мне рассказано точно и достоверно. Я Маугли, выросший в джунглях, прилежный воспитанник волка Акелы, пантеры Багиры, усатого тигра Шер-Хана, впитавший в себя с молоком их законы и нравы, их воздух, их веру — как я мог догадаться, что бывает иначе, что существуют иные законы, иные понятья о зле, о добре и о прочем! Я Маугли, слишком поздно, увы, выходящий из джунглей, унося в себе, как заразу, их дыханье, их застоявшийся воздух, пропитавший собою меня, мою кожу и душу.«Ночью проснулся от резкого крика…»
Ночью проснулся от резкого крика «Спасите!». Сел и прислушался. Тихо в квартире и сонно. Спали спокойно мои малолетние чада, милые чада, мои малолетние дщери. Что же случилось? Да нет, ничего не случилось. Все хорошо, мои милые. Спите спокойно. Да не разбудит однажды и вас среди ночи тщетно молящий о помощи голос отцовский. Да не почудится вам, что и вы виноваты, если порою мне в жизни бывало несладко, если мне так одиноко бывало на свете, если хотелось мне криком кричать временами.«Как в море монетку…»
Как в море монетку, в надежде, что снова вернутся и что не навечно прощаются, — не так ли однажды и нас в это море житейское бросили, и — ушедшие — не возвращаются. Вот и я в этот бурный мятущийся мир бросил вас, как три денежки медные, а теперь ухожу — я пока еще здесь, — но уже ухожу, что ни день отдаляюсь от вас, три кровинки мои, золотые мои, мои бедные. Что ни день, все пустынней мое побережье, и знакомые лица все реже и реже. Что ни день, словно горный обвал мне на голову валится. Я пока еще здесь, слава богу, но близится срок собираться в дорогу, и уже на три части скорбящее сердце мое разрывается.Современная быль о рыбаке и рыбке
… И когда она мне сказала – проси, чего хочешь, я ответил смущенно – ну что вы, спасибо, как можно! Благодарствуйте, я ей сказал, государыня рыбка, я уж как-нибудь сам постараюсь управиться с этим. И старался. Усердствовал. Сам свое ладил корыто. Сам старухам своим угождал, поелику возможно. Ту дворянкою звал столбовой и ни в чем не перечил, ту – царицей морскою, да сам же и был на посылках… Так прошло, почитай, тридцать лет и три дня и три года. Вот и снова у синего моря стою одиноко. И опять выплывает ко мне государыня рыбка — ну чего, говорит, ну чего тебе надобно, старче? И смиренно ответствовал я государыне рыбке — ничего, я сказал, ничего мне такого не надо, ни палат, говорю, расписных, ни сокровищ несметных — мне бы только покою чуть-чуть, если это возможно… Ничего не ответила мне государыня рыбка, ничего не ответила мне, ничего не сказала, только трижды своей головой золотою качнула, да плеснула хвостом, да ушла в помутневшие воды. А мне снился покой – он был тих, и просторен, и светел, и одно лишь в моей благодати меня сокрушало, что не ведаю ныне, довольны ли душеньки ваши, ах, царицы мои, ах, дворянки мои столбовые!«Когда на экране…»
Когда на экране, в финальных кадрах, вы видите человека, уходящего по дороге вдаль, к черте горизонта, — в этом хотя и есть щемящая некая нотка, и все-таки это, по сути, еще не финал — не замкнулся круг — ибо шаг человека упруг, а сам человек еще молод, и недаром где-то за кадром поет труба, и солнце смотрит приветливо с небосклона — так что есть основанья надеяться, что судьба к человеку тому пребудет еще благосклонна. Но когда на экране, в финальных кадрах, вы видите человека, уходящего по дороге вдаль, к черте горизонта, и человек этот стар, и согбенна его спина, и словно бы ноги его налиты свинцом, так он шагает устало и грузно, — вот это уже по-настоящему грустно, и это уже действительно пахнет концом. И все-таки, это тоже еще не конец, ибо в следующей же из серий этого некончающегося сериала снова в финальных кадрах вы видите человека, уходящего по дороге вдаль, к черте горизонта (повторяется круг), и шаг человека упруг, и сам человек еще молод, и недаром где-то за кадром поет труба, и солнце смотрит приветливо с небосклона — так что есть основанья надеяться, что судьба к человеку тому пребудет еще благосклонна. Так и устроен этот нехитрый сюжет, где за каждым финалом следует продолженье — и в этом, увы, единственное утешенье, а других вариантов тут, к сожаленью, нет.«…И уже мои волосы – ах, мои бедные кудри!..»
…И уже мои волосы – ах, мои бедные кудри! — опадать начинают, как осенние первые листья в тишине опадают. Дух увяданья, звук опаданья неразличимый исподтишка подступает, подкрадывается незаметно. Лист опадает, лес опадает, звук опаданья неразличимый в ушах моих отдается подобно грому, подобно обвалу и камнепаду, подобно набату. Катя, спаси меня! Аня, спаси меня! Оля, спаси меня! — губы мои произносят неслышно — да нет, это листья, их шорох, их шелест, а чудится мне, будто я говорю, будто криком кричу я. Лес опадает, лист опадает, падает, кружится лист одинокий, мгновенье еще, и уже он коснется земли. Но – неожиданно, вдруг, восходящим потоком внезапно подхватит его, и несет, и возносит все выше и выше в бездонное небо, и – ничего нет, наверно, прекрасней на свете, чем эта горчащая радость внезапного взлета за миг до паденья.«День все быстрее на убыль…»
День все быстрее на убыль катится вниз по прямой. Ветка сирени и Врубель. Свет фиолетовый мой. Та же как будто палитра, сад, и ограда, и дом. Тихие, словно молитва, вербы над тихим прудом. Только листы обгорели в медленном этом огне. Синий дымок акварели. Ветка сирени в окне. Господи, ветка сирени, все-таки ты не спеши речь заводить о старенье этой заблудшей глуши, этого бедного края, этих старинных лесов, где, вдалеке замирая, сдавленный катится зов, звук пасторальной свирели в этой округе немой… Врубель и ветка сирени. Свет фиолетовый мой. Это как бы постаренье, в сущности, может, всего только и есть повторенье темы заглавной его. И за разводами снега вдруг обнаружится след синих предгорий Казбека, тень золотых эполет, и за стеной глухомани, словно рисунок в альбом, парус проступит в тумане, в том же, еще голубом, и стародавняя тема примет иной оборот… Лермонтов. Облако. Демон. Крыльев упругий полет. И, словно судно к причалу в день возвращенья домой, вновь устремится к началу свет фиолетовый мой.«Скрипка висит у меня на стене…»
Скрипка висит у меня на стене, не играет — пыль собирает, а рядом смычок и – тихо, молчок. Скрипка висит у меня на стене грустная и расстроенная, потому что жизнь у нее неустроенная, да едва ли уже устроится — как уж тут не расстроиться. Скрипка висит у меня на стене, в стену врастая, — нет, не знатного она роду, скрипочка моя простая (барышня из крестьянок, артисточка крепостная из хора) — нет, не знатного она роду, скрипочка моя простая — не Страдивари и не Гварнери — так, скорее, деталь в интерьере в этой квартире (как, впрочем, и я). А ведь если бы взять ее в руки, в добрые руки, в нежные руки — уж какие бы тут полились волшебные звуки! — здрасьте, маэстро Моцарт, маэстро Гайдн, маэстро Бах! — ах! — вы посмотрите, скрипочка ожила — о ла-ла! — ми, вторая октава, по квинтам, вниз — браво, скрипочка, браво-брависсимо, бис!.. Но скрипка висит у меня на стене, не играет, и лишь временами в ночной тишине чудятся ей эти руки, добрые руки, нежные руки. (Так же, как, впрочем, и мне.)Мои доктора
Доктор
Павел Дмитриевич Колченогов, этакий увалень, сибирский медведь, врач по призванью, а не по званью, когда разрезал меня и когда зашивал, что-то все время под нос себе напевал, и в этом его бормотанье невнятном звучало нечто такое, что означало начало моего исцеленья, моего воскрешенья. Доктор Васильева Елена Юрьевна, женщина маленькая и хрупкая, с виду совсем еще словно девочка, когда сердце мое вдруг вздумало разрываться, она разорваться ему не давала, день и ночь надо мной колдовала, чутко слушая все его стуки и перестуки, мягко ощупывая изодранные мои вены — доброе ее сердце и мудрые руки да будут благословенны! Доктор Горецкая Лидия Степановна склоняется над шуршащей лентой моей совсем еще свежей электрокардиограммы, где тонкие линии тянутся вверх, как башенки и старинные храмы, и пишет историю моей болезни, а по сути – историю моей жизни, моих побед, и моих свершений, и всяческих подвигов ратных, моих крушений и поражений самых невероятных, пишет, как летописец, в строгой своей манере, к каждой мелочи проявляя такой интерес неподдельный, как будто бы я император римский по меньшей мере или, уж в крайнем случае, киевский князь удельный. А вечером, когда я спать укладываюсь на свой диванчик, ко мне неизменно присаживается самый давний мой доктор, доктор Антон Павлович Чехов. – Ах, – говорит он, – батенька, мы-то ведь с вами знаем, что пульса никакого нет!.. — И жизнь моя предстает предо мной как вполне заурядная драма. И я засыпаю, как лес просыпается после зимней спячки. И снова мне снится, что меня полюбила прелестная юная дама, иногда с собачкой, но чаще уже — без собачки.«Зачем послал тебя Господь…»
Ирине
Зачем послал тебя Господь и в качестве кого? Ведь ты не кровь моя, не плоть и, более того, ты даже не из этих лет — ты из другого дня. Зачем послал тебя Господь испытывать меня и сделал так, чтоб я и ты — как выдох и как вдох — сошлись у края, у черты, на стыке двух эпох, на том незримом рубеже, как бы вневременном, когда ты здесь, а я уже во времени ином, и сквозь завалы зим и лет, лежащих впереди, уже кричу тебе вослед — постой, не уходи! — сквозь полусон и полубред — не уходи, постой! — еще вослед тебе кричу, но ты меня не слышишь.Зеркало (Из ненаписанных стихотворений)
В странствиях своих по Сибири, по сибирскому югу, по древней земле хакасов, я обнаружил однажды в местном музее латунное зеркало, найденное при раскопках в здешних курганах, принадлежавшее некогда правителям из династий Тан, Сун и Мин, — латунное зеркало, сохранившее на обратной своей стороне хорошо различимую надпись: «Спрашивал Конфу-цзы: – Почему весел? — Отвечал Юн Ци-Ци: – Потому что человек, мужчина и живу». Вот воистину философия мудрая и простая, такая заманчивая формула веселья и оптимизма — что долгие годы потом я старался, насколько возможно, следовать ей и жить в соответствии с нею. …Ныне, когда веселье мое по понятным причинам убывает все боле и боле, я спрашиваю себя временами с тревогой: – Почему невесел? — И хватаюсь, как за соломинку, за последнее это — живу! — полагая, что в нем, в конце концов, тоже есть некоторое основанье для веселья и оптимизма.Первое марта
И снова с облегченьем и с надеждой перевернем последний лист февральский, последний зимний календарный лист. …Рассветный воздух зябок был и мглист. Еще горел фонарь через дорогу. Светились близлежащие дома. И я, вздохнув — ну вот и слава богу, еще одна закончилась зима! — перевернул февральский лист последний. И сразу марта первое число передо мной взошло и проросло, как стебель и как первая травинка (как знак неотвратимых перемен, как якобинства тайный иероглиф), и тотчас же фонарь ночной потух, и в воздухе разлился вольный дух, крамольный дух лесов и дух полей, дух пахоты и дух цареубийства.«Я руку и сердце нарисовал…»
Я руку и сердце нарисовал красками на картоне. Там сердце мое, как червовый туз, лежит на моей ладони. И так как полцарства нет у меня, а тем более – полумира, прими от меня этот скромный дар в качестве сувенира. А дабы значенье ему придать дарственной, что ли, вроде, я выведу крупно карандашом надпись на обороте — мол, руку свою и сердце свое, аки жених во храме, дарит старый король трефей юной бубновой даме. А понеже полцарства нет у него, а тем паче нет полумира, сей скромный дар он просит принять в качестве сувенира. Ну, а коль не изволит она его честью почтить такою — она может вернуть ему сердце его вместе с его рукою.«Жить среди книг…»
Жить среди книг — хотя б и не читая, лишь ощущать присутствие вблизи, как близость леса или близость моря, — вот лучшее из одиночеств. Потомственный квартиросъемщик, в очередном своем чужом жилище я первым делом расставляю их на полках, на шкафах, везде, где только можно, прилежно протираю влажной тряпкой, и, завершив привычный ритуал, смотрю на них едва ль не вожделенно, как тот скупой в своем подвале тайном, приподымая крышку сундука, где все его сокровища хранятся, — воистину, какой волшебный блеск! Как я сейчас богат! Едва ли кто сравнится со мной в моем богатстве! Отныне здесь мой дом, и я в нем жить могу — я чувствую себя в своем кругу и потому спокойно засыпаю — и словно бы лежу на океанском дне, куда сквозь толщу вод доносятся ко мне неясный шелест, шорох, тихий шепот, и топот ног, и звуки многих голосов, и, чуть освоясь в их нестройном хоре, я вскоре начинаю понимать, что квартирую ныне в Эльсиноре, в жилище обедневших королей, сняв комнату за пятьдесят рублей (что в наши времена – почти что даром), и вот сегодня с самого утра здесь собрались заезжие актеры и происходит странный карнавал иль некое дается представленье, и я слежу, как движется сюжет, где Дон Кихот шлет вызов Дон Жуану, где Фауст искушает донну Анну, а бедный Лир уходит на войну — она уже идет четыре года, а может, сто четыре или больше, и я устал от долгого пути, от мин, от артобстрелов, от бомбежек, меж тем снаряды рвутся где-то рядом, а я никак подняться не могу, я должен встать, я не могу подняться, я задыхаюсь, я едва дышу — все кончено, я гибну, донна Анна! И меркнет свет, и я лечу куда-то в бездну, в последний миг услышать успевая, как возглашает Главный Лицедей, решительно на этом ставя точку: – Все в мире, господа, – война детей, где, впрочем, каждый умирает в одиночку!.. И сразу рушится в кромешный мрак ночной мой зыбкий мир, мой Эльсинор очередной.Сквозь годы (Из ненаписанных стихотворений)
Прохожу по рынку, словно иду сквозь годы. – Молодой человек, — окликают меня в цветочном ряду, — вот, пожалуйста, — замечательные хризантемы! – Мужчина, — взывает ко мне продавщица фруктов, — посмотрите, какие персики, — специально для вас! – Папаша, — вопрошает меня девица, торгующая овощами, — не желаете ли капустки для свеженьких щец? А паренек по соседству кричит мне чуть не в самое ухо: – Дедуля, укропчика не забудьте, петрушечки не забудьте купить! И я малодушно, едва ль не бегом, возвращаюсь туда, где продают ненужные мне хризантемы, в тайной надежде снова услышать — молодой человек, молодой человек!Предзимье (Попытка романса)
Я весть о себе не подам, и ты мне навстречу не выйдешь. Но дело идет к холодам, и ты это скоро увидишь. Былое забвенью предам, как павших земле предавали. Но дело идет к холодам, и это поправишь едва ли. Уйти к Патриаршим прудам, по желтым аллеям шататься. Но дело идет к холодам, и с этим нельзя не считаться. Я верю грядущим годам, где все незнакомо и ново. Но дело идет к холодам, и нет варианта иного. А впрочем, ты так молода, что даже в пальтишке без меха все эти мои холода никак для тебя не помеха. Ты так молода, молода, а рядом такие соблазны, что эти мои холода нисколько тебе не опасны. Простимся до Судного дня. Все птицы мои улетели. Но ты еще вспомнишь меня однажды во время метели. В морозной январской тиши, припомнив ушедшие годы, ты варежкой мне помаши из вашей холодной погоды.«Свеченье протуберанцев…»
Свеченье протуберанцев. Смещенье солнечных пятен. Как мир этот необъятен, и темен, и непонятен. Пред храмом его высоким бессильно толпясь у входа, одни говорят – Всевышний! — другие твердят – Природа! Я ввысь возношу ладони, куда и кому не зная. Небесная твердь безмолвна. Безмолвствует твердь земная. К кому ж я опять взываю так набожно, так безбожно — простите меня, простите! — помилуйте, если можно?«…Пять лебедей у кромки Рижского залива…»
…Пять лебедей у кромки Рижского залива… …В том теплом и бесснежном январе… Мы с дочерью. Мы с ней почти одни. Семнадцать дней. Два грустных пилигрима. Два путника беспечных и счастливых. Почти одни на опустевшем побережье. Мы кормим чаек. Мы бросаем им остатки наших пиршеств королевских. А за спиной у нас большой прозрачный дом, где дышат морем деревянные ступени и пахнет хвоей, пахнет елкой новогодней, почти осыпавшейся, вновь напоминая о том, как быстро все проходит в этом мире. Ах, дочь моя, Корделия моя, все скверно в нашем бедном королевстве, и мы с тобой так сильно жаждем чуда, что, видно, уж нельзя ему не быть… Так вот, когда мы приходим к морю последний раз, чтобы с ним проститься, и, как велит обычай, швыряем в воду монетки, готовясь уже уйти, — именно в этот момент, взявшись невесть откуда, возникают они перед нами, такие нездешние в величавой своей отрешенности, в отстраненности ото всего, что нас окружает, и проплывают медленно перед нами — пять лебедей у кромки Рижского залива, пять белых птиц, как пять надежд, пять обещаний, пять нотных знаков, пять легчайших звуков, начальных звуков нисходящей гаммы, где первый по ранжиру – лебедь До, а дальше лебедь Ре и лебедь Ми, и Фа и Соль, два малых лебеденка, и то, что не хватало Ля и Си, сама незавершенность этой гаммы, она-то и была как обещанье, намек на что-то, что должно свершиться, — что минет срок и гамма завершится, и в некий час раскроется Сезам, и сбудутся все наши ожиданья… Спасибо всем обычным чудесам, дарующим надежду! До свиданья, до встречи, До, до встречи, Ля и Си! По сути, нам совсем немного надо — всего пустяк – была бы лишь надежда. Покуда есть надежда – можно жить.«Чешский поэт Владимир Голан…»
Чешский поэт Владимир Голан прожил достойно на этом свете. – Дети, – любил говорить он, – дети. Дети, и только они, по сути. — Дети, – любил говорить он, глядя в сосредоточенные их лица, — одни только дети вечны, как песня жаворонка над битвой у Аустерлица. Но дети — понятье вневозрастное. Граф, пророк и провидец, отлученный от церкви апостол, седобородый высокий старик, похожий на господа Бога, как мальчишка, убегает из дома — крадучись, тихо-тихо, чтоб не скрипнула половица, — как ребенок, в наивной уверенности, что никто не узнает, никто не услышит, никто не увидит — но едва лишь он из дому выйдет, застучат телеграфные аппараты, загудят телефонные провода — ну куда он, куда?! Малый ребенок. Большой ребенок. Старый ребенок.Это я… (Из ненаписанных стихотворений)
Есть любимые книги, есть любимые названья, существующие как бы отдельно, независимо друг от друга. В наше время демонстраций, манифестаций, всевозможных шествий вижу себя в одной из колонн с транспарантом, на котором начертано самое мое любимое, заповедное, сокровенное, от которого дух у меня захватывает — нет, не названье, нечто гораздо большее, чем названье (жизни? судьбы? пути?), возглас отчаянья, крик о помощи, мольба о помилованье — это я, это я, Господи, Господи, это я!«Не изменить цветам, что здесь цветут…»
Не изменить цветам, что здесь цветут, и ревновать к попутным поездам. Но что за мука – оставаться тут, когда ты должен находиться там! Ну что тебе сиянье тех планет! Зачем тебя опять влечет туда! Но что за мука – отвернуться – нет, когда ты должен – задохнуться – да! Но двух страстей опасна эта смесь, и эта спесь тебе не по летам. Но что за мука – находиться здесь, когда ты должен там, и только там! Но те цветы – на них не клином свет. А поезда полночные идут. Но разрываться между да и нет… Но оставаться между там и тут… Но поезда, уходят поезда. Но ты еще заплатишь по счетам за все свои несказанные да, за все свои непрожитые там!Эволюция
Был я садом, где мощные кроны пестреют налитыми солнцем тугими плодами. Стал я складом, где сложены все мои годы и дни, как дрова, как сухие поленья. Стал я адом, где сам я себе и Вергилий, и Дант, и тот грешник последний, снедаемый адским огнем, запоздало лия покаянные слезы… Такова в самых общих чертах эволюция плоти моей и души, ее главные фазы и метаморфозы. От деревьев и кущ Гефсиманского сада, от Райского сада до черных котлов Вельзевулова ада протянулась земная дорога моя, Одиссея моя и моя Илиада. Ты прости, Пенелопа, мои корабли сожжены, мне едва ли добраться уже до родимой Итаки. На развалинах Трои лежу, недвижим, в ожиданье последней ахейской атаки. И покуда последний рожок надо мной не пропел, и покуда последняя длится осада — все мне чудится, будто бы вновь шелестит надо мною листва Гефсиманского сада, Эдемского сада, того незабвенного сада.Новогоднее послание Арсению Александровичу Тарковскому
Я кончил книгу и поставил точку… … И вот я завершил свой некий труд, которым завершился некий круг, — я кончил книгу и поставил точку — и тут я вдруг (хоть вовсе и не вдруг) как раз и вспомнил эту Вашу строчку, Арсений Александрович, мой друг (эпитет старший не влезает в строчку, не то бы я сказал, конечно, старший — Вы знаете, как мне не по душе то нынешнее модное пижонство, то панибратство, то амикошонство, то легкое уменье восклицать — Марина-Анна, о, Марина-Анна — не чувствуя, как между М и А рокочет Р, и там зияет рана, горчайший знак бесчисленных утрат), Арсений Александрович, мой брат, мой старший брат по плоти и по крови свободного российского стиха (да и по той, по красной, что впиталась навечно в подмосковные снега, земную пробуравив оболочку), итак, зачем, Вы спросите, к чему сейчас я вспомнил эту Вашу строчку? А лишь затем — сказать, что Вас люблю и что покуда рано ставить точку, что знаки препинанья вообще — не наше дело, их расставит время — знак восклицанья, или знак вопроса, кавычки, точку или многоточье — но это все когда-нибудь потом, и пусть кто хочет думает о том, а мы еще найдем о чем подумать… Позвольте же поднять бокал за Вас, за Ваше здравье и за Ваше имя, где слово Ars – искусство – как в шараде, со словом сень соседствует недаром, напоминая отзвук сотрясений, стократно повторившихся в душе, за Ваши рифмы и за Ваш рифмовник, за Ваш письмовник и гербовник чести, за Вас, родной словесности фонарщик, святых теней бессменный атташе, за Ваши арфы, флейты и фаготы, за этот год и за другие годы, в которых жить и жить Вам, вопреки хитросплетеньям критиков лукавых, чьи называть не станем имена. Пускай себе. Не наше это дело.«Музыка моя, слова…»
Музыка моя, слова, их склоненье, их спряженье, их внезапное сближенье, тайный код, обнаруженье их единства и родства — музыка моя, слова, осень, ясень, синь, синица, сень ли, синь ли, сон ли снится, сон ли синью осенится, сень ли, синь ли, синева — музыка моя, слова, то ли поле, те ли ели, то ли лебеди летели, то ли выпали метели, кровля, кров ли, покрова — музыка моя, слова, ах, как музыка играет, только сердце замирает и кружится голова — синь, синица, синева«Кто-то верно заметил…»
Кто-то верно заметил, что после Освенцима невозможно писать стихи. Ну а мы — после Потьмы и тьмы Колымы, всех этапов и всех пересылок, лубянок, бутырок (выстрел в затылок! выстрел в затылок! выстрел в затылок!) — как же мы пишем, будто не слышим, словно бы связаны неким всеобщим обетом — не помнить об этом. Я смотрю, как опять у меня под окном раскрываются первые листья. Я хочу написать, как опять совершается вечное чудо творенья. И рождается звук, и сама по себе возникает мелодия стихотворенья. Но внезапно становится так неуютно и зябко в привычном расхожем удобном знакомом размере, и так явственно слышится — приговорен к высшей мере! — так что рушится к черту размер и такая хорошая рифма опять пропадает, и зуб на зуб не попадает, я смолкаю, немею, не хочу! – я шепчу — не хочу, не могу, не умею — не умею писать о расстреле! Я хочу написать о раскрывшихся листьях в апреле. Что же делать – ну да, ну конечно, пока мы живем – мы живем… Но опять — истязали! пытали! зарыли живьем! — так и будет ломать мои строки, ломать и корежить меня до последнего дня эта смертная мука моя и моя западня — до последнего дня, до последнего дня!.. Ну а листья, им что, они смотрят вокруг, широко раскрывая глаза, — как свободно и весело майская дышит гроза, и звенит освежающий дождик, такой молодой, над Отечеством нашим, над нашей печалью, над нашей бедой.«Это общество – словно рояль…»
Это общество – словно рояль, безнадежно расстроенный, весь изломанный, весь искорябанный, весь искореженный — вот уж всласть потрудились над ним исполнители рьяные, виртуозы плечистые, ах, барабанщики бравые. Как в беспамятстве, все эти струны стальные и медные, лишь вчера из себя исторгавшие марши победные, — та едва дребезжит, та, обвиснув, бессильно качается, есть отдельные звуки, а музыка не получается. И все так же плывет над пространством огромной страны затянувшийся звук оборвавшейся некой струны.Сумасшедшее такси (Из ненаписанных стихотворений)
Время не течет равномерно, ход его то замедляется, то убыстряется — впрочем, это только на малых отрезках. В детстве время движется медленно, плавно, почти незаметно — может порой показаться, будто не движется вовсе, но постепенно, с годами, берет разгон, все уверенней, все быстрее, набирает скорость, все быстрее, быстрее — кажется, все, быстрее уже невозможно — а нет, еще и еще — продолжается ускоренье… Все чаще себя ощущаю несущимся в сумасшедшем такси с обезумевшим счетчиком, отщелкивающим мои годы, словно секунды, — эй, хоть немного потише! — да куда там, только мелькают эти звонко стучащие цифры на обезумевшем счетчике в сумасшедшем такси.Послание юным друзьям
Я, побывавший там, где вы не бывали, я, повидавший то, чего вы не видали, я, уже там стоявший одной ногою, я говорю вам – жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна, даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна — жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад – далека дорога. Вот погляжу вперед – впереди немного. Что же там позади? Города и страны. Женщины были – Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность. Вражда и злоба. Комья земли стучали о крышку гроба. Старец Харон над темною той рекою ласково так помахивал мне рукою — дескать, иди сюда, ничего не бойся, вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем… Как я цеплялся жадно за каждый кустик! Как я ногтями в землю впивался эту! Нет, повторял в беспамятстве, не поеду! Здесь, говорил я, здесь хочу оставаться! Ниточка жизни. Шарик, непрочно свитый. Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна. Штопаный-перештопаный, мятый, битый, жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю, прекрасна и бесподобна, как там ни своевольна и ни строптива — ибо к тому же знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива… Робкая речь ручья. Перезвон капели. Мартовской брагой дышат речные броды. Лопнула почка. Птицы в лесу запели. Вечный и мудрый круговорот природы. Небо багрово-красно перед восходом. Лес опустел. Морозно вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно – прекрасно«В том городе, где спят давно…»
В том городе, где спят давно, где все вокруг темным-темно — одно, как павшая звезда, в ночи горящее окно — да, там, за густо разлитой многоэтажной темнотой, как бы на целый мир одно, в ночи горящее окно — как свет звезды далекой, свет лампы одинокой. Кромешный мрак и свет живой — свет лампы или свет свечи — поэзия, вот образ твой — окно, горящее в ночи, твой псевдоним и твой пароль, твоя немеркнущая роль, твое предназначенье, полночное свеченье. Когда молчит благая весть и все во мрак погружено, хвала Всевышнему, что есть в ночи горящее окно, что там, за прочно обжитой невозмутимой темнотой — как свет неведомой звезды — на этой улице, на той — как свет звезды далекой, свет лампы одинокой. Как за последнею чертой — свет лампы или свет свечи — на этой улице, на той — окно, горящее в ночи, — там сквозь завалы зим и лет моих друзей не меркнет свет, и в час, когда все спят давно, когда вокруг темным-темно, горит Тарковского окно, горит Самойлова окно — там и мое окошко от них неподалеку еще живет покуда и светит понемногу, еще живет покуда, горит, и слава Богу — горит себе, не гаснет, старается как может.«За то, что жил да был…»
За то, что жил да был, за то, что ел да пил, за все внося, как все, согласно общей смете, я разве не платил за пребыванье здесь, за то, что я гостил у вас на белом свете? За то, что был сюда поставлен на постой случайностью простой и вовсе не по блату, я разве не вносил со всеми наравне предписанную мне пожизненную плату? Спасибо всем за все, спасибо вам и вам, радевшим обо мне и мной повелевавшим, хотя при всем при том я думаю, что я не злоупотребил гостеприимством вашим. Осталось все про все почти что ничего. Прощальный свет звезды, немыслимо далекой. Почти что ничего, всего-то пустяки — немного помолчать, присев перед дорогой. Я вас не задержу. Да-да, я ухожу. Спасибо всем за все. Счастливо оставаться. Хотя, признаться, я и не предполагал, что с вами будет мне так трудно расставаться.«Белые, как снег, стихи…»
Белые, как снег, стихи. С каждым годом все белее. В белой утренней аллее чьи-то легкие следы. Сорок градусов мороз. Скоро будет и поболе. В белом поле, в чистом поле чьи-то беглые следы. Кто здесь шел и кто прошел, что за чудо-скороходы? – Это дни твои и годы, это жизнь твоя прошла. – То есть как же это так? Только шаг ступил с порога, а уже, гляди, дорога завершается почти! – Ну какой же это шаг, не гневи напрасно Бога — вон какая, брат, дорога за плечами у тебя! И шагать тебе по ней в путь обратный не придется — так иди, пока идется, будь доволен, что идешь! – Я доволен, что иду, я на жизнь не обижаюсь — просто жаль, что приближаюсь к той невидимой черте. Да к тому же, как на грех, под конец моей дороги плоховаты стали ноги — слишком медленно иду. – А куда ж тебе спешить? Ты и так свою дорогу завершить успеешь к сроку, хоть спеши, хоть не спеши… Сорок градусов мороз. Скоро будет и поболе. В белом поле, в чистом поле одиноко одному. Где теперь мои друзья? Те побиты в лютой сече, тех уж нет, а те далече, вот и топаю один. Я ступаю не спеша осторожными шагами, будто мины под ногами, и одна из них моя. На зыбучий этот снег осторожно ставлю ногу, и помалу, понемногу след теряется вдали. В белый морок, в никуда простираю молча руки — до свиданья, мои други, до свиданья, до свида…Из разных десятилетий
Из пятидесятых
«Всё гаечки да винтики…»
Всё гаечки да винтики, а Бог – у пульта. Это называется эпоха культа. Так ли называется, не так ли называется — это в моем сердце болью отзывается. А кругом у мальчиков запал да пыл. Они ко мне с вопросом – а ты где был? А где я был, мальчики? И там был, и тут. …Винтики, винтики по полю идут. Сталин о нас думает. Нам ни шагу вспять. Дважды два четыре, пятью пять двадцать пять. А над бедным винтиком ворон парит. А под белым бинтиком рана горит. Васеньки? Витеньки? – узнать не могу. Винтики, винтики лежат на снегу… Среди того дыма и того огня я и не заметил, как убили меня. Не шлепнули в застенке, не зарыли во рв вот я и думал, будто живу… Что ж это такое, как же это вдруг! Ах, товарищ Сталин, учитель и друг! Как же это вышло со мной, со страной, учитель мой, мучитель, отец мой родной! …Мартовский морозец, поздняя весна. Трудно просыпаюсь от долгого сна. Щурюсь непривычно на солнце, на свет. И сам еще не знаю – я жив или нет.Вопросы
Я рос в те незабвенные года, овеянные пафосом начала, где музыка ударного труда так чисто и возвышенно звучала. Хотя уже тогда в моей стране внедрялся стиль наветов и допросов, я оставался как бы в стороне от этих сокрушительных вопросов. Тогда, на рубеже сороковых, их горечи покуда не отведав, вопросов не ценя как таковых, ценили мы незыблемость ответов. В раденье о голодных и рабах вошла в меня уверенность прямая, что путал Кант, и путал Фейербах, и путал Гегель, недопонимая. Еще не прочитав их ни строки, я твердо знал – ну как же, в самом деле, напутали – ах, эти старики, — не знали, не смогли, не разглядели! Сомнений дух над нами не витал, и в двадцать лет, доверчивый не в меру, уже скопил я круглый капитал готовых истин, принятых на веру. Старательно заученные мной, записанные твердо на скрижали, они меня, как каменной стеной, удобно и надежно окружали… Но время шло, скрипя на тормозах, тащилось по невидимой спирали, и старились ответы на глазах и в возрасте преклонном умирали. И вдруг, со всех сторон меня тесня, бушуя, как мятежные матросы, пошли неумолимо на меня исторгнутые временем вопросы. Засучивая с ходу рукава, швыряют кулаки в меня тугие: – А что? А как? А сущность какова? А почему? А доводы какие? На улице, в трамвае и в метро иду сквозь эту шумную ораву орущую, прищурившись хитро: – А почему? А по какому праву? Да как же так! Ты был не так уж мал! Ты шел в огонь, гранатами обвязан! И нам плевать, что ты не понимал! Ты должен был понять! Ты был обязан!.. И я молчу, как в рот набрал воды. И я молчу, как будто воем вою. И ветер их тяжелой правоты опасно шелестит над головою.Из шестидесятых
Кончается рабство на свете, холопство кончается. Кончается так, что земля под ногами качается. И хочется столько от этого выпрямить, выправить, и хочется так из души это рабское вытравить, издревле холопское, робкое и раболепное, покорно твердящее лживое слово хвалебное. А кто-то надеется, кто-то серьезно надеется, что снятое с шеи обратно на шею наденется. А кто-то упрямо надеется – все перемелется, на круги свои возвратится и не переменится. Но в тесной коробочке маятник тихо качается. О к рабству привыкший! – мне жаль его – как он отчается, когда он увидит, что почва и вправду качается, когда он поймет, что действительно это кончается.Из семидесятых
Как живут поэты Диалог
– Скажите, поэты, а как вы, поэты, живете? И где вы живете? И что вы там пьете-жуете? И нет ли порою нехватки в жирах или мясе? А может, и вовсе на хлебе сидите да квасе? – Ну что ты, читатель, да ты не волнуйся напрасно! Живем мы неплохо, и даже скорее – прекрасно. Питаемся сытно, на завтрак – вино и бекасы. А после нам денежки на дом приносят из кассы. И тесной гурьбою, с карманами полными денег, идем мы на рынок – гусей покупать да индеек. А после гуляем по вечнозеленому лугу, стихи сочиняем и тут же читаем по кругу. И критики наши, на редкость душевные люди, лавровые ветви разносят на розовом блюде. И добрый редактор, взволнованный свежей строкою, слезинку восторга тайком утирает рукою… Вот так и живем мы и пишем бессмертные строфы — вблизи от Парнаса, а также вблизи от Голгофы. И дуем коньяк под лимоны и черное кофе — вблизи от Парнаса и все-таки ближе – к Голгофе.«Кругом поют, кругом ликуют…»
Кругом поют, кругом ликуют. Какие дни, какие годы! А нас опять не публикуют. А мы у моря ждем погоды. А в наши ямбы входит проза. А все прогнозы так туманны. А нам пойти купить бы проса, а мы всё ждем небесной манны. И вот певец недоедает. Не ест жиры и углеводы. Потом ему надоедает, и он уходит в переводы. И мы уходим в переводы, идем в киргизы и в казахи, как под песок уходят воды, как Дон Жуан идет в монахи. О келья тесная монаха! Мое постылое занятье. Мой монастырь, тюрьма и плаха, мое спасенье и проклятье! Мое спасенье и проклятье, мое проклятое спасенье, где ежедневное распятье и редко-редко воскресенье. Себя, как Шейлоку кусками. Чужого сада садоводы. А под песком, а под песками бурлят подпочвенные воды. А свечка в келье догорает. А за окошком ночь туманна. И только сердце замирает — ах, донна Анна, донна Анна!Из Восьмидесятых
О памяти и о памятниках
Я знаю, никакой моей вины…
А все же, все же…
1
Генерала Карбышева пытали, мучили и убили. Кто? Немцы. Враги. Страшно. Маршала Тухачевского пытали, мучили и убили. Кто? Жутко. Нашим убитым, нашим замученным мы даже памятник не поставили. Кто же мы, что же мы за народ? Стыдно.2
Который год мне не дает покоя все то же неотступное виденье. … В тот миг, когда державные часы на Спасской башне отбивают полночь, когда еще не смолк, не отзвучал тяжелый звон — с двенадцатым ударом они на площадь Красную вступают и начинают шествие свое — за рядом ряд, колонна за колонной, и, как штандарты воинских частей, плывут над ними стяги, на которых, как номера дивизий и полков, стоят – двадцать девятый, и тридцатый, и тридцать третий, и тридцать четвертый, и тридцать пятый, и тридцать седьмой, и все другие годы остальные, их путь перечеркнувшие земной — за рядом ряд, колонна за колонной, по затемненной площади ночной, как равные в своем печальном марше, воистину как равные впервые, и сеятель с котомкой за плечами, и академик в лагерном бушлате, и комиссар в изодранной шинели, в остроконечном шлеме, на котором горит пятиугольная звезда… – Зачем, – я говорю им, – и куда идете вы, мне душу надрывая, беззвучные и легкие, как тень? – Мы к вам идем, в сегодняшний ваш день, и в завтрашний ваш день, и в день грядущий, еще и вам невидимый пока, мы к вам идем – куда ж нам друг без друга, мы память, что жестока и горька, и мы ее горчайшая строка, но в памяти – грядущему порука, цена ж забвенья слишком высока! — за рядом ряд, колонна за колонной, как равные, в своем печальном марше, как равные, в своем посмертном братстве, и нету им ни края ни конца.3
Эти убили, а эти ославили. Кто ж наши Каины? Где ж наши Авели? Даже могил не оставили. Горько в родимой земле им лежать. Нашим убитым, нашим замученным мы даже памятник не поставили. Стыдно. И не за что нас уважать.«А теперь рассуждаем…»
… А теперь рассуждаем о справедливости, о совестливости, о милосердии… … А наши дети танцуют рок, легко покидая отчий порог, и школьный урок не идет им впрок, и каждый пляшущий – их пророк. А мы удивляемся, мы раздражаемся, мы огорчаемся и сокрушаемся — ах, наши дети нас обижают — не уважают, не уважают! А за что им, простите, нас уважать? …Да, конечно, обидно – не уважают, шумной музыкой душу свою ублажают — эти быстрые ритмы они обожают, до поры не желая иных взамен. Ну и ладно, и пусть их, пусть обожают — если нас наши дети не уважают, значит, все-таки можно ждать перемен!«Сейчас эпоха прессы…»
Сейчас эпоха прессы. Вестей – невпроворот. И вызывает стрессы газетный разворот. И есть такие факты, что радуют одних, а у других инфаркты случаются от них. И есть такие вести, что кое у кого рождают жажду мести и более того. Газетная колонка — убористый петит — порой, как похоронка, из прошлого летит… Идет эпоха прессы, и в сутолоке дней все наши интересы смыкаются на ней. И я уж не писатель, как Игрек или Зет, а вдумчивый читатель журналов и газет. И сызнова, и снова все сходится на том, что прежде было Слово, а прочее – потом.Из Сегодняшнего
«Это Осип Эмильич шепнул мне во сне…»
Это Осип Эмильич шепнул мне во сне, а услышалось – глас наяву. – Я трамвайная вишенка, – он мне сказал, прозревая воочью иные миры, — я трамвайная вишенка страшной поры и не знаю, зачем я живу. Это Осип Эмильич шепнул мне во сне, но слова эти так и остались во мне, будто я, будто я, а не он, будто сам я сказал о себе и о нем — мы трамвайные вишенки страшных времен и не знаем, зачем мы живем. Гумилевский трамвай шел над темной рекой, заблудившийся в красном дыму, и Цветаева белой прозрачной рукой вслед прощально махнула ему. И Ахматова вдоль царскосельских колонн проплыла, повторяя, как древний канон, на высоком наречье своем: – Мы трамвайные вишенки страшных времен. Мы не знаем, зачем мы живем. О российская муза, наш гордый Парнас, тень решеток тюремных издревле на вас и на каждой нелживой строке. А трамвайные вишенки русских стихов, как бубенчики в поле под свист ямщиков, посреди бесконечных российских снегов все звенят и звенят вдалеке.«Я видел вселенское зло…»
Я видел вселенское зло. Я всякого видел немало. И гнуло меня, и ломало, и все-таки мне повезло. Мне дружбу дарили друзья, и женщины нежно любили. Меня на войне не убили, мне даже и тут повезло. Еще повезло мне, что вот я дожил до вашей эпохи, где вовсе дела мои плохи и зыбок мой завтрашний день. И все же я счастлив, что смог, что дожил до этого мига, до этого мощного сдвига тяжелых подземных пород. Я видел начало конца, и тут меня Бог не обидел, я был очевидцем, я видел начало грядущих начал. Я дожил, мне так повезло, я видел и знаю наверно — история движется верно, лишь мерки ее не про нас. И все ж до последнего дня во мне это чувство пребудет я был там, я знаю, что будет когда-нибудь после меня.Из Неопубликованного
«Сплю Я. Но Сон Мой Странен…»
Сплю Я. Но Сон Мой Странен. Холодно Мне. Знобит. То Ли Я Пулей Ранен, То Ли Совсем Убит. Вот Он Я, Среди Поля. В Небе Горит Звезда. Девочка Моя, Оля, Ты Не Ходи Сюда. Здесь Еще Пули Свищут, Взрывы То Там, То Тут. Скоро Меня Отыщут. Скоро Меня Найдут. Дальняя Канонада. Зарево Впереди. Это Тебе Не Надо. Ты Сюда Не Ходи. Это Не В Самом Деле. Это Не Наяву. Это Не Пуля В Теле — Это Я Так Живу. Всё У Меня В Порядке. Скоро Меня Спасут. Скоро На Плащ-Палатке В Тыл Меня Унесут. Кто-То Склонится Возле Койки, Где Я Лежу… Всё Это После, После Я Тебе Расскажу.Ворон
Никогда!
Эдгар По Он В Ночи Крадется Вором, Отощавший Черный Ворон. И Ни Звука. Ни Огня. Ворон, Порохом Пропахший, Ворон, Без Вести Пропавший, Что Он Хочет От Меня? Он Кружил Над Нашей Ротой, Над Моей Убитой Ротой Он Вершил Кровавый Пир. На Глаза Друзей Садился, На Их Мертвые Садился, Кровь Неспекшуюся Пил… Слышу, В Окна Постучались. Вот И Снова Повстречались. Снова Рядом. Он И Я. Он Не Свел Со Мною Счеты. У Него Свои Расчеты И Стратегия Своя. Он Надеется На Стронций, Ставку Делает На Стронций, Что Меня Отправит В Ад. Далеко Он Чует Дивный Запах Радиоактивный, Предвещающий Распад. Он Меня Пугает: – Сгинешь! Руки Мертвые Раскинешь Там, У Бездны На Краю. То-То Праздник Соберу Я, То-То Я Спою, Пируя, Песню Старую Свою… Мне Противны Эти Враки. Старый Ворон В Черном Фраке, Знаю Я Тебя Давно. Мне Смешны Твои Мотивы, Потому Что Перспективы Тебе, Ворон, Не Дано. Это Ты, Мой Недруг, Сгинешь, Крылья Черные Раскинешь, В Бездну Канешь Без Следа. Я Же Пасть Могу Подбитым, Даже Пасть Могу Убитым, Но Погибнуть – Никогда.«Как Бьют Часы!..»
Как Бьют Часы! Co Счета Можно Сбиться. По Полке Бродят Блики, Неясны. Стоят На Полке Книги. Как Им Спится? У Них Свои, Особенные Сны. Они Недвижны, Книги, И Спокойны. Но Ухо К Переплету Приложи! Там Гул Стоит. Там Происходят Войны. Там Вспыхивают Грозно Мятежи. Там И Мое Мальчишеское Фото, Что В Книге Позабытое Лежит, Под Непреклонной Сенью Эшафота Уже Иным Векам Принадлежит. Оно Там Столько Времени Хранится, Что Действующим Сделалось Лицом. Страница Детства. Некая Страница Между Его Началом И Концом. Там Всё Так Ясно. Выпукло И Зримо. Там, Преданный Голодным И Рабам, На Все Века Гремит Непримиримо Мой Маленький Отрядный Барабан. О, Как Он Бьет! Со Счета Можно Сбиться. Он, Призрачные Тени Шевеля, Мне Говорит: – Пока Тебе Тут Спится, Меня Теснят Солдаты Короля… О Да, У Королей Надежны Слуги! Но От Ответа Я Не Ухожу. Я С Сожаленьем Отвергаю Слухи О Том, Что Я Причастен К Мятежу. Не Я В Горах Оружие Скрываю, И Не Меня Преследуют Всё Злей. Да, Это Так. И Всё Же Не Скрываю: Я С Детства Презираю Королей. И Ты Стучи, Греми, Когда Мне Спится, Буди Меня, Мой Барабанный Бог! Не Дай Мне Ненароком Оступиться В Одной Из Тех Решающих Эпох!«Когда Пожар Гудел В Моем Дому…»
Когда Пожар Гудел В Моем Дому, Мои Друзья Меня Не Оставляли — Они Меня Учили, Наставляли, Советовали Мужественней Быть. Милейшие Наставники Мои, Они Меня По-Своему Любили, И Потому По-Своему Лепили, Стремясь Полнее Выразить Себя. К Тому Ж Они, Учившие Меня, Браня Меня За Склонность К Полумерам, Учили Меня Собственным Примером, Что Было Поучительно Весьма. Они Меня Учили День За Днем, Давая Мне Уроки Хладнокровья, Но Надо Мной Уже Дымилась Кровля, И Я Не Знаю, Многого Ль Достиг. Благодаря Наставникам Моим Я Постигал Науку Равнодушья, Но Душу Мне Сжимало От Удушья, И Я Не Знаю, Многого Ль Достиг. Я Школу Себялюбья Проходил. Я Примерял Сомнительные Перья Благоразумья И Высокомерья, Хотя Не Знаю, Многого Ль Достиг. И Всё-Таки Мои Учителя Меня С Таким Усердьем Обучали, Что Стал Я Замечать, Не Без Печали, Что, Кажется, Достиг Кое-Чего. Да, Я Достиг, Достиг Кое-Чего, Хотя Я Вижу Не Без Огорченья, Что В Длительном Процессе Обученья Существенное Что-То Потерял. Мои Прекраснодушные Друзья, Мои Недальновидные Пророки! Спасибо Вам За Горькие Уроки, Но Жаль Мне, Если Впрок Они Пошли. Нет, Не Отмщенье – Аз Да Не Воздам. Готов Вернуться К Тем, С Кем Разлучился, Готов Забыть Всё То, Чему Учился, Но Страшно Мне, А Вдруг Не Разучусь. Нет, Дай Вам Бог – Ни Дыма, Ни Огня. Пусть Дом Ваш Не Нуждается В Защите. Но Если Что – То Вы Уж Не Взыщите, О Мудрецы, Учившие Меня!Стихотворение Философско-Ироничное, Где Иронического, Впрочем, Больше, Чем Философского
Мужчины Всегда Говорят О Женщинах, Женщины Говорят О Мужчинах. В Этом Есть Известная Узость, Отсутствие Широты Интересов И Недостаточная Увлеченность Общественной И Основной Работой. Надо Серьезно Заняться Спортом, Ходить На Лыжах, Купаться В Море Или Участвовать, Скажем, В Хоре. Мужчины И Женщины Идут На Работу. Они Выполняют Любые Нагрузки. Ходят На Лыжах, Купаются В Море И Выступают В Смешанном Хоре. Но На Работе, В Море И В Хоре Мужчины Всегда Говорят О Женщинах, Женщины Говорят О Мужчинах. В Этом Есть Элемент Распущенности, Это, Если Хотите, Безнравственно И Даже Антипедагогично, Ибо Всё Это Видят Дети. Так Продолжаться Дальше Не Может, С Этим Надо Как-То Бороться. – Надо Бороться, Надо Бороться… — Я Про Себя Повторял Эту Фразу, Целую Зиму Живя У Моря, Где, В Одиночестве Пребывая И Сочиняя Свои Сочиненья, Я Очень Старался Не Думать О Женщинах, Но – Ничего У Меня Не Вышло.«Еду В Поезде, В Самолете Лечу…»
Еду В Поезде, В Самолете Лечу. Ничего Я Такого От Тебя Не Хочу, Только Знать, Что В Окне Моем Свет Горит: – Я Не Сплю! – Говорит. — Я Люблю! – Говорит. — Возвращайся Скорее Домой, – Говорит, — Потому Что Я Жить Без Тебя Не Могу! К Твоему Огню, К Твоему Лучу Еду В Поезде, В Самолете Лечу. Я Домой Возвращаюсь, Бегу Бегом. Возвращаюсь Домой, Вижу Свет Кругом. А В Моем Окошке Свет Не Горит: – Ушла, – Говорит. — Не Ждала, – Говорит. Темнота В Окне Моем, Темнота. – Ничего Не Поделаешь, – Говорит.Мой Век
Мне Застать В Этом Веке Выпало Сразу Юность Его И Старость. Сколько Хлама Из Века Выпало, Сколько Всякого В Нем Осталось! Он Владычествует, Запутанный, Над Радарами И Рабами. В Подземелье Дрожит, Запуганный Термоядерными Грибами. Есть И Лунники В Нем, И Лучники, И В Протоне Он, И В Притоне. Живут Латники, Живут Битники – На Бамбуке И На Бетоне. Тирания – И Телевиденье. Милосердие – И Презренье. Потрясающее Неведенье И Божественное Прозренье. Изучают Строенье Бабочки. Ищут Снежного Человека. Вяжут Варежки Внукам Бабушки На Скамейках Этого Века. Открыватели – И Каратели. На Верблюдах – И Вертолетах. …Но Тревожно Дымятся Кратеры На Горячих Земных Широтах. Идут Странники И Паломники Со Своими Обидами. Орут Битники, Летят Спутники Своими Орбитами.Песенка Старого Клоуна
Ничто Мне На Свете Не Мило, Когда Вы Объяты Тоской. И Чтобы Вам Весело Было, Надел Я Колпак Шутовской. Не Правда Ли – Ну И Потеха! Колпак Шутовской? Чепуха! Ax, Я Умираю От Смеха, Ха-Ха, Ха-Ха-Ха, Ха-Ха-Ха. Манеж В Ослепительном Свете, Гремит И Гремит Барабан. Свинья Разъезжает В Карете, Мундиром Сияет Баран. Не Правда Ли – Ну И Потеха! В Мундире Баран? Чепуха! Ах, Я Умираю От Смеха, Ха-Ха, Ха-Ха-Ха, Ха-Ха-Ха. Есть Лица Куда Поважнее — Я Просто Артист Цирковой. Но Чтобы Вам Было Смешнее, Я Падаю Вниз Головой. Не Правда Ли – Ну И Потеха! Я Вниз Головой? Чепуха! Ах, Я Умираю От Смеха, Ха-Ха, Ха-Ха-Ха, Ха-Ха-Ха. Лежу Неподвижно И Грузно — Молитесь За Душу Мою! А Чтобы Вам Не Было Грустно, Я Вам На Прощанье Спою: Не Правда Ли – Ну И Потеха! Я Встать Не Могу? Чепуха! Ведь Я Умираю От Смеха, Ха-Ха, Ха-Ха-Ха, Ха-Ха-Ха.Песенка Для Мамы
Дождь Идет, На Сердце Слякоть. Это Ж Таки Можно Плакать. Это Же Не Жизнь, А Горе, Хоть Д'Иди Топиться В Море. Ах, Мадам, Скажу Вам Прямо, У Меня Такая Драма. У Меня Такие Слезы, Ах, От Вашей Дочки Розы. Я От Вашей Розы Плачу, На Нее Червонцы Трачу. – Стань, – Прошу, – Моей Женою! А Она Играет Мною. Вы Скажите Вашей Дочке, Надо Уже Ставить Точки. Больше За Такие Встречи, Ах, Не Может Быть И Речи. Зацвела В Одессе Липа, Часики, Мадам, Пробили — Хватит Уже Либо – Либо, Надо Уже Или – Или.Солдату Выпала Беда…
Солдату Выпала Беда, Надежды Не Имеется. А Он Всегда, А Он Всегда Домой Прийти Надеется. Он Бороды Не Брил Давно, Он Белый, Как Метелица. А Он Невесте Всё Равно Понравиться Надеется. Последней Крошкой Табаку, Последней Каплей Делится. А Материнскую Щеку Поцеловать Надеется. А Он, Как Леший, Бородат, Одной Шинелью Греется. На Что Надеется Солдат? А На Себя Надеется. Пройдут Дожди И Холода, Земля Травой Оденется. И Он Тогда, И Он Тогда Домой Прийти Надеется.Песенка О Часах
Когда Зима, У Нас Такие Ночи Длинные, Но Ты Прислушайся, Прислушайся, Чудак. Часы Судьбы, Твоей Судьбы Часы Старинные Тик-Так – Тик-Так, Тик-Так – Тик-Так, Тик-Так – Тик-Так. Еще Тиктакает Механика Усталая, Ах, Не До Штурмов Нам Уже, Не До Атак. А Все Скрипит, А Все Скрипит Пружинка Старая Тик-Так – Тик-Так, Тик-Так – Тик-Так, Тик-Так – Тик-Так. Пускай Дороги Наши Длинные – Не Длинные, А Всё Равно Когда-Нибудь Случится Так. Часы Судьбы, Твоей Судьбы Часы Старинные У Нас Не Спрашивают – Хочется, Не Хочется. Так Хохочи, Пока Хохочется, Чудак. Пока Не Кончится Твое, Пока Не Кончится Тик-Так – Тик-Так, Тик-Так – Тик-Так, Тик-Так – Тик-Так.Песенка О Трубе И Гитаре
Две Дороги Степные, А Кругом – Ковыли. Там Гитара С Трубою Разговор Завели. Начинала Гитара: – Т Ара-Тара, Та-Та'Ра… – Тра-Па-Па' – Па, Па-Па! — Отвечала Труба. Сколько Было Привалов, Сколько Было Атак — Всё Гитара С Трубою Не Поладят Никак. Начинает Гитара: – Т Ара-Тара, Та-Тара… – Тра-Па-Па'-Па, Па-Па! — Отвечает Труба. А Две Пули, Две Пули Чуть Пониже Плеча, Да Одна – В Гитариста, А Одна – В Трубача. И Вздохнула Гитара: – Тара-Тара, Та-Тара… – Тра-Па-Па-Па, Па-Па'! — – Отвечала Труба. Две Дороги, Две Песни, Две Тропы, Две Судьбы. И Нельзя Без Гитары, И Нельзя Без Трубы. Начинает Гитара: – Тара-Тара, Та-Тара… – Тра-Па-Па-Па, Па-Па! — Отвечает Труба. Две Дороги Степные, Только Ветер В Упор — Всё Гитары С Трубою Не Кончается Спор. Начинает Гитара: – Тара-Тара, Та-Тара… – Тра-Па-Па-Па, Па-Па! — Отвечает Труба.Из Цикла «Песни Городской Рекламы»
Кепочка
Голова Поседела – Не Скорби, Не Грусти, Не Печалься, Погоди. Ты Купи Себе Кепочку, Купи, Ты Ходи Себе В Кепочке, Ходи. Нынче Все Магазины Как Один Головные Уборы Продают. Впечатленье Отсутствия Седин Головные Уборы Создают. Голова Полысела – Не Скорби, Не Грусти, Не Печалься, Погоди. Ты Купи Себе Кепочку, Купи, Ты Ходи Себе В Кепочке, Ходи. Ведь Недаром И Летом, И В Мороз Головные Уборы Продают. Впечатленье Наличия Волос Головные Уборы Создают. Головы Не Имеешь – Не Скорби, Не Грусти, Не Печалься, Погоди. Ты Купи Себе Кепочку, Купи, Ты Ходи Себе В Кепочке, Ходи. Из Тряпья, Из Соломы, Из Травы Головные Уборы Продают. Впечатленье Наличья Головы Головные Уборы Создают.Кинотеатр Повторного Фильма
Дни Стоят Весенние, Весенние, Весенние. Продают Фиалки У Никитских Ворот. А В Кинотеатре Повторного Фильма Старая Комедия Идет. Всё Чего-То Мечемся, И Мечемся, И Мечемся, Думаем, Надеемся – Вот-Вот Повезет. А В Кинотеатре Повторного Фильма Старая Комедия Идет. Всюду Происходят Грандиозные Событья. Снова Совершается Крутой Поворот. А В Кинотеатре Повторного Фильма Старая Комедия Идет. Часики Тактакают, И Тикают, И Такают. То Сирень-Фиалочки, То Вьюга Метет. А В Кинотеатре Повторного Фильма Старая Комедия Идет.Лотерейный Билет
Когда На Судьбу Вы В Обиде И Сделать Нельзя Ничего, Билет Лотерейный Купите За Тридцать Копеек Всего. Надеждой Отчаянье Скрасьте, Запомните Номер Его. Вы Можете Выиграть Счастье За Тридцать Копеек Всего. А Если Опять Не Попали В Счастливцы – Ну Что Же С Того? Ведь Вы Свой Билет Покупали За Тридцать Копеек Всего. У Вас За Стеною Метели, У Вас За Окном – Ничего. А Что Ж Вы, А Что Ж Вы Хотели За Тридцать Копеек Всего…Примечания
1
ich sterbe! – я умираю (нем.).
(обратно)

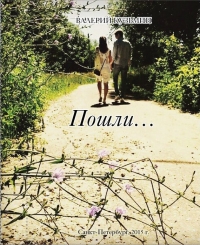


Комментарии к книге «Черно-белое кино», Юрий Давидович Левитанский
Всего 0 комментариев