Владимир Маяковский ХОРОШО! Октябрьская поэма
1
Время — вещь необычайно длинная, — были времена — прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети, строфа! Воспаленной губой припади и попей из реки по имени — «Факт». Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем. Я хочу, чтобы, с этою книгой побыв, из квартирного мирка шел опять на плечах пулеметной пальбы, как штыком, строкой просверкав. Чтоб из книги, через радость глаз, от свидетеля счастливого,— в мускулы усталые лилась строящая и бунтующая сила. Этот день воспевать никого не наймем. Мы распнем карандаш на листе, чтобы шелест страниц, как шелест знамен, надо лбами годов шелестел.2
«Кончай войну! Довольно! Будет! В этом голодном году невмоготу». Врали: «народа — свобода, вперед, эпоха, заря…» — и зря. Где земля, и где закон, чтобы землю выдать к лету? — Нету! Что же дают за февраль, за работу, за то, что с фронтов не бежишь? — Шиш. На шее кучей Гучковы, черти, министры, Родзянки… Мать их за́ ноги! Власть к богатым рыло воротит — чего подчиняться ей?!. Бей!!» То громом, то шепотом этот ропот сползал из Керенской тюрьмы-решета. В деревни шел по травам и тропам, в заводах сталью зубов скрежетал. Чужие партии бросали швырком. На что им сбор болтунов дался́?! И отдавали большевикам гроши, и силы, и голоса. До самой мужичьей земляной башки докатывалась слава,— лила́сь и слы́ла, что есть за мужиков какие-то «большаки». — У-у-у! — Сила! —3
Царям дворец построил Растрелли. Цари рождались, жили, старели. Дворец не думал о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати, царицам вверенной, раскинется какой-то присяжный поверенный. От орлов, от власти, одеял и кру́жевца голова присяжного поверенного кружится. Забывши и классы и партии — идет на дежурную речь. Глаза у него бонапартьи и цвета защитного френч. Слова и слова. Огнесловая лава. Болтает сорокой радостной. Он сам опьянен своею славой пьяней, чем сорокаградусной. Слушайте, пока не устанете, как щебечет иной адъютантик: «Такие случаи были — он едет в автомобиле. Узнавши, кто и который,— толпа распрягла моторы! Взамен лошадиной силы сама на руках носила!» В аплодисментном плеске премьер проплывает над Невским, и дамы, и дети-пузанчики кидают цветы и роза́нчики. Если ж с безработы загрустится, сам себя уверенно и быстро назначает — то военным, то юстиции, то каким-нибудь еще министром. И вновь возвращается, сказанув, ворочать дела и вертеть казну. Подмахивает подписи достойно и старательно. «Аграрные? Беспорядки? Ряд? Пошлите этот, как его,— карательный отряд! Ленин? Большевики? Арестуйте и выловите! Что? Не дают? Не слышу без очков. Кстати… об его превосходительстве… Корнилове. Нельзя ли сговориться сюда казачков?!. Их величество? Знаю. Ну да?.. И руку жал. Какая ерунда! Императора? На воду? И черную корку? При чем тут Совет? Приказываю туда, в Лондон, к королю Георгу». Пришит к истории, пронумерован и скре́плен, и его рисуют — и Бродский и Репин.4
Петербургские окна. Синё и темно. Город сном и покоем скован. Но не спит мадам Кускова. Любовь и страсть вернулись к старушке. Кровать и мечты розоватит восток. Ее воло́с пожелтелые стружки причудливо склеил слезливый восторг. С чего это девушка сохнет и вянет? Молчит… но чувство, видать, велико́. Ее утешает усатая няня, видавшая виды, — Пе Эн Милюков. «Не спится, няня… Здесь так душно… Открой окно да сядь ко мне». — Кускова, что с тобой? — «Мне скушно… Поговорим о старине». — О чем, Кускова? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц — и про царей и про цариц. И я б, с моим умишкой хилым,— короновала б Михаила. Чем брать династию чужую… Да ты не слушаешь меня?! — «Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова…» — Господь помилуй и спаси… Чего ты хочешь? Попроси. Чтобы тебе на нас не дуться, дадим свобод и конституций… Дай окроплю речей водою горящий бунт… — «Я не больна. Я… знаешь, няня… влюблена…» — Дитя мое, господь с тобою! — И Милюков ее с мольбой крестил профессорской рукой. — Оставь, Кускова, в наши лета любить задаром смысла нету.— «Я влюблена»,— шептала снова в ушко профессору она. — Сердечный друг, ты нездорова — «Оставь меня, я влюблена». — Кускова, нервы,— полечись ты…— «Ах, няня, он такой речистый… Ах, няня-няня! няня! Ах! Его же ж носят на руках. А как поет он про свободу… Я с ним хочу,— не с ним, так в воду». Старушка тычется в подушку, и только слышно: «Саша! — Душка!» Смахнувши слезы рукавом, взревел усастый нянь: — В кого? Да говори ты нараспашку! — «В Керенского…» — В какого? В Сашку? — И от признания такого лицо расплы́лось Милюкова. От счастия профессор о́жил: — Ну, это что ж — одно и то же! При Николае и при Саше мы сохраним доходы наши.— Быть может, на брегах Невы подобных дам видали вы?5
Звякая шпорами довоенной выковки, аксельбантами увешанные до пупов, говорили адъютант (в «Селекте» на Лиговке) и штабс-капитан Попов. «Господин адъютант, не возражайте, не дам,— скажите, чего еще поджидаем мы? Россию жиды продают жидам, и кадровое офицерство уже под жидами! Вы, конешно, профессор, либерал, но казачество, пожалуйста, оставьте в покое. Например, мое положенье беря, это… черт его знает, что это такое! Сегодня с денщиком: ору ему — эй, наваксь щиблетину, чтоб видеть рыло в ней! — И конешно — к матушке, а он меня к моей, к матушке к свет к Елизавете Кирилловне!» «Нет, я не за монархию с коронами, с орлами, но для социализма нужен базис. Сначала демократия, потом парламент. Культура нужна. А мы — Азия-с! Я даже — социалист. Но не граблю, не жгу. Разве можно сразу? Конешно, нет! Постепенно, понемногу, по вершочку, по шажку, сегодня, завтра, через двадцать лет. А эти? От Вильгельма кресты да ленты. В Берлине выходили с билетом перронным. Деньги штаба — шпионы и агенты. В Кресты бы тех, кто ездит в пломбированном!» «С этим согласен, это конешно, этой сволочи мало повешено». «Ленина, который смуту сеет, председателем, што ли, совета министров? Что ты?! Рехнулась, старушка Рассея? Касторки прими! Поправьсь! Выздоровь! Офицерам Суворова, Голенищева-Кутузова благодаря политикам ловким быть под началом Бронштейна бескартузого, какого-то бесштанного Лёвки?! Дудки! С казачеством шутки плохи́ — повыпускаем их потроха…» И все адъютант — ха да хи — Попов — хи да ха.— «Будьте дважды прокляты и трижды поколейте! Господин адъютант, позвольте ухо: их …ревосходительство …ерал Каледин, с Дону, с плеточкой, извольте понюхать! Его превосходительство… Да разве он один?! Казачество кубанское, Днепр, Дон…» И всё стаканами — дон и динь, и шпорами — динь и дон. Капитан упился, как сова. Челядь чайники бесшумно подавала. А в конце у Лиговки другие слова подымались из подвалов. «Я, товарищи,— из военной бюры. Кончили заседание — то́ка-то́ка. Вот тебе, к маузеру, двести бери, а это — сто патронов к винтовкам. Пока соглашатели замазывали рты, подходит казатчина и самокатчина. Приказано питерцам идти на фронты, а сюда направляют с Гатчины. Вам, которые с Выборгской стороны, вам заходить с моста Литейного. В сумерках, тоньше дискантовой струны, не галдеть и не делать заведенья питейного, Я за Лашевичем беру телефон,— не задушим, так нас задушат. Или возьму телефон, или вон из тела пролетарскую душу. С а м приехал, в пальтишке рваном,— ходит, никем не опознан. Сегодня, говорит, подыматься рано. А послезавтра — поздно. Завтра, значит. Ну, не сдобровать им! Быть Кере́нскому биту и ободрану! Уж мы подымем с царёвой кровати эту самую Александру Федоровну».6
Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицкий дули авто и трамы, обычные рельсы вызмеив. Под мостом Нева-река, по Неве плывут кронштадтцы… От винтовок говорка скоро Зимнему шататься. В бешеном автомобиле, покрышки сбивши, тихий, вроде упакованной трубы, за Гатчину, забившись, улепетывал бывший — «В рог, в бараний! Взбунтовавшиеся рабы!..» Видят редких звезд глаза, окружая Зимний в кольца, по Мильонной из казарм надвигаются кексгольмцы. А в Смольном, в думах о битве и войске, Ильич гримированный мечет шажки, да перед картой Антонов с Подвойским втыкают в места атак флажки. Лучше власть добром оставь, никуда тебе не деться! Ото всех идут застав к Зимнему красногвардейцы. Отряды рабочих, матросов, голи — дошли, штыком домерцав, как будто руки сошлись на горле, холёном горле дворца. Две тени встало. Огромных и шатких. Сдвинулись. Лоб о лоб. И двор дворцовый руками решетки стиснул торс толп. Качались две огромных тени от ветра и пуль скоростей, — да пулеметы, будто хрустенье ломаемых костей. Серчают стоящие павловцы. «В политику… начали… ба́ловаться… Куда против нас бочкаревским дурам?! Приказывали б на штурм». Но тени боролись, спутав лапы,— и лап никто не разнимал и не рвал. Не выдержав молчания, сдавался слабый — уходил от испуга, от нерва́. Первым, боязнью одолен, снялся бабий батальон. Ушли с батарей к одиннадцати михайловцы или константиновцы… А Ке́ренский — спрятался, попробуй вымань его! Задумывалась казачья башка. И редели защитники Зимнего, как зубья у гребешка. И долго длилось это молчанье, молчанье надежд и молчанье отчаянья. А в Зимнем, в мягких мебеля́х с бронзовыми вы́крутами, сидят министры в меди блях, и пахнет гладко выбритыми. На них не глядят и их не слушают — они у штыков в лесу. Они упадут переспевшей грушею, как только их потрясут. Голос — редок. Шепотом, знаками. — Керенский где-то? — — Он? — За казаками. И снова молча. И только по́д вечер: — Где Прокопович?— — Нет Прокоповича. А из-за Николаевского чугунного моста́ как смерть, глядит неласковая Аврорьих башен сталь. И вот высоко над воротником поднялось лицо Коновалова. Шум, который тек родником, теперь прибоем наваливал. Кто длинный такой?.. Дотянуться смог! По каждому из стекол удары палки. Это — из трехдюймовок шарахнули форты Петропавловки. А поверху город как будто взорван: бабахнула шестидюймовка Авророва. И вот еще не успела она рассыпаться, гулка и грозна,— над Петропавловкой взви́лся фонарь, восстанья условный знак. — Долой! На приступ! Вперед! На приступ! — Ворва́лись. На ковры! Под раззолоченный кров! Каждой лестницы каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров. Как будто водою комнаты по́лня, текли, сливались над каждой потерей, и схватки вспыхивали жарче полдня за каждым диваном, у каждой портьеры. По этой анфиладе, приветствиями о́ранной монархам, несущим короны-клады,— бархатными залами, раскатистыми коридорами гремели, бились сапоги и приклады. Какой-то смущенный сукин сын, а над ним путиловец — нежней папаши: «Ты, парнишка, выкладай ворованные часы — часы теперича наши!» Топот рос, и тех тринадцать сгреб, забил, зашиб, затыркал. Забились под галстук — за что им приняться? — Как будто топор навис над затылком. За двести шагов… за тридцать… за двадцать… Вбегает юнкер: «Драться глупо!» Тринадцать визгов: — Сдаваться! Сдаваться! — А в двери — бушлаты, шинели, тулупы… И в эту тишину раскатившийся всласть бас, окрепший над реями рея: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время». И один из ворвавшихся, пенснишки тронув, объявил, как об чем-то простом и несложном: «Я, председатель реввоенкомитета Антонов, Временное правительство объявляю низложенным». А в Смольном толпа, растопырив груди, покрывала песней фе́йерверк сведений. Впервые вместо: — «И это будет…» — пели: — «И это есть наш последний…» — До рассвета осталось не больше аршина,— руки лучей с востока взмо́лены. Товарищ Подвойский сел в машину, сказал устало: «Кончено… в Смольный». Умолк пулемет. Угодил толко́в. Умолкнул пуль звенящий улей. Горели, как звезды, грани штыков, бледнели звезды небес в карауле. Дул, как всегда, октябрь ветра́ми. Рельсы по мосту вызмеив, гонку свою продолжали трамы уже — при социализме.7
В такие ночи, в такие дни, в часы такой поры на улицах разве что одни поэты и воры́. Сумрак на мир океан катну́л. Синь. Над кострами — бур. Подводной лодкой пошел ко дну взорванный Петербург. И лишь когда от горящих вихров шатался сумрак бурый, опять вспоминалось: с боков и с верхов непрерывная буря. На воду сумрак похож и так — бездонна синяя прорва. А тут еще и виденьем кита туша Авророва. Огонь пулеметный площадь остриг. Набережные — пусты́. И лишь хорохорятся костры в сумерках густых. И здесь, где земля от жары вязка́, с испугу или со льда́, ладони держа у огня в языках, греется солдат. Солдату упал огонь на глаза, на клок волос лег. Я узнал, удивился, сказал: «Здравствуйте, Александр Блок. Лафа футуристам, фрак старья разлазится каждым швом». Блок посмотрел — костры горят — «Очень хорошо». Кругом тонула Россия Блока… Незнакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консервов. И сразу лицо скупее менял, мрачнее, чем смерть на свадьбе: «Пишут… из деревни… сожгли… у меня… библиотеку в усадьбе». Уставился Блок — и Блокова тень глазеет, на стенке привстав… Как будто оба ждут по воде шагающего Христа. Но Блоку Христос являться не стал. У Блока тоска у глаз. Живые, с песней вместо Христа, люди из-за угла. Вставайте! Вставайте! Вставайте! Работники и батраки. Зажмите, косарь и кователь, винтовку в железо руки! Вверх — флаг! Рвань — встань! Враг — ляг! День — дрянь. За хлебом! За миром! За волей! Бери у буржуев завод! Бери у помещика поле! Братайся, дерущийся взвод! Сгинь — стар. В пух, в прах. Бей — бар! Трах! тах! Довольно, довольно, довольно покорность нести на горбах. Дрожи, капиталова дворня! Тряситесь, короны, на лбах! Жир ёжь страх плах! Трах! тах! Tax! тах! Эта песня, перепетая по-своему, доходила до глухих крестьян — и вставали села, содрогая воем, по дороге топоры крестя. Но- жи- чком на месте чик лю- то- го по- мещика. Гос- по- дин по- мещичек, со- би- райте вещи-ка! До- шло до поры, вы- хо- ди, босы, вос- три топоры, подымай косы. Чем хуже моя Нина?! Ба- рыни сами. Тащь в хату пианино, граммофон с часами! Под- хо- ди- те, орлы! Будя — пограбили. Встречай в колы, провожай в грабли! Дело Стеньки с Пугачевым, разгорайся жарчи-ка! Все поместья богачевы разметем пожарчиком. Под- пусть петуха! Подымай вилы! Эх, не потухай,— пет- тух милый! Черт ему теперь родня! Головы — кочаном. Пулеметов трескотня сыпется с тачанок. «Эх, яблочко, цвета яснова. Бей справа белаво, слева Краснова». Этот вихрь, от мысли до курка, и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды.8
Холод большой. Зима здорова́. Но блузы прилипли к потненьким. Под блузой коммунисты. Грузят дрова. На трудовом субботнике. Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. В н а ш и вагоны, на н а ш е м пути, н а ш и грузим дрова. Можно уйти часа в два,— но м ы — уйдем поздно. Н а ш и м товарищам н а ш и дрова нужны: товарищи мерзнут. Работа трудна, работа томит. За нее никаких копеек. Но м ы работаем, будто м ы делаем величайшую эпопею. Мы будем работать, все стерпя, чтоб жизнь, колёса дней торопя, бежала в железном марше в н а ш и х вагонах, по н а ш и м степям, в города промерзшие н а ш и. «Дяденька, что вы делаете тут, столько больших дяде́й?» — Что? Социализм: свободный труд свободно собравшихся людей.9
Перед нашею республикой стоят богатые. Но как постичь ее? И вопросам разнедоуменным нет числа: что это за нация такая «социалистичья», и что это за «соци- алистическое отечество»? «Мы восторги ваши понять бессильны. Чем восторгаются? Про что поют? Какие такие фрукты-апельсины растут в большевицком вашем раю? Что вы знали, кроме хлеба и воды,— с трудом перебиваясь со дня на день? Т а к о г о отечества т а к о й дым разве уж н а с т о л ь к о приятен? За что вы идете, если велят — «воюй»? Можно быть разорванным бо́мбищей, можно умереть за землю за с в о ю, но как умирать за общую? Приятно русскому с русским обняться — но у вас и имя «Р о с с и я» утеряно. Что это за отечество у забывших об нации? Какая нация у вас? Коминтерина? Жена, да квартира, да счет текущий — вот это — отечество, райские кущи. Ради бы вот такого отечества мы понимали б и смерть и молодечество». Слушайте, национальный трутень,— день наш тем и хорош, что труден. Эта песня песней будет наших бед, побед, буден.10
Политика — проста. Как воды глоток. Понимают ощерившие сытую пасть, что если в Россиях увязнет коготок, всей буржуазной птичке — пропасть. Из «сюртэ́ женера́ль», из «инте́ллидженс се́рвис» «дефензивы» и «сигуранцы» выходит разная сволочь и стерва, шьет шинели цвета серого, бомбы кладет в ранцы. Набились в трюмы, палубы обсели на деньги вербовочного а́гентства. В Новороссийск плывут из Марселя, из Дувра плывут к Архангельску. С песней, с виски, сыты по-свински. Килями вскопаны воды холодные. Смотрят перископами лодки подводные. Плывут крейсера, снаряды соря. И миноносцы с минами носятся. А поверх всех с пушками чудовищной длинноты сверх- дредноуты. Разными газами воняя гадко, тучи пропеллерами выдрав, с авиаматки на авиаматку пе- ре- пархивают «гидро». Послал капитал капитанов ученых. Горло нащупали и стискивают. Ткнешься в Белое, ткнешься в Черное, в Каспийское, в Балтийское,— куда корабль ни тычется, конец катаниям. Стоит морей владычица, бульдожья Британия. Со всех концов блокады кольцо и пушки смотрят в лицо. — Красным не нравится?! Им голодно? Рыбкой наедитесь, пойдя на дно.— А кому на суше грабить охота, те с кораблей сходили пехотой. — На море потопим, на суше потопаем.— Чужими руками жар гребя, дым отечества пускают пострелины — выставляют впереди одураченных ребят, баронов и князей недорасстрелянных. Могилы копайте, гроба копите — Юденича рати прут на Питер. В обозах е́ды вку́снятся, консервы — пуд. Танков гусеницы на Питер прут. От севера идет адмирал Колчак, сибирский хлеб сапогом толча. Рабочим на расстрел, поповнам на утехи, с ним идут голубые чехи. Траншеи, машинами выбранные, саперами Крым перекопан,— Врангель крупнокалиберными орудует с Перекопа. Любят полковников сантиментальные леди. Полковники любят поговорить на обеде. — Я иду, мол (прихлебывает виски), а на меня десяток чудовищ большевицких. Раз — одного, другого — ррраз,— кстати, как дэнди, и девушку спас.— Леди, спросите у мерина сивого — он как Мурманск разизнасиловал. Спросите, как — Двина-река, кровью крашенная, трупы вы́тая, с кладью страшною шла в Ледовитый. Как храбрецы расстреливали кучей коммуниста одного, да и тот скручен. Как офицера́ его величества бежали от выстрелов, берег вычистя. Как над серыми хатами огненные перья и руки холёные туго у горл. Но… «итс э лонг уэй ту Типерери, итс э лонг уэй ту го!» На первую республику рабочих и крестьян, сверкая выстрелами, штыками блестя, гнали армии, флоты катили богатые мира, и эти и те… Будьте вы прокляты, прогнившие королевства и демократии, со своими подмоченными «фратэрнитэ́» и «эгалитэ́»! Свинцовый льется на нас кипяток. Одни мы — и спрятаться негде. «Янки дудль кип ит об, Янки дудль дэнди». Посреди винтовок и орудий голосища Москва — островком, и мы на островке. Мы — голодные, мы — нищие, с Лениным в башке и с наганом в руке.11
Несется жизнь, овеевая, проста, суха. Живу в домах Стахеева я, теперь Веэсэнха. Свезли, винтовкой звякая, богатых и кассы. Теперь здесь всякие и люди и классы. Зимой в печурку-пчелку суют тома Шекспирьи. Зубами щелкают,— картошка — пир им. А летом слушают асфальт с копейками в окне: — Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне! — Я в этом каменном котле варюсь, и эта жизнь — и бег, и бой, и сон, и тлен — в домовьи этажи отражена от пят до лба, грозою омываемая, как отражается толпа идущими трамваями. В пальбу присев на корточки, в покой глазами к форточке, чтоб было видней, я в комнатенке-лодочке проплыл три тыщи дней.12
Ходят спекулянты вокруг Главтопа. Обнимут, зацелуют, убьют за руп. Секретарши ответственные валенками топают За хлебными карточками стоят лесорубы. Много дела, мало горя им, фунт — целый! — первой категории. Рубят, липовый чай выкушав. — Мы не Филипповы, мы — привыкши. Будет обед, будет ужин,— белых бы вон отбить от ворот. Есть захотелось, пояс — потуже, в руки винтовку и на фронт.— А мимо — незаменимый. Стуча сапогом, идет за пайком — правление выдало урюк и повидло. Богатые — ловче, едят у Зунделовича. Ни щей, ни каш — бифштекс с бульоном, хлеб ваш, полтора миллиона. Ученому хуже: фосфор нужен, масло на блюдце. Но, как на́зло, есть революция, а нету масла. Они научные. Напишут, вылечат. Мандат, собственноручный, Анатоль Васильича. Где хлеб да мяса́, придут на час к вам. Читает комиссар мандат Луначарского: «Так… сахар… так… жирок вам. Дров… березовых… посуше поленья… и шубу широкого потребленья. Я вас, товарищ, спрашиваю в упор. Хотите — берите головной убор. Приходит каждый с разной блажью. Берите пока што ногу лошажью!» Мех на глаза, как баба-яга, идут назад на трех ногах.13
Двенадцать квадратных аршин жилья. Четверо в помещении — Лиля, Ося, я и собака Щеник. Шапчонку взял оборванную и вытащил салазки. — Куда идешь? — В уборную иду. На Ярославский. Как парус, шуба на весу, воняет козлом она. В санях полено везу, забрал забор разломанный. Полено — тушею, тверже камня. Как будто вспухшее колено великанье. Вхожу с бревном в обнимку. Запотел, вымок. Важно и чинно строгаю перочинным. Нож — ржа. Режу. Радуюсь. В голове жар подымает градус. Зацветают луга, май поет в уши — это тянется угар из-под черных вьюшек. Четверо сосулек свернулись, уснули. Приходят люди, ходят, будят. Добудились еле — с углей угорели. В окно — сугроб. Глядит горбат. Не вымерзли покамест? Морозы в ночь идут, скрипят снегами-сапогами. Небосвод, наклонившийся на комнату мою, морем заката облит. По розовой глади моря, на юг — тучи-корабли. За гладь, за розовую, бросать якоря, туда, где березовые дрова горят. Я много в теплых странах плутал. Но только в этой зиме понятной стала мне теплота любовей, дружб, и семей. Лишь лежа в такую вот гололедь, зубами вместе проляскав — поймешь: нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку. Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся,— но землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя.14
Скрыла та зима, худа и строга, всех, кто на́век ушел ко сну. Где уж тут словам! И в этих строках боли волжской я не коснусь. Я дни беру из ряда дней, что с тыщей дней в родне. Из серой полосы деньки, их гнали годы- водники — не очень сытенькие, не очень голодненькие. Если я чего написал, если чего сказал — тому виной глаза-небеса, любимой моей глаза. Круглые да карие, горячие до гари. Телефон взбесился шалый, в ухо грохнул обухом: карие глазища сжала голода опухоль. Врач наболтал — чтоб глаза глазели, нужна теплота, нужна зелень. Не домой, не на суп, а к любимой в гости, две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол — полена березовых дров. Мокрые, тощие под мышкой дровинки, чуть потолще средней бровинки. Вспухли щеки. Глазки — щелки. Зелень и ласки вы́ходили глазки. Больше блюдца, смотрят революцию. Мне легше, чем всем,— я Маяковский. Сижу и ем кусок конский. Скрип — дверь, плача. Сестра младшая. — Здравствуй, Володя! — — Здравствуй, Оля! — Завтра новогодие — нет ли соли? — Делю, в ладонях вешаю щепотку отсыревшую. Одолевая снег и страх, скользит сестра, идет сестра, бредет трехверстной Преснею солить картошку пресную. Рядом мороз шел и рос. Затевал щекотку — отдай щепотку. Пришла, а соль не ва́лится — примерзла к пальцам. За стенкой шарк: «Иди, жена, продай пиджак, купи пшена». Окно,— с него идут снега, мягка снегов тиха нога. Бела, гола столиц скала. Прилип к скале лесов скелет. И вот из-за леса небу в шаль вползает солнца вша. Декабрьский рассвет, изможденный и поздний, встает над Москвой горячкой тифозной. Ушли тучи к странам тучным. За тучей берегом лежит Америка. Лежала, лакала кофе, какао. В лицо вам, толще свиных причуд, круглей ресторанных блюд, из нищей нашей земли кричу: Я землю эту люблю. Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы, но землю, с которой вдвоем голодал,— нельзя никогда забыть!15
Под ухом самым лестница ступенек на двести,— несут минуты-вестницы по лестнице вести. Дни пришли и топали: — Дожили, вот вам,— нету топлив брюхам заводовым. Дымом небесный лак помутив, до самой трубы, до носа локомотив стоит в заносах. Положив на валенки цветные заплаты, из ворот, из железного зёва, снова шли, ухватясь за лопаты, все, кто мобилизован. Вышли за́ лес, вместе взя́лись. Я ли, вы ли, откопали, вырыли. И снова поезд ка́тит за снежную скатерть. Слабеет тело без ед и питья, носилки сделали, руки сплетя. Теперь запевай, и домой можно — да на руки положено пять обмороженных. Сегодня, на лестнице, грязной и тусклой, копались обывательские слухи-свиньи. Деникин подходит к са́мой, к тульской, к пороховой сердцевине. Обулись обыватели, по пыли печатают шепотоголосые кухарочьи хоры́. — Будет… крупичатая!.. пуды непочатые… ручьи — чаи́, сухари, сахары́. Бли-и-и-зко беленькие, береги ке́ренки! — Но город проснулся, в плакаты кадрованный, — это партия звала: «Пролетарий, на коня!» И красные скачут на юг эскадроны — Мамонтова нагонять. Сегодня день вбежал второпях, криком тишь порвав, простреленным легким часто хрипя, упал и кончался, кровав. Кровь по ступенькам стекала на́ пол, стыла с пылью пополам и снова на пол каплями капала из-под пули Каплан. Четверолапые зашагали, визг шел шакалий. Салоп говорит чуйке, чуйка салопу: — Заёрзали длинноносые щуки! Скоро всех слопают! — А потом топырили глаза-таре́лины в длинную фамилий и званий тропу. Ветер сдирает списки расстрелянных, рвет, закручивает и пускает в трубу. Лапа класса лежит на хищнике — Лубянская лапа Че-ка. — Замрите, враги! Отойдите, лишненькие! Обыватели! Смирно! У очага! — Миллионный класс вставал за Ильича против белого чудовища клыкастого, и вливалось в Ленина, леча, этой воли лучшее лекарство. Хоронились обыватели за кухни, за пеленки. — Нас не трогайте — мы цыпленки. Мы только мошки, мы ждем кормежки. Закройте, время, вашу пасть! Мы обыватели — нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть.— А утром небо — веча зво́нница! Вчерашний день виня во лжи, расколоколивали птицы и солнце: жив, жив, жив, жив! И снова дни чередой заводно́й сбегались и просили. — Идем за нами — «еще одно усилье». От боя к труду — от труда до атак,— в голоде, в холоде и наготе держали взятое, да так, что кровь выступала из-под ногтей. Я видел места, где инжир с айвой росли без труда у рта моего,— к таким относишься и́наче. Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льешься с массами,— с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на́ смерть!16
Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут: «Только что вышел я из дверей, вижу — они плывут…» Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За де́нь подметок стопали, как за́ год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня, мотня,— бегут добровольцы, задрав порточки,— чистая публика и солдатня. У кого — канарейка, у кого — роялина, кто со шкафом, кто с утюгом. Кадеты — на что уж люди лояльные — толкались локтями, крыли матюгом. Забыли приличия, бросили моду, кто — без юбки, а кто — без носков. Бьет мужчина даму в морду, солдат полковника сбивает с мостков. Наши наседали, крыли по трапам, кашей грузился последний эшелон. Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на́ ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили. На молу — голо. Лодка шестивёсельная стоит у мола. И над белым тленом, как от пули падающий, на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул… — Ваше превосходительство, грести? — — Грести! — Убрали весло. Мотор заторкал. Пошла весело́ к «Алмазу» моторка. Пулей пролетела штандартная яхта. А в транспортах-галошинах далеко, сзади, тащились оторванные от станка и пахот, узлов полтораста накручивая за́ день. От родины в лапы турецкой полиции, к туркам в дыру, в Дарданеллы узкие, плыли завтрашние галлиполийцы, плыли вчерашние русские. Впе- реди година на године. Каждого трясись, который в каске. Будешь доить коров в Аргентине, будешь мереть по ямам африканским. Чужие волны качали транспорты, флаги с полумесяцем бросались в очи, и с транспортов за яхтой гналось — «Аспиды, сперли казну и удрали, сволочи». Уже экипажам оберегаться пули шальной надо. Два миноносца-американца стояли на рейде рядом. Адмирал трубой обвел стреляющих гор край: — Ол райт.— И ушли в хвосте отступающих свор,— орудия на город, курс на Босфор. В духовках солнца горы́ жарко́е. Воздух цветы рассиропили. Наши с песней идут от Джанкоя, сыпятся с Симферополя. Перебивая пуль разговор, знаменами бой овевая, с красными вместе спускается с гор песня боевая. Не гнулась, когда пулеметом крошило, вставала, бесстрашная, в дожде-свинце: «И с нами Ворошилов, первый красный офицер». Слушают пушки, морские ведьмы, у- ле- петывая во винты во все, как сыпется с гор — «готовы умереть мы за Эс Эс Эс Эр!» — Начштаба морщит лоб. Пальцы корявой руки буквы непослушные гнут: «Врангель оп- раки- нут в море. Пленных нет». Покамест — точка и телеграмме и войне. Вспомнили — недопахано, недожато у кого, у кого доменные топки да зо́ри. И пошли, отирая пот рукавом, расставив на вышках дозоры.17
Хвалить не заставят ни долг, ни стих всего, что делаем мы. Я пол-отечества мог бы снести, а пол — отстроить, умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет. Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. Я вижу — где сор сегодня гниет, где только земля простая — на сажень вижу, из-под нее коммуны дома прорастают. И меркнет доверье к природным дарам с унылым пудом сенца́, и поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца. И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенства тормоз, сегодня встают из дня голубого, железом и камнем формясь. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою!18
На девять сюда октябрей и маёв, под красными флагами праздничных шествий, носил с миллионами сердце мое, уверен и весел, горд и торжествен. Сюда под траур и плеск чернофлажий, пока убитого кровь горяча, бежал, от тревоги, на выстрелы вражьи, молчать и мрачнеть, кричать и рычать. Я здесь бывал в барабанах стучащих и в мертвом холоде слез и льдин, а чаще еще — просто один. Солдаты башен стражей стоят, подняв свои островерхие шлемы, и, злобу в башках куполов тая, притворствуют церкви, монашьи шельмы. Ночь — и на головы нам луна. Она идет оттуда откуда-то… оттуда, где Совнарком и ЦИК, Кремля кусок от ночи откутав, переползает через зубцы. Вползает на гладкий валун, на секунду склоняет голову, и вновь голова-лунь уносится с камня голого. Место лобное — для голов ужасно неудобное. И лунным пламенем озарена мне площадь в сияньи, в яви, в денной… Стена — и женщина со знаменем склонилась над теми, кто лег под стеной. Облил булыжники лунный никель, штыки от луны и тверже и злей, и, как нагроможденные книги,— его мавзолей. Но в эту дверь никакая тоска не втянет меня, черна и вязка́,— души́ не смущу мертвизной,— он бьется, как бился в сердцах и висках, живой человечьей весной. Но могилы не пускают,— и меня останавливают имена. Читаю угрюмо: «товарищ Красин». И вижу — Париж и из окон До́рио… И Красин едет, сед и прекрасен, сквозь радость рабочих, шумящую морево. Вот с этим виделся, чуть не за час. Смеялся. Снимался около… И падает Войков, кровью сочась,— и кровью газета намокла. За ним предо мной на мгновенье короткое такой, с каким портретами сжи́лись,— в шинели измятой, с острой бородкой, прошел человек, железен и жилист. Юноше, обдумывающему житье, решающему — сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь — «Делай ее с товарища Дзержинского». Кто костьми, кто пеплом стенам под стопу улеглись… А то и пепла нет. От трудов, от каторг и от пуль, и никто почти — от долгих лет. И чудится мне, что на красном погосте товарищей мучит тревоги отрава. По пеплам идет, сочится по кости, выходит на свет по цветам и по травам. И травы с цветами шуршат в беспокойстве. — Скажите — вы здесь? Скажите — не сдали? Идут ли вперед? Не стоят ли? — Скажите. Достроит коммуну из света и стали республики вашей сегодняшний житель? — Тише, товарищи, спите… Ваша подросток-страна с каждой весной ослепительней, крепнет, сильна и стройна. И снова шорох в пепельной вазе, лепечут венки языками лент: — А в ихних черных Европах и Азиях боязнь, дремота и цепи? — Нет! В мире насилья и денег, тюрем и петель витья — ваши великие тени ходят, будя и ведя. — А вас не тянет всевластная тина? Чиновность в мозгах паутину не сви́ла? Скажите — цела? Скажите — едина? Готова ли к бою партийная сила? — Спите, товарищи, тише… Кто ваш покой отберет? Встанем, штыки ощетинивши, с первым приказом: «Вперед!»19
Я земной шар чуть не весь обошел,— и жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей, — и того лучше. Вьется улица-змея. Дома вдоль змеи. Улица — моя. Дома — мои. Окна разинув, стоят магазины. В окнах продукты: вина, фрукты. От мух кисея. Сыры не засижены. Лампы сияют. «Цены снижены». Стала оперяться моя кооперация. Бьем грошом. Очень хорошо. Грудью у витринных книжных груд. Моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики. Пыль взбили шиной губатой — в моем автомобиле мои депутаты. В красное здание на заседание. Сидите, не совейте в моем Моссовете. Розовые лица. Рево́львер желт. Моя милиция меня бережет. Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо. Очень хорошо. Надо мною небо. Синий шелк! Никогда не было так хорошо! Тучи- кочки переплыли летчики. Это летчики мои. Встал, словно дерево, я. Всыпят, как пойдут в бои, по число по первое. В газету глаза: молодцы — ве́нцы! Буржуя́м под зад наддают коленцем. Суд жгут. Зер гут. Идет пожар сквозь бумажный шорох. Прокуроры дрожат. Как хорошо! Пестрит передовица угроз паршой. Чтоб им подавиться. Грозят? Хорошо. Полки идут у меня на виду. Барабану в бока бьют войска. Нога крепка, голова высока. Пушки ввозятся, — идут краснозвездцы. Приспособил к маршу такт ноги: вра- ги ва- ши — мо- и вра- ги. Лезут? Хорошо. Сотрем в порошок. Дымовой дых тяг. Воздуха́ береги. Пых-дых, пых- тят мои фабрики. Пыши, машина, шибче-ка, вовек чтоб не смолкла,— побольше ситчика моим комсомолкам. Ветер подул в соседнем саду. В ду- хах про- шел. Как хо- рошо! За городом — поле. В полях — деревеньки. В деревнях — крестьяне. Бороды веники. Сидят папаши. Каждый хитр. Землю попашет попишет стихи. Что ни хутор, от ранних утр работа люба́. Сеют, пекут мне хлеба́. Доят, пашут, ловят рыбицу. Республика наша строится, дыбится. Другим странам по́ сто. История — пастью гроба. А моя страна — подросток, — твори, выдумывай, пробуй! Радость прет. Не для вас уделить ли нам?! Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до ста́ расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте, молот и стих, землю молодости. [1927]Комментарии
Впервые полностью[1] напечатана отдельным изданием: М.-Л., ГИЗ, 1927. На следующий год Государственное издательство выпустило поэму вторым изданием (М.-Л., 1928)[2].
Сведения о том, что Маяковский работает над произведением, посвященным десятой годовщине Октябрьской революции, стали появляться в печати уже с февраля 1927 года: об этом сообщил журнал «Новый Леф» во втором номере за этот год. Тогда же дирекция ленинградских академических театров обратилась к Маяковскому с просьбой дать «литературную обработку темы «Октябрь» к десятилетнему юбилею пролетарской революции, как основу для создания спектакля самими театрами. Поэт дал согласие — работа над поэмой «Х-летие Октября» была в самом разгаре. По договору Маяковский должен был сдать материал для постановки Ленинградскому академическому Малому оперному театру 17 июня 1927 года, что и было сделано. Таким материалом был текст теперешних 2–8 глав поэмы, озаглавленных — в соответствии с заданием театра — «25 октября 1917». Этот текст без изменений вошел в поэму «Хорошо!». В течение июня-августа того же года были написаны 9–19 главы, а затем первая глава, содержащая своеобразный литературный манифест поэта.
В соответствии с замыслом первоначально произведение называлось «Октябрь», затем это заглавие было заменено на «25 октября 1917»; с таким заглавием был сделан набор первого отдельного издания и подготовлена обложка к нему. 26 августа 1927 года Маяковский телеграфировал из Ялты: «Сообщите Госиздату название Октябрьской поэмы Хорошо. Подзаголовок Октябрьская поэма». Поэма вышла в свет с новым названием, художественно точно отразившим ее содержание, ее пафос, ее эстетическую концепцию.
Поэма по первоначальному замыслу делилась на 3 части: гл. 2–8 — соответствовали первой части, 9–17 — второй, а последние 2 главы, 18–19, — третьей, заключительной части. В той же телеграмме, где говорилось об изменении заглавия поэмы, автор дал указание: «Частей не делать. Дать отдельным стихам порядковую арабскую нумерацию». Однако внутреннее деление «на части» осталось в поэме, и это связано не только с конкретными условиями создания поэмы, но со всей художественной структурой ее.
Меняя заглавие поэмы, Маяковский просил и переставить последние две главы: 18 и 19. Первоначально поэма заканчивалась теперешней 18-й главой; изменившемуся замыслу («Октябрь» — «25 октября 1917» — «Хорошо!») соответствовало заключение, в котором авторская позиция была выражена более обнаженно.
Черновики поэмы, сохранившиеся в записных книжках поэта, хранят следы его работы над стилем и языком произведения. «Тысячи тонн словесной руды», потраченные в поисках «единого слова», наиболее точного и совершенного образа, потрясают громадой усилий, труда, вдохновения.
Я землю эту люблю. Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы, но землю, с которой вдвоем голодал,— нельзя никогда забыть!Вот как рождалась только первая строка их:
Я эту землю люблю —так было написано в первом варианте, затем фраза была исправлена на:
Я землю эту люблю.Зачеркнув эту строку, поэт написал:
Я землю вот эту люблю.Затем вновь вернулся ко второму варианту, который и стал окончательным.
В автобиографии «Я сам», в главе «1927-й год» Маяковский писал: «Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо». «Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени».
Поэма действительно создавалась наряду с «основной работой» — с поэтическим служением сегодняшней злободневности: в тот же период Маяковский написал около 30 стихотворений, из которых многие, ставшие классическими образцами литературы социалистического реализма, связаны идейно-тематически и приемами «обработки материала» со «сверхурочной работой» поэта — с его Октябрьской поэмой.
В процессе создания поэмы существенные изменения претерпел и ее замысел. Поэма «Хорошо!» родилась в контексте всего творчества поэта, была подготовлена и обусловлена им. В ней в новом качестве зазвучали образы, удачно найденные в первой послереволюционной поэме Маяковского «150 000 000».
Несомненна идейно-тематическая связь поэмы «Хорошо!» с поэмой «Владимир Ильич Ленин»; и в том и в другом произведении поэт стремился воссоздать исторический смысл великой революции, показать героическую историю своего народа, взятую в самых существенных своих проявлениях: в свершении Октябрьской революции (25-е, «первый день»), гражданской войне, рождении социалистического государства. Произведения, созданные почти одновременно, в самый плодотворный период творческой жизни поэта, объединяет идейная зрелость и совершенство поэтического мышления. Развивая многие мотивы и поэтические приемы монументального эпического произведения, каким является поэма о вожде, Октябрьская поэма явилась новым этапом в поэтической биографии Маяковского.
В том же разделе автобиографии, в котором говорится о «сверхурочной работе» над «Хорошо!», поэт выступает «против выдумки, эстетизации и психоложества искусством — за агит, за квалифицированную публицистику и хронику» (таково было одно из требований «литературы факта», занявшей определенное место в эстетических взглядах Маяковского периода создания «Хорошо!») и предлагает «приемы для обработки хроникального и агитационного материала»: «Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»), введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»). Буду разрабатывать намеченное».
В апреле 1927 года в беседе с сотрудником газеты «Прагер пресс» Маяковский сообщал: «Я работаю над двумя пьесами: над «Комедией с убийством»… и над эпической поэмой к десятилетию революции».
В черновом автографе поэма «Хорошо!» начиналась иначе:
Эпос времена и люди дни и солнце — эпос эпоса не видеть слепо я ни эпосов не делаю ни эпопей. Телеграммой лети, строфа! Воспаленной губой припади и попей из реки по имени — «Факт».Это начало сохранилось и в машинописном варианте поэмы и было изменено лишь на последнем этапе работы, в корректуре первого отдельного издания. «Хорошо!» — это эпос нового качества, в основе которого лежит лирическое самосознание поэта — человека революции, ее «свидетеля счастливого» и ее участника.
После страстного призыва — «воспаленной губой припади и попей из реки по имени — «Факт» — следовали во вступлении к поэме слова такой же страстной поэтической силы, как приведенные выше:
Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем.Эти слова родились одновременно с замыслом поэмы и никогда не менялись.
В поэме Маяковский рассказал о том, что было «с бойцами», «страной» и в «его сердце», не разделяя одно от другого, а претворив все это в сплав предельной художественной достоверности.
Задолго до выхода в свет отдельным изданием поэма Маяковского стала известна читателю. И не только по отрывочным публикациям. Как это бывало уже не раз, поэт вышел с нею на аудиторию с устным чтением, считая это лучшим испытанием на прочность для своего нового произведения. Как и позднее, по выходе в свет, в литературной среде поэма в первых чтениях не получила полного и единодушного одобрения не только по причине своей поэтической новизны, непривычной читателю, но и в силу сложных, даже враждебных советскому строю тенденций, еще встречавшихся в литературно-общественной среде того времени. Таков был трагический парадокс судьбы этого самого искреннейшего, самого вдохновенного произведения поэта. Поражало невероятное упорство и мужество, с которыми поэт пытался преодолеть и уже в те годы преодолевал это «непонимание».
Спустя месяц после первого чтения поэмы, состоявшегося 20 сентября 1927 года, поэт выступил с публичным чтением своего нового произведения в Красном зале Московского комитета партии. В информации об этом чтении газета «Рабочая Москва» подчеркивала, что «поэт не просто пришел прочесть свою новую поэму, но хотел получить ответ от партийного середняка — агитпропщиков и т. д. — понятна ли и насколько понятна поэма, дает ли она в целом широким читательским кругам то, что нужно сейчас». Поэт получил, в общем, положительный ответ на этот вопрос: «В принятой собранием резолюции поэма В. Маяковского «Хорошо!» в ряде других произведений советской литературы, — говорилось в той же информации в газете, — рассматривается как шаг вперед и заслуживает использования ее в практической работе как средства художественной агитации». Начиная с этого времени, несмотря на нападки врагов и полемические передержки, поэма триумфальным шествием прошла по стране. Поэму в исполнении автора «слушали многие города: Москва — более 20 раз; Ленинград — около 10 раз; Баку, Ялта — по 7 раз; Ростов и Тифлис — по 4 раза, Одесса, Киев, Днепропетровск, Свердловск, Вятка — по 3 раза» и т. д., — свидетельствует П. Лавут, организатор публичных чтений Маяковского. Победа автора «Хорошо!» была в том, о чем говорил Луначарский уже тогда, защищая поэму: «В рабочей аудитории <она> стяжает аплодисменты».
В 1930 году, незадолго до смерти, выступая на вечере, посвященном 20-летию своей поэтической деятельности, Маяковский сказал: «Я прочту еще отрывки из поэмы «Хорошо!», написанной к десятилетию Октябрьской революции. Мне бы хотелось, чтобы эти стихи не потеряли своего значения и дальше».
Еще при жизни автора поэма получила большую известность и за рубежом: в 1928 году ее перевел польский поэт Владислав Броневский (журнал Dz’evigina»,1928, № 7; стр. 8–10). В 1930 году поэма частично была опубликована в переводе на французский («Mercure ge France», Paris, 1930, 15 April, p. 440) и венгерский (журнал «Sarló és kalapács», Moskwa, 1930, № 7, old 63) языки.
Широкое мировое признание поэма «Хорошо!» получила после окончания Великой Отечественной войны: начиная с 1945 года до сегодняшнего дня произведение Маяковского неоднократно выходило в переводах на албанский, английский, арабский, бенгальский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, румынский, сербо-хорватский, словацкий, словенский, финский, французский, чешский, японский языки[3].
Гучков А. И. (1862—.1936) — крупный капиталист, организатор и лидер реакционного «Союза 17 октября» (партия октябристов), военный и морской министр буржуазного Временного правительства. После Октябрьской социалистической революции активно боролся против Советской власти; белоэмигрант.
Родзянко М. В. (1859–1924) — крупный землевладелец, видный деятель партии октябристов. Возглавлял комитет Государственной думы. Один из организаторов «корниловщины». В 1920 году эмигрировал из России.
Керенский А. Ф. (1881–1970) — эсер, был министром, а затем возглавлял буржуазное Временное правительство. После Октябрьской социалистической революции бежал за границу. Проживал в США и вел антисоветскую пропаганду.
…в кровати, царицам вверенный, раскинется какой-то присяжный поверенный. — Здесь и далее Маяковский дает ироническую характеристику А. Ф. Керенского — типичного левобуржуазного деятеля Февральской революции 1917 года в России. По профессии Керенский — адвокат (присяжный поверенный); будучи премьером, выполнял обязанности министра юстиции буржуазного Временного правительства.
Несмотря на гротескные преувеличения — в целях типизации — Маяковский, воссоздавая этот образ в поэме, был близок к реальному лицу — сходные характеристики Керенского сохранились в воспоминаниях его современников, а также в художественных произведениях (например, в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина»).
…в Лондон, к королю Георгу. — Английский король Георг V был двоюродным братом Николая II.
…мадам Кускова… Милюков… — Кускова Е. Д. (1869–1958) — деятельница либерально-буржуазной партии конституционалистов-демократов (кадетов) в Петербургской городской думе; Милюков П. Н. (1859–1943) — организатор и лидер этой партии; министр иностранных дел буржуазного Временного правительства.
…штабс-капитан Попов… — Существует предположение, что в этом образе отразились реальные черты штабс-капитана Попова, служившего начальником автомобильных складов при Петербургской таможне. Маяковский был знаком с ним, когда служил в Петербургской военной автомобильной школе (В. Ф. Земсков. Река по имени «Факт». В сб. «Поэма Маяковского «Хорошо!», М., 1958, стр. 184).
«Селект» — гостиница в Петрограде.
Каледин А. М. (1861–1918) — контрреволюционный казачий генерал, руководитель белогвардейского мятежа на Дону в 1917–1918 годах.
Лашевич М. М. (1884–1928) — член Военно-революционного комитета, который возглавлял захват почты, телеграфа и телефона во время Октябрьского вооруженного восстания.
Антонов — Антонов-Овсеенко, Владимир Александрович (1883–1939), Подвойский, Николай Ильич (1880–1948) — члены Военно-революционного комитета. Антонов объявил низвергнутым Временное правительство.
…бочкаревские дуры… — «женский батальон смерти», защищавший буржуазное Временное правительство. Названы по имени организатора батальона — Бочкаревой М. В.
Прокопович С. Н. (1887–1955), Коновалов А. И. (1875–1948) — министры Временного правительства.
Товарищ Подвойский сел в машину, сказал устало: «Кончено… в Смольный». — Как и во всей поэме, в поэтическом рассказе о событиях Великой Октябрьской социалистической революции Маяковский строго следует фактам, почерпнутым из разного рода литературных источников: газет, воспоминаний участников революции и т. п. Но в первую очередь он опирается на собственные «поэтические» впечатления и те задачи («сверхзадачи»), которые он, художник, ставил перед собою. Установлено, например, что в главе, посвященной взятию Зимнего, поэт использовал воспоминания В. А. Антонова-Овсеенко, Н. И. Подвойского, а также бывшего министра Временного правительства П. Малянтовича. Существуют воспоминания современников Маяковского, в которых рассказано о том, что Н. И. Подвойский, прослушавший эту главу в чтении автора, заметил ему, что он не мог сказать «Кончено…», когда революция только началась. Маяковский должен был принять эту поправку и при чтении поэмы иногда заменял эту строку на: «К Ленину! В Смольный!» Поэт включил эту поправку в перечень исправления опечаток 1-го издания поэмы, однако во всех прижизненных публикациях строка печаталась так, как она была написана в первом творческом варианте, в соответствии с художественной логикой произведения.
«Здравствуйте, Александр Блок…» — В статье-некрологе «Умер Александр Блок» (1921) Маяковский рассказал о встрече с ним: «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли». Этот эпизод почти без изменений вошел в поэму «Хорошо!». Еще в 1915 году Маяковский свидетельствовал свое восхищение Блоком: на книге «Облако в штанах», подаренной поэту, он написал: «А. Блоку — В. Маяковский. Расписка всегдашней любви к его слову». В цитированной статье Маяковский был более близок к исторически оправданному представлению о Блоке: «Творчество Блока, — писал он тогда, — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого… Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы…»
Ходят спекулянты вокруг Главтопа… «Цены снижены»… Мои депутаты… — В этом эпизоде поэмы, как и во многих других, отразились реальные факты жизни страны тех лет.
В мае 1921 года газеты сообщали о судебном процессе по делу Главтопа, привлеченного в связи со спекулятивными махинациями. Маяковскому было особенно знакомо и памятно это дело, потому что Главтоп помещался в доме № 3 по Лубянскому проезду, в котором жил поэт.
В феврале 1927 года в газетах было объявлено о первом снижении цен на промышленные товары.
В том же месяце в стране в торжественной обстановке проходили выборы в Советы (см. статью В. Ф. Земскова в сб. «Поэма Маяковского «Хорошо!», стр. 192–205).
Мы не Филипповы… — то есть не знатные, не богатые. Филиппов — владелец многих московских булочных и кондитерских.
Зунделович — владелец частной столовой в доме Стахеева Н. Д., где жил Маяковский.
Красин, Леонид Борисович (1870–1926) — первый посол СССР во Франции.
Дорио, Жак — французский политический деятель, предатель рабочего класса, перешедший в лагерь фашизма.
А. КрюковаПримечания
1
До публикации отдельным изданием поэма в отрывках, по мере написания, печаталась в периодических изданиях, начиная с июня 1927 года (в журналах: «Новый Леф», «Красная новь», «Молодая гвардия»; газетах: «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Ленинградская правда» и др.).
(обратно)2
Это было последнее издание поэмы, в котором автор принимал участие.
(обратно)3
Сведения приводятся по материалам Государственного музея В. В. Маяковского.
(обратно)
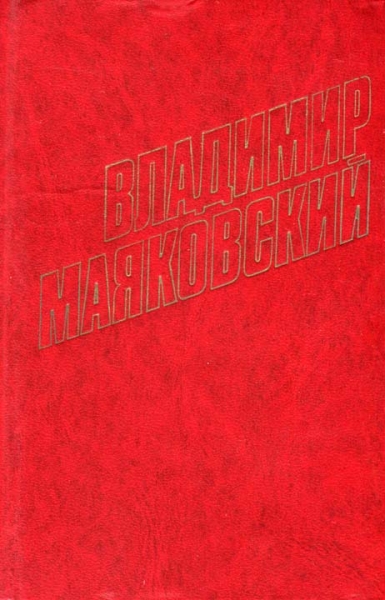


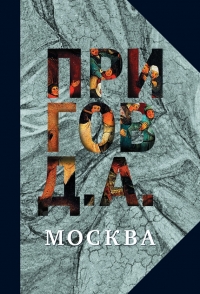

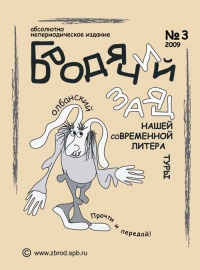

Комментарии к книге «Хорошо!», Владимир Владимирович Маяковский
Всего 0 комментариев