Сергей Эмильевич Таск Осенний разговор
Теза
«Я перед вами виноват…»
Я перед вами виноват,
зацветший пруд и тонкий колос:
никак мой своевольный голос
звенеть не хочет с вами в лад —
я перед вами виноват.
Пора во всем сознаться мне:
простите, облака и птицы,
мне что-то нынче не летится,
знать, руку отлежал во сне —
пора во всем сознаться мне.
И ты, Отец, меня прости:
хоть это труд, конечно, адов —
плодить людей, и рыб, и гадов,
но нам опять не по пути,
уж ты, Отец, меня прости.
Вся жизнь – на кончике пера,
и для того, кто понял это,
зима перетекает в лето
и с небом шепчется гора.
Вся жизнь – на кончике пера.
И в час исхода встретят нас
пруд, колос, облака и птицы,
и в этот час нам все простится,
а мы простимся в этот час
с собой – чтоб возродиться в вас.
«Хранить черновики – нечистоплотно…»
Хранить черновики – нечистоплотно,
как не снимать белья в разводах пота.
Измятый листик, отслужив свое,
не лучше, чем измятое белье.
Чем обнародовать издержки кухни,
на чистую бумагу деньги ухни,
затем чтоб лист, до жути голый, вновь
и душу растравил и вспенил кровь.
Превращение
Значит, так.
Выйдет человек с виолончелью и сядет на стул.
Особые приметы: голый череп, как бы составленный
из двух полусфер, тонкая переносица, очки.
Когда волнуется, выпячивает нижнюю губу.
Зажав виолончель между колен, он полезет в боковой
карман фрака и, достав носовой платок, вытрет им
сначала лоб, а затем гриф инструмента.
В перерыве между частями порядок будет обратным —
гриф, потом лоб.
Когда дирижер сделает знак, произойдет следующее:
Человек обхватит лапками стебель виолончели, белым
брюшком касаясь бархатной поверхности, а спину
выгнет так, что хитиновый панцирь фрака, плотно
облегающий сзади, станет переливать всеми
оттенками, от иссиня-черного до ультрамаринового,
а кончики крылышек-фалд затрепещут
от нетерпения.
Жук сомкнет – не раскроешь – железные челюсти и как
одержимый начнет раскачивать тонкий стебель,
быстро-быстро перебирая его мохнатыми лапками.
И застонет стебель и сбросить захочет своего
мучителя – и не сможет, его жалобный голос будет
отныне то теряться в согласном хоре ковыль-травы,
то прорываться во время затишья перед новым
порывом ветра, и западет он вам в душу, этот
человеческий голос.
Ростропович играет Дворжака.
Размолвка
Не плачь втихомолку,
я сам как убитый:
смешная размолвка,
смешные обиды.
«Ну, ты же большая», —
твержу, как младенцу,
и тушь вытираю
углом полотенца,
и робко, немея,
касаюсь затылка,
и вижу – на шее
пульсирует жилка.
Молчишь… взгляд невидящ
и дрожь подбородка.
Ты встанешь и выйдешь
нетвердой походкой.
Послышится кранов
фальцет медяковый,
ты, в зеркало глянув,
расплачешься снова.
Не надо, не трогай
круги под глазами,
они не от бога —
от ссор между нами.
Забудется ссора,
разгладятся лица…
Рассвет уже скоро,
сейчас бы забыться,
но кто-то, злословя,
мне шепчет на ухо:
«Родные по крови,
чужие по духу».
«В глазах стояло: руку протяни…»
В глазах стояло: руку протяни,
Ты – боль моя, последняя лазейка…
В ответ летела медная копейка.
Или́, Или́! лама́ савахвани́? [1]
Мать – в плач: «Война, сыночка мне верни,
Шальная пуля, обойди сторонкой…»
А утром приходила похоронка.
Или́, Или́! лама́ савахвани́?
Не мучай, прокляни – не прогони.
А сам стою и все чего-то медлю…
Ну, вот и кончено, теперь хоть в петлю.
Или́, Или́! лама́ савахвани́?
Отпевание Владимира Набокова
Сыграл под абсурдинку и – на боковую,
к концу не испытав приязнь.
И мнилось – кто-то пел за стенкой аллилуйю,
как приглашение на казнь.
Не бабочек, но жизнь ты, лепидоптеролог,
ловил, бросаясь на сучок.
Ведь сколько в махаонов ни вонзай иголок,
поймаешь сам себя в сачок!
Гранитный Петербург, воздушный Сан-Франциско…
Рискуя совершить faux pas,
по-русски, по-французски, по-английски
петляла без конца тропа.
Петляя и кружа, она вела в Россию,
даря прозренье слепоты,
чтоб детских лет фантом, предвестник ностальгии,
взрастил чудесные цветы.
Прозренье? Да. Презренье? Да, и это.
Но главный все-таки итог
в том, что живая речь, услышав зов поэта,
к нему бросалась со всех ног.
За этот мир, за этот луч, мелькнувший
в твоем волшебном фонаре,
в последний вечный путь страдальческую душу
проводим взглядом, взор подняв горе́.
Фантазия
Отдаться, не разжавши губ!
Он не казался груб,
но не был люб.
Печали,
в глазах стоявшей, он внимал,
как душу вынимал,
но понимал
едва ли.
Чтоб в изголовье телефон
не поднял вдруг трезвон,
снял трубку он,
но зуммер
звучал, как приговор судьи.
Ах, как бы дух в груди,
того гляди,
не умер!
Ах, эта ночь и тишина!
Как патина, темна
и холодна,
как мрамор,
шагренью кожа под рукой
сжималась. Был такой
он взят тоской,
что замер.
И вспомнил, как давным-давно
привиделось окно,
освещено
луною,
и наважденья колдовство
измучило его
все существо
больное.
Холодный блеск в ее глазах
вернул тот прежний страх,
тогда впотьмах
перед иконой
он чиркнул спичкой, и на миг
явилась стопка книг
и строгий лик
Мадонны.
Простоволоса, без прикрас,
Мадонна скорбных глаз
с него сейчас
не сводит.
Весь вид ее его корит,
а спичка всё горит,
и черный стыд
нисходит.
Взгляд, волосы, овал лица,
лоб как из-под резца…
Всё до конца
вдруг вспомня,
он спичку выронил, и свет
исчез, как в сердце след.
Потери нет
огромней.
«Мадонна, первая любовь, —
шептал он вновь и вновь, —
не уготовь
конца мне,
чтоб образов былых наплыв
рассудок мой в обрыв
смёл, придавив
как камни!»
Тут он очнулся. Сквозь стекло
дошло зари тепло
и унесло
виденье.
Из трубки, сползшей с рычагов,
неслось, как жуткий зов
иных миров,
гуденье.
«Опалиха, Павшино, Тушино, Стрешнево…»
Опалиха, Павшино, Тушино, Стрешнево…
Горят облетевшие листьях в бороздах.
Как вальс, на три счета, ритм поезда здешнего
И, как одиночество, призрачен воздух.
Бессонницей ночью тянуло из форточки —
Опять домовые куражились в жэке.
И свет у кровати садился на корточки,
Заглядывая под прикрытые веки.
Ей было за тридцать, ребенок и прочее.
Он канул в ночи, как все гости, однако…
Однако рассыпать пора многоточие,
Коль нет под рукой целомудренней знака.
Рассвет приговор приведет в исполнение,
И чай будет медленно стынуть в стаканах,
А блики сиротских пейзажей осенние —
На окнах лежать, как на гранях стеклянных.
«Деревня будит город…»
Деревня будит город,
и вновь, как и вчера,
поскрипывает ворот
под тяжестью ведра.
И пусть на хорах мглисто,
проснуться мог бы слух,
настолько голосисто
заходится петух.
Но город куролесил
всю ночь, он изнемог,
он окна занавесил
и спит без задних ног.
Он, точно старец древний,
вовсю храпит, злодей,
и окликов деревни
не слышит, хоть убей.
Залез под одеяло,
смотря десятый сон,
ему и горя мало,
и знать не знает он:
тем, кто сейчас рискует
покинуть свой ночлег,
кукушка накукует
Мафусаилов век.
«Уходя уходи…»
Уходя уходи. Ни себя, ни других
не жалей и не мучай по старой привычке.
Самолично – без помощи – спарывай лычки
и меняй – добровольно – пшеницу на жмых.
Уходя уходи. Раз такая судьба,
гвоздь, вколоченный намертво, вырви клещами.
Не давай себя за руки брать на прощанье —
может статься, окажется жилка слаба.
Уходя уходи. Из насиженных мест,
от насаженных собственноручно сосёнок.
Натяженье крест-накрест непрочных тесемок
на дорожной суме – чем, скажите, не крест?
Уходя уходи. Не вини никого
в том, что вдруг обернулся избой на отшибе.
Не искать же сомучеников по дыбе,
не делить же свое золотое вдовство!
Уходя уходи. И на стол не клади
ни бумаг черновых, ни предсмертной записки.
Пусть наврут, что хотят, а тебе – путь неблизкий.
Уходя уходи… Уходя уходи…
32 – 17
32 – 17
сумерки души
до конца Неглинной
дальше мимо цирка
желтый мой рогалик
брось, не мельтеши
зацепить недолго
ведь идем впритирку
32 – 17
попадешь в висок?
через Самотёку
и все время прямо
каждому воздастся
дайте только срок
то ли воздух прелый
то ли звезды пряны
32 – 17
мертвые зрачки
мост переезжаем
и у той церквушки
а за жизнь спасибо
вот вам пятачки
и десяток двушек
пригодятся двушки
Хирбет-Кумран
Пел
голос пустынь
Как
детям поем:
Всё
пыль и полынь
Бог
в сердце твоем.
Тлел
огненный куст
Дождь
манну месил
Так
рек Златоуст
Рек
будто просил:
В храм
ты не ходи
Не
это твой дом
Взор
вглубь обрати
Бог
в сердце твоем.
Не
Тор, не Ваал
Не
Яхве, не Тоот
На —
чало начал
Ис —
хода исход.
Жги,
истина, ложь
Ночь
сменится днем
Ты
скоро поймешь
Бог
в сердце твоем.
Двенадцатый
Бедный Иуда!
«Иисус Христос – суперзвезда»
Сыграть мистерию о Сыне
пришло назначенное время,
и гибкость дал Господь осине,
чтоб вынести ей это бремя.
И, облегчая долг Сыновний,
одиннадцатерых отсеяв,
определил Он Сыну ровню,
храбрейшего из иудеев.
И Он поднес – еще до пыток,
до Гефсимана и Кайифы —
ему отравленный напиток
и смысл открыл иероглифа.
Сказал: «Погибнешь за идею?»
«Все проклянут, – сказал, – запомни».
И тот ответил, холодея,
ответил взглядом: «Да, исполню».
И крест свой, как потом Спаситель,
понес, под тяжестью шатаясь,
и все шептал: «Прости, Учитель»,
и – «Он велел», и – «Каюсь, каюсь».
Но ты был слишком предан вере,
чтоб не суметь прогнать сомненья,
и лишь однажды, на вечере,
глаза потупил на мгновенье.
Но час настал, и ты – не слизни! —
поставил, как велело Слово,
конец Его короткой жизни,
а с ним начало жизни новой.
Ты мог не подходить так близко,
чтоб жертву выдать римской страже,
мог вычеркнуть себя из списка,
к Нему не прикоснувшись даже,
так безопасней да и проще,
но нервы расшалились, что ли,
и ты Его целуешь в роще
из тамарисков и магнолий…
Предать! – нет большего искуса.
Простить! – нет жертвеннее чуда.
Иуды нет без Иисуса.
Нет Иисуса без Иуды.
Катехизис
Помянем рабов божиих, на поле брани
в Афганистане убиенных.
В боге, посылающем на войну, узнаём всесильного военкома.
В ветре, пытающемся вдохнуть жизнь в убитого, узнаём
беспомощного бога.
Функции розовых очков выполняет в старости глаукома.
Чем отвратительней зрение, тем выигрышней дорога.
Скоротать дорогу помогает походный марш.
Под левую лучше поется, но плачется лучше под правую.
В танке погибла лошадь, знамя возродило плюмаж.
Свои люди сочтутся – безумием, если не славою.
Расчет на «первый-второй» рассчитан на дураков.
По одежке когда-то встречали, по уму провожают ныне.
Многим, наверно, кажется, что до границы подать рукой.
Многие еще пожалеют, что не полегли в пустыне.
«Положила на плечи руки…»
Положила на плечи руки,
посмотрела куда-то мимо…
– Как тебе дышалось в разлуке,
мой любимый?
Все как будто лежит на месте,
так привычно и так щемяще…
– Я и ждать не ждала известий,
мой пропащий.
А за синей рекой раздолье,
а за лесом лужок не скошен…
– Как тебе гулялось на воле,
мой хороший?
Ни слезиночки, ни полслова,
лишь откинула одеяло…
– Отсыпайся, постель готова,
мой усталый.
«Плачет женщина, слез не стесняясь, глаза в пол-лица…»
Плачет женщина, слез не стесняясь, глаза в пол-лица,
плачет женщина, плачет, закушены губы до крови,
в угловатой фигурке сквозит ощущенье конца,
как в защитном валу осажденной ахейцами Трои.
Расстегнулась заколка, и прядка упала на лоб,
не таясь потекла по щекам боевая раскраска…
Так подводят черту, так дописывают эпилог,
так в старинной трагедии вдруг наступает развязка.
Плачет женщина, и лишь одно различимо сквозь стон:
«Ну за что ты меня!» – нескончаемая литания.
От Путивля до Вологды эти слова испокон
вырывались у женщины, имя которой Россия.
И опять потянуло дымами – мосты сожжены,
и опять белый свет перечеркнут и набело начат.
Плачет женщина где-то… и вновь это чувство вины,
всякий раз это чувство вины, когда женщина плачет.
Последняя песня Владимира Высоцкого
О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе,
таков мессия.
Л. Вознесенский
А над гробом стали мародеры
И несут почетный караул.
Л. Галич
Звонок. Последний. В зале лампы,
как мухи, облепили потолок.
«Ваш выход». – Я уже у рампы
и роль свою я знаю назубок.
Когда, захлебываясь ядом,
последний выпад сделает Лаэрт,
схвачусь за бок и рухну рядом,
как будто это в самом деле смерть.
Нет! Я не дам себе поблажки.
Эй вы, сегодня гибну я всерьез!
В ответ хрустят конфетные бумажки,
и кто-то прочищает нос.
А я срываю крест нательный,
уже сколочен, знаю, крест иной.
Душа моя скорбит смертельно,
побудьте здесь и бодрствуйте со мной
хоть час, хотя бы до рассвета,
ведь на миру и смерть красна…
Но вас лишь запахи буфета
сейчас могли бы вытряхнуть из сна.
Не надо ваших мне оваций,
зрачки бы только не были пусты —
но нет, до вас не докричаться,
хоть глотку надрывай до хрипоты.
К кому я вышел? К торгашам и снобам,
пришедшим поглазеть на блатаря.
Не эти ли потом пойдут за гробом
и пленочку поставят втихаря?
Не эти ли… Но вдруг качнулась люстра…
Ну, видите: по рукоять в живот!
Аплодисменты. «Вот оно, искусство».
«Вставай, вставай, до свадьбы заживет».
Я остаюсь лежать на сцене,
по полу растекается пятно.
А в зале свет. Захлопали сиденья.
От упырей в глазах темным-темно.
«Не эти залихватские частушки…»
Ржавая вывеска: Русь.
В. Набоков
Не эти залихватские частушки,
не наскоро беленые церквушки
и не крикливый псевдорусский сказ,
не кружева и хохломские ложки,
не балалайки, тройки и матрешки,
не сладкий сбитень и не кислый квас,
не эта вся развесистая клюква,
где дух с успехом заменяет буква,
как синтетический покров – траву,
а колесо той брички бестолковой,
которое, пока нелживо слово,
всё катится и катится в Москву.
Рождественская открытка
Мой стародавний друг, пропащая душа,
ужасно тороплюсь, чтоб опустить шестого —
рукой уже подать до Рождества Христова.
Отвык я от тебя, так долго не пиша.
Ну, что тебе сказать? Похвастать вроде нечем,
все нынче не в ладу ни с миром, ни с собой,
но как же сладостно, когда предмет иной
вдруг голосом тебя окликнет человечьим.
Не только что писать – тут боязно дышать,
и жутко и легко от этого соседства.
…Свеча и зеркало… перед тобою детство…
Родиться – умереть – воскреснуть – воскрешать
отныне и вовек, без суетного страха,
приемля тишину и эту снеговерть,
и мудрость обрести, и под ногами – твердь,
как некогда обрел ученый сын Сираха.
О чудо, исцелить от полной слепоты!
Как откровение, всего во всем согласность.
Когда бы ощутил я здесь свою причастность,
ее бы в тот же миг вдруг ощутил и ты,
мой тезка, мой двойник до рокового вздоха.
И ты сейчас не спишь и держишься едва,
мучительно ища такие же слова
и в этом, как и я, преуспевая плохо.
Здесь и пейзаж точь-в-точь, хоть и зовется Йель.
Как все повторено, как это все знакомо!
Я мог бы здесь себя почувствовать как дома,
когда бы так не пахла наша ель.
«Могу ли я…»
«Могу ли я…» – «Уехал он». – «Надолго?» – «Навсегда».
И горло как петлей перехватило.
Еще один уходит по дороге в никуда
искать иное, лучшее светило.
Постойте, заклинаю вас, ну что вы, так нельзя!
Среди вещей, пропущенных таможней,
ни голосов, ни лиц, ни трав, ни воздуха, друзья,
без этого уехать невозможно.
А сколько недодумано, недоговорено.
Пока вы не разрубите канаты,
одни у нас и нервы, и дыхание одно.
Но вот уже на части все разъято,
и вот себе уж места не находишь ты с утра,
какая навалилась вдруг усталость!
И кажется, что ногу отхватили до бедра —
нет вроде бы ноги, а боль осталась.
Наверное, все правильно, вам будет лучше там:
уютней, легкомысленней, вольготней.
Что ж, не в обиде мы, уж как-нибудь придется нам
самим отбиться здесь от «черной сотни».
Так значит, вы надумали? Ну что же, в добрый путь.
Вот горсть земли – возьмите на прощанье.
Пусть рядом кто-то бросил зло, чтоб побольней лягнуть,
обидные слова при расставанье:
что нашему забору вы двоюродный плетень,
что за «любовь» отплатим мы «любовью»,
дай бог вам – в Сан-Франциско ли, в Париже ль – ясный день,
и дай нам бог ненастье в Подмосковье.
«Потрескивал ледок, поблескивал репейник…»
Потрескивал ледок,
поблескивал репейник.
Мне шел осьмой годок,
я был большой затейник.
С седьмого этажа
крючком я не однажды
выуживал, дрожа,
береты честных граждан.
Как в лужи мы карбид
им под ноги роняли!
«Догоним – будешь бит».
Так ведь не догоняли.
Сменялись короли,
и выбивались стекла,
а годы… годы шли,
и детство блёкло, блёкло.
И вот, очнувшись вдруг,
осознаешь с испугом:
всё так же тесен круг,
но ты уже за кругом.
Трещит себе ледок,
блестит себе репейник…
Сынку осьмой годой,
большой растет затейник.
«С асфальта как с гуся вода…»
Как легко быть счастливым… всего-то и надо,
чтоб сосулька – бабах! – оторвалась от портика,
чтобы вспомнилось слово «хламидомонада»,
и еще лист бумаги – набрасывать чертиков.
Как легко быть счастливым… всего-то и надо,
чтоб старушка старушке сказала «Ты поняла?»,
чтоб сосед за стеной хохотал до упаду,
чтоб ворона кого-то опять проворонила.
Ах, легко быть счастливым… всего-то и надо,
что сгореть чудотворною свечкою заживо.
И – земли пятачок, отделенный оградой
от бескрайней земли, по которой ты хаживал.
«С асфальта как с гуся вода…»
С асфальта как с гуся вода,
в потёках стена.
Ну вот и весна, господа!
Ну вот и весна!
Не будет, поверьте, мадам,
большого греха,
Верни вы сейчас соболям
собольи меха.
За вами, смотрите, как встарь,
юнцы косяком.
Давай, гимназисточка, шпарь
теперь босиком!
Какая же, право, теплынь,
вот это апрель!
Пьянящая эта полынь,
и эта капель…
И шумен опять Разгуляй:
зонты, котелки…
Держи, брат, целковый «на чай».
А ну, рысаки!
Ах, этот серебряный бег!
Какая езда!
На месяц? На годы? На век?
Да нет, навсегда.
«Свиданье с вечностью, от двух до четырех…»
Свиданье с вечностью, от двух до четырех,
в заветном уголке Серебряного бора,
когда отшелестят на дачах разговоры
и отзвенит в ушах дневной переполох.
С природой выдохнуть и сделать новый вдох,
и с легкостью, как тень, шагнув через заборы,
незримо набежать на этот вечный город,
где вечен и ты сам пребудешь, дай то бог.
«Не дай то бог!» – кричу. Напрасно, мир оглох,
и эхо слов моих ушло в земные поры.
Так, значит, навсегда, согласно приговору?
Как сосны, и трава, и плеск воды, и мох?
Но, к счастью, мрак ночной вдруг, точно струп, отсох,
и выявилось все, от фауны до флоры,
и это был конец чистейшего мажора,
спугнувший всех ворон, откормленных дурех.
Фельдъегерская элегия Александру Сергеевичу
Пушкин родился в первопрестольной Москве и скончался в северной нашей столице, каковой жизненный путь его собственной рукою описан в заметках «Путешествие из Москвы в Петербург».
«Русские ведомости» за 1847 год
Покидая пункт А, неминуемо станешь пророком,
понимая уже, что пункт Б – твой единственный шанс,
и, наскуча почтовой каретою, тесной как кокон,
с облегченьем вздыхаешь, в поспешный садясь дилижанс.
За Тверскою заставой, ездой убаюкан, задремлешь
и, очнувшись, признаешь не тотчас же Черную Грязь,
и какая-то сила погонит наружу затем лишь,
чтоб взглянуть на гнедого, терзающего коновязь.
Кликнув конюха, скажешь, что надо ослабить уздечку,
подорожная выправлена, можно трогаться в путь.
Ну как прямо сейчас и махнуть мне на Черную речку?
Ведь исход предрешен, не четыре же года тянуть!
А с другой стороны, не судиться же с будущим веком,
ожидающим, чем я окончу восьмую главу…
И, рукою махнув, раскрываешь ты свой вадемекум,
с буквы ять, «Путешествие из Петербурга в Москву».
А в пути и в тюрьме всякой книге, как божьему дару,
надо радоваться, здесь тем более вам не пустяк:
вот и кукиш в кармане, стреляющий по государю,
или, скажем, прелестный пассаж о рекрутских страстях.
За окошком идиллия, куры сидят на насестах,
и бездумная мысль упреждает понятие штамп ,
речь о вяземских пряниках и о московских невестах
иль о белом стихе, что заменит когда-нибудь ямб.
Ну а после хитро так нанижется слово на слово,
что одни, не умея зерно отделить от плевел,
заблажат – мол, опять этот вор посягнул на основы,
а другие присвистнут – смотрите, как он поправел!
Заварю эту кашу, пускай моя песенка спета,
нет, не червь, и не раб, и не царь я – но бог, демиург!
Когда с этого света на тот провожают поэта,
то дорога возможна одна – из Москвы в Петербург.
Ночной звонок
Я спал, и вдруг прерывистый звон.
Я трубку снял: «Алло?»
Трещало в трубке,
а по спине нездешний холодок,
и на бок повело,
ну точно в шлюпке.
А в трубке голос: «Это этот свет?
С тем светом наконец
есть связь прямая.
Фон устранить пока что средства нет.
В кабине ваш отец.
Соединяю».
«Алло… Сынок?..» И пот меня прошиб.
Знакомый, с хрипотцой
отцовский голос.
«Ну что сопишь? У вас там, верно, грипп?
И суета? И зной?
И ты все холост?
У нас тут до всего рукой подать.
Всё есть и, разумеется, бесплатно.
А как здесь мило, чисто и опрятно,
сам понимаешь, божья благодать…
Так вот, сынок, возьми меня обратно!»
И, преодолевая немоту,
я крикнул: «Как там мать? Скажи ей…»
В трубку
завыли так, как воют лишь в аду,
провернутые
через мясорубку.
«Алло! алло!» – я жал на рычаги
и дул в мембрану я
что было силы.
В ответ свистело, шаркали шаги,
и слово бранное
произносили.
Но вот, как среди буден – Рождество,
возник напев
полузабытой речи:
«У вас там голод? Ты хоть ешь чего?
Воюете? И нет консерв
и свечек?
У нас, как сам ты понимаешь, рай.
Здесь прямо на тебе выводят пятна,
здесь всё так весело и так занятно,
лежи хоть целый день и загорай…
Ну, словом, ты возьми меня обратно!»
Хочу ответить ей, а в горле ком,
и всё в глазах мелькает
и двоится.
Те, что ушли и колокол по ком
звонит, вдруг оживают:
лица… лица… лица…
«Что, так молчать и будем мы с тобой?» —
донесся голосок
телефонистки.
И тотчас что-то щелкнуло. Отбой.
Я слов найти так и не смог
для близких.
Я чуть не шваркнул об пол аппарат,
я близок был к параличу
с досады.
Ведь не поправить, не вернуть назад!
И вот я в пустоту кричу
с надсадом:
«Да-да, у нас хреново, видит бог.
То вдруг собачий холод, то ненастье.
Сегодня нету водки, завтра масла,
есть, правда, царь, но он здоровьем плох…
Короче, жизнь есть жизнь, она прекрасна!»
«Куда отлетает душа палача?..»
Куда отлетает душа палача?
На небо? Но как повстречаться без страха
с душою того, кто был послан на плаху,
кому разодрал ты на шее рубаху
и место засек, чтоб ударить сплеча?
Куда уползает душа палача?
Под землю? Но глупо в подвалах загробных,
где виселиц нету и мест нету лобных,
бродить средь теней, ей зловеще подобных,
такой унизительный жребий влача.
Куда исчезает душа палача?
Ну, скажем, ты серым прослыл кардиналом,
мышьяк рассылая по тайным каналам,
но вот уже сам отнесен ты к анналам,
горячий поклонник огня и меча.
Куда ускользает душа палача?
И есть ли в России такие метели,
чтоб дать ускользнуть ей они захотели?
А может, души-то и не было в теле?
А может быть, и не горела свеча?
Романс бывшей жене
Звонить в эту дверь, за которой никто нас не ждет?
На то посягнуть, что казалось вчера непреложным?
Конечно, нельзя, но раз хочется – стало быть, можно.
Открыла с опаской. Он так же с опаской войдет.
Как странно увидеться здесь с ее младшей сестрой,
А тот, симпатичный, и вовсе ему незнакомый.
«Зачем же на краешек? Ты себя чувствуй как дома.
Гитара все там же в углу. Если хочешь – настрой».
Всё так и не так. У Амура сломалась стрела.
Где письменный стол, за которым немало писалось?
Сейчас в этот угол уютное кресло вписалось.
Похоже, грядут перемены. Такие дела.
«За синей рекой, моя радость…» – звучит за стеной.
«За красной горой…» – куда деться от этих мелодий?
А тот, симпатичный, который назвался Володей,
Как будто всерьез занялся его бывшей женой.
Ну что, мой стрелок незадачливый, мой побратим,
Не хочешь ли ты полетать над троллейбусным парком?
А мы вчетвером потолкуем при свете неярком,
И все недостатки в достоинства мы обратим.
Всё те же на кухне готовятся кислые шти,
И желтые шторы на окнах еще не сменили,
Но начат уже перевод километров на мили,
На странные мили, которые надо пройти.
Исход
1
Когда ополоумет зной
к двенадцати часам
и липкий пот течет рекой
по солнечным лучам,
когда, как у рожениц, вздут
Земли тугой живот,
когда все поминутно пьют,
чтобы не ссохся рот, —
в час этот мозг мой воспален
и кровь заражена:
я вижу сонм иных имен,
иные времена…
2
Взгляни: Египт у ног твоих
простерся, фараон!
Рабы молчат, и ветер стих —
неколебим твой трон.
Ты властен, сказочно богат,
видать, судьба хранит,
да и Озирис, говорят,
к тебе благоволит.
Что ж нынче мрачен? Отчего
в глазах твоих тоска?
Отняли сына твоего —
утрата велика.
Но не о ней скорбишь, о нет!
Ты уязвлен больней:
сломал величия хребет
презренный Моисей.
Ты – бог, ты – идол, словно чернь,
простерт, повержен в прах,
и гложет мозг сомнений червь,
и жжет впервые – страх.
Ты их анафеме предашь,
карать же будет Тит.
Стать вольными пришла им блажь,
что ж, время отомстит:
изгоям будет тяжело,
потомкам их – вдвойне…
И вдруг разгладилось чело —
он улыбался мне.
3
Сжег нас
всех зной
из глаз
тек гной
страна
пустынь
грозна
святынь
Эй прочь
ты смерд
день ночь
смерть смерть
Что мать
Твой Бог
видать
оглох
он скуп
злословь
глянь ступ —
ни в кровь
Пыль на
ешь вот
цена
свобод
4
«Две дочки было у меня
две горлицы.
Томились, думку затая
о вольнице.
Где мне теперь их схоронить —
не ведаю.
За ними – мне ль их пережить? —
последую».
5
Есть много истин на земле:
сомнительных, бесспорных,
о боге, о добре и зле,
немало априорных.
Но есть одна – ее, как гвоздь,
вгони по шляпку в память:
храни своей земли ты горсть,
чем о чужой горланить.
Земель обетованных нет,
утопий, Атлантиды,
рай подпирают тыщи лет
рабы-кариатиды.
Итак – исход. С него отсчет
страданья, унижений.
Побед с тех пор – наперечет,
а сколько поражений!
«Что ж, перешли вы Рубикон,
сожгли мосты напрасно…»
В тот час отмщен был фараон.
В тот час звезда погасла.
Лодочник и епископ
Кормиться лесом не зазорно,
когда тебе он отчий дом,
не стыдно брать у поля зерна,
когда свой горб ты гнул на нем.
Рука дающего, конечно,
не оскудеет никогда.
А все ж, святой ты или грешный?
Дождемся высшего суда.
В домишке окнами на Терек
жил, помню, странный человек:
жену отвез на левый берег,
а сам на правом мыкал век.
Хотя он, кажется, за дело
сослал красавицу жену,
но сердце третий год болело,
и, чувствуя свою вину,
положит палку он, бывало,
и прыгает через нее.
Других молитв тогда не знало
неграмотное мужичье.
И вот за этим-то занятьем
епископ наш застал его.
«На что, – корит нас, – время тратим?
Из палки сделать божество!
Язычество ли, чернокнижье,
приступим, не жалея сил».
Епископ подошел поближе
и, посуровев, приступил:
«Безбожник, ты бывал неправым?»
«Бывал», – безбожник отвечал.
«А деньги брал за переправу?»
И лодочник ответил: «Брал».
«Я не могу, ты видишь, Боже,
не наложить епитимью.
Брать деньги с ближнего негоже,
придется лодку взять твою».
И в лодку сел он вместе с нами
и напоследок так сказал:
«Молись, мой сын, тремя перстами,
вот так». Епископ показал.
Едва отплыли, вдруг: Смотрите!
Там, за кормой… Да что там? Где?
«Забыл! Еще раз покажите!»
Он… он бежал к нам… по воде…
И тут епископ прослезился,
и молвил он, махнув рукой:
«Молись и дальше как молился.
Ты вскормлен мудрою рекой».
«Изогнуло, как подкову, горизонт…»
Изогнуло, как подкову, горизонт,
спавший город зазвенел, как тетива,
и вошел в его артерии озон,
и вздохнули облегченно дерева,
разгулялись по щетинам помазки,
человечьи затрезвонили рои,
на Плющихе, на Полянке, на Ямских
стариковские гоняются чаи,
а на рынках спозаранок толчея,
там лоточников поболе, чем лотков,
но, житье отшелушив от бытия,
вдруг расходятся все сорок сороков,
раскаляется чугунное литье,
и как будто с раскаленной высоты
низвергается сейчас не воронье —
с колоколен низвергаются кресты,
сыпанул из электричек, как горох,
раскатился во все стороны народ,
и куражится распевный говорок,
колобродит и городит огород.
Ох чадит великий город, ох чудит,
все чудит от полнокровья своего,
город дышит, и шаманит, и шумит, —
только города уж нету самого:
нет бульваров, и слободок, и застав,
нет толкучек, электричек и церквей,
нету больше ледохода – ледостав,
нету дождика грибного – суховей,
чай в стакане испарился, и рука,
и рука, что ухватилась за стакан,
ни помазанника нет, ни помазка,
только черный расползается туман,
все черно на белом свете, все темно,
тишина на этом свете, тишина,
то ли тот он, то ли этот – все одно,
между ними уничтожена стена.
Сколько дней же этой муке, сколько лет?
Ты оставь меня, оставь меня, оставь.
«Это сон, – вскричал Создатель, – это бред!»
Ангел смерти улыбнулся: «Это явь».
Из цикла «ЖЗЦЛ» [2]
Сонет № 1
Н аталья… Дело было к январю,
а крыши, как в июне, протекали,
ф рамуги дребезжали по ночам,
и сердце не отыскивалось там,
г де все его наперебой искали.
А в русской церкви, что на рю Дарю,
к олокола звонили, и едва ли
о тец Варлам, томясь по снегирям,
з нать мог, что в это время в Зазеркалье
е ще мерзей, чем здесь, и снегирю
б ог посылает многая печали.
А знал бы – попенял большевикам:
« Я чай, на хлеб вы зиму променяли!»
Н у как сонет? Его тебе дарю.
Сонет № 3
Оставь меня! Вот только плащ накинь.
Другая нынче верховодит – Осень.
А душу, словно кожу шелуша,
отбросим – вот и новая душа,
даст бог, ее так скоро не износим.
И пусть земля, куда свой взор ни кинь,
нага и вроде стариковских десен
обуглена, – смотри, как хороша
чернь этих веток, меж которых просинь
едва сквозит и желтая полынь.
Сиротства флаг да будет трехполосен!
Туман ползет, рекой в лицо дыша.
Во имя утра, и дождя, и сосен
уйди, моя любимая. Аминь!
Сонет № 7
Как это объяснишь? Ведь стар как мир пейзаж:
Антониев форпост, храм, Конские ворота…
Ну разве что галдит чуть больше нищих сирот,
у торжища сойдясь, да царственнейший Ирод
на стенку лезет. Все, похоже, ждут чего-то.
Раздачи карточек? Спецпропусков на пляж?
О чем там ссорятся под смоквой два зелота?
Жара спадает. Ночь, контрастная, как Вийральт,
de facto отдает прохладу, что in toto
ей удалось скопить – но, впрочем, баш на баш, —
сама забрав тепло у этих тел, от пота
тускнеющих… Талант зарытый будет вырыт:
вон движется звезда – волхвы дойдут в два счета.
А что ж История? Ей выходить в тираж.
«Ну вот мы и вместе, спасибо судьбе…»
Ну вот мы и вместе, спасибо судьбе.
(Я сам по себе, ты сама по себе.)
Постель и расходы одни на двоих.
(Тебе ли до бед моих, столько своих.)
Кругом восторгаются: что за чета!
(Не тот стал, вздыхаешь? Ты тоже не та.)
Мы даже похожи с тобой, говорят.
(Что может быть горше, чем этот разлад?)
Какая любовь! Словно два голубка.
(Дай боже нам выбраться из тупика.)
Aurora borealis
Философия бабочки-однодневки,
о хрупкая стройность ее антиномий,
о эта выверенность баланса
жизни и смерти.
Стоит только выйти на Невский,
сразу становишься невесомей,
словно впервые тяжелый панцирь
скинул. Умерьте
восторг облегченья – вам жить осталось
полчаса, отведенные ночи
одной зарей до прихода новой
(цитирую вольно).
Пусть вас не тревожит страны отсталость,
долг невозвращенный и кто был зодчий
Исаакия – бабочкой в то окно вам
влететь довольно,
чтобы вдруг ощутить свою легкокрылость
и притягательность стосвечовой
лампочки, спрятанной абажуром,
как лепестками
яркий пестик, – и все открылось:
рискни, пожалуй, пыльцой парчовой,
один удар – и крылом ажурным
загасишь пламя.
Воспоминание о холодной зиме
После исключения из Союза писателей Ахматовой было выдано удостоверение, где в графе «профессия» значилось «жилец».
Облезлая железная кровать.
Протертое худое одеяло.
За дверью молча тишина стояла,
других гостей не время зазывать.
Свободна у окна сидеть впотьмах.
Спуститься вниз. Сварить картошку в миске.
Свободна превозмочь животный страх
и отстоять, как все, в очередях,
чтоб услыхать: «Без права переписки».
Жаль, из свободы шубу не сошьешь.
Но можно и в пальто. Пока втерпеж.
Вы только не звоните, и не надо
при людях заговаривать со мной,
и апельсинов или шоколада
вы мне не приносите, как больной.
Я умерла. Воспользовалась правом
определить свой собственный конец.
Поэт на этом свете не жилец.
А впрочем, трудно спорить с домуправом.
Книга Песни Песней Соломона Главы-сонеты
И изумлялись все и недоумевая говорили друг
другу: что это значит? А иные насмехаясь
говорили: они напились сладкого вина.
Деяния: 2, 12-13
Глава 1
Тогда уста наши были полны веселия, и язык наш – пения.
Псалтирь: 125, 2
Взгляните, дщери Иерусалима!
Пусть я черна, пусть зноем я палима —
исполнена величия Сиона,
красива, как завесы Соломона.
– О, ты прекрасен, милый, ты прекрасен!
Уста твои любезны, взор твой ясен,
а поступью с бегущей серной схож ты.
Скажи, где будешь в полдень? где пасешь ты?
– О, ты прекрасна, милая, прекрасна!
Я пас в горах, тропа туда опасна.
Горят твои ланиты, смугло лице,
подобна ты летящей кобылице.
Тиха, прохладна роща возле мыса.
там крыша – кедры, стены – кипарисы.
Глава 2
Поднимись ветер с севера и принесись с юга,
повей на сад мой, и польются ароматы его!
Песнъ песней: 4,16
Зима минула. Кончились дожди.
Прошла вдруг у смоковницы сонливость.
На небе солнце медлит – погляди,
в движениях сквозит неторопливость.
Что яблоня в кругу лесных сестер,
то милая моя среди подружек.
Цветы сбегают вниз по склонам гор.
Встань, голубица, и спускайся, ну же!
– Его все нет… Дай силы мне, вино…
О, как я от любви изнемогаю…
Вот милого шаги… он ждет давно…
Остаться дома, выйти ли – не знаю.
Там яства ждут, вино горит, как кровь,
и знамя надо мной – его любовь!
Глава 3
Песнь моя о Царе…
Псалтирь: 44, 2
Искала ночью темной я на ложе
того, который мне всего дороже;
по городу, по улицам прошла,
на площадях искала – не нашла.
Куда же он ушел, не знали даже
начальники из предрассветной стражи.
Ах, где он, где, скажите не тая,
которого так ждет душа моя?
Вот одр его: блестят златые грани,
седалище из пурпуровой ткани,
стоит полсотни сильных вкруг одра,
разящий меч привешен у бедра.
Молю, ни звука, не тревожьте сон —
возлюбленный мой спит, царь Соломон!
Глава 4
И проходил Я мимо тебя и увидел тебя,
и вот, это было время твое, время любви.
Иезекииль: 16,8
На дивный лоб не положить ладонь,
волос не распустить, густых и длинных,
очей твоих не видеть голубиных,
губ не коснуться, жарких как огонь,
груди твоей, где серны – два сосца,
точеной шеи, что как столп Давидов, —
и часа не смогу, тоски не выдав,
тоски, давящей с тяжестью свинца.
Мед с молоком под языком твоим,
осанкою поспорить можешь с ланью,
струящихся одежд благоуханье
дурманит как курений сладкий дым.
Все время хмелем голова полна —
любовь твоя пьянит сильней вина.
Глава 5
Чем возлюбленный твой лучше других,
что ты так заклинаешь нас?
Песнь песней: 5, 9
Заснула я, а сердце сна лишилось.
Оно ли так стучит иль в двери стук?
Возлюбленный зовет… Ах нет, приснилось!
Мучителен неведенья недуг.
Сейчас бы спать в объятиях твоих,
приди, я от любви изнемогаю,
я скинула хитон и жду нагая,
и мирра с пальцев капает моих.
…Так это он был! Ждал и не дождался.
О, где теперь мне милого искать?
Здесь не был он? А вам он не встречался?
Не медли, Суламифь; бежать, бежать…
Скажи ему, коль встретишь, заклинаю,
что я в любовном пламени сгораю.
Глава 6
И дам им одно сердце и один путь.
Иеремия: 32, 39
Перед рассветом теплая гроза
в большом корыте выкупала землю.
Сад безмятежно спал, грозе не внемля,
на лепестках испариной – роса.
Пошла я виноградники стеречь,
как вдруг нежданно с милым повстречались.
Весь день мы с ним любились, миловались,
стремясь друг дружку ласками развлечь.
Небес крахмальных нам голубизна
не раз сквозь сень деревьев улыбнулась,
а только мне немножечко взгрустнулось:
ушел мой милый, я опять одна.
Легко ли виноградники стеречь!
Но свой еще труднее уберечь.
Глава 7
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя,
и пятна нет на тебе.
Песнь песней: 4, 7
Повремени, прекрасная девица,
и дай нам на тебя полюбоваться
сейчас, когда ты сбросила одежды
и к милому торопишься, нагая!
Округлость бедр твоих как ожерелье,
живот – источник, лечащий от жажды,
сокрыто чрево ворохом пшеницы,
сосцы твои раскрылись, как бутоны,
залились нежно-розовым румянцем,
глаза, как Евсевонские озерки,
и гибок стан, как молодая пальма,
а груди, словно кисти винограда.
Подумал я: взобрался бы на пальму
и пил там виноград кровоточащий!
Глава 8
Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
Иоанн: 15,17
Расплавь меня на сердце, как печать,
надень, как перстень, на руку твою.
Любви и перед смертью устоять,
а ревность с адским пламенем сравню.
Водой не потушить огонь любви
и не залить его и сотне рек,
богатства за любовь давать свои
способен лишь презренный человек.
…Нам ложе – зелень. Ненаглядный мой,
отдав все силы в сладостной войне,
уснул. Одна рука – под головой,
другой меня ласкает в полусне.
Здесь спит сама любовь… шуметь не будем…
она ведь спит так чутко – вдруг разбудим.
Поэт
Б. Пастернаку
Над городом в рассветном дыме
стоит, заметное едва,
твое магическое имя,
как Валтасаровы слова.
И, огорошенная сходу,
читает, заворожена,
подвластная тебе природа
таинственные письмена.
Уже она близка к разгадке,
уже понятней будет впредь,
чего ей ждать, в каком порядке
сиротствовать и зеленеть,
и почему для человека,
в час этот спящего пока,
она была и будет Меккой
на все грядущие века.
А ты, душа, живи, шаманствуй
в кругу заговоренных звезд,
покуда время и пространство,
как вдовы, ходят на погост.
Нет у стихов имен и отчеств,
и чтоб их как-то различать,
на лучших воском одиночеств
оплавилась судьбы печать.
Песенка об Иосифе
Холод колючий бороду щипет.
Взгляд обреченный на родину бросив,
с грустью увозит в далекий Египет
Деву Марию с младенцем Иосиф.
Ослик щипет верблюжью колючку,
теплые ясли с тоской вспоминая.
Яхве ковчегом выберет тучку.
Да, на земле обстановка иная.
Перепись начал наместник Квириний,
требует стадо Господне учета.
Горе, коль кто-то нынче в пустыне,
ах, упасет ли пастырь его-то?
Старый Иосиф смотрит с тревогой:
как уберечь это пухлое чудо?
Сын примирил его с жизнью немного,
вот бы понять еще – взялся откуда…
Спит безмятежно младенец безгрешный.
Ослик библейский трусит колыбельно.
Все обойдется, и ждут их, конечно,
реки молочны и бреги кисельны.
Нос воротя от безрадостных видов,
на миражи глаза закрывая,
видит он мысленно город Давидов:
дом, палисадник, осина кривая.
И улыбается глупый Иосиф,
и забывает, что яд уже выпит,
И, на жену одеяло набросив,
шаг ускоряет в далекий Египет.
Безмолвие
Памяти Тамары Глытневой
Холсты становятся старше,
становятся жизни короче.
Чего тебе надобно, старче?
Ты все мудро устроил, Отче.
Купит твой сад вишневый
размером тридцать на тридцать
меценат из Айовы
или римский патриций.
Хватит на хлеб с маслом,
а если не ешь хлеба,
искусство неси в массы,
по праву слывя «левым».
Если ж немеют пальцы
и вкус пропадает к цвету,
то можно не просыпаться —
свободу дают по рецепту.
Всем прочим нужна поблажка
в виде рамки на прежнем месте.
Подоконник. Прозрачная чашка.
И вечность в подтексте.
«Нам приказали долго жить…»
Нам приказали долго жить,
и мы живем.
Люблю над пропастью во лжи
ловить сачком
свет истины. И луг, что был
в зеленый цвет
солдатом выкрашен, мне мил
как блажь, как бред
ума российского, как сон,
в котором вдруг
поймешь, что был жидомасон
царь Петр. На крюк
повесим душу. Налегке,
забыв грехи,
однажды спустимся к реке,
а у реки
встречает тот, кто за обол
(см. в рублях)
готов доставить на любой
архипелаг.
Вот только справку дай ему
о смерти. Но
и умирать нам ни к чему —
мертвы давно.
Осень в Вермонте
Девяносто один – это значит все время на север,
убывая в глазах небоскребов,
уменьшаясь до точки, до света, который рассеян,
так что некому в оба
за дорогой следить. Девяносто один – это кленов
и берез быстротечная схватка,
из которой не выйти ни тем, ни другим без урона,
это стражи порядка
в неприметной «тойоте», стоящей в засаде, сливаясь
ярко-красным крылом с бересклетом,
это двадцать в тени, это солнце в крови, это Баэз
с чуть подсевшим, пропетым
на концертах протеста приятным контральто. Ни цента
не берут за стоянку в Эдеме.
Что Господь говорит по-английски с бостонским акцентом,
здесь давно уже всеми
признается. Не только что ног под собою – дороги
под собою не чуешь, и в негре
на заправочной вдруг узнаешь темнокожего Бога.
Сделай осени беглый
подмалевок, и пусть подождет он, другому оставлен,
кто напишет деревья нагими,
а себя не обманывай, будто здесь воздух отравлен
горьким привкусом ностальгии.
Элегия
Пушкина читает дочь Дантеса.
Сам Дантес, томясь с женой на водах,
развлечен французскою пиесой
о наполеоновских походах.
Справив революции, Европа
возвратилась к танцам и наукам.
В Полотняном заросли укропа,
в Сульце грядки заросли латуком.
Впрочем, это буйствовало лето,
а сейчас зима поземку гонит,
и форейтор, заложив карету,
поглядит на небо да и тронет.
Разбегутся веером березы,
застучат копыта по аллеям,
и не в такт копытам, в такт морозу
чьи-то зубы застучат хореем.
Дочь Дантеса Пушкина читает.
За окном снежок московский тает.
«Осенние свадьбы – весенние дети…»
Осенние свадьбы – весенние дети.
На юг потянулись машин караваны.
Народ разгулявшийся пишет мыслете,
одетый от шубы до сарафана.
В репертуар духового оркестра
нагло пролезла рок-фуга Сильвестра,
несмотря на протесты маэстро.
Спор разрешается строгой кантатой.
Ветер в кустах прошмыгнул, как опоссум.
На озере весла захлюпали носом.
Зябнут пальцы у гипсовых статуй.
С воскресенья на понедельник
от забот отдыхает ельник,
от работ увильнул осинник.
…Автомат проглотил полтинник!
Это все массовик-затейник,
до чего же охоч до денег.
Нити судьбы в Шереметевском парке
сучат не Парки – дворовые девки;
на этакой сходке, на этакой спевке
всякое может случиться в запарке.
Смотришь, ветром одной надуло,
у другой зародилась идея…
Первую сватают за Федула.
Вторую сватают за Фаддея.
И вот подъезжают к дворцу машины
с куклами, слабыми на передок,
и уплывают, шурша, крепдешины,
и охает вслед целибатный гудок.
Осенние свадьбы – весенние дети.
Ах, как это напоминает о лете!
Антитеза
Пролог к «Руслану и Людмиле» Черновой вариант
Гниет как дуб литература,
Ржавеет цепь на дубе том,
И днем и ночью ходят хмуры
Писаки по цепи кругом.
Идут направо – всех изводят,
Налево – лгут самим себе,
Там чудеса, там жизнь проходит
В острейшей классовой борьбе;
Там по неведомой указке
Невиданно тупых людей
Штампуют сотни, словно в сказке,
Поэм, рассказов, эпопей;
Там головы полны видений,
Там что ни Михалков, то гений,
А что ни гений – депутат;
Там витязи, друг друга краше,
Чредой выходят из параши,
А выйдя, несколько смердят;
Там далеко не мимоходом
Пленяют грозного царя;
Там перед всем честным народом,
Креста и то не сотворя,
Пороли раз богатыря;
В темнице те, кто плохо служит,
Периодически там тужат,
Проступок с бабою нагой
Карается статьей другой;
Там Русь, забыта всеми, чахнет,
Там странный дух, там деньги пахнут!
И там я в ЦДЛ пил-ел,
У входа видел дуб трухлявый,
В сортире, провонявшем «Явой»,
Стенную роспись осмотрел,
И, ею вдохновившись, эту
Поведал сказку белу свету.
«Пройтись по полям…»
Пройтись по полям —
как после разора:
с ботвой пополам
в них всякого сора.
Лес как расписной
и весь разномастный:
где сине-стальной,
где изжелта-красный.
И всюду изъян.
Подите отчистьте
и ржавый туман,
и ржавые листья.
Макушку печет,
но дует с исподу.
Теряется счет
капризам погоды.
И плюнув в сердцах
на зонды и сводки,
синоптик-казах
мочалит бородку.
Монолог светской дамы
Чистое искусство,
дымчатая Русь.
Наревусь от чувства
или надерусь!
Вернисаж в Манеже,
ретро в «Октябре».
То коллажи Леже,
то поп-арт Доре.
А в тот день на Плавте
я столкнулась с ним!
Этакий, представьте,
ангел, херр Рувим.
Был он мил чертовски,
юный ловелас,
в профиль – Айвазовский,
Мусоргский – анфас.
Театры, Третьяковка,
танцы… и везде
страстное, с ночевкой,
наше па-де-де.
Но и в миг экстаза
не могу забыть
Бунина рассказы,
«Быть или не быть…»
Светлым идеалам
я верна во всём:
уступила в Малом,
уступлю в Большом!
Исповедь
– Святой отец, мне, может быть,
врач был бы и полезней,
но я лишь вам могу открыть
секрет моей болезни.
Нас у мамаши семь детей —
шесть братьев и сестрица.
Как бы хворобою моей
им всем не заразиться.
Но я отвлекся. Мой рассказ
начать бы надо с места,
тому лет пять, как в первый раз
повздорил я с невестой.
Зайдя сказать ей пару слов
перед дорогой дальней,
я просидел до петухов
в ее уютной спальне.
«Дружок, – она мне, – ты б прилег,
соснул перед дорогой».
Я как вскочу и – наутек,
вверяя душу богу.
Нет мне покоя с того дня.
Как вспомню голос пылкий,
так моментально у меня
и задрожат поджилки.
Потом произошел конфуз
во время брачной ночи.
Был у меня наутро флюс
с кулак размером, отче.
А поутру меня жена,
большой скандал устроив,
прогнала вовсе, из окна
плеснув ведро помоев.
И так всегда – один конец,
одна и та же участь.
Черт побери, святой отец,
заела невезучесть!
Собой я парень недурен,
могли вы убедиться;
и я в девиц бывал влюблен,
как и в меня девицы.
Быть снисходительней чуть-чуть
я много раз просил их.
А страх мой… даже намекнуть
о нем я не был в силах.
Любая – знал я наперед —
пощечину мне влепит,
едва лишь снова подведет
меня проклятый трепет.
Твержу себе: не комплексуй,
Ты ж молод, не калека.
Но вдумайтесь: засунуть х…
в живого человека!
«С утра пораньше в час назначенный…»
С утра пораньше в час назначенный
придя в сельпо, как в ЗАГС жених,
скупают красненькое вскладчину
и распивают на троих.
Потом братаются, целуются,
мордуются не по злобе
и разбредаются по улице
навстречу собственной судьбе.
Вышеописанная практика
влияет косвенным путем
на всю небесную галактику,
на быт же сельский – прямиком.
Влияние безоговорочно,
ведь не начать ни посевной,
ни косовицы, ни уборочной,
не выпив прежде по одной.
Чем как не пьянками разносными
всё держится: и урожай,
и наша жизнь, и зимы с вёснами,
и коммунизм, и вечный рай?
Диалог
– Не люблю я тебя…
– И я без тебя не могу.
– …совсем…
– Правда?.. я тоже.
– Все фальшь, обман…
– Все хорошо, милый.
– Так дальше продолжаться не может…
– Да-да, надо чаще видеться!
– Меня раздражает твоя походка, то, как ты одеваешься,
красишься…
– Ты устал, тебе надо поменьше работать…
– …твои интонации…
– …не обращать внимания на разные мелочи…
– Замолчи!
– Вот видишь, запачкал пиджак… Ну ничего, отстираю.
– Ты ведь тоже устала… посмотри на себя…
– Какие у тебя чудесные глаза!
– Может, не будем эту неделю встречаться?
– Ну конечно, милый… ну конечно… Завтра… там же…
Рыбалка
На Семеново подворье,
как условились, к шести
я пришел – а дальше к морю
нам уж было по пути.
Дед Семен – мужик что надо,
Есть в нем сила и сейчас,
только малость глуховатый
и кривой на правый глаз.
Хлеб, приманку, якорь, снасти
в лодку бросив, в кожуха
влезли. Дед сказал на счастье:
«Ну, пора. Ловись уха».
И на весла я налегши,
только слышал – хлюп да хлюп,
а Семен: «Да ты полегше
и на пуп тяни, на пуп…»
лодка быстро шла, и деда
пару раз волной обдав,
через полчаса я где-то
осознал, что дед был прав.
Тут как раз шабаш – стоянка,
посидеть бы по-людски,
но уже на дне приманка,
и наживлены крючки.
Тишь да гладь,
рябит от блеска,
припекает – красота!
И натянутая леска
тонко трется о борта.
…Час прошел. Другой проходит.
Я от солнца уж ослеп.
А «уха» крючки обходит
и обгладывает хлеб.
Дед, не тратя лишних корок
и, пожалуй, лишних слов,
подсекает красноперок
и в садок кладет улов.
Сыпанул еще приманку,
выдал крепкий анекдот,
помочился наспех в банку,
глядь – уже опять клюет!
Ах ты, думаю, зараза,
рыб моих с крючков снимать…
Чтоб на оба, одноглазый,
окривел ты, твою мать!
…Пять часов болтались в лодке,
а когда пошел шестой,
«Пересохло, – слышу, – в глотке».
Якорь выбрали. Домой!
Вот и берег. Вмиг управясь
с дедовым хозяйством, я
так был суше рад, что зависть
не тревожила меня.
А когда прощались, глухо
буркнул дед, крутя махру:
«Жду в обед. Моя старуха
варит славную уху».
Свидание в городе
Под выхлопной трубой
мы встретились с тобой.
Как ароматно плавилась резина!
И от любви, мой друг,
я задохнулся вдруг…
А впрочем, может быть, что от бензина.
«Осенний разговор…»
Осенний разговор:
грибы, варенье…
Богинь суровых Ор
благоволенье.
Еще глядит тайком
на вереск лето
оранжевым глазком
из бересклета,
но сахаром ранет
пересыпают,
и мух в помине нет —
пересыпают.
Не платья ль, подожди,
вы там надели?
Ох, зарядят дожди
на две недели!
С природы слой румян
сойдет в два пальца;
я сяду за роман,
а ты – за пяльцы.
Во всем царит давно
притворство. Словом,
одно нам и дано —
жонглерство словом.
Искусство сопереживания
Я в мир литературы не входил,
скорее вышел из литературы:
я чем-то на кого-то походил,
знал как свои чужие партитуры.
В Онегине себя я узнавал,
горел с Иваном в пламени бесовском,
захлестывал меня девятый вал,
еще не сотворенный Айвазовским.
Я отдал шестьдесят шестой сонет,
княжну топил с моей подсказки Стенька.
Я дважды изобрел велосипед
и открывал Америку частенько.
Мне подошли Толстого сапоги б,
своим считаю лабиринт Дедалов.
Не то я сам в Качалове погиб,
не то во мне, увы, погиб Качалов.
О, как до дня желанного дожить
(минуты мне покажутся веками),
чтоб мог я Дездемону задушить
натруженными этими руками!
Меня, как Блока, мучила тоска
и, как Печорина, снедала скука,
с Олешей я писал «Три толстяка»,
а нынче даже съеден. Вместо Кука.
Басня
Однажды лебедь раком щуку…
в тенистой заводи пруда.
Металась щука, но – ни звука!
Бурлила, пенилась вода.
Июль на выдохе. Парило.
Дымился на полях навоз.
Мужик косил траву вполсилы.
На бережку стоял уныло
покинутый возницей воз.
Ночь коротка. И снова брезжит
парной, как молоко, рассвет.
Чу! Слышится зубовный скрежет,
плеск крыльев и любовный бред.
Вконец заезженная птицей,
чуть дышит щука, ткнувшись в плес.
Кричит петух. Встает станица.
Стада к пруду идут напиться.
Все так же неподвижен воз.
А там задуло, закружило —
октябрь откуда ни возьмись.
Парком клубится воздух стылый,
и дым перстом уходит ввысь.
…Во время родов сдохла щука.
Подался лебедь во Вьетнам.
В станице после жатвы скука.
А воз… Куда он делся? ну-ка,
взгляни… А воз и ныне там.
Несколько тезисов
Пора судить за шутки.
Пурген крепит желудок.
Даешь собачьи будки
из милицейских будок!
Сажал ли Зевс аллеи
для будущей свекрови?
Жить стало веселее,
а умирать хреновей.
Стравинский – композитор.
Валерий Чкалов – летчик.
Не выпить водки литр,
не съев грибков пяточек.
Крот носом землю роет.
Рай с адом однолетки.
Грозит сперматозоид
дойти до яйцеклетки.
Пять дней сидел на сыре
и отсидел конечность.
Я к вам приду в четыре
плюс-минус бесконечность.
«Вот и открыли у нас лабаз…»
Вот и открыли у нас лабаз
на паях с африканской страной.
И попер народ из народных масс,
и накрыло волну волной.
Из-за голенища достал перо
инженер человеческих душ.
Горит синим пламенем ГОЭЛРО,
освещая сибирскую глушь.
Там кот ученый, грядущий хам,
по науке лущит горох.
За оставленный богом мой русский храм
помолись, мой еврейский бог.
1989
Augustinus dubitat [3]
Августин сомневается, что если у жирного гуся,
съедающего столько же, сколько десяток тощих,
отнять еду именем Господа нашего Иисуса,
он станет как все, то есть худей и проще,
и что тощие не сделаются жирными как один,
сомневается Августин.
Что можно совсем без участия со стороны мужчины
зачать в одной отдельно взятой утробе,
вызывает большие сомнения у Августина,
как и то, что можно спустить в пустыню Гоби
сибирские реки, с тем чтобы стала пустыней
Сибирь. В Августине
так сильны пережитки схоластического мышленья,
что он отдает себе отчет в каждом поступке.
Мог бы запросто ботать по римской фене,
нет, учит зачем-то греческий. К женской юбке
у него отношенье фотографа: снимать, но с хорошей
выдержкой. Перенесший
инфаркт на ногах, сомневается он, что бесплатная медицина
сильно в этом повинна. А недавно на диспуте в Пизе
он усомнился, что устроенный в церкви святой Катерины
абортарий на двести коек не способен принизить
веру в девственность Богоматери. И, совсем уже странно,
сомневается он постоянно,
что, на троих разливая, можно напиться быстрее,
чем накачиваясь в одиночку. Привычка во всем сомневаться
заставляет его скептически относиться к идее
всеобщей свободы как возможности переселиться в палаццо
из хижин. Кстати, в том, что его, Августина, не выдумал
какой-то кретин,
сомневается Августин.
Кто в ком
Перышки в подушке,
Мысли в голове…
…………………….
Все ребята в школе,
Ну а я в постели.
Уолтер де ла Мар в переводе В. Лунина
Перышки в подушке,
Мысли в голове,
Тараканчик в ушке,
Коброчка в траве,
Червячок в ранете,
Жертвочка в борьбе,
Душечка в поэте,
Ну а я – в тебе.
О переводе
Люблю в чужом пиру похмелье!
Нет, не в чужом – здесь все свои.
Вчера ты был, к примеру, Шелли,
а завтра будешь Навои.
Как медиум, над всякой тенью
ты властен – это ль не искус?
Искусство перевоплощенья,
прекраснейшее из искусств.
Изведать дрожью каждой жилки,
когда дыханье на нуле,
таинственную прелесть Рильке
и сладкозвучность дю Белле;
сгорать, как на огне, в Бодлере,
кичиться славою Гюго,
грести прикованным к галере,
о Саламанке грезя… Го —
споди, какая мука, право!
На что тебе чужой талант
и чья-то боль, и чья-то слава,
и трансвестизм а-ля Жорж Санд?
…Концы тихонько отдавая,
беззвучно деснами жую.
Чужие жизни проживая,
так и забыл прожить свою.
«Зима кончается…»
Зима кончается. От спячки
проснулась муха между рам.
Опять начнет свои подначки
капель-злодейка по утрам.
Послать бы все, ей-богу, к бесу!
А сам четвертый час сижу:
елизаветинскую пьесу
к нам на Оку перевожу.
Лишь очумевши не на шутку
от совращений и резни,
иду гулять по первопутку.
По сторонам чернеют пни,
с чьего-то дальнего подворья
кричит как резаный петух,
в невнятном бабьем разговоре
словцо-другое ловит слух.
Эх, описать бы это сходу,
без позы, не плетя словес,
сфотографировать природу
почти бесстрастно, всю как есть:
и снег слежалый, черно-бурый,
и то шоссе, и этот склад…
А это что там за фигуры
у полыньи рядком сидят?
Пять мужиков прилипли глазом
к студеной мартовской воде,
как будто все тулупы разом
присели по большой нужде.
Привет вам, рыцари мормышки!
Ну что, клюет еще осетр?
С такой же начали страстишки
апостолы Андрей и Петр.
…Садится солнце за пригорком,
повеял холодом борей.
Скорей, скорей опять по норкам
к теплу надежных словарей!
Но, взглядом проводив зарницу,
сидишь, валяешь дурака,
и лень дописывать страницу,
и обрывается строка.
«По коктебельским голышам…»
По коктебельским голышам
в ночное море – голышом!
Не веришь собственным ушам:
Медведица гремит ковшом,
расплескивая по плечам
луча холодную струю…
здесь обретают по ночам
Венеры девственность свою.
Скала, которой имя – грех,
идут ко дну, ко дну, ко дну,
взметнув фонтанчиками смех
и тем нарушив тишину.
Что им, наядам, до того,
что покраснел давно, как рак,
на это глядя естество,
видавший виды Карадаг!
Что, кринолинами шурша,
пытается морская гладь
закутать в пену их, спеша
скандал очередной замять!
Скользят себе в воде тела,
и серебрист за ними след…
Такие, брат, у нас дела,
уж хочешь – верь мне, хочешь – нет.
Анекдот
Не в монархии, не в царстве,
в современном государстве
лет пять-шесть тому назад,
если только Самиздат
не соврал, престранный случай
приключился – вот послушай.
То ли бунт (вполне возможно)
был так спровоцирован,
то ли не был негр в таможне
продезинфицирован,
но негаданно-нежданно
объявились тараканы.
На проспектах, площадях,
в кухнях, в письменных столах,
у девиц в заветной щели,
ну везде кишмя кишели!
Ни «ВТ», ни ДДТ,
ни артисты варьете,
ни ракеты, ни повстанцы,
ни налет санэпидстанций,
ни зловонные клубы,
ни угрозы, ни мольбы —
ничего не помогало:
тараканов прибывало.
Вскоре начались диверсии.
По официальной версии
президента Магарадзе,
тараканы-камикадзе,
выводя реле из строя,
замыкали их собою.
Президент решил: каюк!
Пригорюнился, как вдруг
выполз из бумажной урны
таракан миниатюрный.
«Кыш! – кричит правитель. – Кыш!» —
«Если жизнь мне сохранишь, —
голосок раздался снизу, —
и в загранку выдашь визу,
не беря за это тыщу,
от собратьев край очищу».
Вот и весь их разговор,
так скреплен был договор.
Только-только солнце встало —
нечисти как не бывало!
Повалил толпой народ,
пьет на радостях, поет;
а виновника веселья
посадили в подземелье.
Тут и сказке бы конец,
да явился вдруг гонец
с очень важным сообщеньем:
мол, правитель с нетерпеньем,
не сомкнув ни разу глаз,
ожидает, что сейчас
может выползти из урны
и еврей миниатюрный.
1974
Бедные звери Роман в письмах
Паршивая Овца – Фальшивому Зайцу
Любезный сэр, я буду кратка.
В загоне, где имею честь
Я пребывать, настолько гадко,
Что всех обид не перечесть.
Известно малому ребенку,
Что, как баранов, без конца
Стригут нас под одну гребенку.
Нет сил!
Паршивая Овца
Фальшивый Заяц – Паршивой Овце
Миледи, те, кто начинают
Нас понимать, пока редки.
Чем только нас не начиняют
На кухне эти пошляки!
Уже нас подают к обеду
В компании бычков и сайр.
Не рано ль праздновать победу,
Обжоры?
Ваш Ф.З., эсквайр
Паршивая Овца – Фальшивому Зайцу
Сэр, из-за всяких эпидемий
Хозяин зверствовал как мог.
Он из меня за это время
Раз двадцать вырвал шерсти клок!
Как вспомню я, что завтра стрижка,
Совсем становится невмочь.
А правда, что у вас интрижка
С Лисой?
Паршивая и проч.
Фальшивый Заяц – Паршивой Овце
Интрижка? Ах, побойтесь бога!
Здесь от плиты ужасный чад.
Я, знаете, всегда немного
Дрожу, когда меня перчат.
Прошу, почаще мне пишите.
Одно воздушное безе
Послать вам нынче разрешите.
Ваш преданнейший друг Ф.З.
Паршивая Овца – Фальшивому Зайцу
О, я отогреваюсь сердцем
От ваших слов, мой милый друг!
Не легче ли с единоверцем
Порвать порочный этот круг?
Не холодна ль у вас там зала?
Наш выгон снегом замело.
Я, кстати, пончо вам связала,
Чтоб вы не мерзли.
Ваша О.
Фальшивый Заяц – Паршивой Овце
Спасибо, милая, за пончо,
Я тронут вашей добротой.
Ужель я дни свои закончу
Под этой кухонной плитой?
Я только ведь зовусь фальшивый,
Скачу же я быстрей коня.
А вы… какой большой души вы!
Так выходите за меня.
Из истории панических войн
Если ты на прогулку отправишься по лесу
от Северного или Южного полюса,
то часа через два или три или семь,
ну, словом, когда ты устанешь совсем,
между пятой и тридцать шестой параллелью,
где самум вперемежку со снежной метелью,
ты увидишь зеленое море средь гор.
Здесь давным-предавно, с незапамятных пор,
поселились два племени, жившие в ссоре:
горемыки – в горах, моремыки же – в море.
Оба племени так и шипели от злобы,
потому-то, наверно, и мыкались оба,
но друг друга им столько веков ненавиделось,
что Паническим войнам конца не предвиделось.
С января по декабрь, круглый год, дни и ночи
истребляли друг друга они что есть мочи:
камнями, дубиной, каленой стрелой,
огнем и мечом и кипящей смолой.
Обе стороны так за победу радели,
что ряды победителей быстро редели,
и остались однажды – тревожнейший миг! —
лишь один горемык и один моремык.
В тот день, между прочим, стояла жара,
правда, лил мелкий дождичек как из ведра,
и под вечер улитки, промокнув до нитки,
с удовольствием грелись на электроплитке.
…Устало сопя после праведной битвы,
стоят дикари средь погубленной жнитвы
и смотрят впервые друг другу в глаза,
и глазеет на них на двоих стрекоза.
Наконец горемык изумился: «О боже,
до чего мы, однако, с тобою похожи,
ведь ни у кого нет такой бороды.
Мы похожи с тобой как две капли воды!»
Моремык изумился не меньше: «О боже,
я упитан весьма, ты упитанный тоже…
а квадратные уши… а вылеп лица…
мы с тобою похожи как два близнеца!»
И поняв, что они одинаковы ликом,
прослезились тогда горемык с моремыком,
и, обнявшись, пошли загорать на плато.
А зачем воевали – не знает никто.
Синтез
Per somnia [4]
В начале было пиво…
Мы сидели
в «Ракушке», справедливо рассудив,
что общий кризис при капитализме
прекрасно углубится и без нас.
Шел треп. Смотря, как оседает пена
в кувшине, Вадик несколько напрягся
и подсчитал, что хмырь, недоливая,
имеет за день двадцать шесть рублей
ноль семь копеек – неплохие бабки!
А если он к тому же разбавляет…
На эту тему Лось припомнил байку
про то, как Вовочка однажды…
«Карр! —
послышалось. – Позвольте приземлиться?»
Мы подскочили разом. Руки-спички
подняв, как крылья, у стола стояла
особа лет четырнадцати: гетры,
юбчонка, майка – этакий гаврош.
«Кикимора», – представилась особа
и плюхнулась с размаху на сиденье.
Взяв кружку (Лося) в руки, как ребенок,
она пила… пила ли? Так насос,
фырча и чмокая, давясь и брызжа,
заглатывает воду всю, до капли.
Прикончив первую, она взяла
вторую кружку. Мы офонарели.
Ополовинив третью, эта прорва
сказала умиротворенно: «Кайф!»
Она сидела, тяжело дыша,
губешки в пене, осовелый взгляд,
ну так и есть – кикимора с болота.
Придя в себя, она защебетала,
все через пень-колоду, невпопад,
про Зинку, про какой-то офигенный
роман Стендаля, предков за границей,
про бешеный успех у мужиков,
про… вдруг на середине фразы
она поджала губки: «Я сейчас
описаюсь! – и, обратясь ко мне: —
Проводишь, а? А то там мужики…»
Я чуть не сдох! Джульетта! «Я сейчас
описаюсь!» Мы покатились. Цирк!
Ну, встал, идем мы, значит, по проходу,
и тут она, как взрослая, меня
под локоток – умора, да и только!
Сычи вокруг, наверное, балдели —
кино! Так и дошли до туалета.
…Продравшись сквозь бамбуковую чащу
висюлек, я увидел нашу кралю.
Она позировала в странной позе:
вполоборота, ноги враскоряку,
спина – дугою, попка – на отлете,
ни дать ни взять, картинка из «Бурды».
«Давай сбежим?» Картинка ожила.
«А как же?..» Но моей Прекрасной Даме
шлея под хвост, видать, попала – я
не кончил фразы, как уж мы сидели
в такси, а за окном мелькали «Звездный»
и липы, университет и липы,
посольства и все те же липы, липы,
и в голове смешалось – «обдерет
как липку… ваша липовая справка…
все это липа…» Липа ли? Как знать!
Остановились где-то на Мосфильме.
Я расплатился. Вышли. Поднялись.
Четырехкомнатная. Шик-модерн.
Ковры. Картины. Жалюзи на окнах.
Кикимора разлила по бокалам
шампанское. Мы выпили. И вдруг
она снимает босоножки, гольфы,
и майку со словами «Cui bono?» [5] ,
и юбку, и…
О господи, она,
асистом золотым опалена,
как боттичеллиева Примавера,
качалась гибким прутиком среди
ковров, и люстр, и тоненькой слюды
воспоминаний, летних паутинок,
которых даже в центре пруд пруди,
и зайчиков, плясавших на картинах.
И, преклонив колена, словно инок
пред алтарем, шептал я: «Jo ti amo» [6] —
пароль для новой эры, новой веры —
и снова: «Jo ti amo, jo ti amo!»
Как вдруг я спохватился: ты сошел
с ума – она ведь девочка, ребенок —
а ну-ка, ноги в руки и…
«Ты что?» —
спросила. – «Знаешь, я подумал…» – «Слушай,
ты, может быть, решил, что я девица?
Ну ты даешь! – и фыркнула, как рысь. —
Спокуха, Боб. Тебя на освоенье
целинных или залежных земель
бросать не собираются».
И вот,
откинув покрывало, мы плывем
на флагмане – в родительской кровати —
и легкий признак головокруженья
свидетельствует неопровержимо,
что качка началась… И вот тогда
она сказала тихо так, сквозь зубы:
«Прости меня. Не думала, что это
так больно. Ммммм».
На этом я проснулся.
Был полдень. От меня наискосок
(а я лежал в траве средь бальзаминов)
стояло чудо, чудо-храм, Гелати.
Во дворике толпились экскурсанты,
они по мановению руки
крутили головами вправо-влево,
и вскидывали фотоаппараты,
и, выстроившись за святой водой,
прикладывались к поллитровой банке,
и – странно – хоть сюда не долетало
ни звука, я пронзительно услышал,
как струйка пела в ссохшейся гортани.
Опять смежило веки. Обдало
озоном. И припомнилась прохлада,
которой встретил храм, замшелый камень,
и длинный, как мальчишка-переросток,
Давид-Строитель, выцветшие фрески,
и – вдруг! – Иуда, кутающий шею
в пеньковую веревку и в коленях
согнувший ноги, чтоб – наверняка;
в глазах: «Пускай проклятье в поколеньях,
но сделал я для торжества идеи
всю черную работу, иудеи,
горька мне чаша этих дней весенних,
ну а Ему она вдвойне горька…»
Так это – Грузия! Не подымая
отяжелевшей головы, я слышу,
как в двух шагах готовится застолье:
сдвигаются столы, несут лаваш,
крестьянский сыр, цыплят, приправы, зелень,
и легкое вино в шестилитровой
канистре, и экало – то бишь просто
колючки… но какие! Я встаю
и, помахав затекшею рукою,
взбираюсь вверх по склону.
У Мераба
такое просветленное лицо,
как будто он цыплят приносит в жертву
языческим богам. Уже Дато
разлил вино, и кто-то говорит,
и тост с «алаверды» летит по кругу,
и падает стакан, и смех, и кто-то
затягивает песню, и подхва —
тывает первый голос, и подхваты —
вает другой, а там подхватыва —
ет третий, и четвертый, и пошло —
поехало…
Вдруг посредине песни
я чувствую дыханье за спиной,
и в тот же миг две теплые ладони
глаза мне закрывают – отгадай!
«Труба бубнит, бьют в барабан, и флейта
свистит, но слышно как из-под подушки —
вполбарабана, вполтрубы, вполфлейты
и в четверть сна, в одну восьмую жизни…»
Ах, боже мой, ведь это что-то очень
знакомое… постой, сейчас припомню…
но это же, но э…
Тут я проснулся.
Точнее, не проснулся, а – прозрел!
Да что я, в самом деле! Разве Дух
живет в черте оседлости? Ужели,
опутан всеми видами родства,
он в клеточке из двух меридианов
и параллелей мечется, как в клетке?
И должен записаться справкой с места
работы? Заучить, кто председатель
Народного Хурала и когда
родился третий секретарь посольства
арабски-дружественной к нам страны?
Нет, нет же! Без прописки и без вида
на жительство, беспечный как звезда,
Дух вечен, ни пространство и ни время
над ним не властны, это Вечный Жид,
не знающий покоя, безучастный
к домостроительству, томимый жаждой
познать, увидеть, встретить, обрести, —
и строить миражи, чтоб обмануться,
и находить, чтоб снова потерять…
Не он ли в чернокожего шамана
вселялся, чтобы тот, как бесноватый,
тряся своим магическим йо-йо,
так истово вымаливал дождей,
что небеса внезапно разверзались?
не он ли взбаламутил Рим? Не он ли
потряс основы Дариева царства?
И Беккета послал под нож? И Салем
поджег, безумный, с четырех сторон?
Дух – это смута, это вечный бунт,
Дух – это дрожжи, бешеный источник
брожения в умах и государствах,
фанатик джинн с запавшими глазами.
О, бойтесь, бойтесь Духа! Ведь ему
дано являться в тысяче обличий,
но будь он хоть четырежды бесплотен,
вы без труда узнаете его:
ведь это – Я.
Из бесед шестого патриарха школы Чань с учениками
Об анонимности идеи
Как мать и дочь всегда ровесницы,
ученику учитель ровня:
иерархическая лестница
сгорела в пламени жаровни.
Тому, чья сущность прорывается
к течениям седьмого слоя,
как откровенье открывается
иная высь и дно иное.
Идеи, что ушли в предание
и словно в воздухе повисли,
вдруг обретают очертания
упругой и свободной мысли.
Отшелушатся поколения,
и мысли, растворяясь снова,
уйдут, как некогда, в забвение,
в плену пространства неземного.
И тыща триста лет без малого
пройдет, пока беседу эту
в год снегопада небывалого
случится записать поэту.
О чистоте помыслов
По окрестным дорогам бродили когда-то
Тао-и и Ма-цзу, два монаха, два брата.
Шли, себя не щадя, а уставши с дороги,
обивали смиренно чужие пороги.
И однажды, покинув пределы Кантона,
услыхали монахи рыданья и стоны.
Это дама, ступню подвернув ненароком,
обмерла, остановлена горным потоком.
Тао-и перенес ее. Кончились ахи,
и маршрут свой продолжили братья-монахи.
Десять ли они шли в совершенном молчанье
мимо рощ и полей, где трудились крестьяне.
И промолвил Ма-цзу: «Ты же связан обетом —
сторониться всех женщин. Забыл ты об этом?»
Тао-и улыбается, глядя на братца:
«Я-то что, я всего лишь помог перебраться.
Неужели в беде человека я брошу?
Ты же, брат, до сих пор все несешь эту ношу».
И опять замолчали, влекомы куда-то,
Тао-и и Ма-цзу, два монаха, два брата.
О бескорыстном служении
Всякий раз возвращаться:
к недочитанным свиткам,
к неразгаданным снам,
к родному подворью,
к радости левитаций,
к понесенным убыткам,
к сожженным мостам,
к причиненному горю.
Всякий раз проходить
этот замкнутый круг
из смертей и рождений,
где чудачество – чудо,
чтобы смысл находить
в том, что ты – это лук
в безраздельном владенье
шестирукого Будды.
О символах
Холст без единого мазка на нем.
Стихотворенье без иероглифов.
Сизиф, не слышавший про труд Сизифов.
Вино, еще не ставшее вином.
Звук, тихо дремлющий в себе самом.
Раскрытый лотос вечного соитья.
Доверия невидимые нити.
Стоящий в созерцательности дом.
Мужские деревянные гета,
зацокавшие вдруг в Стране рассвета.
Ладонь всеосязающая эта,
которая на самом деле та.
Высоких откровений простота,
которая наш сон не потревожит,
как пыль на этот мир осесть не может,
поскольку мир – всего лишь пустота.
О тайнах бытия
Три сокровенные есть тайны бытия.
О них поговорить хотел бы с вами я.
Загадка женщины – одна такая тайна.
Все дело в линии, как будто бы случайной,
бегущей, как ручей, что бегом одержим,
или как кисточки волосяной нажим,
который обручил, по-детски безогляден,
округлости холмов с обрывистостью впадин,
и женщину познать, я думаю, нельзя,
иначе как рукой по линии скользя.
Рожденье музыки – вот вам другая тайна,
которая людей волнует чрезвычайно.
Чтоб сочетание всего пяти тонов
пресуществилось в дух, основу всех основ,
и зазвучало вдруг мелодией чудесной,
пожалуй, нет пути иного в Поднебесной,
как только выходить из тела своего
и ощущать душой гармонию всего.
А третьей тайною зовется смерть в народе,
но так как смерти нет и не было в природе,
то медитацией займемся мы сейчас:
впустите мир в себя, и пусть он впустит вас.
О взаимосвязанности сущего
С той же любовью, с какой любишь ты сад,
сад этот любит тебя.
Губит вселенную тот, кто шагнул наугад,
тоненький стебель губя.
Нерасторжимы вовек выдох и вдох,
свет невозможен без тьмы.
Порознь каждый и все мы – это Бог,
так же как Бог – это мы.
Можешь ли быть ты печален, когда несмешлив,
весел – без тихой слезы?
Как убегает Янцзы от серебряных ив,
ивы бегут от Янцзы.
Пчелка нектар у цветка весь забрала,
нежный открыв лепесток.
Кто из них больше был рад – хлопотунья пчела
иль неподвижный цветок?
Кто ничего не терял, ничего не найдет,
вывод из сказанных слов:
Если готов ученик, учитель придет,
если учитель готов.
О красоте
Луна невзначай
упала на дно пруда.
И стало их две.
Об иллюзорности перемен
Два шлемоблещущих воинства друг против друга
молча стоят в ожиданье
сигнала к сраженью.
«Стоит ли вам начинать? – вопрошает округа. —
Вас уже нет, этой брани
бесплотные тени».
Завтра, сегодня, вчера – таковы ипостаси
бога, которому имя
Безмолвная Вечность,
где, разбегаясь кругами в усталом согласье,
чуждая яня и иня,
течет бесконечность.
Выломать стрелки часов? Отравить ли кукушку?
Что на дворе за столетье?
Не знаем – и ладно.
Может ли жизнь, окончательно давши усушку
и уходя уже в нети,
как нить Ариадны,
снова смотаться в клубок? Мы привыкли, что в поле
днем распускаются маки,
хотя понимаем:
нету ни поля, ни маков – по собственной воле
мы как условные знаки
их воспринимаем.
Садом камней очарован, ты бродишь в надежде
точку найти, из которой
увидишь все камни.
Тщетно! Один ускользнет от тебя, как и прежде,
и догадаешься скоро,
что это – ты сам. Не
надо меняться – и так мы подобны Протею
тем, что лицо на обличья
меняем всечасно.
Мы – это чьи-то о нас рассужденья, идеи,
разноречивые притчи,
хранящие нас, но
стоит последней из них отзвучать – и прервется
нить сопричастья живого,
но путь в Капернаум,
он никогда не исчезнет из будущих лоций,
ибо помета есть слова
священного: АУМ.
О парадоксальности понятий
Скажите, если в старом экипаже
всё заменить: начать с колес, затем
рессоры, оси, дуги, верх и полость, —
получится ли новый экипаж
или отремонтированный старый?
Как быть тому, кто держится зубами
за ветку, чтобы в пропасть не сорваться,
когда учитель задает вопрос?
Ответишь – в тот же миг сорвешься в пропасть,
а промолчишь – невежей прослывешь.
Попробуйте полировать кирпич.
Добьетесь ли, снимая слой за слоем,
того, что выйдет зеркало у вас,
и если да, то сможете ли в нем
увидеть отраженье кирпича?
Об интуитивном познании
Кто сказал, что у нас на ладони зеленые ягоды?
Не они ведь себя, а мы их окрестили зелеными.
Где уверенность в том, что пред нами японская пагода,
а не рубленая православная церковь с иконами?
Есть китайский философ, который однажды посетовал:
«Вот бы в бабочку мне превратиться каким-нибудь способом!»
С той поры он в сомнении – сам захотел ли он этого
или бабочка стать захотела китайским философом?
Чем обширнее знания, тем недоступнее истина.
Крикнет вахтенный: «Индия!», а на поверку – Америка.
Десять тысяч предметов – балласт, что набрали вы – мысленно
надо выбросить, чтобы отчалить от этого берега.
Что вы чувствуете – если можно, ответьте при случае, —
став босыми ногами на землю? Прошу не увиливать!
Что? Песок, говорите? Щебенка? Травинка колючая?
Как же так, неужели ступни свои не ощутили вы?
О всеобщей гармонии
Как зыбок мир, как призрачны границы!
Вчера я с интересом наблюдал,
как склевывает зернышки синица,
и вот уже я сам синицей стал
и, зачирикав, крылышки расправил.
Несчастный человек! Как он устал
от выдуманных им самим же правил.
Нет чтобы мир открыть как будто вновь!
Вот я слова местами переставил:
«Любовь есть вечность, вечность есть любовь»,
и вдруг приходит тема, как из бездны:
монах, заставши вора, – «Приготовь
побольше узел, – говорит, – любезный,
сейчас одежды я с себя сниму».
Довольный, канул вор в ночи беззвездной,
Монах же, голый, все глядел во тьму
и сокрушался, что, увы, не властен
луну вот эту подарить ему.
Как мало надо, в сущности, для счастья!
Из паутины собственной души
соткать узор всеобщего причастья,
и человечество из пустоши,
мертвеющей от вереска и дрока,
из этой первозданнейшей глуши
преобразилось бы в мгновенье ока
в могучее лесное братство. Там,
где дышит Запад травами Востока,
воздвигнем мы тысячелетний храм
и будем свечи в нем гасить ночами,
чтобы незримый свет являлся нам,
и слушать голос вечного молчанья.
Об отрешенности от мира
«Ах, если б я был ламтитумом…»
Ах, если б я был ламтитумом
В хихиковой фиговой роще,
Сыграл бы я всем нибумбумам
Тирлямчик из тех, что попроще.
А если в краю ламтитумовом вдруг
Тирлямка моя оборвется,
Пусть холмик зеленый мне даст убаюк
И каждый тирляндыш смеется.
Апропо
* * *
Умом мужчину не понять,
бессильна логики наука!
Ему отдашься – скажет «блядь»,
а не отдашься – скажет «сука»!
На реставрацию церкви
Обновлена и вновь невестится,
но не могу глядеть без грусти:
наш батюшка и перекрестится,
и сам себе грехи отпустит.
* * *
Не скажу, что неврастеник,
но не спится мне, Аннет.
Есть здоровье – нету денег,
деньги есть – здоровья нет.
* * *
Отключился от мира.
Слушаю Коэна.
Соскучился по себе.
Примечания
1
«Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» – слова Иисуса, сказанные им с креста.
2
Жив-здоров, целую, люблю.
3
Августин сомневается (лат.).
4
Во сне (лат.).
5
Кому хорошо? (лат.)
6
Я тебя люблю ( итал.).



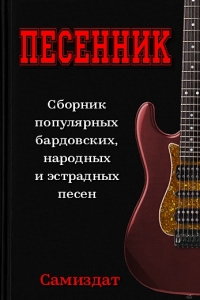

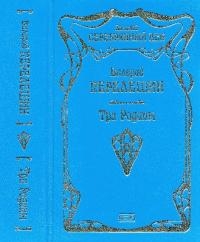
Комментарии к книге «Осенний разговор», Сергей Эмильевич Таск
Всего 0 комментариев