Редакционная коллегия серии:
Р. Берд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
И. Е. Будницкий (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, председатель),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
Т. М. Горяева (Россия),
A. Гришин (США),
О. А. Лекманов (Россия),
B. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
А. Л. Соболев (Россия),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
А. Б. Устинов (США),
Л. С. Флейшман (США)
Издательство искренне благодарит
Юрия Сергеевича Коржа и Алексея Геннадьевича Малофеева
за поддержку настоящего изданияСоставление, подготовка текста, послесловие, примечания: Т. Венцлова
I. Лирика
Стихотворения
Осенняя мелодия
Ночь длинней, утро в тучи одето…
В небе меркнущем стаи гусей
Проводили увядшее лето
Звонкотрубною песней своей.
Уж осыпались бледные клены,
Лес развенчанный дремлет во мгле;
Все задумчивей тихие звоны
Раздаются на ближнем селе.
Отсыревшие за ночь овины
Молчаливо грустят на заре…
Пожелтевшая ветка рябины
Замерла в голубом серебре.
Тянет взор в помутневшие дали
На простор обнаженных полей,
И забытые сердцем печали
Вновь проснулись, но только больней.
Зачарованные мгновения
Когда осенними ночами,
Устав от тщетной жажды сна,
Я воспаленными очами
Гляжу, как бьет в окно сосна;
Когда в неясном ожиданьи
Слух робко ловит листьев шум,
А грудь в предчувствии страданья
Теснит наплыв повторных дум;
Когда мгновенья застывают,
Как длинный ряд жемчужных слез,
И сердце больно цепь сжимает
Былых надежд и смятых грез, —
Тогда в мозгу моем усталом
Встают иные вечера,
И ранят грудь змеиным жалом
Следы ушедшего вчера…
Я помню: осенью глухою
Мы разошлись без слез, без слов,
И я не высказал с тоскою
Того, что выплакать готов.
И вот в молчаньи ожиданья
И в безысходности тоски
Я знаю, как родны страданья
О тех, кто страшно далеки.
Но все ж зачем такой прекрасной,
Такой возвышенной мечте
Даны в удел лишь плач безгласный
И скорбь в житейской суете?
Одиночество
Ветер тучи нагоняет,
Мелкий дождик без конца…
Гнется чахлая березка
У поросшего крыльца.
Мокрый пес дрожит от стужи,
Цепь тяжелая визжит;
Желтый лист с дерев слетает
И по воздуху кружит.
Я в аллее почерневшей
Целый день брожу один;
Вид уныл: забор подгнивший
Да заброшенный овин.
Скучно, скучно в день осенний
Слушать ветра тихий стон
Да соседней деревеньки
Колокольный перезвон.
Дома пусто, неуютно,
Затуманено окно
И дымит камин осевший,
Не топившийся давно.
Зябнут руки, ноги стынут,
Книга валится из рук…
Писк мышей в подполье слышен
Да намокшей ставни стук.
Целый вечер ждешь тревожно
Звука ржавого петель
И ложишься без желанья
Спать в холодную постель.
Но не спится; чутким ухом
Ловишь жалобу дождя
И дрожишь при вое ветра,
Как пугливое дитя.
Никого… Быть может, завтра
Друг проведает меня…
И тревожно засыпаешь
До тоскующего дня.
Русская песня
По долам, по холмам, по дремучим лесам
Льется русская песня широкая,
То, как смех, прозвенит разливным серебром,
То заплачет, как вьюга далекая.
Не в богатых чертогах родилась она,
В вихре пламенном шумного пира,
И не пелась она ни в роскошных дворцах,
Ни средь пышного блеска турнира.
Трубадур молодой в благовонных кудрях
Не знавал этой песни могучей,
Этой песни, что буйным весельем кипит
Что тоскует тяжелою тучей.
В этой песне поется про вольный простор,
Про любовь да про горькую долю;
Ветер песню подслушал и в поле унес
И развеял по чистому полю.
А слагалась она среди темных дубрав,
Среди нив золотых бесконечных,
Среди снежных степей, под небесным шатром,
Да у рек голубых быстротечных.
Этой песней баюкала ночью дитя,
Наклонившись над пряжей, родная;
Буря жалобно выла в осенней ночи,
Монотонно напев повторяя.
С этой песней стучали в лесах топоры,
Серпы искрились, косы звенели;
Эту песню, сражаясь с могучим врагом,
В час последний бестрепетно пели.
Умирали певцы; под травой-ковылем
Отдыхают их кости от боя,
Но жива наша песня и крепнет она
Средь могил и степного покоя…
Да и было что петь нашей песне родной!
Степь без края от моря до моря,
Где орлам лишь летать, буйным ветрам шуметь,
Звонким вьюгам гулять на просторе!
Небеса голубые, поля да леса,
Многоводные реки да нивы, —
А у рек над водой тихо вербы шумят
И тоскуют плакучие ивы…
Оттого-то тоска в нашей песне родной
Бесконечна, как синее море,
Оттого-то и смех в ней и радость звенит
И печалится горькое горе.
Оттого-то могучи так звуки ее
И задумчивей ночи осенней;
Льются плачем они, серебром разливным,
Соловьиною трелью весенней.
К Родине
Никогда не увижу родных я полей,
Не увижу, как нива под ветром бежит,
Не увижу свободных раздольных степей,
Не услышу, как песня звенит
Над рекою уснувшей, как волны шумят,
Как рыдает певец соловей…
Не увижу я больше отчизны своей,
Не вернусь никогда я назад.
Опустеет мой дом, и плющом зарастет,
Развалившись, осыпавшись, свод.
Будет ждать меня долго на ржавой цепи
Верный пес, мой покинутый друг;
Ветерок пронесет по безбрежной степи
Вздох последний затаенных мук,
Что из губ побелевших средь пасмурных грез
При прощанье последнем нежданно слетел…
Да, я помню, о счастьи когда-то здесь пел
Соловей, задыхаясь от слез.
А теперь так все пусто, уныло кругом,
Всюду холод, забвение, сон.
Но довольно! Вперед, на чужой стороне,
Под покровом печальных полей,
Суждено навсегда успокоиться мне,
Отдохнуть от кручины своей.
Надо мною холодное небо шатер
Бесконечный свой бросит, туманная даль
Обоймет все кругом, холодна, как печаль,
И закроет вершины далекие гор.
Облака, что на родину быстро плывут,
Будут знать, где нашел я приют.
Из Окна
Сквозь жемчужные узоры
Мерзлого окна
Степь широкая, как море,
Далеко видна.
Между белыми буграми
В голубой дали
Светло-синими коврами
Тени залегли.
И, серебряной волною
Выткав неба свод,
Месяц яркий над землею
Медленно плывет.
Полынь и звезды
Елизавете Борисовне Маковской
I
* * *
Я променял уют надежной кровли
И молодой, облитый цветом сад
На невода бесплодной звездной ловли,
На синий дым, кадящий в звездопад.
Пути мои неслышны и незримы,
Полынь и терн их густо оплели.
И шествуют немые серафимы
Вослед за мной туманами земли.
Быть может, там, за дальнею горою,
Еще цветут безветренные дни
И белый дом, овеянный зарею,
Струит в закат прощальные огни.
Я все отдал за звездную пустыню,
За тень крыла, за отзвуки шагов;
Я пью вино, пронзенное полынью,
И горький мед безводных берегов.
Святой Георгий
Святой Георгий! Лунный щит,
Молочно-белый конь из вьюги…
Мороза радужные дуги
Цветут на лилиях ланит.
Святой Георгий! Реют хлопья,
Трепещут крыльями у плеч…
Звенящий ветер точит меч
О среброкованые копья.
Святой Георгий сходит с гор;
В долине яблонь веет медом,
И белый год летит за годом
В холодно-радужный простор.
Дымятся вынутые соты,
Пылают свечи дольных дней…
Чтоб стало пламя холодней —
Я трону воск копьем заботы.
Когда же в зреющем саду
Нальются яблоки тоскою —
Я вновь к нагорному покою,
К вершинам снежным отойду.
* * *
Я сжег себя на медленных кострах,
Отдал себя всем ветрам и дорогам
И по полю развеял серый прах
Души моей, взыскующей о многом.
Уста мои сдружились с немотой,
И насмерть слух молчаньем черным ранен;
Луна взойдет над древней пустотой —
Мне зов ее понятен и желанен.
В дыхании размеренных Часов
Один закон, заложенный судьбою:
– Ни чисел нет, ни меры, ни весов,
И все дела – развеются с тобою.
* * *
Сушит губы соленая мгла;
Я тебя провожу до порога;
Знаю – будет, как смерть, тяжела
Предстоящая утром дорога.
Ты нескоро вернешься домой;
Твой корабль осужден на скитанья, —
Посмотри, кто стоит за кормой,
Чье над парусом веет дыханье.
Посмотри, чье струится крыло
Над разорванной пеной прибоя,
Как темно и недвижно чело
У того, кто идет за тобою.
* * *
Ты живешь в омраченной долине
У широкой и темной реки;
Я покорно пришел к тебе ныне
В неживые немые пески.
Я пришел отдаленной дорогой —
Через степи, моря и костры,
Чтоб склониться на берег отлогий
И принять огневые дары.
Я молчанья морей не нарушу,
Проглочу исступленный свой крик…
О, зажги мою слабую душу,
Мой бессильный и робкий язык!
* * *
Вновь в мою неприбранную келью
Ты вошел, суровый серафим;
Из гранита высечена челюсть,
Меж бровей клубится серый дым.
Веет ветр от неподвижных крылий,
Меч времен в опущенной руке,
Мертвый нимб из раскаленной пыли
И печать пространств на языке.
Погоди. В развернутый свой свиток
В скорбный час меня не заноси;
Дай допить отравленный напиток,
Дай мне ржавой горечи вкусить.
Пусть заката пламенные змеи
Мне изгложут сердце до конца;
В этот час коснуться я не смею
Твоего гранитного лица.
* * *
Дышу сухим песком пустыни,
Бреду за тяжкою арбой
Вослед неведомых мне скиний
Путем, указанным Тобой.
Лижу запекшиеся губы
Концом кровавым языка
И слышу скрип, и окрик грубый,
И шаг медлительный быка.
Я изнемог, но не отстану,
Жестокий полдень претерплю,
Или посыплю солью рану
И жажду кровью утолю.
* * *
Через пропасти – к горным вершинам,
К снеговой непорочной заре!
На вознесшейся в небо горе
Обвенчайся с Женою и Сыном.
Если слабое сердце боится
Ледяных осиянных мечей, —
Окуни его в холод криницы,
В звонкоплещущий горный ручей.
И, одевшись в нетленные ткани,
Позабудь о тернистой земле,
Где неведомый путник по мгле
Простирает пронзенные длани.
* * *
Ты хотел. Я лишь вызрел на ниве
Оброненных тобою семян;
Лишь стрела на звенящей тетиве —
Я твоими хотеньями рьян.
Не суди, не меняй же уклона
Предрешенных в начале путей, —
Я в ряду твоих бедных детей —
Всех послушней веленью закона.
* * *
Я не знаю любви, я любви не хочу;
Я один на вершине, средь мрака,
Подставляю чело ледяному мечу
Надо мной запылавшего Знака.
Что мне в женских устах и приветной руке,
В дальних радостях звонкой долины?
Я во льдах причащаюсь Великой Тоске,
Вознесенный, Забытый, Единый.
Мое сердце, как чаша, до края полно;
Не пронзайте ж мне сердца любовью, —
Иль оттает оно, или дрогнет оно
И зальет вас дымящейся кровью.
* * *
Как-то свеж, но по-новому горек
Этот ветер, развеявший день,
Будто горечь любовную пролил
В золотую октябрьскую тлень.
Будто брызнул мучительным ядом
В затуманенный лик тишины, —
Иль то плачет растерзанный дьявол,
Оседлавший обрывок луны?
Этот ветер! Душа моя стынет, —
Я, быть может, лишь призрак давно…
Я отравлен напитком полынным,
Что любовь подмешала в вино.
* * *
На тебе снеговую парчу
Изукрасили лунные тени;
Как-нибудь доплыву, долечу,
Как-нибудь доползу на коленях.
Ты меня не кляни, не гони,
Огляди мою тяжкую ношу, —
Все безмолвно к ногам твоим сброшу —
Ночи, утра и пьяные дни.
* * *
Вижу в блеске далекой зарницы
Довершенного странствия цель;
Обожженное тело томится —
Жестока огневая купель.
Скоро ризы багровые скину
И, разжав облегченно ладонь,
Свое дымное сердце закину
Навсегда в твой холодный огонь.
* * *
Есть такая Голубая долина,
Ласковая, как слово – мама;
Это в ней Господь нашел глину
Для сотворенья Адама.
Я не знаю, как она зовется —
Может быть, любовью или смертью,
Только нигде так сердце не бьется,
Как под ее голубой твердью.
И когда мне приснятся рябины,
Что видел я дома когда-то,
То значит – брат из Голубой долины
Пожалел своего земного брата.
И если сон подарит меня словом,
Что слышал я в колыбели,
То значит – под светлым кровом
В той долине его пропели.
* * *
И вновь приду к тебе небитыми путями
Степей раскиданных, нерубленных лесов
И вновь подслушаю вещанье голосов
Ветров, играющих с отцовскими костями.
Пойду в углы твои. Растению и зверю,
И камню каждому снесу печаль свою,
И вновь, о, Родина! в твой дальний скит поверю,
И в ключ живой воды, и в мертвую струю.
* * *
На запад солнца иду в пустыне,
Закатной ризой мой путь одет;
Благословен ты всегда и ныне,
Благословен ты, Вечерний свет.
К тебе я жертвой иду вечерней,
Душа молитвой опалена, —
Даруй мне розы кровавых терний,
Дозволь печали испить до дна.
На месте казни еще так много
Не освященных страданьем мест, —
О, если б рядом с распятым Богом
Собой заполнить вселенский крест!
Но в час последний, но в час заката,
Когда полнеба сгорит в огне,
Пронзи мне сердце мечом возврата
И дай на землю вернуться мне.
Чтоб с новой скорбью в пески пустыни
На опустевшей твоей земле
Я мог смиренно, всегда, как ныне,
За тихим светом идти во мгле.
* * *
Быть может, мне завещаны печали,
Быть может, мне завещаны грехи, —
Зарю мою так горестно встречали
Под окнами чужие петухи.
Быть может, мне завещаны деянья, —
Я помню ночь в грохочущем огне,
И странное жестокое сиянье,
И всадника на облачном коне.
Быть может, я – лишь вестник чьей-то воли,
Лишь отзвуком рожденный перезвон,
Лишь пыль в луче, лишь терпкие мозоли
На длани, сеющей Его закон.
Не знаю я. Но, может быть, недаром
Пути мои запутались в дыму,
И жизнь моя отмечена пожаром,
И мысль моя возносится к Нему.
* * *
Тебя я видел, но не помню,
Быть может, ты – мой первый сон, —
Но я в твою каменоломню
Принес ославленный мой звон.
Быть может, горные громады
Ответят эхом на слова,
И к новым песням водопада
Твоя склонится синева.
И станет правдой сон долины, —
Восстанешь молнией в горах
И жизнь вдохнешь в сосуд из глины
Иль сокрушишь его во прах.
* * *
Я не верю, не верю, не верю!
Ты не хочешь, не можешь помочь, —
Ты смеешься за огненной дверью
Над ушедшими в снежную ночь.
Ты изверился в собственной власти
Управлять мировым кораблем, —
Ветры рвут оголенные снасти,
Правят бездны разбитым рулем.
И зачем ты слепишь мои очи
Ледяными мечами зарниц?
Есть в пространствах дороги короче,
Чем дороги твоих колесниц.
Я не верю, не верю, не верю!
Пусть я в бездне седой потону,
Но пылающим сердцем измерю
Ледяную ее глубину.
* * *
Ты летишь к неживому созвездью,
Где клубится предельная мгла, —
И взывает архангельской медью
Каждый взмах ледяного крыла.
И повсюду, где вздетые руки
Призывают покой на миры,
Ты роняешь холодные звуки
Равнодушной последней игры…
Труби, труби! Ответные звучанья
Мой черный плащ взметнули и сожгли…
Труби, труби! Я плачу от молчанья
Моей глухонемой земли.
Святой Георгий
Вьюжной ночью, в вихре оргий,
Сердце выкупав в вине,
Взметом ввысь святой Георгий —
Я – взвиваюсь на коне.
Вольным летом конь крылатый
Будит волны Бытия,
А метель мне режет латы
Блеском лунного копья.
Словно искрой, кровью алой
Опален мой путь во мгле,
И от крови цветик малый
Прорастает на земле.
И из звезд, что вылетают
Под ударом конских ног,
Чьи-то руки мне сплетают,
Как из терния, венок.
Я спешу к вечерне звездной,
Догоняю горний звон, —
А за мною путь морозный
Жаркой кровью окроплен.
II
Лунное моление
В небе заиграли лунные гусли,
Засветилась, как новая колокольная вышка;
Вышел послушать луну суслик,
Выбежала посмотреть на свет мышка.
Смотрят и молчат. Молятся, как умеют —
Богу ль, луне или темной норке,
Или тем уголькам, что тлеют
Не то в небе, не то на пригорке.
Стали пусты совсем закрома и клети,
Только ночью, вверху, рассыпаются зерна, —
Не подашь ли ты их, Тихий Свете,
Тем, кто смотрит и ждет так покорно?
А если чем они и согрешили —
Прости их, неразумных и малых,
За то, что нашли тебя в звездной пыли,
И в луне, и в угольках алых.
У врат
Гряди. Закончено. Прими Голгофу снова.
Невеста скорбная восстала ото сна.
Дорога в терниях, – но нет пути иного,
В сосуде кровь твоя – испей ее до дна.
Вино отпенилось. Пшеница перезрела.
Последний гвоздь забит прилежною рукой.
Багровы облака. В полях царит покой.
Кресты позорные ждут мук твоих и тела.
Готово. В утренних туманах до рассвета
Перекликаются протяжно петухи.
Цветут шиповники. Свершается. И где-то
Уже предчувствием объяты пастухи.
Струги закатные
Вздыхают коровы, думают думу коровью,
В светлой печали молят о Божьем чуде, —
А в небе солнце истекает кровью,
Как отрубленная голова на голубом блюде.
Словно ласковые цветы, столпились овечки
Под мягкой грудью придорожной кручи,
А в вечернем небе тонкие свечки
Подпалили края у белоснежной тучи.
Ах ты, край мой родной, родина моя Россия,
Юродивая странница на стародревнем погосте,
Уж придет он к тебе, хоть во сне, твой Мессия,
Приголубит твои наболевшие кости.
Поклонится он живой твоей ране,
И расцветут просинью и багрянцем степи,
Изойдут колокольным звоном, а в тумане
Задрожат звезд золотые цепи.
Истомили тебя перелетные вьюги,
Иссекли твое сердце до крови снегами,
А теперь из закатов Господние струги
Выплывают, плывут облаком над лугами.
Все ярче у небесных петухов позолота,
Все шире разлегается звездная дорога, —
То, раскрываясь настежь, солнечные ворота
Выпускают к тебе на землю Бога.
А когда б и погасли над лесом сполохи
Недорезанной предзакатной птицы, —
На тех стругах доплывут до Христа твои вздохи,
И самому Христу Русь приснится.
Тогда сойдет Иисус с престола заревого,
Тихонько придет на стародавнее кладбище
И, чтоб не лишить тебя последнего крова,
Станет таким же, как и ты, нищим.
Рядом с тобою, в темном притворе
Кладбищенской церкви будет долго молиться,
И простится тебе многое за твое горе,
А за грехи твои – и все простится.
Криница светлая
Есть там, на перекрестке, светлая криница,
Полная до сруба ключевой воды;
Я пойду к ней ночью, когда не спится,
Когда куются помыслы из лунной руды.
Сяду там под ветлами, что склонились низко,
Припадают головами до самой земли,
А над ними широкая синяя миска,
А в ней плавают звезды, как золотые корабли.
Я не знаю, говорил мне когда-то кто-то,
Что у такой же криницы ты явился вдове, —
Буду ждать, пока в небе не взойдет позолота
И роса не рассыплется бисером по траве.
Буду ждать, пока белые предутренние гуси
Не выбегут облаком на небесный луг;
Ты придешь ли ко мне, кроткий мой Иисусе,
На заре напиться из моих рук?
Ты приди ко мне странником, пастухом убогим,
С порванной котомкой на согнутой спине, —
Я омою слезами твои изрезанные ноги,
Буду охранять тебя в твоем светлом сне.
Заготовлю лучшие, самые душистые соты,
Выпрошу у соседей сладкого вина,
Приму, как утешение, тяготы и заботы —
Вся душа моя, Кроткий, тебе видна.
Я сижу на перекрестке у светлой криницы,
Меж ключей купается луна на дне,
По краям плещутся звездные плетеницы,
А там Иисус плывет в голубом челне.
На голове у него белые ромашки,
Ласковый привет цветет на розах губ, —
Да не дотянусь до его лунной рубашки
Через осклизлый криничный сруб.
Моление о чуде
Знаю, мой Кроткий, в глубинах сосуда
Кровь твоя зреет в венок алый,
Но земля истомленная просит чуда
И в твою тайну верить устала.
Устала падать в черные пустоты,
Внимать одиноко звездному безмолвью
И бросать свои зовы извечные: «Кто ты,
Напоивший меня вместо вина кровью?»
Ты прости меня, Светлый, но это уж было,
Это чудом давно уже быть перестало —
Бег планеты, и погибших миров могилы,
И ожерелья из солнечного коралла.
И звездные кресты на синем своде,
Символы твоего распятья земного, —
Разве ты не видишь, что радость на исходе,
Что твои дети ждут иного?
Ждут ясного конца и простого начала,
Предугаданных дорог, видного кругозора,
Верного челна, испытанного причала
И чтоб обещанное свершилось скоро.
И чтоб не было загадок во всем твоем чертоге,
И ни намека, что где-то, за небом,
Плачет Бессмертье об ушедшем Боге
И о голубой тайне, что стала хлебом.
Голгофа малых
Как же мне не скорбеть, Господи, как же не плакать,
Что это деется на белом свете?
На дворе такой холод и такая сырая слякоть,
А там, на перекрестках, умирают дети.
Ты посмотри на них, на этих белоголовых,
С раскрытым взглядом и оцелованными волосами, —
Не ими ль ты тешился в земных своих ловах,
Не их ли усмешками и голосами?
На горнем небе такие чистые сполохи —
А тут, по канавам и полевым ухабам,
Алыми каплями расцветают чертополохи
И кланяются в ноги простоволосым бабам.
А те, безголосые, слушают, как большой овод
Звенит где-то над ухом про какое-то дело,
И глядят, как облупленный мокрой глиной обод
Перекатывается через маленькое неживое тело.
И добро б еще были они мученики или пророки,
Или какие разбойники – а то просто пташки,
Ласковые цветики, говорливые сороки,
Приодетые в материнские заплатанные рубашки.
Даже и не знают, что навсегда уходят
От журавлей и свистулек и грачиного крика;
В предсмертных сумерках все еще котята бродят
И выглядывает заяц из-за смертного лика.
Как же мне не скорбеть, Господи, как же не плакать?
Распинают малых сих на сухой ржаной корке,
А они отдавали всю хлебную мякоть
Воробьиным стаям и мышиной норке.
Или это голгофа, каких еще не бывало,
Или ты создал все эти муки
Оттого, что своей уже недоставало,
Чтоб оправдать твои пригвожденные руки?
Иль, умирая с каждой этой смертью,
Ты и воскреснешь уже по-иному
И не закроешься больше звездной твердью
От цветов, расцветивших земную солому?
Крест срединный
Я распял твое покорное детское тело
На высоком и не по росту большом кресте
И не видел снизу, как роза зрела
На пронзенном моим копьем животе.
И не расслышал я, что́ перед смертью шептали
Твои искривленные от боли уста;
А по бокам, в темноте, как цветы трепетали
Два пригвожденных кем-то Христа.
Я не видел, как опускались и подымались ресницы
Не по-детски прощающих твоих глаз, —
Только помню, в тучах грозовые зарницы
Расписали кровью небесный иконостас.
И один пригвожденный говорил другому:
«Тоскует дух мой, я изнемог»…
Расплясавшийся ветер подбирал солому,
Разворачивал одинокий далекий стог.
По земле пробирались густые тени,
Пугливо прижимались к высоким крестам,
Целовали перебитые бессильные колени
И отбегали к черным кустам.
И другой пригвожденный говорил с верой:
«В день твоей славы нас не забудь,
Не отмеривай тою же мерой,
Ты, не познавшая молока грудь!»
И когда я дождался лунного диска,
Сквозь поредевший расплесканный мрак
На два мертвых тела, обвисших низко,
С высоты глядел остеклевший зрак.
Поводырь всех скорбящих
Пречистая Матерь выходит встречать Сына;
Синие тропы расцветают золотым песком;
Тихоокий серафим из небесного кувшина
Заливает вечерние зори звездным молоком.
Над самой головою в измарагдовой чашке
Заулыбались, затрепетали голубые васильки,
Облака приоделись в чистые рубашки,
Набросали на пригорок розовые венки.
Я пойду к пресвятой Деве по звездному раздорожью,
Туда, где проглянул серебряный двурог,
Вызову тихонько светлую Матерь Божью
Из райского терема к себе, за порог.
Выйдет ко мне радостная и загадает вначале:
«Что ты здесь печалишься, грешная душа?
Выпей из моей чаши Утоления Печали», —
А я стану на колени и не приму ковша.
Посмотрит Владычица на меня с укором,
Засмутнеют жемчуги на вышивках ее риз;
Заплачу тихонько перед благостным взором,
Заплачу и укажу ей на землю, вниз.
Упрошу ее выглянуть за облачные подушки,
Покажу каменистый, поросший тернием край, —
А там, по бездорожью, бродит, шарит старушка,
Ищет ощупью двери в заповедный рай.
Для слепой не засветит Господнее солнце,
Не порадует старую Христова заря,
Так все и ходит от оконца к оконцу
Одна, без провожатого, без поводыря.
«Пресвятая Богородица, – проговорю я с плачем: —
Ты дозволь мне запреты Господние сломать,
Ты дозволь мне сбегать за кем-нибудь зрячим,
Чтоб проводил на небо мою убогую мать».
Затоскует тут Печальница и побежит шибко,
Повстречает, проводит странницу Москву…
А в небесных лугах заиграет лунная скрипка,
И серафим тихоокий преклонит главу.
* * *
Скучно смотреть, как дождь
Моет заржавленные крыши;
Хмурится в клетке дрозд,
За печкой скребутся мыши…
Забралась с куклой в угол;
Заплетает ей косичку,
Рассказывает про огородных пугал,
Про волка и про лисичку.
Заснула. У куклы глаза открыты, —
Не кукла, а такой ребенок…
Осенний дождик сеет, как сквозь сито,
Под желтым листом мокнет опенок.
Спит маленькая Божья Матерь
С розовой девочкой – Иисусом…
Вылез таракан на скатерть,
Подумал – и перекрестился усом.
* * *
Быть может, есть заветные границы,
Где скорби тень – чем гуще, тем светлей,
Где плевелы становятся пшеницей,
Где вал морской не топит кораблей.
Быть может, есть бездонные глубины,
Где радостью страданье расцветет,
Где все, что здесь, – лишь крылья голубины
Для тех, кто в ночь зовущую идет.
III
* * *
В поле водном месячный серп
Жнет и топит созвездий злаки;
В этот час печалится зверь
В недобитой душе собаки.
Мне не жаль крылатых потерь,
Я крылом не взмахну отныне —
Не орел, а раненый вепрь,
Я хочу умереть в долине.
Пути волчьи
Раздирает шаги гололедица;
Словно вымерла пушная тварь…
Помоги мне, святая Медведица,
Одолеть крутозубый январь.
Семь ночей моя серая молится
Богородице звездных полей, —
Допусти нас небесной околицей
К берегам, где шумит Водолей.
Волчьим ранам, скитаньям и голоду
На земле не наступит конца;
Пожалеешь ли алчущим смолоду
Златорунного мяса Тельца?
По степному уделу – обычаю,
Чтя великий закон вожака,
Мы попотчуем свежей добычею
И тебя, и святого щенка.
А натешившись вволю вечерею,
Соберем окровавленный мех
И распустим в метелицу серую
Для волчих, для волчат и для всех.
Чтобы видели все бездорожные
В дымном трепете утренних зорь,
Как идет на пути зарубежные
Искалеченный вьюгами вор.
Север
От мухоморов, от морошки
К реке плывет дурманный дух;
В рассветном небе гаснут плошки
И трепыхает злат-петух.
Спустила цепкую сорочку,
Примяла тяжко росный мох
И, дрогнув, вывернула кочку
Косым разметом крепких ног.
Сентябрь. Пора медвежьей свадьбы.
Проскачет вспугнутый олень.
О чем на счастье загадать бы,
Да чем прогнать тугую лень?
Вода боков не расхолодит,
Лишь смочит рыжую косу…
Сегодня, видно, Одурь бродит
В сторожко гукнувшем лесу.
Святогор-скит
[Святогор-скит]
Было то у Миколы-на-Проруби
В вечер синь, на сочельном посту;
Прилетели три белые голубя
И уселись рядком на мосту.
Говорит один: «слушайте, братие,
Наступает предсказанный час:
Ныне в ночь довершает зачатие,
Ныне в ночь дорождается Спас.
Не забудем же встретить желанного,
Принесем, заготовим дары:
Да возжгутся во имя избранного
По ярам, по дорогам костры;
Чтоб погрелися косточки битые
На веселом гудящем дыму,
Чтоб потешились, кровью облитые,
В костряном жаровом терему».
И другой говорит: «ты припомни-ка,
Не любил ли он трав и цветов?
Так поищем же, брат мой, терновника, —
Под снегами немало кустов.
Летом ало цвели тут репейники —
Расклюем, рассугробим снега;
Нам помогут святые келейники
Иль какой монастырский слуга».
И сказал тогда третий, вздыхаючи:
«Заготовим родному и крест —
Веселится он, казнь вспоминаючи,
Полетим да поищем окрест».
Улетели три белые голубя,
Говорят да поют на лету…
Было то у Миколы-на-Проруби
В вечер синь, на сочельном посту.
*
Шли, спешили дорогой прохожие
К той ли Проруби, в скит Святогор,
Два святые угодники Божие —
Сам Микола да воин Егор.
У Миколы сосульки всю бороду
Заковали в узор ледяной,
А Егорий, что яблоко с холода,
От мороза румяный, хмельной.
Из далекого странствия долгого,
Армяком заметая снега,
Исходили всю землю, от Волхова
До озер, где глядится тайга.
Порыбачили лето на севере,
Обновили сруба на Оке,
Погрозили сердитому деверю
На слободке в Великой Луке.
Исполняя заветы Господние,
Крыли тесом, строгали и жгли;
По Уфе, где река мелководнее,
С мужиком захмелевшим плыли.
Много сделали руки умелые,
Ворочаться пора в Святогор;
А навстречу им голуби белые
Пролетают, ведут разговор.
Как услышал Егорий воинственный —
Возгорелся в груди его гнев…
А над зорями вечер таинственный
Довершал многозвездный посев.
А под зорями, ризами снежными,
Как парчой голубой, убрана,
Источалась сияньями нежными
Неоглядная та сторона.
Да курился, кудрявее ладана,
На восковых сугробах закат,
Закровавив нежданно-негаданно
Вежи скитских трехъярусных врат.
«Да не быть по сему, неразумные!» —
Звонко воин Егор возопил,
И в ответ ему отклики шумные
С плачем встали из снежных могил.
«Для того ль мы ту землю лелеяли,
Распахали с трудом целину,
Чтоб Сыновние кости засеяли
Восприявшую Духа страну?
Для чего, по какому писанию
Вы тельца обрекаете вновь?
Для разбойного ли целования
Предаете Сыновнюю кровь?»
Отцветали на вежах цветения
Копьеносной вечерней зари;
И взыграли от вьюжного пения
На церквах голоса – звонари…
*
Отзывается с ласкою в голосе
Всех-Заступник, суровый с лица:
«Ой, Егор, не о каждом ли волосе
Попечение Духа-Отца?
Не греши: схорони же ненужное
Ты свое золотое копье…
Эк гульнуло смятение вьюжное,
Ни за что перемерзнет зверье!»
И повышли тут волки бездомные,
На слова те, из дебрей-лесов;
Собиралися рати огромные
Худошерстых заморенных псов.
С перебитыми лапами гнойными,
Без ушей, голося и скуля,
Выходили рядами нестройными
Из вертепов к скиту на поля.
Притащилась телушка безрогая,
Обомшелый невидящий кот,
Вол-печальник, овечка убогая —
Всякий Божий обиженный скот.
Загорелись зелеными свечками
В помутнелых просторах зрачки,
И двумя золотыми колечками
Над святыми сплелись светляки.
В тьму ночную, в метелицу серую,
По бокам, впереди, позади,
Покатилось: «о, Господи, верую,
Пожалей, отпусти и гряди!
Укажи нам дорогу спасения —
Что ни шаг, то тяжеле наш путь; В светлый час торжества воскресения
Не покинь свою тварь, не забудь.
И не бойся земного страдания:
В день великий венца и креста
Мы омоем слезами рыдания
Распаленные жаждой уста.
Мы повынем колючки терновые,
Чисто вылижем стрелы заноз
И могилы голгофские новые
Оплетем благовонием роз.
Выходи же – дождями кровавыми
Разгуляйся в засушные дни;
Стужу зимнюю, темень – забавами
Звонкогудых пожарищ пугни».
Приутихла тут вьюга-метелица;
Светел месяц окно прорубал,
Звезды по небу тропами стелются;
Божий воин Егор замолчал.
И неслышному зову внимаючи,
Примечая невидимый свет,
Отвечал им Микола, рыдаючи:
«Верьте, детушки, верьте: грядет!
Ибо нету такого моления,
Нет такого страданья и зла,
Для которых бы кровь искупления
Из Исусовых ран не текла».
И сказал, обращаясь к Воителю:
«Ой, сдается мне что-то, Егор,
Что мы рано взалкали обители, —
Не пора нам, сынок, в Святогор.
Нерадивые мы огородники:
Кто досмотрит без нас огород?»…
И свернули святые угодники,
Удалились от скитских ворот.
Воротились, гонимые вьюгою,
В те края, к тем ли Божьим углам,
Где поникли леса над Ветлугою,
Где в тумане почил Валаам.
В край, где хмурятся избы горелые,
Да вразброд голосят петухи,
Да летают три голубя белые,
Отпуская заране грехи.
Звездной тропой
Распятие, Воскресение, Вознесение
Всякая жертва солью осолится.
Марк IX, 49
I
О, мои сестры,
Глядите,
Как оскалились остро
Холодные копья!
Идите, идите,
Заполняйте собою вертепы и площади…
Уже падают снежные хлопья
С раскаленного неба;
Затрепетала земля, не смея заплакать от боли
По тебе, Господи!
Никнут в поле
Колосья ненужного хлеба.
Сестры мои!
Идите в притоны,
Разбросайте свое целомудрие
По грязным канавам:
Разве можно принять
Те стоны?
Отдайтесь греховным забавам
И разврату,
Продавайте себя отцу и брату
Примите бремя кровосмешения
И навсегда позабудьте дорогу
К обетованному.
Разве посмеете вы покупать спасение
Смертью Бога?
Откажитесь же от воскресения,
От чуда,
И, чтоб не свершить горшего преступления,
Погрузитесь в зловоние блуда.
И чем страшнее будет ваша жертва,
Чем безутешнее будут ваши страдания, —
Тем скорее он встанет из мертвых,
Чтоб освятить ваши поругания,
Чтоб вознесть ваш добровольный отказ
К самому сердцу престола.
И скажет он:
«Се – Аз,
И се – мои раны,
Мой стон.
Возлюбили меня больше спасения, —
Как оставлю их в их печали?»
Братья мои!
Что предсмертные взоры его тревожите
Верою?
Воздайте ему тою же мерою:
Распинайтесь, как можете —
Сердцем, телом, душою и холодом стали.
Выньте свои мечи
И стрелы;
Разите своих детей,
Матерей,
Отыщите пределы
Последних страстей…
Уже меркнут лучи над его головою,
Глубже впиваются тернии;
Сгущаются тени вечерние,
И средь звериного воя
Опускается ночь…
Бойтесь, чтобы кресты не остались пустыми!
О, отчего среди вас
Посмел
Лишь один быть Иудой?
О, отчего из бесчисленных тел
Только одно приютила смоковница,
А прочие – ждут чуда?
Да! Исполнится!
Он воскреснет, придет для Фомы,
И принесет убоявшимся тьмы
Свет, —
И земля не ослепнет от горя, не станет немой от стыда,
Нет!
Вы пойдете за светлою тенью
Туда,
Где ни печали, ни тленья;
Вы обретете свой смех
И будете радостно петь, что души вашей грех не коснулся,
Ужас и грех!..
Тише!
Он, кажется, снова проснулся;
Он еще жив…
Тише… Он смотрит, как плачут в колосьях маленькие мыши…
Тише! Он слушает шорох вздыхающих нив…
Тише, о, тише! Он умер.
II
Мария, Мария,
Раскаявшаяся блудница,
Перестань рыдать, биться о камень головою.
Иди, возвести его мать,
Что в смертельной тоске томится,
Иди, возвести, что воскреснет Мессия.
Возвести,
Что от розовой кашки,
От колокольцев лиловых,
От смешливого хмеля и ласкового повоя
Заблагоухали пути,
Как райские тропы.
Распусти свои светлые косы
Вдоль белой рубашки;
Из молоденьких веток сосновых
Сплети
Вечно зеленый венок,
Что никогда не увянет.
Принеси полевые цветы
И травы
И сложи их у стареньких ног
Той, чей сын осужден за преступленье Варравы.
Отойди от могильной плиты,
Не мешай воскресенью.
И не предавай проклятию
Ты, неутешная,
Того, кто помог свершиться распятию,
А потому и воскресению, —
Разве можешь ты знать все пути к спасению
И все тайны безгрешного?
И не тебя ли,
Кого звали блудницей и прелестницей,
Кого человеческие похоти
Трижды распяли
На всех перекрестках,
Избрал он радостной вестницей?
И не ты ли,
В чье лоно стекалось потоком
Для непотребства и смерти
Семя, таящее плоти возможных святых и пророков,
Ныне – устами, закаленными в горниле пороков,
Целуешь края небесной тверди?
Не тебя ли омыли
Слезы его смертного плача?
А теперь ты стала его невестой,
Самой прекрасной
И девственной,
И им воскресла.
О, скольких мужей и любовников
Обнаженных
Качали твои голые чресла?
А он знал ложе только из терновников
И поцелуи
Одних прокаженных.
Приготовься петь аллилуйя,
Закажи колокольные звоны,
Заготовь песни,
Слова
И амвоны
И радость святого «воскресни!»
И никого не кляни
В эти
Миги,
Потому что они
Все его дети,
И нужны, да, нужны кресты и вериги.
И к чему
Девственность чистых,
Если ему
Не пожертвуют ею?
И к чему вся Галилея,
Если б он был не нужен?
Палач и жертва —
Два конца одного начертанья,
И как бы воскрес он из мертвых,
Если б не было
Самого умиранья
И смерти?
Не дерзай, не дерзай, о, Мария!
Быть свидетельницей
Чуда;
Пусть довершит один Мессия
То, что свершил Иуда
По его повеленью.
О, скорее, скорее!
Подымайся,
Не медли:
Уже светятся раны
Назорея,
И земля приготовилась крикнуть осанну.
Мария, Мария,
Раскаявшаяся блудница,
Разве ты не видишь,
Что готова раскрыться гробница,
Что развязались петли
На саване?
Вот уже светлые тени пришли,
Стали у входа;
Скоро все корабли
Соберутся в заветные гавани,
И небо закровавится кровью восхода,
И задрожат все складки земли.
Оботри же свое лицо,
Надень лучшие одежды,
Заготовь пасхальное яйцо,
Ибо готовы
Разомкнуться его вежды
И дать миру свет новый.
Иди же, скажи
Всем плачущим, скорбным и ждущим:
«Братья,
Верьте!»
И научи их точить ножи
Во имя грядущих.
Но поспеши, поспеши,
О, Мария, возлюбленная ученица!
Ибо вызрело солнце в тиши
Гробницы;
Довершилось зачатье,
И пора всем узнать и склониться.
III
Дети!
Скоро своими очами
Увидите сердце надзвездного света:
За то, что в смиреньи так долго
Были вы палачами,
Он удостоил вас жертвою стать.
Радуйся, мать!
Твой ребенок с тобой вознесется.
Красными пальцами жарко коснется
Огонь
Пятен позора
И засмеется в слезах просветленного взора.
Собирайте сухие поленья,
Пусть загудит красноперый костер,
Пусть разовьет свои звенья
В длинную цепь до небес…
Нож был остер,
Раны дрожали от боли, – он умер, он снова воскрес.
Ломайте заборы,
Собирайте солому,
Все, что горит;
Расставляйте дозоры,
Не подпускайте еще недостойных к заветному дому,
В этот огненный час!
Только теперь
Можно позволить запретное пение.
Все ли готовы принять вознесение?
Так разрешите сердца:
Во имя Духа, Сына, Отца —
Верь!
Кланяйся, кланяйся чаше,
Этой Господней ране!
Дети, омоемся в огненной бане,
Чтоб убедиться краше
Горних снегов,
Чтоб не заследить небесных лугов.
Звездной тропою войдем в золотые врата
И предстанем
Пред ликом Христа;
Принесем ему свои ножи,
Что проржавели от крови во имя его…
Там нас встретят святые мужи.
Станем,
Скажем,
Покажем,
И нам позавидуют серафимы
И херувимы,
И все бесплотные духи.
Потому что,
Братья,
Он приходил для распятья,
И Иуда предал его на муки,
А мы
Пригвоздили его руки.
Иуде
Любовь
Отдали;
Отреклись от того,
Кого
Так долго алкали.
Взяли
На себя
Самое тяжкое бремя:
Любя,
Убили, —
А теперь настало время.
Радуйтесь!
Не мы ли
Самую черную работу
Исполнили?
Дали кресту позолоту?
Господи, Господи!
Дали ранам его благовонный янтарь,
Шипы превратили в розы,
Освежили засохшие лозы,
Мы!
А теперь приемлем великую гарь!
Господи, Господи…
Не достойными дыханья чумы
Устами
Будем целовать его ноги;
Прикасаться к телу самого Бога!
О, Господи, Господи! За что благословил нас
убогих
Лучшими твоими крестами?
1921
Полынь-город
Через степи, от моря до моря,
Меж метелок сухих ковыля,
Разметалась, хмельная от горя,
Святорусская тая земля.
А над нею, до утра, зарницы,
Окликая поля да леса,
Полыхают, как вещие птицы,
Зазывают зарю в небеса.
*
Есть бревенчатый город, где княжит
Век за веком Червонный Петух;
Там куренья кадильные вяжет
Горь-полынный занозистый дух.
Городские замшелые вежи
Опрокинулись в речку Горынь;
А ведут к нему тропы медвежьи,
А зовется тот город – Полынь.
Лишь замесит к заутрени солнце
Золотистое тесто в деже,
Лишь опара созреет на донце, —
Красный Певень встает на меже.
Забирается выше и круче,
Бьет в зарю звонкогудым крылом,
Гасит кровью сполошные тучи,
Высылает окрест бурелом.
И взлетают тесовые крыши
Прокаленных дотла теремов,
И взмывает все круче и выше
Петушиный заливчатый зов.
*
Выбегает Звонарь на звонницу,
Бьет в набухший от меди набат:
«Кто там ловит Червонную Птицу
По верхам свеченосных палат?
Кто там рвет переметные звенья
На моих жаровых куполах?
– От того петушиного пенья
Разлегается по небу шлях.
От того петушиного крика
Мимо солнечной зыбкой дежи
Добегут до Господнего лика
Перевитые дымом межи.
Говорю вам: недаром так долго
Я пускал Петуха на зарю —
Я из пламени новую Волгу
В надзакатных полях сотворю.
Из пожарного звонкого злата
Отолью парома-корабли,
Чтоб на них вы еще до заката
К Святодуху причалить могли.
Не гасите же стона и гуда,
Говорю тебе: дочиста сгинь
И воскресни глашатаем чуда,
Мною избранный город Полынь!»
Закрутилась тут в пляске великой
Ненасыть седокосая Гарь;
И спустился, сошел огнеликий
Со звонницы на землю Звонарь.
*
На Полынь-город молния пала,
Запалила с востока врата,
И сбежались от стара до мала
Горожане на голос Христа.
Красный Певень играет и скачет,
Призывает к небесным тропам,
А Полынь-город стелется, плачет,
Припадает к Христовым стопам:
«Ты не жги наши белые вежи,
Золоты купола не круши, —
Не замрежить в червонные мрежи
Опоенной полынью души.
Опояшет ли звезды тугая
Опояска из речки Горынь?
Да и есть ли такая другая?
Пожалей, Иисусе, остынь.
Скинь прохлады студеные ризы
На того своего Петуха,
Что срывается, пламенно-сизый,
Острым клювом кровавить верха.
Мы и тут твои верные дети —
Сколько храмов тебе возвели, —
Не губи же палаты и клети
Святорусской убогой земли!»
И выходит Звонарь на звонницу,
Простирает в просторы ладонь;
Призывает Червонную Птицу
Заклевать красноперый огонь.
И опали крылатые цепи;
Певень облаком сгинул рудым;
Заревые ковыльные степи
Перевил, словно ладаном, дым.
Заблистали сквозь дым златоглавы,
Выгнал звездное стадо пастух…
– Возлюбившим страдания – слава;
Возлюбившим любовь – Святодух.
1922
Каменная любовь
М. К.
* * *
He кровь моя, а древняя смола,
А черный мед, до боли вздувший жилы, —
Ты лучшего напитка не пила,
В тысячелетиях такого не любила.
И кто сказал, что пройдены пути,
И кто солгал, что сердце знает сроки?
Сквозь мускулы врастают до кости
Любовные тяжелые уроки.
И нам ли знать начала и концы,
Когда вино и желчь – одно и то же,
Как свежесть губ и терпкие рубцы
На выжженной любовным зноем коже.
Сердце Адама
Да, плоть Адама из рыжей глины,
Земли и крови глубокий вздох, —
Я лягу грудью на дно долины
Молчать и слушать, как зреет мох.
В тугом наплыве прижать ладони
К прогретой солнцем живой земле
И плавить сердце в крутом разгоне
От плеч до горла и до колен.
И взмоет радость сырого гнева,
Загнется дыбом немая кость, —
И рядом ляжет покорно Ева
Вместить всей плотью любовь и злость.
Когда же к новой весне в долину
Сойдутся звери на дым жилья —
Я покажу им со смехом сына,
С таким же рыжим лицом, как я.
* * *
Что делать мне с моей тяжелой кровью,
Чью плоть еще угрюмо раздавить?
Душа моя, в страданьи и любви
Ты с каждым днем все жестче и суровей.
Не сердца ход под выгнутым ребром —
Протяжный крик и мускулов разрывы, —
В сухой зрачок медлительно и криво
Скользит луна багровым топором.
В исходе ночь. Размеренней и глубже,
Как беглый зверь, туманами дышу, —
Ты на заре к степному шалашу
Придешь назвать меня покорно мужем.
Еще один нетронутый удел
Перепашу для горестного сева, —
И хлынет вспять, без радости и гнева,
Слепая кровь, тяжелая от дел.
* * *
Борису Бродскому
Я вырезал его из дуба,
В широкий нос продел кольцо, —
И медленно, сырой и грубый,
Он повернул ко мне лицо.
Зеленой медью и железом,
При дымном свете фитиля,
Я приковал его над срезом
Передней части корабля.
Когда же по холодным тросам
Скользнула влажная заря, —
Я приказал моим матросам
Поднять в молчаньи якоря.
И за кормой, где след широкий
Белел над шаткой глубиной,
Все измерения и сроки
Распались выгнутой волной.
В немых столетьях неизменный,
Безмолвно идол с высоты
Глядел, как брызгами и пеной
Века дробились о борты.
Но в пору бурь, когда великий
Сбор смерть трубила в черный рог, —
Гремел цепями огнеликий,
Преображенной бурей, бог.
* * *
Ты рада горькому куску
Неповторимого обмана,
Но эту жесткую тоску
Я перекладывать не стану.
Не эти плечи понесут
Тяжелый груз звериной доли, —
Но хрупкий девичий сосуд
Уже мутнеет поневоле.
И разве можно пережить
Все эти отсветы и тени,
Когда от правды и от лжи
Мои сгибаются колени?
Когда дорожная клюка
Сама собой шаги торопит
И неглубокая река,
Как океан, следы затопит.
* * *
Песок и соль. В густых озерах
Дрожит ослепшая луна;
Каленые стальные шпоры —
В живое мясо скакуна.
Сухая пыль сверлит и режет
Перержавелые зрачки,
И сушит скулы острый скрежет,
Стегающий солончаки.
Но сердца стук и звон копыта,
И рядом скачущая тень —
Обломки взорванного быта,
Мифический вчерашний день.
Степной песок засеян смертью, —
Вдыхая запахи беды,
Веселый волк, горячей шерстью
Мету кровавые следы.
На конской гриве запотелой
Не дрогнет цепкая ладонь —
Пусть топчет гибнущее тело —
Тебя – рыжеголовый конь.
Крови закон
Пускай топор на черной плахе
Срубил мне голову долой,
Ты подними ее из праха
И скрой тихонько под полой.
Но если смерть не разделила
Единый узел наших дней,
Но если любишь, как любила, —
Не плачь в отчаяньи над ней.
Нет, обнажи в ночи с надеждой
Любовью взласканную грудь
И чутко слушай под одеждой
Мой жизнью озаренный путь.
И если радостью зальется
Душа смятенная твоя,
И если плоть моя забьется
Под сердцем в жажде бытия, —
Дай знать мне долгим поцелуем
О воскресении моем,
И до зари еще войду я
Поющей радугой в твой дом.
Из песни о короле
Ныряют в сугробах молча,
Любой – до кости король;
Веселые зубы волчьи —
Морозная злая соль.
Мы знаем их смех и голод,
И глаз голубой огонь;
Мы знаем, что нож и холод
Прожгут королю ладонь – —
Зажатый полярным кругом,
На лыжах бежит к реке,
И мутно белеет вьюга
На смуглой его щеке.
И каждый сухарь в котомке,
И каждый заряд в стволе —
Сто миль одичалой гонки,
Тревожный скупой ночлег – —
Оставлен привал короткий,
Смех, полюс, любовь и боль
В дырявой индейской лодке
Везет молодой король.
Но львиные кудри белы,
Морщинами скошен рот,
Рассеянный взгляд несмело
Скользит по замку ворот.
И дом обошел неловко,
И будто похож на нас – —
Пора, изготовь винтовку,
Бей прямо в ослепший глаз.
* * *
Для слепого – одна стезя,
На которой и днем – ни зги;
Ты сказала – меня нельзя,
Если можешь – люби других.
Для глухого слова́ – немы,
Как услышать тебя я мог?
У любви все пути прямы,
Все ведут на один порог.
Ты сказала – гляди, стара,
Разве можно любить старух?
Через год подрастет сестра,
Если хочешь – люби сестру.
Обнимала – последний раз —
Долго ржал по дорогам конь – —
Как уйти от любимых глаз,
Если нежность стучит в ладонь?
* * *
Мой круглый щит из дерева и кожи,
С решетчатым узором по краям, —
Сто золотых пластинок в светлой дрожи
Вокруг него подобны трем ручьям.
Для твердости – тугую сердцевину
Железная подкова облегла,
И кровь врага до верхней половины
Пред боем щит мой трижды обожгла.
Он вождь вождей. Оранжевый и синий,
Как глаз змеи, – ременным языком
В мой локоть врос, и темный жар пустыни
Струит в меня расплавленным песком.
И вот – гляди. За то, что ты сурова,
Смугла лицом, угрюма и хитра, —
Моим щитом от холода ночного
Я грудь твою накрою до утра.
* * *
Так гони же сквозь ветер кобылу,
Ты, которой упорнее нет,
Чтобы только метели завыли
В твой сверкающий, вздыбленный след.
Так стегай же арапником звонче
По ушам запотелым коня,
Чтобы свора неистовых гончих
Пронизала навылет меня – —
Не трубите в рога по дуброве,
Не трубите в рога, говорю —
Пусть ускачет, закинувши брови,
В грозовую густую зарю.
Пусть – пылая губами тугими,
Загибая шелка на лету —
В бездорожье с другими, с другими
Гонит вьюгой свою красоту.
Арго
В черном доке, кормчий одинокий,
Вновь чиню разбитое судно, —
Буду плыть положенные сроки,
Бороздить разбуженное дно.
Соль волны, снедающей и горькой,
Обожжет ослепшие зрачки, —
Из тумана в ночь святой Георгий
Бросит моря пенные куски.
Брызги бурь упали на ресницы,
Мокрый холст плотнее чугуна – —
Это кровь ржавеет и томится
На кудрявом золоте руна.
* * *
Уже не радует, не тешит,
Раздала горькую красу,
И только ветер жестко чешет
Перержавелую косу.
Лицо, размытое дождями,
И грудь бесплодную рабы
До утра насмерть желудями
Изранят хмурые дубы.
Земля, земля моя! С тревогой
Гляжу в нахлынувший туман —
Лишь перекрестки да дороги
Венчают твой сутулый стан.
Лишь обездоленная птица,
Роняя перья на лету,
Еще не верит и боится
В твою поверить наготу.
Но, непоседливый и скучный,
Могилу глубже роет крот,
И сердце знает – гость докучный
Уже стучится у ворот.
* * *
Плечо – бугром, и сердце – в два обхвата,
Размах глубок, медлителен и крут;
Удар – раз в год, и грудь – провал косматый,
Набат и рог под ветром на юру.
Прижми щеку, – за выгибом полотен
Сырой утес горячего ребра,
Суровый ход неукротимых сотен
Вкруг дымного дорожного костра.
Над горбылем степные звезды светят,
Бежит огонь в тугую щель земли – —
Гляди, я вновь закинул в море сети
И вытащил на сушу корабли.
Раз в год удар, но все грозней и шире,
От позвонка в пролом ребра разгон – —
Нет, не плодом, а стопудовой гирей
Я западу в твой запоздалый стон.
Рыбацкая
Соленый ветер бросает пену
Мне на рубаху, что сшила ты, —
Закату буря идет на смену,
Уже ныряют вокруг киты.
Но мне привычны морские страхи,
И, если в буре лишусь весла,
Устрою парус я из рубахи,
Из той рубахи, что ты дала – —
Все ветры сразу гребут без толку,
Как пьяный пляшет рыбачий мол – —
Я выжму бурю из шерсти волка
Сегодня ночью на твой подол.
* * *
О, зверь лесной и ночью водопой
Оскаленным дыханием отыщет – —
Иду в туман примятою тропой,
И тень моя, как волк, за мною рыщет.
В глазах твоих – далекие костры,
Звезда степей над древнею телегой,
Широкий ветер яростной игры,
Развеявшей по балкам печенегов.
И любо мне в раскошенных зрачках
Следить струю татарской острой стали,
И сердца стук услышать на руках,
И кости гнуть в мучительном закале.
Да, любо мне кудрявую косу
Смеясь, сжимать ладонью загорелой,
И эхо гнать в просмоленном лесу,
И грудь твою поить любовью зрелой – —
Русь, кровь моя, желанная сестра, —
Кто вытерпит весь груз такой любови!
Я вылетел из дымного костра,
Чтоб вновь гореть, любить и жечь – до крови.
Дух земли
В глубокой балке переняли,
Картечью вздыбили коня,
Скрутили, выгнули и смяли,
И оземь бросили меня.
Хмельному солнцу буйно рады,
В веселом топоте легки,
Кудрявый череп конокрада
Чесали насмерть каблуки.
Но каждый хруст костей упругих
В ушах смеялся бубенцом,
И пело сердце пестрым кругом
Над перекошенным лицом.
Когда же кол, сырой и гладкий,
Тысячелетнее копье,
Прошел медлительно и сладко
Сквозь горло звонкое мое, —
Девичий взор, сухой и зоркий,
Лизнул мой вытекший висок,
И дух земли, как ладан горький,
Любовью брызнул на песок.
* * *
Скалит зубы – такая ль плаха,
Для меня ль да дубовый пень? – —
А кругом еще красным взмахом
Ходит по небу дым деревень.
Так и брызжет вихрастый ветер
Даровой огневой крупой,
И кричат как шальные дети
Над бельмастой сырой толпой.
А у плахи стоит – ломается,
Теребит кумачовый плат
И свистит соловьем в два пальца
Деревенский веселый кат – —
Это сон про былые встречи,
Это сказ про вороний грай,
Про тугие литые плечи,
Что сработаны в два топора.
Не буди – под крутым обрывом,
Где седые ржут табуны,
Темный ветер закинул гриву
В низовые степные сны.
* * *
Затравила в яру лисицу
Подымала в упор ружье – —
Не скули, научись крепиться,
Острозубое сердце мое.
Не сбегу, не уйду – могу ли,
Тихий усмех могу ль забыть?
Есть заклятья страшнее пули —
Одиноко на звезды выть.
Что глядишь? Нагустила брови,
Растопила огонь в зрачке,
Мокрый запах звериной крови
Разожгла на моем виске – —
Не забудь – чтоб вернее было,
Чтоб ночами на ум не шел, —
Без пощады вгони в могилу,
Через сердце, осиновый кол.
Каменная любовь
Когда луна вонзит свой меч
В степную ржавую могилу,
И вставший дыбом жеребец
Повалит ржущую кобылу, —
На зов степей, на конский яр,
На свежесть влажного тумана
От сна восстанет скифский царь
И выйдет вон из тьмы кургана.
Туда, где в ночь бежит ковыль
Стезею лунного ухаба,
Где сторожит седую быль
Немая каменная баба, —
Из-под бровей он кинет взор,
Разбудит эхо звоном шага
И выпьет ветровой задор
Ковыльных снов, полынной браги.
В степных играющих кострах
Тысячелетия сгорели —
Не для того ль, чтоб ржавый прах
Заглох в дыму весенней прели? – —
И только там, между колен
Просторам внемлющей царицы,
Былых веков холодный тлен
Неверной дымкою клубится.
Но так же юн, но так же щедр
Хмельной простор, и, так же молод,
Из мглы столетий гонит ветр
Любовный жар и крепкий холод.
О, сколько звезд, о, сколько лун
В сухих запуталось бурьянах!
В который раз степной табун
Упился ласками допьяна! – —
С широких плеч он сбросил прочь
Свои ременные доспехи,
И закатились звезды в ночь
От гула царственной утехи.
Под дланью тяжкой ожил вновь
Гранитный стан до сердцевины,
И брызжет в степь рудая кровь
На непочатые целины.
Его железная нога
Колени каменные режет,
И с плотью плоть – как два врага,
И их лобзанья – стон и скрежет – —
Так, до зари, под конский яр,
Под ржанье дикой кобылицы,
Ласкает древний скифский царь
Свою суровую царицу.
Его рукой укрощена,
Она не бьется и не стонет,
И ветр взметает семена
И в буйной радости их гонит.
Вздымает к стынущей луне,
Роняет в гулкие овраги,
Где хмурый волк залег на дне
У сребротканой лунной влаги.
И в светлом лоне зыбких вод,
И в черных снах земного чрева,
В глухих глубинах, зреет плод
Любви и каменного гнева.
Поздний гость
I
Стихи
По страницам ветер бродит;
Из распавшейся строки
Сквозь трамвайные звонки
Поздний гость ко мне выходит.
Кто он? Чем он сердцу дорог? Думать трудно, думать лень – —
Плач Ярославны
Koпia поютъ на Дунаи. Ярославнынъ
гласъ слышитъ; зегзицею незнаемъ
рано кычетъ…
Слово о полку Игореве
1
Темный лоб в огневой насечке, —
Не атлас, не шелк, не парча – —
Раздобыли во всем местечке
Залежалый кусок кумача.
Темный лоб перерезан шрамом,
В веки врезаны два пятака, —
Есть в местечке такая яма,
Где бессрочны все отпуска.
Проходили, прошли, и мимо, —
Снегом, ветром следы замело – —
Что, товарищ, так нелюдимо
В три морщины ты сжал чело?
Не тужи, не робей, не надо, —
Задувает в зарю трубач,
Это конница Сталинграда
За тобой развернулась вскачь.
Ухарь ветер усы косматит,
От галопа душе бодрей,
Разошелся, снарядов хватит,
В ярой одури гром батарей – —
Будет, будет вином багряным
Угощать молодых подряд
В чистом поле на свадьбе пьяной
Молчаливый курносый сват.
Будет кланяться миру в пояс,
Обнимать за дружком дружка, —
Слышу, слышу – княгинин голос
Окликает сквозь дым века.
2
В Новеграде, в Путивле старом,
Лишь заря прозвенит в окно,
На стене городской, над яром,
Раздувается полотно.
То не лебедь поет, тоскует,
В море синее бьет крылом, —
Ярославна в зарю кукует,
Припадает к земле челом.
– Полечу, – кычет, – вдаль зегзицей,
– За Каял, за реку быстру —
Ярославна-свет вещей птицей
Просыпается поутру.
– Долечу, – кычет, – к тем ли воям
Что курганная степь взяла, – —
Ржала медью, к лихому бою,
За холмами ночная мгла.
Где рядами легли шинели
На зеленый, на конский луг,
Плавит жажда на княжьем теле
Огневую свою стрелу.
Я рукав омочу бобровый
В тот Каял, в ту реку быстру,
На виске его шрам суровый,
Росчерк сабельный оботру…
Солнце, солнце, почто простерло
Ты лучи над родным полком?
Пылью каменной выжгло горло,
Заслепило глаза песком.
Губы милого жаром серым,
Смертной жалобой сведены – —
Ярославна уходит в терем
На заре с городской стены.
3
Снилось мне, – на горах, на черных,
Пеленали в холсты меня,
И коньки в теремах узорных
Поломались к закату дня.
Замешали в вино отраву,
Дали выпить мне то вино,
В синем кубке лихие травы
Оплели корневищем дно.
У колчанов открыли тулы,
Часто сыпали мне на грудь
Крупный жемчуг, и долгим гулом
Ворожила ночная муть…
Смутный сон. На походном ложе,
На тесовом, я ждал утра,
И твой плач, на туман похожий,
Стлался медленно вкруг шатра.
Барабаны пробили зорю,
Батарейный трубил трубач – —
Между Волгой и Черным Морем
Встал к полудню твой древний плач.
Все бугры зацвели полками,
И я слышал, – трубя, звеня,
Прорастала земля веками
У копыт моего коня.
И я видел, – в сквозные ткани,
В жемчуг матовый убрана,
Уплывала в речном тумане
За певучей волной волна.
4
То не лебедь поет, тоскует,
В море синее бьет крылом, —
Ярославна в зарю кукует,
Припадает к земле челом – —
Ты не плачь, Ярославна, в зори,
Ты в зарю на стене не плачь, —
Скачет долом, летит с угорий
Твой кудрявый лихой трубач.
Вон ширяет все выше, выше,
И куда ни взмахнет рука, —
Красным золотом камень вышит,
Кровью вздыбленной седока.
В Новеграде, в Москве, во Пскове
И на Волге шумит-звенит,
В снежный голос косматит брови,
Распускает в метель ремни.
Выкликает орлов на зори,
Орлий клекот по всей земле,
От соленых чужих поморий
До путивльских родных полей – —
Кони ржут за Сулой, за Доном,
Щит багряный ведет полки,
В дымный трепет, в степные гоны
Брошен перстень с твоей руки.
Запушился морозной пылью,
Закружился в седой волне,
Пал в года лебединой былью,
Вещим словом на сердце мне.
Где каспийская степь безводней,
Распаялся, прожег песок – —
Но не плачь, ты не плачь сегодня
На стене в заревой восток.
Скачут кони, несутся лихо,
Всем видны, далеко слышны – —
Ярославна уходит тихо
На заре с городской стены.
Игоревы полки
И та же степь, и тот же зной,
Лазурь над глиной и песками, —
Знакомый путь передо мной,
Поросший ржавыми веками.
Сверкнет дорожный бубенец,
Переплеснется воздух четкий,
И за курганами беглец
Вздымает пыль стальной походкой.
Опять ордынская стрела
В колчане зреет и томится,
И в узкой балке расцвела
Багряной былью сукровица.
Неистребимы и легки,
Кудрявым Игорям на смену,
Спешат веселые полки
Забрызгать степи конской пеной.
Сухие стебли ковыля
Срезают кони удилами, —
И стала русская земля
За невысокими холмами.
Все та же степь, и тот же хруст,
Блуждают сумерки в овраге,
И неприметный к ночи куст
Стал тяжелей от росной браги.
Печаль дорожная звенит
Крылом подбитым журавлиным,
От граней дымчатых в зенит
Струится тень широким клином.
Несется полночь на коне,
Томится ратник в поле чистом,
На половецкой стороне
Смерть пляской тешится и свистом.
Предгрозовой тяжелый пар
Гнет долу тощие бурьяны,
И синей молнии пожар
Поют тревожные баяны.
Но жаркий шлем закинут в Дон,
Заря скрипит над волчьим логом, —
Летит с попутным ветром звон
Лебяжьим пухом по дорогам.
Мне по обочинам пустым
Дано трубить в мой рог суровый
И призывать далекий дым
В забвенье рухнувшего крова.
Но снилось – вызрела стрела,
И дева вещая Обида
По бездорожьям и телам
Прошла от Кеми до Тавриды.
Как птица древняя, в ночи
Кричала сонная телега,
И пересохшие мечи
Тупились в ярости набега.
Горели заревом костры,
Дымилась степь кремневой пылью,
И все овраги и бугры
Цвели всю ночь багряной былью.
И знал, – от зарева проснусь, —
Звеня железными полками,
Придет и снова станет Русь
За невысокими холмами.
Костями рылась борозда,
Ломались крепкие орала,
И темной гибели узда
Ладони кровью обагряла.
Но трудный полдень согнут в рог, —
Веселый Игорь скачет прямо
И в каждый встреченный порог
Звенит победными ветрами —
Широкий ветер освежит
Немой простор земного круга,
Перемешает рубежи
И дали вымеряет туго.
Росой коснется пыльных губ,
Дождем прольется над долиной
И в кирпичи высоких труб
Плеснет размеренной былиной.
1925-45
Берлин
1923-1939
* * *
Снова хмель загулял во сне,
Сад в три дня молоком облит, —
А в лесу, на овражном дне,
Половецкая девка спит.
Березняк да крапивный дух
Приведут под уздцы коня, —
За конем прибежит пастух,
Завернет поводок вкруг пня.
Паровоз за бугром свистит,
Бродит в снах колокольный звон – —
Ты коня, молодец, пусти —
Половчанку бери в полон.
Выйдет ночь проверять весну,
Стянет звездный тугой кушак, —
В молодом весняном плену
Зацветет на сорочке мак.
1925
Земля
Ярится степь, – уже не дева,
Дождем и солнцем пронзена,
Земля для пламенного сева
Блистательно обнажена.
Сгрудились борозды за плугом,
Безмолвен пахарь и суров,
И черный пар пояшет туго
Сосцы набухшие бугров.
Взыгравший ветр вгоняет щедро
Тепло в земные глубины,
В зерном беременные недра
Подъятой плугом целины.
Как укрощенная рабыня,
До дна распаханная новь
Несет, покорная отныне,
Железа терпкую любовь.
А там, в овражной буйной чаще,
В насторожившемся яру,
Зверье бродяжное все чаще
Взывает к звездному костру.
И вечерами дней погожих,
Когда закат кропит поля,
Волчат, детенышей пригожих,
Рожает рыжая земля.
И в тяжкий час степной натуги,
Обрекший жатве тонкий злак,
Волками полнятся яруги
И заповедный буерак.
Когда же в голые просторы
Морозы выжмут кровь рябин,
Волчата хмурые, как воры,
Крадучись, выйдут из глубин.
Уйдут в осенние туманы,
Разыщут гибель в ржавой мгле,
И ветр, остуживая раны,
Пригнет их к матери земле.
1923
* * *
Глухая ночь. Фонарь, зевая,
Оберегает черный мост,
Метель, как лошадь скаковая,
На крыше распустила хвост.
То пляшет на сугробе взрытом,
Играя, рвется на дыбы,
То бьет в чугунные столбы
Своим рассыпчатым копытом.
И вдруг зальется ржаньем грозным,
Галопом скачет вдоль стены,
Попона облаком морозным
Летит с крутой ее спины.
Как часовой стою на страже,
Слежу за ней из-за угла,
Я жду ее, зову и даже
Касаюсь зыбкого седла.
И вот – вскочу, заправлю ноги
В сверкающие стремена
И бурным вихрем, без дороги,
Помчусь по воле скакуна.
1929
Вечерняя звезда
На обозленный и усталый,
На город пыльных чердаков
Звезда вечерняя упала
Из мимолетных облаков.
И сразу стало по-иному, —
То горячее, то нежней,
По улицам – от дома к дому —
Взлетели тысячи огней.
Мгла исступленно просветлела,
И, в новый ритм вовлечена,
Душа медлительное тело
Оставить вдруг обречена.
Еще привычно попираю
Гранит сердитым каблуком,
Еще неловко протираю
Очки фуляровым платком, —
А из-под ног земля уходит
В лазурь, в туманы – навсегда —
И лишь вечерняя звезда
Одна навстречу мне восходит.
1929
* * *
В холодный дым, в туман морозный,
Сегодня город погружен,
Над белой аркой всадник грозный
Сияньем тусклым окружен.
Его лицо забили туго
Непроницаемые льды,
И медленно пушится вьюга
В широких кольцах бороды.
С карнизов косо пыль сдувая,
На острых выступах свистит
И мутным облаком летит
По голой линии трамвая.
Глуша прохожего звонками,
Срывает шляпы и платки
И мчит огромными прыжками
Увертливые котелки.
А вслед за буйными вещами,
Рождая черные смерчи,
Взлетают с треском над плечами
Широковейные плащи.
Громовый грохот и стенанье,
Обвалы каменной стены – —
То ветер из моей страны
Приносит мне напоминанье.
И все внезапной тьмой сокрыто, —
Шумит метель по всей земле – —
Лишь там над бездной, в белой мгле
Чернеет конское копыто.
1929
Волхвы
Взошла звезда над каменной трубой,
И вот – не сплю, не двигаюсь, бледнею – —
Да, три волхва бредут уже за нею,
Роняя тени в сумрак голубой.
Их кудри белы львиной белизной
(Вся седина моей земли бесплодной), —
Их губы дышат горечью степной,
По-летнему прозрачной и холодной.
Но бьют часы. В бесформенном углу
Отчетливей границы очертаний; – —
Три полотенца свесились во мглу
Предутренних пустых очарований —
Нет, не жалей, душа моя. Храни
Все голоса, пропевшие однажды,
Все марева, возникшие от жажды,
Всех дальних звезд неверные огни.
Рюген
На горизонте редкий мрак,
Дождей широкие ладони, —
Как пламень жертвенный, маяк
Зажегся в сумрачной Арконе.
Идут на север стороною
Едва приметные суда,
В тиши тревожной иногда
Лишь чайка вскрикнет надо мною.
Все глуше, глуше шорох важный
Доходит из дубровной мглы, —
И вдруг со стоном ветер влажный
Сгибает черные стволы.
О, как терзает, как возносит
Он ветви в бурной вышине,
О, как он мучит сердце мне,
Как этой муки сердце просит.
* * *
Зверь обрастает шерстью для тепла,
А человек – любовным заблужденьем, —
Лишь ты, душа, как мохом поросла
Насильственным и беглым наслажденьем.
Меня томит мой неизбежный день,
Ни счастья в нем, ни даже возмущенья – —
Есть голода высокая ступень,
Похожая на муки пресыщенья.
* * *
И дождь, и мгла. Не все ль равно?
Артист в душе, творец без цели, —
Он нежной музыки зерно
Качает в жесткой колыбели.
Пусть спотыкается смычок,
Из грубых пальцев выпадая, —
Но царственно провалы щек
Захлестывает прядь седая.
Невыразимая мечта
Им безраздельно овладела, —
И строже тонкие уста,
И выше сгорбленное тело – —
Дождями вымытый сюртук
Вбирает жадно ритм и звуки, —
О, пламень глаз, о, сердца стук,
О, в ветер брошенные руки!
Зачем же хмурая толпа,
Зажатая под воротами,
Так равнодушна, так скупа,
Так небрежет его мечтами?
И вот – высокое чело
Склонилось долу и остыло, —
Как будто то, что быть могло,
Ничтожнее того, что было.
1928
* * *
Порой, как бы встревоженный слегка,
В пустом кафе не замечаю скуки,
И кажутся чарующими звуки
Небрежного и грубого смычка.
И вот – гляжу по-новому туда,
Где, к телу скрипки припадая бровью,
Худой румын торгует без стыда
Поддельной страстью, злобой и любовью.
Так длится ночь. Дымятся зеркала,
В окно плывет несвежая прохлада,
На скатерти сигарная зола
Крошится в бурых пятнах шоколада.
Я слушаю. И мысль во мне одна, —
Душа, как поле осенью, изрыта,
Захлестана, дотла разорена,
И оттого – всем радостям открыта.
1928
Тени под мостом
Где ночи нет, а день не нужен,
Под аркой гулкого моста
Азартом заменяя ужин,
Они играют в три листа.
На свалке городского хлама,
В лоскутьях краденых мешков, —
Не все ль равно? валет и дама
Решают судьбы игроков.
Вот загораясь жаждой гнева,
Убийца с золотым зрачком
К веселому соседу слева
Уж надвигается бочком.
Но, с ловкостью привычной вора
Тасуя карты, шутки для,
Сосед опасному партнеру
Сдает учтиво короля – —
Так, забавляясь и играя,
Подобные летучей мгле,
Легко любя и умирая,
Они проходят по земле.
О, не гляди на них тревожно, —
Освобожденным и нагим
Доступно все и все возможно,
Что снится изредка другим.
1928
* * *
Когда прожектор в выси черной
Свой узкий распускает хвост
И над общественной уборной
Подрагивает гулко мост, —
И затекает дождь за ворот
Растерзанного пиджака,
Мне кажется, что мост и город
Вдруг уплывают в облака —
Кто может знать? Но бег тревожный,
Весь этот шум и лязг и звон —
Весь этот мир – быть может, ложный
Мучительный и краткий сон.
И вдруг под фонарем проснется
Бродяга в ржавом котелке,
Он рук моих крылом коснется,
Он уведет меня к реке.
И я увижу с изумленьем
Сквозь своды тяжкие воды
Лазурь, пронизанную пеньем,
И белых отроков ряды.
И крылья обретая тоже,
Уже летя, уже трубя,
Я в том, который всех моложе,
Узнаю с трепетом тебя.
1928-1952
Бессонница
1
Снова въедливая хина
Сводит судорогой рот,
На висках горячий пот – —
Посиди со мною, Нина.
Опусти плотнее штору,
Лампу книгами закрой,
Вечер скучный и сырой
Пролетит легко и скоро.
Будем слушать понемногу
Шум докучливый дождя
Иль, на рифму набредя,
Заглушать стихом тревогу.
Трудно, трудно в вечер длинный
Призывать напрасный сон,
Выжимать в стакан лимон,
Слушать шорохи в гостиной.
Ночь придет, луна засветит
Узкой щелью на стене,
Позову ль кого – и мне
Только голос мой ответит.
Жар и бред. Мечты пустые – —
В целом доме – никого,
И на улице мертво,
Только сумерки густые.
Только легкой каруселью
Тени носятся вокруг,
Только сердца тайный стук
В полуночном подземелье.
2
К незатейливой постели
Ближе столик подтяну
Лист бумаги перегну
Чтоб края не шелестели.
Резкой лампочки стекло
Счетом прачки перекрою,
Пуховик взобью горою – —
Тихо, чисто и тепло.
Скука день свой отстучала,
Отлетел короткий срок,
Помяну его меж строк, —
Завтра буду жить сначала.
Острый след карандаша
Закруглился понемногу, —
Так выходит на дорогу
Полуночная душа.
Что ж? Не все ей по заказу
В пятнах окон городских
Под дождем искать таких,
Что не выспались ни разу.
Счастье рядом, счастье тень,
С каждым шагом неразлучно,
Да шагать без цели скучно,
А бежать за целью лень.
Оттого в метель ночную
Хорошо лежать без сна,
Ближе к тени, чтоб она
Прилегла к душе вплотную – —
Поздно. Счастьем окружен,
Глаз усталых не смыкаю,
Рифму милую ласкаю
И не верю в добрый сон.
1930
* * *
Я полюбил Берлин тяжелый,
Его железные мосты,
Его деревья и цветы,
Его проспектов воздух голый.
Иду неведомой дорогой
В туман, рассветом залитой, —
Гранитный профиль, голос строгий
Пленяют важной простотой.
Чернеет линия канала,
Горят сигнальные огни,
От холодеющей ступни
В подводный сумрак тень упала.
За ней – перил чугун фигурный,
Под аркой – отраженный свод, —
Нет, не Венеции лазурной
Равняться с блеском черных вод.
Здесь, только здесь и может сниться
Сон, невозможный наяву, —
Лед, сжавший черную Неву,
И в бездне – Зимняя Столица.
1930
Пудель
Да, есть, о – есть в обычном мире
Необычайные шаги – —
Сижу в прокуренном трактире,
И шум, и гам, и вдруг – ни зги.
На электрические свечи,
На неживые зеркала,
На обессиленные плечи
Внезапная нисходит мгла.
И в онемевшем разговоре
Звук тщетно бьется и молчит,
Лишь в северном пустынном море
Подводный колокол звучит.
И кто-то в темень грозовую
Вознес на мачте два огня,
И кто-то трижды вкруг меня
Черту смыкает огневую – —
И вижу мрак дуги надбровной
И выступ острого виска,
И слышу чей-то шаг неровный
И скрип стального коготка,
И пусть одно мгновенье только
Мой краткий продолжался сон,
Пусть затанцованная полька
Опять терзает граммофон, —
Уже молчу, уже не верю
Ни пьяницам, ни кельнерам,
Гляжу внимательно на двери —
И ничего не вижу там.
Но жженой серы запах душный
Горчит забытое вино,
И просит растворить окно
Мой собеседник простодушный.
А чуть поодаль, в стороне,
Хозяин пуделя ласкает,
И черный пудель глухо лает
И порывается ко мне.
* * *
Иду по набережной черной
В закрытом наглухо пальто,
Слежу за тенью беспризорной
И думаю не то, не то.
Когда в стволе сухом и жестком
Взыграет соками весна
И над широким перекрестком
Взойдет широкая луна,
Когда в канаве заржавелой
Ростки завьются зеленей,
И станет ветер неумелый
И ласковей, и солоней, —
Не выдержу, в ночную глотку
Швырну ключи от всех дверей
И жизнь, как парусную лодку,
Пущу гулять, без якорей.
1930
* * *
Чуть подует ветер влажный
Заструит в окне листву
Весь в чернилах лист бумажный
Косо ляжет на траву
И шурша в траве зеленой
С теплым утром заодно
Рифма девочкой влюбленной
Запоет в мое окно.
Так, от шалости воздушной,
От движенья ветерка,
Станет плотью непослушной
Простодушная строка.
1931
* * *
К прохладе гладкого стола
Прильну щекой, ресницы сдвину, —
И от угла и до угла
Вдруг вижу плоскую равнину.
Далекий голос за стеной,
В вечерних сумерках гитара,
А подо мной и предо мной
Моя привычная Сахара.
В пустыне марева и сны,
Воздушные лучатся токи,
Я сплю. И брызги тишины
Мне горько увлажняют щеки.
А там, где черный лак стола
Пронизан пламенем стакана,
Как бы два яростных крыла
Восходят в золоте тумана.
И с замираньем сердца жду,
Вот, вот взлетит в огне и громе,
Со звоном лопнут стекла в доме,
И, оглушенный, упаду.
1931
* * *
В тот день отчетливей и резче
Труба под солнцем протрубит,
И древле связанные вещи
Сойдут с расплавленных орбит.
Смеясь и плача, ангел звонкий
Провеет вихрем по земле
И распадется пылью тонкой
На письменном моем столе.
И вспыхнет легкая страница
Тревожного черновика,
И в сердце вытлеет строка,
И перестанет сердце биться.
Но знаю, знаю, в мире новом,
Затеряна, оглушена,
Душа, – земным коротким словом
Ты будешь насмерть сражена…
Тогда в своей печали строгой
Чужое имя назови,
Исполненное боли многой
И меда горького любви.
* * *
Должно быть, на́ море туман, —
Волна на брызги не скупится;
Должно быть, старый капитан
До самой смерти не проспится.
Клянясь убийственной божбой,
В вонючих переходах трюма
Кто топором, кто острогой
Уж запасается угрюмо.
Пожалуй, кровь и потечет,
Смешается с тюленьим жиром,
И ветер яростный над миром
Со стоном тучи повлечет.
И в ночь кромешную, сверкая,
Ракетой вырвется беда,
И закипит волна морская,
Ломая встречные суда, —
Обрушатся дожди потоком
В густую, в грозовую тьму,
И только я, во сне жестоком,
Игры веселой не пойму.
Перебегая рысью валкой
Сквозь дымные струи и свист,
Зло отшвырну намокшей палкой
Приставший по дороге лист,
Забьюсь в подъезд чужого дома,
Затиснусь в дальний уголок, —
И полетит под грохот грома
По лужам чей-то котелок.
1931-1945
* * *
Сегодня снег. Окно вагона
Легчайший запушил мороз,
Еще четыре перегона —
И переменят паровоз.
Сорвутся лыжники гурьбою
И разбегутся кто куда,
И только я с моей судьбою
Считать останусь провода.
За телеграфными столбами
Холодный воздух пуст и гол,
Лишь справа черными зубами
Поскрипывает частокол.
И слишком, как-то слишком близко,
Открытая со всех сторон,
Топографическая вышка
Прочерчивает небосклон.
Так вот она, земля живая, —
Она мне снилась не такой – —
Вернусь по линии трамвая
В привычный сумрак городской.
Пойду по улицам без цели
Бродить и слушать до зари,
Как злобно звонкие метели
Гнут городские фонари.
1931
* * *
Бреду в сугробе, и без шубы
Летишь навстречу ты сама,
Кружась; тебя целует в губы
В тебя влюбленная зима.
Я восхищаюсь и ревную,
И насмотреться не могу
А ветер кофточку цветную
Оглаживает на бегу.
Смеясь, несется лик румяный,
И вдруг – беда, скользит нога, – —
И ты на пышные снега
Упала северной Дианой.
Гость
Колоколец не звучит,
Гулкий ставень не стучит,
Ель под снегом не скрипит.
В доме пусто, город спит.
Я лежу в моей постели,
Книга плавает в руке, —
Слышу – в старом сундуке
Мыши будто присмирели – —
Что читаю? Все равно мне,
Этой книги не пойму,
Этой жизни не приму,
Этой памятью не помню.
По страницам ветер бродит;
Из распавшейся строки
Сквозь трамвайные звонки
Поздний гость ко мне выходит.
Кто он? Чем он сердцу дорог?
Думать трудно, думать лень – —
Наплывает зимний день
Из-за выбеленных шторок.
Вот сомкну глаза от света, —
Не припомню ль в полусне,
Кто там бросил в сердце мне
Белый отблеск пистолета?
Поздно. Ставень не стучит,
Колоколец не звучит,
Не качается сосна.
Косо дует от окна.
1931
* * *
Так ясно вижу – без сигнала,
Без объявления войны,
За мирным чтением журнала
Мы будем чем-то смущены.
И кто-нибудь движеньем резким,
Как бы очнувшись ото сна,
Сорвет внезапно занавеску
С побагровевшего окна.
И вдруг увидим, – из тумана,
Из черных, из пустых ночей
Взойдет в сиянии лучей
Кровавый глаз аэроплана.
Услышим в бешеном молчанье
Щелчок стального рычага
И равномерное дыханье
Многоочитого врага.
И, яростью немой томимы,
В одно мгновенье, там и тут,
Сверкающие херувимы
Над ночью пламя пронесут.
Как громко завопят сирены,
Завоют дикие свистки,
Как забеснуются гудки,
Как рухнут каменные стены. —
Под сводом ненадежным храма
Вотще органы загремят
И густо свечи задымят, —
Земля начнется без Адама.
1931
* * *
Я грезил в сонной тишине,
Ненарушимой и безбрежной,
И было странно слушать мне
Твой плач, и жалобный и нежный.
В пустынной спальне, без огня,
Я был объят мечтой иною, —
Ночь, ночь овладевала мною,
Качала и влекла меня.
Твои упреки облекал
Глухой прибой в размер певучий,
И вот – в молчанье стих летучий,
Стих быстротечный возникал.
А я лежал, закинув руки
К каким-то темным облакам,
Я плыл в невозмутимой муке
Навстречу дальним маякам.
И папиросы пепел жаркий,
Дрожавший где-то в стороне,
Мерцал сквозь сон звездой неяркой
В подводной, в черной глубине.
Но, захлебнуться в ней готовый,
Почти уже касаясь дна,
Я различал твой профиль снова
На фоне мутного окна – —
О, если б знала ты, какие
Хлестали волны в этот час,
Какие зарева морские
Во мраке озаряли нас.
1931
Ночью
Поздней ночью зажигаю
Одинокую свечу.
Не до сна мне. Я шагаю,
Вспоминаю и молчу.
Тихо, мирно за стеною,
Городская ночь пуста.
Даже ветер стороною
Не заденет в ней куста.
Даже куст в сыром тумане
Черной веткой не качнет —
Даже кот мой на диване
Сонных глаз не разомкнет.
1934
* * *
Зима. Трубящая эстрада,
Веселый выворот флажка, —
Кружится резвая наяда
На гладком зеркале катка.
Влюбленных возгласов не слышит
Не размыкает нежных губ – —
Полярным жаром солнце пышет
На медном развороте труб.
Стуча коньками, выбегает
На лед румяная орда,
И вдруг звезда, треща, врастает
В твердыню лопнувшего льда.
Отважно розовеют лица,
Вдали дымится белый прах, —
Вся в горностае и в стихах
Сегодня зимняя столица.
Поклон, наклон, – и вот, с разгона, —
(Метка рука) – издалека —
Удар лукавого снежка
В седое золото погона.
Какой ожог! Но скоро, скоро! – —
Преодолен мундирный плен, —
Летит с морозной трелью шпора
В охват услужливых колен.
И, весело гонимый вьюгой,
С прохладным зноем на щеках,
Я на серебряных коньках
Лечу с приветливой подругой.
1934
* * *
Где с вечера прожектор скудный
Задернут сеткой дождевой,
Корабль безмолвный и безлюдный
Проходит тенью огневой.
И стала ты неразличима,
Тебя как сном заволокло,
И только влажный запах дыма
Порывом ветра донесло.
Счастливый путь, – еще не поздно – —
Но дальний трепет фонаря,
Но в море первая заря, —
Отныне все нам будет розно.
Душа души едва коснулась —
И дрогнула, уязвлена,
И как балтийская волна
В тумане дождевом проснулась.
Бурлит, клокочет, берег гложет,
Без отражений, без лучей,
Седые кольца пены множит,
И мутный блеск ее – ничей.
1936
Венеция
Здесь тайны строгие забыты
Для смеха праздничных гостей,
Здесь все сокровища открыты
Для туристических затей.
Вотще крылатый лев маячит
В высокой лучезарной мгле, —
Никто его на всей земле
Не воспоет и не оплачет.
Он молча смотрит с высоты
На нищую свою столицу,
Он хмурит мертвые черты, —
Но мертвым ничего не снится.
Увы. Под небом голубым
Жизнь кажется давно ненужной,
Как этот пароходный дым
Над Адриатикой жемчужной…
Прими и не ищи иного,
Но ради прошлого убей
Хотя бы пару голубей
Обломком мрамора цветного.
1937
Луна-парк
Взлетела яркая ракета
И с треском лопнула. И вдруг
Весь зримый мир, весь древний круг
Распался на осколки света.
Все с громом рухнуло за нею,
В глухую закатилось ночь, —
Качели откачнулись прочь,
И черный тополь стал чернее.
Внезапной вспышкой огневою
Ослеплена, оглушена,
Душа в паденье дуговое
Как в черный вихрь увлечена.
И, пробудясь, уже не сразу
Земную скудость узнает, —
Крутую арку в пятнах газа,
Высокий тополь у ворот…
1937
* * *
На шумных братьев не похожий,
Весь день прихода ночи жду,
А ночью слушаю в саду,
Как вызревает слово Божье.
В мерцанье лунного столба
В густой листве таится лира,
И ствол недвижный – как труба,
В которой замкнут голос мира.
Вот резвый ветер налетит —
И заиграет мрак привольный,
Всколышется, зашелестит
И бурным пеньем возвестит,
Что ныне молвит Безглагольный.
1937
* * *
Как часто на любовном ложе,
Целуя милые уста,
Мы думаем все то же, то же, —
Душа ленива и пуста.
Обласканные нами плечи
Как бы царапаем зрачком
И страстные лепечем речи
Чужим враждебным языком.
И беспокойно шарит – бродит
В сосущей темноте рука,
И нужных спичек не находит,
Не зажигает огонька, —
Но в дебрях столика ночного,
Где наспех брошено белье,
Дрожа, ощупывает снова
Старинной бритвы лезвие – —
А утром, ночь припоминая,
Мы медленно глотаем стыд
Иль плачем холодно навзрыд – —
О, бедная душа земная!
1937
* * *
На берегу большой реки
С одеждой оставляю тело.
Дрожат и шепчутся несмело
Над гладью водной тростники.
И вот – переступил черту,
В речном тумане молча таю
И уплываю, уплываю
В ликующую пустоту.
Так это смерть? Но ясный день
В меня проник теплом и светом,
И ночь моя – простая тень
В простом и светлом мире этом.
Все – глубина и синева,
Слегка одетая волною,
И только узкая трава
Плывет, качается со мною.
Здесь каждый стебель полон мной,
И все полно моим дыханьем,
Я проливаюсь в мир иной
Одним безбрежным колыханьем.
Колеблюсь в зыбкой глубине,
Влекусь за облаком бегущим,
И жалость смутная во мне
Ко всем усопшим и живущим.
1937
* * *
Когда с работы он идет,
Устало разминая ноги,
Когда у стойки пиво пьет,
Бранит погоду и налоги, —
Кто в резких бороздах чела
Отыщет след страстей мятежных?
Кто в черноте одежд небрежных
Узнает тусклый след крыла?
Увы, над гулкой бездной мира
Тысячелетия прошли,
Изгнанник вольного эфира
Стал пленным пасынком земли.
Блеск рая, грозный мрак паденья —
Зарыты в мутных тайнах сна, —
Земная жажда разрушенья
Земной душе его дана.
И часто, заглушая речи
Праздновраждующих сторон,
В трескучий говор человечий
Как нож вонзает слово он.
И снова в кабачке убогом,
Старинный спор не разреша,
В единоборство с мертвым Богом
Вступает мертвая душа.
Его никто не прерывает
Ответный голос не звучит
Внимательная ночь молчит, —
Но солнце в мире убывает.
1937
Сивилла
Весь день молола нянька вздор, —
Ребенку будет очень худо,
Недаром с некоторых пор
Ей снятся голоса «оттуда».
И правда, в дом вошла беда —
Ребенок умер от желтухи,
Не глядя на ночь, господа
Прогнали вещую старуху.
Она простилась кое-как,
Не причитала и не выла,
В ночную стужу, в дождь и мрак
Ушла косматая Сивилла.
А ветер ей слепил глаза,
Срывал со свистом покрывало —
Как будто в мире бушевала
Пророчеств тайная гроза.
1938
* * *
В зеленом зареве листа,
В губах, и в воздухе, и всюду
Такая легкость разлита,
Такое трепетное чудо!
Струится золото и медь,
Сияют розовые клены, —
Так просто жить и умереть,
Благословляя все законы.
Осенний жар, осенний хлад
Загаром обдувает щеки, —
Каких потерь, каких наград
Незабываемы уроки?
И этот день, – не все ль равно,
Что будет к вечеру иль к ночи?
Что не иссякло – то полно,
А радость горя не короче.
1938
* * *
Бегу пустыней переулка
И рассуждаю сам с собой,
И, камнем отраженный гулко,
Мой голос кажется трубой.
– Ну, что же, наступили сроки?
– Где эти ангелы твои?
А ветер бороздит мне щеки
Ожогом ледяной струи.
И ангел бронзовый на башне,
Обросший инеем и льдом,
День этот, как и день вчерашний,
Возносит в сумерки с трудом.
* * *
Недаром целый день вчера
Снаряды падали так близко,
И из-за черного бугра
В тумане возникала вспышка.
Враги сегодня тут как тут,
Все поле трупами пестреет,
И через несколько минут
Нас пулемет соседний сбреет.
– Картечь, картечь! – Уже замки
Дают отказ и заедают,
Уже голодные штыки
О чьем-то жребии гадают, —
Но вдруг из ближнего леска
Как будто холодком пахнуло,
И чья-то чуждая рука
Прикладом сломанным взмахнула,
Кольцом торжественно блеснула,
И грудь моя исподтишка
Глотнула ветер – и вздохнула…
Летит уланский эскадрон,
Атака дочиста отбита,
И, заглушая боль и стон,
Смех обступил со всех сторон —
И смерть до вечера забыта.
Иду и воздух пью сосновый,
Считаю листья на сучках,
Лазурь томится в облаках
Весной неповторимо-новой…
Нет, сердце никогда не билось
С такой блаженной полнотой,
Мой прошлый день – лишь сон пустой,
В нем смерть моя – еще не снилась.
1937
Стихи к Пушкину
1
Не спится мне. Не знаю почему —
Лежу всю ночь и комкаю подушки,
Всю ночь гляжу в изменчивую тьму
И вот – из тьмы ко мне приходит Пушкин.
– Скакал всю ночь, цыганская судьба.
Он бросил плащ и улыбнулся хмуро.
– На сорок верст случайная изба,
– Но даже в ней жандармы и цензура.
О, легкий взлет горячечной мечты, —
Мне сладостно в жестокой лихорадке
Запоминать и смуглые черты,
И разговор, текущий в беспорядке.
– Берлин? Еще бы; так и в старину,
– Российской музе странствовать не внове,
– И я свершил прогулку не одну,
– Был и Кавказ, и служба в Кишиневе. —
Стучат часы. Бессонница и бред,
Ползет рассвет, медлительный и скучный —
Уж колокольчик замер однозвучный,
И в коридоре топает сосед.
2
Шарлоттенбург, Курфюрстендам, – не верю, —
Я выдумал, проснусь и не пойму. —
Спой песенку, задумчивая Мэри,
Как пела Дженни другу своему. —
Блестит асфальт. Бессонница как птица,
Во мглу витрин закинула крыло, —
Вон, в зеркале, бледнеет и томится
Еще одно поникшее чело.
За ним – другой. Насмешливый повеса,
Иль призрак ночи, иль убийца? Что ж,
Когда поэт на Пушкина похож,
То тень его похожа на Дантеса.
3
Немудрено. Ведь рифма не в фаворе,
На почтовых и думай, и строчи – —
В фельдъегеря поэта! Поскачи, —
В Сибирь, к цыганам, к немцам, – что за горе?
Так исстари. Такая участь наша,
И умереть спокойно не дадут;
Лет через сто – потомков правый суд,
А в настоящем – ссылки да Наташа.
Гони, ямщик. Добраться б до корчмы,
Лучину вздуть и переправить строки.
Уже метель запела о Пророке,
И ветер жжет лобзанием Чумы.
4
Час замыслов. Работа бьет ключом.
Час поздний муз. Скрипят тихонько двери.
Косая тень склонилась над плечом, —
Он снова здесь, задумчивый Сальери.
Вошел – и замер. Чопорный сюртук
Без пятнышка, перчатки без изъяна;
В глазах – зима. Но в нервном взлете рук
Вся музыка, все ритмы Дон Жуана. —
– Поймете ль Вы?
– О, знаю, он поймет,
Но не простит. Плотней задернет шторы
И с нежностью, с отчаяньем вольет
В напиток мой последний дар Изоры.
5
Да, им легко. Одна забота —
На сердце наложить печать,
В минуту гнева промолчать,
Друг в друге вызывать зевоту.
Несложный круг, пустое дело,
И даже солью клеветы
Не сдобрить пресной пустоты,
Что этим миром овладела.
Но если изредка, случайно,
К ним ветер гостя занесет,
Чья речь звучит необычайно,
Чей взор глядит с иных высот,
Чей путь проходит стороною,
Поближе к безднам и звездам, —
Какая ненависть волною
Вскипает по его следам!
И если он слегка запнется,
Смутится яростной молвой, —
Какая буря пронесется
Над обреченной головой!
Поэт. Клонясь над водопадом,
Не пей обманчивой струи,
Но утоли змеиным ядом
Уста засохшие твои.
От колыбели до могилы
К горчайшим ядам привыкай
И все, что лживым взорам мило,
Правдивым взором не ласкай.
Беги людей. Не их судьбою
Живет твой одинокий стих;
Лохмотья жалких риз твоих
Пусть делят музы меж собою.
6
Гляжу на смуглые черты,
На чуть приплюснутые губы – —
Быть может, север слишком грубо
Не ценит южной красоты.
О, как пленительно глядят
Глаза из-под бровей широких,
Какой живой и умный яд
Обжег морщинистые щеки —
Должно быть, правда, тяжело
Стремиться к тропику родному,
Склоняя жаркое чело
Навстречу ветру ледяному.
Любовь двойная жестока,
Кто вынесет любовь двойную?
Нева прекрасна, но близка, —
Мечта творит Неву иную.
Сердцам ленивым красота
И не нужна, и не доступна,
Затем – высокая мечта
Всегда чужда, всегда преступна.
Они дарят свою любовь
Лишь мертвецам, и нет им дела,
Что ими пролитая кровь
Давно к любви их охладела.
Все те же мы. И так же лгут
Уста холодные и злые,
И так же мало сердце жгут
Нам осуждения былые.
Мы не прощаем, не простим,
Нам ненавистен лик поэта,
Мы из притворства погрустим,
Но не опустим пистолета.
Стихи о вдове [1]
Под вдовьим покрывалом черным
Она – как слабая трава,
Лишь локон с торжеством упорным
Хранит забытые права.
Лишь ветерок легко вздыхает
На хрупком трауре плеча,
И вся она благоухает,
Как погребальная свеча.
Но сердце наше не как прежде,
Движеньем новым смущено, —
Она любила, ей дано
Любить в монашеской одежде.
И в ревности к былым мечтам,
Румянящим ее ланиты,
Отрадно мыслить мне: он там,
Ты предана, ты им забыта.
Я не люблю. Но может быть, —
Живое чувство сокровенно – —
Еще я мог бы полюбить
И преданно, и вдохновенно.
Но светлую судьбу твою
Не наша воля омрачила,
Но в призрачном твоем краю
Ты жребий свой не нам вручила.
Поникшая на рубеже
Двух бездн, враждующих от века,
Ты стала символом уже
Двух назначений человека.
Какая вечность над тобой,
Какие тайные внушенья?
Твой каждый день, твой час любой —
Связь творчества и разрушенья.
А я, моя земная кровь,
Томлюсь и нежностью и страхом, —
Я жду, не улыбнутся ль вновь
Глаза, склоненные над прахом.
Десятый круг
– И я сошел безмолвно и угрюмо
В десятый круг. Там не было огней,
Был воздух чист. Лишь где-то меж камней
Мертво блуждали шорохи и шумы.
Вотще смотрел я напряженным взором
По сторонам, – ни крючьев, ни смолы
Я не нашел в прохладном царстве мглы.
Здесь ад казался просто коридором.
Под сводами готическими строго
Клубился мрак. Искусная резьба
Венчала медь граненого столба,
Давившего в железный брус порога.
Но, отойдя подальше в глубину,
Заметил я во впадинах гранита
Квадратные окованные плиты.
То были двери, – я нажал одну.
Учтивый бес помог мне неохотно,
Робел ли он? Не знаю. Тяжело
Плита осела. Бледное стекло
Высокий вход затягивало плотно.
Как в зеркале предстали предо мной
Две плоскости, – паркет оледенелый
И потолок, однообразно белый, —
Два зеркала с потухшей глубиной.
В потоке жидком неживого света,
Там чья-то тень, похожая на сон,
Брела понуро. – Тише, это он, —
Шепнул мне бес, и я узнал Поэта.
Затерянный в жестокой тишине,
Он бредил вслух божественным размером,
Но на челе его, как пепел сером,
Жар музыки чумой казался мне.
Порой как будто рядом проплывала
Другая тень. Тогда его рука
Вздымалась бурно, нежная строка
Звенела четким голосом металла.
Но нет, но нет. Невидимые стены
На горизонте замыкали круг,
Здесь умирал без эха каждый звук,
И были все созвучия – мгновенны.
Его стихи струились в пустоту,
Легко скользя по чертежу паркета, —
Когда же грань насквозь была пропета,
Она молчаньем жалила пяту.
Так он бродил, без цели и отрады,
Не услаждая слуха ничьего,
И распадалось творчество его
На ребусы немые и шарады.
И понял я. И тайно содрогнулся,
Прижался к бесу в страхе и тоске – —
Он запечатал скважину в замке,
Поморщился и криво улыбнулся.
Париж
1939-1960
* * *
Не надо вечности. Томится
Бессмертием душа моя,
Она не хочет и боится
Повторной муки бытия.
Как будто знает знаньем смутным,
Что ничего страшнее нет,
Чем этот в нашем сне минутном
Почти неразличимый свет.
Из поколений в поколенья
Она измену и любовь,
Их ложь и блеск, прощает вновь
За право самоистребленья.
1939
* * *
Влюбленных парочек шаги
Мотив столетний выбивают,
Правдоподобные враги
Друг друга шпагой убивают.
Кругом поэты собрались
В дрянных плащах, в дырявых шляпах, —
Рифмуют брань, рифмуют запах, —
Они совсем перепились – —
И, розой скомканной играя,
Красотка из монастыря
Зовет на помощь, умирая
В лучах кривого фонаря.
И медленно из-за угла,
От полусгнившего фонтана,
Тень жулика иль д’Артаньяна
Заносчиво к ним подошла.
Тень черная на фоне рыжем
С боков отчетливо видна, —
Над романтическим Парижем
Средневековая луна.
Мой друг, скорее на коней!
Лишь звон и гром вдоль улиц сонных,
Во весь опор в страну влюбленных, —
Гони сильней, гони сильней!
* * *
Дырявый зонт перекосился ниже,
Плащ отсырел, намокли башмаки.
Бурлит фонтан. Весенний дождь в Париже, —
И девушке не избежать руки
Еще чужой, еще немного страшной, —
Она грустит и отступает прочь, —
И с лесенкой фонарщик бесшабашный
Их обогнал, и наступила ночь.
Сгущая мрак над улочкой старинной,
Бесцветные, как рыбьи пузыри,
Висят цепочкой тонкой и недлинной
Ненужные влюбленным фонари.
Всю ночь шумят деревья в Тюльери,
Всю ночь вздыхают где-то на Неглинной.
* * *
Всю ночь парижская весна
Исходит сыростью и мглою,
Внизу неслышная волна
Как бы подернута золою.
Легко качаются дома,
Река туманом затянулась, —
Ты наклонилась и сама
Моей руки почти коснулась.
Что скажешь, мой неверный друг?
Ночная мгла к устам прильнула,
Ночная тьма порочный круг
До безнадежности сомкнула.
И что отвечу? На мосту
Меж двух разлук, меж двух прощаний?
Погасит ветер на лету
Слова напрасных обещаний – —
Еще творим судьбу одну,
Одним дыханьем жадно дышим,
Но розно видим, розно слышим
В тумане вставшую волну.
1939
* * *
Ты будешь помнить ветер встречный,
Парижских улиц фонари,
Любовь, что длилась до зари,
Прошла с зарей и стала вечной.
Самой себе наперекор
(Быть может, только в грезе сонной)
Услышишь ты свой плач влюбленный,
Увидишь пристальный мой взор.
О, не напрасно на прощанье
Ты ожила иль умерла, —
Я взял лишь имени звучанье,
Взамен оставил два крыла.
Лети! Пускай другим навстречу
Лети, – пускай к чужой судьбе, —
На всех дорогах я отвечу
Знакомым голосом тебе.
И будут сны мои твоими —
В моей стране забвенья нет, —
Лишь ослепительное имя,
Лишь оглушительный рассвет.
1939
* * *
Твоя ленивая вражда
Почти похожа на участье,
Но тайно мыслишь иногда, —
Моя беда, мое несчастье.
И долго смотришь на меня
С нетерпеливым раздраженьем,
И мстишь открытым униженьем
За блеск утраченного дня.
Все бывшее небывшим стало,
Болотным паром изошло, —
Ничто души не потрясло,
Привычных чувств не надорвало.
Ни перемен, ни новизны,
Весь мир как бы подернут скукой, —
Мы равнодушно, без вины,
Прощаемся перед разлукой.
Нет, не любовь, – мечта о ней,
Томительная неудача,
Но сердце тем щемит больней,
Чем меньше жалобы и плача.
Увы, меж площадных зевак
Мы жить хотим не очень сложно,
И любим мы – неосторожно,
И ненавидим – кое-как.
1939
* * *
Бродяга праздный на мосту
Окурка жаркого не бросит,
Не брызнет искра в темноту,
Прохожий имени не спросит.
Обозначений и примет
Не жду и не хочу, пожалуй. —
Простой вопрос, простой ответ,
Нечастый дождь и ветер вялый – —
Но, Боже мой, как все не то,
Как все навек непоправимо!
Твое лицо, твое пальто,
Твои ладони – мимо, мимо – —
1939
* * *
Бредет прохожий спотыкаясь,
Хохочет женщина спьяна, —
В широкой луже, растекаясь,
Ночь мутная отражена —
Но так сверкает нестерпимо
Мне видимая высота, —
Что я склоняюсь (мимо, мимо) —
Над черным выступом моста – —
И медленно, без напряженья,
Заламываю руки я,
Как бы для взлета иль круженья
Над этим дымом бытия.
И прочь летят, как ветер встречный,
Как вышина и глубина, —
И женский крик, и мрак заречный,
И все земные имена. – —
Мне все равно, что завтра будет
При лгущем освещеньи дня,
И кто полюбит (иль забудет)
Мое паденье и меня.
1940
* * *
Прощальной нежностью не скоро
Согрею слабую ладонь, —
Цветы жестокие раздора
Губами легкими не тронь.
Они не сыростью веселой,
Не ранней свежестью полны, —
В стекле туманном стебель голый
Без запаха и без весны.
К утру они дышать устанут,
Свернутся в безобразный жгут
И потускнеют и увянут
И белым снегом опадут.
Случайный ветер их развеет,
И даже мертвая рука
Не оживит и не согреет
Души заклятого цветка.
* * *
Крикливых дачниц голоса
В сосновой чаще отшумели,
Лежу и слушаю. Оса
Кружится надо мной без цели.
В лицо струится синева,
Весенний дым в ресницах тает,
Сквозь тело легкое трава
Почти неслышно прорастает.
Все трепеты и все влеченья
Уже проходят сквозь меня,
И жар небесного огня,
И лед подземного теченья.
Деревья густо оплели
Меня пушистыми корнями, —
Так длится день, и дни за днями,
Так длится музыка земли.
И в мире этом, в этом сне,
И непробудном и глубоком,
Где стала мысль зеленым соком,
Живая вечность снится мне.
1939
* * *
Моих разомкнутых ресниц
Далекий полдень не тревожит
И разбудить меня не может
Гортанный говор горных птиц.
Меж пальцев скупо прорастает
Пучками жесткими трава,
Лавина снежная едва
Меня касается и тает.
Ни образов, ни сновидений
Моей пустыне не дано,
Все чуждо мне, и все равно
Не возбуждает сожалений.
Когда ко мне слетаешь ты
С раскаяньем и со слезами,
Гляжу незрячими глазами
Я на забытые черты.
Моей Тамары легкокрылой,
Моей княжны, не узнаю, —
Лишь смутно слышу голос милый
И клятву робкую твою.
Я скован каменной громадой,
Я сплю, – и горные ручьи
Забвеньем дышат и прохладой
В уста безмолвные мои.
1940
* * *
Покрыта лужица ледком,
Но каплет с крыши понемногу – —
Готовясь в дальнюю дорогу
Душа не плачет ни о ком.
Земли былые искушенья
Как утренний ледок дробя,
Я весь во власти отрешенья
И от земли, и от себя.
Гляжу как бы прозревшим оком
На скудный городской рассвет
И знаю: в холоде высоком
Ни мести, ни прощенья нет.
Лишь тучу ветер в небе гонит,
Мерцает поздняя луна
И, как неверная жена,
Лик помутневший долу клонит.
1940
* * *
На дымный луг, на дол холмистый,
На дальние разливы рек,
На облако в лазури чистой
Гляжу из-под тяжелых век.
И душу подозренье гложет,
С холодным борется умом – —
За этой рощею, быть может?
За этим, может быть, холмом? —
Там, там, где ельник синеватый
Возник зубчатою стеной,
Занес впервые страж крылатый
Свой грозный пламень надо мной…
С тех пор изгнаннику не надо
Ни райских, ни иных цепей,
Душа на все теперь скупей
И даже мудрости не рада.
Давно довольствуясь судьбою,
Свободно жребий мой влачу
И больше спорить не хочу
Ни с ангелами, ни с собою.
Пусть светит день, растет трава,
Я ни о чем не сожалею, —
Я знаю, – райские права
Земных бесправий тяжелее.
Но всюду, где, как в оны дни,
Земля цветет красой, тревожно, —
Я ставлю ногу осторожно,
Боясь лукавой западни.
Я ничего не забываю,
Но тяжбы с прошлым не веду,
Я равнодушно, на ходу,
Мое бессмертье изживаю.
1940
* * *
Какой свободы ты хотела,
Когда, страдая вновь и вновь,
Ты трепетала и летела
И падала, моя любовь?
Забудь сердечные преданья,
Смотри, как льется млечный свет, —
Там в колыбели мирозданья
Ни смерти, ни бессмертья нет.
Все связано и подчиненно,
И та звезда, и солнце то
В высоком рабстве неуклонно
Бегут в начальное ничто.
Именованье до рожденья, —
И чье бы имя ни взошло —
Ни выбора, ни принужденья,
Но неизбежность. Но число.
Все домыслы и все гаданья
К одной разгадке приведут:
Свободы нет ни там, ни тут,
Моя любовь, мои страданья – —
1943
* * *
Струится солнце вдоль ствола,
Шумит в лазурь листва густая,
А у корней кольцом легла,
Свернула крылья, замерла
Змея пурпурно-золотая.
Ей снятся чахлые сады,
Колючий снег в пустыне горной,
И в пропасти туманно-черной
Глухие выкрики беды.
Все, чем земля заражена,
Что тяжело наружу рвется,
Во тьме пророческого сна,
Как сердце, судорожно бьется.
Клокочущая пена зла
Всползает, как по трубам тесным,
По узким скважинам древесным,
По жилам вздувшимся ствола.
И, округляясь в море света,
Таинственный огромный плод
Подрагивает и вот-вот,
Как яблоко или планета,
К змеиным крыльям упадет.
Он упадет и разобьется, —
Скорей же рви его, сорви, —
Пусть боль болит, и смех смеется,
Пусть горла тонкого коснется
Неотвратимый нож любви.
1944
Трубочист
На крыше острой, за трубой
О чем-то трубочист болтает,
Над ним небесный шар взлетает
Легчайшей птицей голубой,
Щебечет ласточкой веселой
Иль жаворонком в высоте, —
И запад синевой тяжелой
Дрожит на радужном хвосте,
А из трубы, как бы с разгону,
Прямая пальма вознесла
Свою ветвистую корону
На дымном золоте ствола.
Под ней все тени золотисты,
Ручей прозрачен и глубок,
И щедро греет трубочиста
Ладонью пламенный восток.
Пусть так, пусть так. Домохозяин
Давно сомненьями объят, —
Его преследует набат
Крикливых, городских окраин.
Зачем безумец наверху
Мешает миру голубому
Как звонкогривому стиху,
Гулять по розовому дому?
От малой спички восковой
Душа могла б воспламениться
И так же тяжело, как птица,
Лететь за радугой кривой.
1944
* * *
Решеткой сдавлено окно
(Так душат жертву ночью черной),
В стене угрюмой и упорной
Полупрозрачное пятно.
Там жмется мир белесоватый,
Одетый в сумерки и мглу
В нем солнце желто-бурой ватой
Прилипло к мутному стеклу.
Деревья, облака и поле,
Все, что шумит в свободном сне,
Обезъязычено в неволе
В замазанном моем окне.
Но, рабством длительным наскуча,
Я углем на стене тайком
Рисую море, лес и тучу,
Ладью на берегу морском.
Я долго дую в парус белый,
И вот – бежит моя ладья, —
Счастливый путь, кораблик смелый,
За счастьем отправляюсь я.
И снова мир прозрачный дышит
В текучих водах и песках,
И ветер радугу колышет
В живых, гремучих облаках.
Морской лазурью воздух тронут,
Кипит веселая корма,
И в белой пене тонут, тонут
Окно, решетка и тюрьма.
1944
Тюрьма Френ
* * *
В тюрьме моей, во мраке черном,
Лежу и не смыкаю глаз,
А время молотом упорным
Дробит мой умывальный таз.
Я тяжких капель не считаю,
Двойного ритма не ловлю, —
Я в полночи иной мечтаю,
Я в вечности иной люблю.
Непроницаемой стеною
Мир от меня отъединен,
Но в крупных звездах надо мною
Творится новый небосклон.
И бестелесной плотью чистой
Я рею в голубом луче,
И солнце розой золотистой
Сверкает на моем плече.
1944
Тюрьма Френ
* * *
По ветра прихоти случайной
Вкруг оголенного ствола
Кружись, душа, в погоне тайной
За тем, чего не обрела.
И в диком шуме непогоды
Сквозь эти сучья и кусты,
Быть может, вдруг услышишь ты
Внезапный вопль такой свободы,
Такой жестокой чистоты…
1945
* * *
Предвестник осени туманной,
В дырявой шляпе всех мастей,
Он покоряет речью странной
Сердца торговок и детей.
Словечки, выходки пустые,
Вся жизнь зачахла в пустяках, —
Две розы, синью налитые,
Мерцают на его щеках.
Он ловко щелкает мелками
И к удивлению зевак
На тротуаре (натощак)
Выводит даму с завитками,
Гербы, оленей и собак.
Глазеет улица беспечно,
Оценивает мастерство, —
Но, как творец, недолговечно
Земное творчество его.
Цветистой радугой сверкая,
Рожденное из ничего,
Оно влечет, не увлекая,
И, в мертвом мире возникая,
Согласно с миром – и мертво.
1945
* * *
Жестокой верности не надо, —
Оглохший от сердечных гроз,
Я в белый пламень водопада
Бросаю клочья красных роз.
Они летят со звоном странным,
С воздушным шорохом туда,
Где брызжет облаком туманным,
Вскипает горная вода – —
Как этот шум, полна тревоги
Моя невнятная любовь, —
Для горной встречи без дороги
Палатки мирной не готовь.
Мы разойдемся молчаливо
На срыве каменной тропы,
И первый ветер торопливо
Сметет и розы и шипы.
Мы станем вновь, чем прежде были, —
Ты – слабым лепетом ручья,
Столбом гремучим брызг и пыли
В пустом ущелье стану я.
1946
* * *
В раю холмистом, меж сиреней,
Печаль, томленье и лазурь,
Земля во власти испарений
Еще полудремотных бурь.
И я, травы не приминая,
Спешу к негромкому ручью, —
Мое крыло – волна льняная,
Я ношу легкую мою
Со вздохом ветру отдаю.
Лечу бесплотный, невесомый,
Вновь звездоокий, и скорблю, —
Зачем я здесь, зачем я дома?
Зачем я рая не люблю?
Зачем в душе одно виденье,
Один лишь сон, из года в год, —
В листве зеленой жаркий плод
Готовит тяжкое паденье – —
Под эхо гор, под грохот вод
Мое свершится пробужденье.
1946
* * *
Я вам признался, против правил,
Что молодость не снится мне,
Что я в любви порой лукавил,
Любил и жил как бы вчерне – —
Не грустно ль вам, моя забота,
От слова, сказанного зря?
Где чувств начальных позолота,
Любви высокая заря?
Без умысла иль шутки ради
Вы нежно тронули рукой
Волос седеющие пряди
Над увядающей щекой.
И от невольного движенья
(Как будто пронесли свечу)
Припавши к вашему плечу
Я тишины не замечаю,
Пусть, каждый про себя хранит, —
Вы наливаете мне чаю,
И ложечка звенит, звенит – —
* * *
Упала чашка с тонким звоном,
Хрустят осколки на полу.
(Ах, в нашем мире все с наклоном.)
Стекает жидкость по столу.
День разрушенья. Пылью серой
Все наши чувства полегли, —
Но если мерить полной мерой,
Но если на краю земли,
На самом полюсе, быть может,
В гиперборейской простоте,
Где даже верность не тревожит,
Где все не то, и мы не те,
Где музыка дугой огромной
Небесный подпирает свод, —
Могли бы мы? Хотя бы скромной,
Привычной, нежной, – круглый год,
До старости, до смерти самой,
До полной седины земли, —
Могли бы мы? Простой, упрямой, —
Как любят все, как все могли – —
Вальс
А, вальс Шопена – – Нотный лист
В слезах чернильных и чахотке – —
Высок Париж, и воздух чист, —
Повисла роза на решетке.
Печаль на Люксембургский сад
Глядит поломанной игрушкой,
И сторож развлекаться рад
Провинциальной погремушкой.
По-польски в нежной синеве
Фонтан вполголоса болтает,
Ребенок ласковый в траве
Покашливает и мечтает.
Седой старик следит за ним
С лицом неумолимой славы,
И борода его как дым
Разбитой пушками Варшавы.
Проснулась музыка в окне,
Слетает в мир рояль крылатый,
Час сумеречный в тишине
Склоняет профиль виноватый,
А, вальс Шопена – – Я молчу, —
Но ты запела, ты припала
К его любви, к его плечу – —
Ты от любви моей устала.
1955
* * *
С плащом и палкой кое-как
Повесил сердце я в прихожей,
И вот вхожу, на всех похожий,
Зевака праздный средь зевак.
Сижу в гостях за чашкой чая,
Платочек даме подаю.
И вдруг со страхом замечаю
Под дверью темную струю.
За дверью горничная бродит,
След затирает на полу —
Не сердце ль кровью там исходит
В затоптанном чужом углу?
О, как ты мог? Уйди отсюда,
Стул по дороге отшвырни,
Беги, мечтательный Иуда,
Пока не поняли они.
На улице столбом тяжелым
Гуляет дождь, колотит град, —
Деревья на бульваре голом
Бушуют с бурей невпопад – —
Дыши, – вбирай в себя глотками
Широкий ветер всех дорог,
Живи громами иль веками, —
О, как ты мог! О, как ты мог!
1952
* * *
Мой вечер тих. Невидимых ветвей
Невнятный шорох следует за мною,
Воспоминанья робкий соловей
Вполголоса томится за спиною.
Я не вздохну. Неосторожный жест
Нарушит, может быть, очарованье, —
Офелия, как много в мире мест,
Где назначают призраку свиданье.
Меж двух домов беззвездная река,
В ней грозный факел отражен тревожно,
А ты плывешь, как облако легка,
Как водоросль слаба и невозможна.
О, ты плывешь, в бессмертье заперта,
За четырьмя замками иль веками, —
Лишь с фонарей венчальная фата
Летит в лицо туманными клоками.
Поет тростник на темном берегу,
Дает сигнал к отплытию, и скоро
Я дымную звезду мою зажгу
Над рухнувшей твердыней Эльсинора – —
И вот сосед, мечтательно жуя,
Проветриться выходит после чаю, —
– Да, это ночь, – он говорит, и я
– Да, это ночь, – как эхо отвечаю.
1953
* * *
Король глядел без удивленья,
Как сброд слонялся по дворам,
И низложенье грозной тенью
За ним ступало по коврам.
В пустынном зале, за колонной,
От изменившего штыка
Он пал, надменный и влюбленный
И одураченный слегка.
Тогда четыре капитана
Труп завернули в черный флаг
И, важный замедляя шаг,
На башню, полную тумана,
Взнесли высокомерный прах.
Четыре факела багрово
Прорвали северную тьму
И трубы хриплые сурово
Отдали почести ему.
Ночь призраку салютовала
Из тяжкой пушки на валу
И розой молния упала
На потрясенную скалу – —
Что перед натиском потока
Людские бедные права?
Жизнь так слаба и одинока,
Так перед смертью не права – —
И очарованный разрядом
Беды иль славы, сам не свой,
Вихрастый мальчик диким взглядом
Следил за вспышкой огневой.
* * *
Леди Макбет в темной ложе
Рвет перчатку и молчит,
А на сцене, так похоже,
Сердце громкое стучит.
Оглушенная духами,
Как наездница хлыстом,
Леди стынет под мехами,
Зябнет в облаке густом.
В пламя осени багряной
Воткнут гребень роговой,
С гор Шотландии туманной
Мчится ветер бредовой.
И когда кровавой тенью
Сцена вдруг омрачена,
Вновь как буре преступленью
Доверяется она.
Я люблю без состраданья,
Я без горечи ловлю
Нежный запах увяданья
Той, кого еще люблю.
Ложью чувств не отравляю,
Но заботливо опять
Ей над бровью поправляю
Разметавшуюся прядь.
И, клонясь на взор тревожный,
Словно в омут, я молчу,
С совестью неосторожной
Поздней встречи не хочу.
1953
* * *
За кружкой пива дремлет повар,
Колпак надвинут до бровей, —
А в черном небе шумный говор
По ветру пущенных ветвей.
Он тяжко дремлет и не знает,
Как гнутся звонкие стволы,
Как мрак играющий пятнает
Его крахмальные столы.
Вот хлынул ливень. Мокрым флагом
Метнулась бабочка в окне,
И молния большим зигзагом
На миг повисла в стороне.
Глотая ужин неприметный,
Я поднимаю воротник, —
Я слушаю, как гром ответный
Над дальним грохотом возник.
Поспешно шляпу нахлобуча,
Я убегаю в мир ночной,
И плащ растерзанный иль туча
Клубится низко надо мной.
Дождя летучие простыни
Трещат и рвутся в темноте, —
Дыханье бури и пустыни
В многоголосой высоте.
И, широко раскинув руки,
Я сердцем оживаю вновь, —
Так после длительной разлуки
Встречают первую любовь.
1953
* * *
День завершен, как следует, как надо, —
Не хуже прочих календарных дней, —
Я ухожу из пасмурного сада
Без горечи, но, может быть, грустней.
У выхода поскрипывают глухо
Два дерева в последнем свете дня, —
Из всех прельщений памяти и слуха
Лишь этот звук доходит до меня.
На улицах темнеет понемногу,
Блеснул фонарь мечтательно, и вот —
Лег черной тенью на мою дорогу
Узор географических широт.
Меридиан таинственной чертою
Их пересек, слегка наискосок, —
О, как хрустит под медленной пятою
Туманами пропитанный песок!
И в шорохе ночного приближенья
Я различаю дальнюю струну,
Ночной земли бессонные движенья,
Земной полет в ночную глубину.
Старинный мрак взволнованно и страстно
Глушит бродяг невнятные слова,
И дрожь витрин несмело и напрасно
Мне радугой летит на рукава.
1953
* * *
Над дверью вычурной фонарь
Сворачивает в ветер шею,
Табачный дым, лесная гарь —
Не разобрать, что там за нею.
Старинной улицы мечта
Румянцем новым подогрета,
Но так чиста, но так чиста
На мостовой полоска света. – —
И, спотыкаясь на ходу,
В порыве дружбы откровенной,
Прохожим вслух белиберду
Старик читает вдохновенный.
Его неверная рука
Подчеркивает ритм убогий,
Бездарный стих издалека
Чахоткой пахнет и берлогой.
О, ты завидуешь ему
Его с рожденья мертвой славе, —
Ступай за ним. В притон, в тюрьму,
Навстречу драке и облаве.
Скорей безумца догони, —
И если он тебя прогонит,
Столб телеграфный обними,
И столб в ответ тебе застонет.
1955
Туман
1
На Эйфелевой башне флаг
Уже неразличим в тумане.
Я снова замедляю шаг,
Ощупываю ключ в кармане.
Молчаньем влажным на меня
Тускнеющая Сена веет.
Тень вечереющего дня
Меня сметает и жалеет.
Но в одиночестве моем
Я не забыт и не оставлен —
Я с этой башнею вдвоем
Речным туманом обезглавлен…
Иду и листьями шуршу,
В воде их провожаю взглядом,
И новым счастьем не спешу
Встревожить то, что дышит рядом.
2
Туманной ночью вдоль канала
Бреду без цели, не спеша,
И кажется мне: вдруг устала
Под легким пиджаком душа.
Вся жизнь моя за мной шагает,
И каждый год – как эта тень,
Что отстает иль забегает,
Но все со мною, ночь и день.
Я провожатых не считаю,
И одинокий, как туман,
Лишь напеваю и мечтаю
О корабле из дальних стран.
И сырость мартовская нежно
Мне грудь и плечи серебрит.
И так печально, так прилежно
Фонарь на площади горит…
3
Во всех садах приглушены,
Оголены деревья снова.
Дома и улицы черны,
Нигде ни возгласа, ни слова.
На фонарях висит туман
Иль чахнут розы дождевые.
На старой площади фонтан
Решетки сторожит кривые.
Пустынной ночи тишина,
Пустынное очарованье…
За шторой каждого окна —
Предчувствие иль расставанье…
Я тяжбы с прошлым не веду,
Не упрекаю, не вздыхаю —
Гляжу на дальнюю звезду;
И отдыхаю. Отдыхаю.
Воздушный змей
Моей жене
* * *
Стоим, обвеянные снами
(Так молча сердце отдают),
И камни пыльные под нами —
Как птицы райские поют.
Нас тесно обступили люди,
И чей-то хрипловатый бас
Толкует о поддельном чуде,
О суеверье и о нас.
Но грубых окриков не слыша,
Мы видим небо над собой,
И вдруг – летим. Все выше, выше,
В эфир прозрачно-голубой.
И в восхождении высоком
С воздушно-солнечных дорог
Глядим, уже бессмертным, оком
На тех, кто улететь не мог.
1944
Воздушный змей
Змей уходил под облака
(Так в высоте душа летала),
Нить гнулась, дергала слегка
(Как бы звала издалека),
Воздушной жизнью трепетала.
Я небо осязал рукой,
Его упругое теченье, —
Постиг лазури назначенье,
Ее двусмысленный покой.
Вдруг что-то лопнуло. Беда
Открылась разуму не сразу —
Еще бумажная звезда,
Катясь, взлетала иногда, —
Лгала неопытному глазу.
Змей падал, падал – – меж домов,
Меж разных вычурных строений, —
Нравоучение без слов
Для праздных городских умов,
Для внеслужебных настроений.
Я горестно смотрел туда,
Привычно строил наблюденья,
И вся воздушная среда
Как бы ждала его паденья.
Не закрепленный бечевой,
Он странным телом инородным
(Каким-то пьяницей свободным)
Скитался в синеве живой, —
Быть может, ангелом безродным
Летел по ломаной кривой.
1944
* * *
В трубе большого телескопа
Ученый высмотрел звезду;
Ее маршрут – Земля, Европа.
И вот она в большом саду.
Прелестный шар голубоватый,
Еще в космической пыли,
На нем узор замысловатый
Морей прозрачных и земли,
В пустынной бухте – корабли.
Сбежались дети, закричали
На сотни разных голосов, —
Им няньки строго запрещали
Касаться странных парусов.
И нехотя смотрел на это
Расстроенный городовой, —
Меж роз поломанных – планета
Блистает свежей синевой – —
Тогда старуха-от-уборной
Из выскобленного угла,
Прихрамывая, птицей черной
К планете чуждой подошла.
Мигнула выцветшей ресницей
И на глазах у детворы
Вдруг тыкнула вязальной спицей
В склон огнедышащей горы.
Шар дрогнул в пламени лазурном,
Рванулся, откачнулся прочь, —
И между солнцем и Сатурном
Надолго воцарилась ночь.
1944
Двойник
Весенний ливень неумелый,
От частых молний днем темно,
И облака сирени белой
Влетают с грохотом в окно.
Земля расколота снаружи,
Сосредоточена внутри, —
Танцуют в темно-синей луже
И лопаются пузыри.
И вдруг, законы нарушая,
Один из них растет, растет,
И аркой радуга большая
Внутри его уже цветет.
Освобождаясь понемногу
От вязкой почвы и воды,
Он выплывает на дорогу,
Плывет в бурлящие сады.
И на корме его высокой
Под флагом трепетным возник
Виденьем светлым иль морокой
Мой неопознанный двойник.
Я рвусь к нему, но он не слышит,
Что я вослед ему кричу, —
Под ним сирень как море дышит,
В своих волнах его колышет
И влажно хлещет по плечу.
1944
Очки
На письменном столе блистают
Очки в оправе роговой,
Там люди весело взлетают
И падают вниз головой.
Там плещется окно цветное,
И дверь косая, как крыло,
Законам физики назло,
В пространство выгнута иное.
Лучистая цветет среда
Меж нами и заветной дверью, —
Взойдем (иль спустимся) туда,
Навстречу снам и суеверью.
Там ярко оперенный змей,
Предчувствуя грехопаденье,
Покажет чудное виденье
Душе взволнованной твоей.
И в жарком фокусе стекла
Возникнет лик знакомо-странный,
И ваза посреди стола
С букетом зелени туманной, —
И кресло, крытое чехлом,
На спинке тронутое молью, —
Мир, переполненный теплом,
Любовью и привычным злом,
Весь освященный нашей болью.
1944
* * *
На пыльной площади парад,
Все улицы полны народа, —
Весенний ветер и свобода
В пустынный удалились сад.
Там полдень в синеве прохлады
Горстями солнце раздает,
Он весь щебечет и поет
От карусели до эстрады.
Он мачту белую свою
Украсил флагом горделивым,
Он, как разбитую ладью,
Качает утлую скамью
С каким-то пьяницей счастливым.
И вдруг подхваченный волной,
Слегка скрипя на поворотах,
Сад уплывает в мир иной,
Лежащий на иных широтах.
И, различимые едва,
Земли невидимой предтечи,
Дымятся, как большие свечи,
На горизонте острова.
Предчувствуя их приближенье,
Бродяга открывает глаз;
Его смущает, в первый раз,
Морское головокруженье.
Мир непривычно изменен,
Ветвистый мрак струится рядом – —
Над медленно-шумящим садом
Таинственный проходит сон.
1944
Фрегат
На рынке, пестром и крылатом,
Где в синем воздухе весны
Торгуют луком и салатом
И наскоро пекут блины, —
Цветя багдадскими коврами,
С отметкой паспортной – пират, —
Стоит, обточенный ветрами,
Сорокапушечный фрегат.
И, скаля солнечные зубы
(Их каждый был бы рад украсть),
Матросы весело и грубо
Поносят городскую власть.
Пожарные на них взирают
Недружелюбно, искоса,
Зевак прохожих оттирают,
Вылавливают голоса, —
И, овладев пространством голым
Между молочной и мясной,
Развязной черни площадной
Грозят жестоким протоколом – —
И, в первый раз за много лет,
Над этим морем говорливым
Седой непризнанный поэт
Почувствовал себя счастливым.
Прельщенный буйной небылицей,
Он из чердачного окна
Не камнем падает, но птицей
Летит в гнездо свое для сна.
1944
* * *
Под вечерок, с женой поджарой,
Банкир гуляет напролом, —
На перекрестке ангел старый
Их робко трогает крылом.
И удивленная немного
Павлинье-радужным пером,
Жена отщелкивает строго:
– Бунтовщикам не подаем.
– Вы верить в Бога не хотели,
– Теченье нарушали сфер,
– Как глобус землю вы вертели,
– Ниспровергали и свистели, —
– Вы в ночь, мятежный Люцифер,
– Падучим камнем отлетели.
И муж промямлил кое-как:
– Вы стали тут чернорабочим,
– Вы голодаете. А впрочем – —
Он протянул ему пятак.
Они отходят шагом праздным,
Нарядной обувью стуча,
И в небе мутно-безобразном
Не видят узкого луча.
А вдоль домов уже несется,
Весь в клочьях пены, жеребец, —
Он черной бурей к ним дорвется,
Он их настигнет наконец.
Он туго-кованным копытом
Хрустящий череп обожжет, —
Он задыхается. Он ржет
О мире грозном, но забытом.
1944
* * *
Из подворотенной дыры,
Куда жара не досягает,
Горбун лохматый предлагает
Прохожим детские шары.
И шагом медленным, вразвалку
Банкир подходит к горбуну,
Он долго, опершись на палку,
Глядит на пеструю волну.
И вдруг – от перстня до портфеля —
Банкирский дом преображен, —
На мой почтительный поклон
Он морщит брови еле-еле.
Я постигаю, – близ меня
Из крови мутно-тепловатой,
Из мглы сигарного огня
Творится мир замысловатый.
Зажатый в улице пустой
Меж рестораном и аптекой,
Перед банкиром и калекой
Кружится шарик золотой.
Он полон солнечного света,
Он вырастает на лету, —
Звезда цветная иль планета,
Стремящаяся в высоту.
И мы глядим, глядим все трое,
Полуоткрыв по-детски рот,
На это небо голубое,
На этот ангельский полет – —
1944
* * *
В большом шкафу библиотечном,
Где старый глобус накренен,
Где время в мячике беспечном
Оглушено со всех сторон, —
Где покоробленная полка
Философам отведена, —
Ночная бабочка из шелка
Располагается для сна.
На звездный атлас осторожно
Легла, как пурпурная тень, —
И возникает непреложно
В пустынных окнах новый день.
Я крылья складываю тоже,
На вешалку бросаю их,
Теперь они на плащ похожи
Под ворохом одежд моих.
И ты, войдя ко мне дозором
(Так нежность требует твоя),
Отметишь равнодушным взором
Их полустертые края.
1940
Сквозняк
Стаканы в зеркало швыряя,
Звеня осколками стекла,
Сквозняк возник из-за угла, —
Все возмущая, разоряя
(Прием знакомый повторяя),
Он вымел комнату дотла.
О, ветер, ветер! Дверь рвануло
Вон из освистанной глуши, —
Вслед занавеска промелькнула
И, пробкой хлопая, хлестнула
Край взбудораженной души.
И все бумаги без разбора,
Сверкая птичьей белизной,
В косом полете вдоль забора
Переметнулись в мир иной.
А впереди, найдя дорогу
К непоправимым высотам,
Стихи распались по листам, —
(Но ввысь уходят понемногу,
Чтоб затеряться где-то там).
1949
* * *
На землю пала ночь глухая, —
В тени разбитого ствола
Таится ангел, отряхая
Прах с помутневшего крыла.
Он поднял руки, он уходит
От грустных, но привычных мест,
Он взоры к небесам возводит,
Где Млечный Путь и Южный Крест, —
И скорбными следит очами,
Как падает в ночную тьму,
Как бы язвимая лучами,
Душа, внимавшая ему.
1937
* * *
Глядится в зеркало чудак
И видит небо за собою,
И башню с каменной резьбою,
Подвешенную кое-как
Над бездной дымно-голубою.
По горной лестнице, пыля
Дорожной обувью разбитой,
Безмолвно ангел деловитый
Нисходит в тихие поля.
Благословляет день весенний,
Ручей болтливый как всегда,
И пастухов, и их стада,
И дым разрушенных селений, —
Живых и трупы вдоль дорог
(Колосья жатвы неумелой),
Косматый многолетний стог,
И бесприютный череп белый,
Поскрипывающий у ног.
Сойди, вечерняя прохлада,
На все их скорбные дела, —
Здесь нет забвенья, и не надо,
Но глубь земная сберегла
Росток для будущего сада,
Живые соки для ствола.
1947
* * *
Лазурь воскресная чиста,
Все так легко и невесомо, —
Свет бьет из каждого куста,
Из каждой скважины и дома.
Мечтатель в шляпе голубой
Влюбленных провожает взглядом,
Веселые шары гурьбой
Взлетают над притихшим садом.
В упругом воздухе паря,
Они всплывают поплавками,
Вальсируют под облаками,
Иль, новый танец сотворя,
Ввысь устремляются прыжками
(В бессмертье, проще говоря), —
И, лопнув, падают клочками
Наморщенного пузыря.
А мы под зонтиком цветным
За кружкой пива полудремлем,
Табачный отгоняем дым, —
Мы краем слуха сонно внемлем
Невнятным шумам площадным.
1949
Зеркальный мир
Я заблудился ненароком
В зеркальном мире, как в лесу, —
В граненом хрустале высоком,
В таинственном шкафу глубоком
Слежу, почти ослепшим, оком
Зари цветную полосу.
Куда б я ни повел очками,
Везде мой бедный кабинет
Прямолинейными пучками
Иль огненными языками
Весенний отражает свет.
И в этой солнечной купели
Найдя певучую струю,
Я сам сверкаю и пою, —
Не ангел ли я в самом деле
В глухом запущенном раю?
Что, если броситься со страха
В широкое мое окно?
Что, если ангелу дано
Паденье только для размаха,
Для разворота грозных крыл?
Что, если падать он забыл?
1944
Опрокинул чернильницу
Писец, бумаги разбирая,
Задел чернильницу, и вот —
Река без берега и края
Вдоль по столу его течет.
На папиросную коробку,
На пепельницу из стекла,
На завалявшуюся пробку,
На исходящие дела,
На все, что жизнь его заело,
Что душу выжгло и сожгло,
На все, что быть еще могло,
Что попросту быть не успело – —
Огромный парус раздувая,
Как грозный призрак корабля,
В ночь обрывается земля,
Ночь наступает гробовая.
И в этой совершенной мгле,
В аду кромешном и чернильном,
Он видит – солнце на столе
Качается в дыму кадильном.
И сам он, легкий как стрела,
Одетый по последней моде,
Плывет в большие зеркала,
Где зреют розы без числа,
В органный гром, в колокола, —
В такую высь, к такой свободе – —
1945
Ночные бабочки
На площади клубится пар,
Скрипит фонарь в ключе скрипичном,
Без смысла в тупике кирпичном
Качается стеклянный шар.
В нем бабочка заключена, —
Невольной жалости достойна,
Она, от боли иль спьяна,
Срываясь, бьется беспокойно,
Насквозь огнем прокалена.
Летучей плоти отраженье
Трепещет и шуршит слегка, —
Я узнаю издалека
Ее падучее круженье.
Я молча подползаю к ней,
Слежу полет ее бесплодный, —
И хлещет дождь за мной холодный,
Бурлит меж уличных камней.
Я слышу лепет несуразный,
Дышу на мутное стекло
И жду – пускай прохожий праздный
Вонзит свой ноготь безобразный
В обвисшее мое крыло.
1944
* * *
В ночном молчанье, в некий час,
Когда душа почти не дышит,
Но жадно слушает и слышит,
Как время падает на нас, —
Когда, сознанье размывая,
Проносится сквозь тело тьма,
И рядом ходит смерть сама,
Нас длинной тенью задевая, —
Что в этой скудости земной
Тогда нас держит и волнует?
Что в этой вечности дурной
Нас к вечности иной ревнует?
Уже полсердца сожжено,
Вздохну – и сердце оборвется, —
И вот оно все бьется, бьется,
Как будто жить осуждено.
И длится дрожь существованья,
Пустая память о былом,
Волна, разбитая веслом,
Ночь без лица и без названья…
1943
* * *
Дождь сечет. Фонтан кирпичный
Мутно газом освещен.
Тьма и шорох. Мир обычный
Чем-то тронут и смущен.
То ли выплески канала
Заглушает шум дождя,
То ль душа моя, бродя,
Поскользнулась и упала?
И прильнув к земле холодной,
Сквозь асфальтовый покров
Различает многоводный
Плавный ток иных миров – —
Только отдых и молчанье,
Шелест ветра на столбах, —
Только времени журчанье
В водосточных желобах.
Отсырела папироса,
Липнут волосы к виску, —
Городскую площадь косо,
Не спеша, пересеку.
Обойду квартал туманный,
Скрытый жар превозмогу,
Дома, гость непостоянный,
Скучной лампы не зажгу.
1931
* * *
Непрочное апрельское тепло
Срывается на стужу поминутно,
Встает волна медлительно и мутно
И падает на камень тяжело.
Неверный день, неверное свиданье – —
Приглохший город кажется пустым.
Лазурь уходит в облака и дым,
Моя душа уходит в ожиданье.
О, если бы ты снова не пришла!
Стоять бы так, томить воображенье – —
Есть в мире зло, ты – излученье зла,
Есть в мире смерть, ты – смерти отраженье.
1939
* * *
Еще не глядя, точно знаю,
Чем тронуты твои черты, —
Как будто сердцем вспоминаю
Тот мир, которым дышишь ты.
Как будто не было меж нами
Ни столкновений, ни преград,
Как будто вещи говорят
Со мной пророческими снами.
Да, я люблю, и ты за мной
Готова следовать послушно,
Но нетревожно, равнодушно,
Но отдаленно, стороной.
И часто в слабости любовной
Клонясь на грудь твою, в тиши
Я слышу сердца бег неровный
И дрожь холодную души.
И сквозь опущенные веки
Я вижу в темном забытьи
Невоплощенный образ некий, —
Черты грядущие твои.
1939
* * *
Л. Росс
Уже ноябрь туманит фонари,
Все улицы просторнее и тише,
Прохожие спешат, лишь два иль три
Уткнулись хмуро в мокрые афиши.
Еще в саду на сломанном столбе
Качаются забытые качели, —
Мой милый друг, не кажется ль тебе,
Что мы прошли и молча постарели.
Все я да ты, понятливый мой пес,
Под сумерки недлинная прогулка,
Холодный чай да пачка папирос,
Да для тебя прикупленная булка.
Так и летим. В пустынные миры,
Сквозь мрак и дождь к созвездью Геркулеса,
Не отрываясь от земной коры,
Не замечая собственного веса.
В ошейнике иль в старом пиджаке
(Не все ль равно?) мы вышли на дорогу,
Все ты да я – и оба налегке,
Не торопясь, почти шагаем в ногу.
Ноябрь, ноябрь. И зонт не перекрыт, —
Но воздух так деревьями колышет!
Весь город легким воздухом омыт,
И каждый лист не шелестит, но дышит.
1948
* * *
Поздно, поздно. В бороде
Невеселого соседа
Дым запутался с обеда.
Ночь в бокале. Ночь везде.
Загремела штора где-то,
Стукнул пьяный по столу,
Музыкант жует в углу
Запоздалую котлету.
Хорошо уйти отсюда
В сумрак влажных площадей,
Чуть подальше от людей,
От неубранной посуды.
Расстегнув крылатки ворот,
Втиснув Пушкина в карман,
Пробираться сквозь туман,
Сторожить любовно город.
Скоро сонный мир проснется,
Захлопочут чердаки, —
Недоверчивой строки
Рифма легкая коснется.
1931
Листья
Е. Ю. Рапп
Сырые листья вдоль дороги
Туманным золотом блестят,
Они уже полны тревоги,
Срываются, но не летят.
Дай срок. Пусть ржавчина их тронет,
Сожжет морозная земля,
Пусть ветер северный угонит
Их в одичалые поля.
От зимних бурь они проснутся
И, сталкиваясь на лету,
Шумящим роем унесутся
В ночь и в ночную высоту.
1949
Карусель
Кусты сирени и свобода,
Толпа подвыпивших зевак,
Прямая мачта возле входа, —
В лазурном поле белый флаг.
На карусели под шарманку
Брезентом хлопает весна,
Плащи и платья наизнанку
Расхлестаны, как знамена.
И с чьей-то шляпки розоватой
Летит в шарманочный поток,
Плывет по воздуху измятый,
Как бы притоптанный цветок.
И я, в моей печали важной,
Молчу и никну головой, —
В моей руке цветок бумажный
Благоухает как живой.
Двойной булавкой осторожно
Его прикалывают там,
Где расцветать еще возможно
Живым и призрачным цветам.
Вдыхая пудры запах сладкий,
Табачный горьковатый дым, —
На размалеванной лошадке
Скачу за солнцем голубым.
Оставь меня в моем круженье,
Возврата позднего не жди, —
Я всадник в гибельном сраженье
С засохшей розой на груди.
1946
* * *
За дверью голос дребезжит,
Ключей тяжелых громыханье, —
Там раб с винтовкой сторожит
Мое свободное дыханье.
А я над городом парю, —
Моя дорога так воздушна,
Моя тюрьма мне так послушна,
Что я тихонько говорю:
Живое сердце мыслить учит
Не в глубину, а в высоту, —
Он не задушит, не замучит
Высокую твою мечту.
Смотри, как чудно просветлела
Иссохшая твоя рука,
Как стала плоть твоя легка,
Какой звездой она взлетела
В сверкающие облака.
1944
* * *
Нас трое в камере одной,
Враждующих в пространстве малом;
С рассвета говор площадной
Уже трещит в мозгу усталом.
А по соседству, через дверь,
Четыре смертных приговора, —
Быть может, и для нас теперь,
Не в эту ночь, но скоро, скоро – —
И вдруг, на некий краткий час,
Душа в молчанье окунулась,
Закрылась от голодных глаз,
В глубокий сон как бы проснулась.
И внемлет медленным громам,
Их зарожденью, нарастанью,
И тайным учится словам,
Еще не связанным гортанью – —
Лишь шелест трав, лишь грохот вод,
Лесов ночное колыханье, —
В застенках всех земных широт
Свободы легкое дыханье.
1944
* * *
Терзаемый недугом грозным,
Оставленный моей судьбе,
Я догорал в жару тифозном
И громко плакал о тебе.
В огне неутолимой жажды,
Срываясь поминутно в бред,
Я подолгу и не однажды
Лизал холодный пистолет.
И в орудийные удары,
В ночную трескотню ружья
Вплетались жалобы Тамары
И лепет горного ручья.
Один лишь сон, одно виденье,
Невыносимое для глаз, —
В дневной лазури белой тенью
Вставал из марева Кавказ.
И снежные пласты взрывая,
Меж глыб голубоватых льда,
Гремя, бежала ключевая
Неуловимая вода.
И как вода неуловима,
Позванивая и дразня,
Журча, ты растекалась мимо,
Ты уходила от меня.
1937
* * *
Нас обошли и жали с тыла,
Снаряды близились к концу,
И стала смерть лицом к лицу
И пулей вражеской завыла.
Шумели громко хвастуны,
Молчали храбрые устало,
И пламя черное войны
На горизонте клокотало.
В разбитой хижине к утру
Совет составился случайный,
И не было уж больше тайной,
Что с первым солнцем я умру.
В дырявых сумках эскадрона
Остаток скудный наскребя,
Я молча разделил патроны,
Один оставил для себя.
Тогда, в минуты роковые,
Как будто гибели назло,
Тогда, клянусь, меня впервые
Такое счастье обожгло, —
К такой свободе полноводной
Душа прильнула наяву, —
Что новый день, как смерть свободный,
Стал днем живых. И я – живу.
1937
* * *
Мой сад наполнен влагой дождевой,
И шорохом, и мраком, и движеньем, —
Не видно звезд, но воздух грозовой
Как бы насыщен звездным отраженьем.
Еще блуждает глухо в вышине
Недавних молний отрешенный трепет, —
Возвратный ливень где-то в стороне
Возобновляет торопливый лепет.
Вот рухнет гром. Дрожащая листва
Как океан вскипит и заклокочет – —
Прислушайся, – душа моя жива,
Но жить тобой она уже не хочет.
1945
* * *
Лазурь безоблачно мутна,
В саду деревья веют жаром, —
Ты полудремлешь в кресле старом, —
Я замечаю – ты больна.
Я молча руку подаю
Для помощи, не нужной боле,
Я руку легкую твою
Еще целую поневоле,
Но не люблю. Не узнаю.
День без примет и без числа,
День медленного увяданья, —
В траве жужжащая пчела
(И роз удушливая мгла), —
Все лишь предлог для состраданья.
Быть может – лишь предлог для зла.
1946
* * *
Анне Присмановой
Играл оркестр в общественном саду,
Рвалась ракета с треском и горела,
И девушка с цветком в руке смотрела
Поверх меня на первую звезду.
Из глубины взволнованного сада
На освещенный фонарями круг
Ночь темной бабочкой спустилась вдруг,
И медленно нахлынула прохлада – —
Что помнишь ты, о сердце, в полной мере
Из тех годов, из тех высоких лет?
Любовный плач о выдуманной Мэри,
Два-три стиха и тайный пистолет – —
Шумит земля в размерах уменьшенных,
Как вырос я для зла и для добра, —
Предчувствий светлых робкая пора
Сменилась бурей чувств опустошенных.
Сухой грозы невыносимый треск,
Бесплодных туч гремучее движенье,
Но нет дождя. Лишь молния и блеск,
Один огонь, одно самосожженье.
1943
* * *
Звезда скатилась на прощанье,
Твой взор зажегся и погас, —
Лишь эхо слушает молчанье,
Соединяющее нас,
И ясно повторить готово,
Рассыпать по ночным кустам
Уже прильнувшее к устам,
Еще не сказанное слово.
1939
* * *
Прохладных роз живая белизна
В росе, в слезах, во мгле голубоватой, —
Над городом прощальная весна
Склоняется с улыбкой виноватой.
Кой-где дома, не в ряд, освещены,
Грустит рояль под женскими руками —
Мечтатель праздный бродит вдоль стены,
Отмеривает рифмы каблуками.
По улицам приглохшим и пустым
Повеяло былым очарованьем, —
Над крышами туман иль светлый дым
Готов смешаться с облаком ночным,
Чтоб завтра стать простым воспоминаньем.
1948
* * *
Сергею Маковскому
Пройдет трамвай, и в беге колеса
Взметнутся листья вихрем золотистым,
Прохожий в парке подзывает пса
Рассеянным и приглушенным свистом.
Да, осень, осень. Все обречено, —
И взмах руки в заштопанной перчатке,
И стук мяча на теннисной площадке,
И музыка в пустынном казино.
Какая жалость в мире разлита,
Как предана душа воспоминаньям, —
Каким испепеляющим лобзаньям
Мир отдает прохладные уста.
1939
* * *
Горят широкие листы
Осенней трепетной любовью,
Бульвары густо налиты
Сентябрьским золотом и кровью.
Томись, душа моя, томись, —
Вечерний воздух свеж и влажен,
Как музыка струится высь
Вдоль городских высоких скважин.
Цветут блаженной синевой
Все тени, трепеты и звуки, —
Не вскинуть ли над головой
Бессильные от счастья руки?
Не закружиться ль в вышине
Сверкающего листопада,
Не прикоснуться ли и мне
К живому творчеству распада?
* * *
Не обвиняй. Любовь не обвиняет.
Прошедший день был холоден и пуст,
Я молча пил дыханье бледных уст,
И видел я, как за ночь смятый куст
Последнюю листву свою роняет.
Как широко раскрылись облака —
Дым вечности – без жизни и движенья, —
Казалось мне – огромная рука
Там начертала наши отраженья.
Два образа из вымыслов моих,
Обвеянных и бурями и снами, —
Ночь близкая соединила их
И вознесла торжественно над нами.
И столб дождя, безветрием гоним,
С холма на холм, где чудилась дорога,
Неотвратимо приближался к ним —
Живая тень внимающего Бога.
1943
* * *
Июльский мрак, полночная прохлада, —
Недавним ливнем все оживлено,
И многоствольное дыханье сада
С моим дыханьем бурно сплетено.
Еще грохочет туча в отдаленьи
Невнятные, но грозные слова, —
Тяжелая намокшая листва
Качается в последнем исступленьи.
Но звездный свет в летучей высоте
Уже возник над тьмой первоначальной,
И явственней сердечной глухоте
Негромкий зов любви твоей прощальной.
Приди ко мне, – стань молча у окна,
Гляди со мной и слушай без движенья, —
Какая ночь, какая глубина,
Почти без чувств, почти без выраженья.
1943
* * *
Нине
Сентябрь блистает и томится
Своей неверной красотой,
В лазури ясной и пустой
Источник осени струится.
Незамутненные струи
Нисходят золотом и светом,
Тепло, не знаемое летом,
Согрело волосы твои.
Какою жаждой восхожденья
Душа земная смущена!
Как будто вся земля больна
Предчувствием освобожденья.
1938
* * *
Ноябрь туманный за окном,
Пустынный сад подернут сеткой;
Как бы окрашенный вином,
Трепещет лист над голой веткой.
Как неприметно в два-три дня
Весь путь земной усыпан ими – —
Не осень, но простое имя,
Звучащее лишь для меня.
1945
* * *
Глухая осень движется на нас
С туманами, и стужей, и дождями, —
Пустой бульвар усыпан желудями,
Опавший лист свернулся и погас.
Я день-деньской по городу брожу
Без горечи и без воспоминаний,
Забытых чувств и мыслей не бужу
И не ищу насильственных признаний.
Лишь сумерки приветствуют меня,
Все – тишина, беззвучье, послушанье, —
Пролетки скрип, и колеса шуршанье,
И фырканье смиренного коня.
Широкий зонт над согнутой спиной
Копытам в такт качается пугливо, —
И забредает ночь неторопливо
Во все сады, оставленные мной.
1945
* * *
Е. Ю. Рапп
На склоне городского дня
Шаги и глуше и небрежней, —
Вновь осень трогает меня
Очарованьем грусти прежней.
Я почерневшую скамью
В саду пустынном занимаю,
Я шляпу влажную мою
Движеньем медленным снимаю, —
И слушаю, как шелестят
Верхушки легкие над садом,
Как листья желтые летят
И падают со мною рядом.
Я тонкой тростью обвожу
Их по краям и протыкаю,
Я молча в прошлое гляжу
В нем слабой тенью возникаю.
И возвращаюсь не спеша
В мою привычную заботу, —
В тумане сучьями шурша,
Весь город (или вся душа)
Уже готовится к отлету.
1946
* * *
Весь день вдыхаю с дымом папирос
Бескровный воздух городского сада.
Октябрь, октябрь. Опять моих волос
Касается осенняя прохлада.
Как льется звон вдоль четкого ствола,
Как важен шум деревьев надо мною!
Сквозь жар дубов березовая мгла
Просвечивает нежной белизною – —
Не шевелись. На темном рукаве
Блистательно пылает лист широкий, —
Вот-вот в закат по скошенной траве
Проскачет молча всадник одинокий.
Уже летит над лугом синева, —
Ты хочешь знать таинственное имя?
Быть может, смерть. Но краски и слова,
Но эту дрожь – любовь зовет своими.
1938
* * *
Е. Гризелли
Вздыхает эхо под мостом,
В траве дремотное журчанье, —
Все те же звуки, все о том,
Что погружается в молчанье.
Но землю слушать мне дано
И числить время по-иному, —
Так погребенное зерно
Опять лучам возвращено,
Чтоб дозревать не по-земному
Пленительная вспышка дня,
Последний блеск исчезновенья!
Как вечность длится для меня
Дар мимолетного мгновенья.
И ты, любовь моя, со мной, —
Сквозь наслажденья и страданья
Ты входишь в сердце новизной
Уже предсмертного свиданья.
1949
* * *
Огни пустынного залива
Прошли и скрылись в стороне.
Без ветра в бледной вышине
Бежали облака пугливо.
Как быстро скудная земля
В сиянье влажном потонула!
Дыханьем весла шевеля,
К нам бездна ластилась и льнула.
Ломая встречную волну,
Волна широкая дымилась,
Беззвучно по морскому дну
Звезда разбитая катилась.
И было весело качать
Ее текучее миганье
И сонной бури содроганье
Холодным сердцем отмечать.
1936
* * *
Темнеет небо понемногу
Светлеет первая звезда,
Тень затуманила дорогу
День закатился навсегда.
Но ночь еще не наступила,
Природа кажет два лица, —
Что надвигается, что было, —
Еще не слито до конца.
На всем тревога раздвоенья,
Рассеянно томится дух, —
Земля взамен дневного зренья
Ночной приоткрывает слух.
И близкой ночи шорох важный,
И дальний шум дневных тревог, —
Все разрешается в протяжный,
Огромный и глубокий вздох.
1943
* * *
Заря уже над кровлями взошла.
Пора. Пестрит узорами страница,
И синева усталости ложится
На влажный блеск оконного стекла.
Но жаль уснуть. Смущенная душа
Так непривычно вдруг помолодела,
Так просто рифма легкая задела
Медлительный клинок карандаша.
Я не творю. С улыбкой, в полусне,
Набрасываю на бумагу строки,
И свежий ветер трогает мне щеки
Сквозь занавес, раздутый на окне.
Как я люблю непрочный этот час
Полусознания, полудремоты, —
Как пуст мой дом. Как дружелюбно кто-то
Касается моих усталых глаз.
О, это ты, последняя отрада, —
В квадратном небе зреет синева,
Чуть-чуть шуршит незримая листва,
И никого, и никого не надо.
1931
* * *
Н.
Сколько грохота и грома,
Сколько оглушенных птиц!
Содрогаясь, стены дома
Ловят отблески зарниц.
Мчит разруху дождевую
Мутный выворот воды,
С шумом в темень огневую
Рвутся мокрые сады.
Ты, что песней огласила
Свой земной короткий путь,
Ты, что песен лишь просила,
Слышишь ли ты что-нибудь?
Иль гроза не досягает
За могильные врата?
Только влага набегает
На размытые уста.
1937
* * *
Дождь, дождь и дождь. И ночь. В окно
Летит клоками пена с мола,
Все скрытое – обнажено,
И неустойчиво, и голо.
Все в мире ищет пустоты,
Стремится в мрак первоначальный,
На берег плоский и печальный
В такую ночь выходишь ты.
Глядишь сквозь струи дождевые
На черный горизонт, туда,
Где, словно тени огневые,
Проходят дальние суда.
Высокомерный от страданья,
Под бурным ветром ледяным
Ты ждешь прощанья иль свиданья
С забытым призраком ночным.
Ты счастья просишь иль измены,
Равно не веря ничему,
И ловишь клочья белой пены,
Летящей в северную тьму.
1939
Трубачи
На летнем взморье трубачи
Зарю морскую провожали,
Ее прощальные лучи
На меди заревом дрожали.
В веселый ритм вовлечена,
Толпа купальщиков гудела,
И женщина влюбленно пела
В широком вырезе окна.
Но, не вступая в общий хор,
Отражена горой соседней,
Одна труба (иль эхо гор)
Звучала жалобой последней.
Нас тихо к берегу несло,
За нами тень влеклась несмело, —
Порой небрежное весло
В сухой уключине скрипело.
Крыло под ветром накреня,
Над нами чайка пролетала,
Как белый парус трепетала
На пляже чья-то простыня.
День уходил. Теплом и светом
Вступали сумерки в него,
И было ясно, – в мире этом
Мы не любили ничего.
Иль, может быть, в пустом просторе
Лишь сонных весел мерный стук,
Быть может, только эхо в море,
Горами отраженный звук.
1931
Пена
Гляди на клочья легкой пены,
Но их напрасно не лови, —
Мы умираем от измены,
Мы умираем от любви.
Оставь душе ее свободу,
Но пламень сердца укроти, —
Случайный ветер тронет воду —
За легкой пеной не лети.
Пусть блеском солнечным упьется
Иль схлынет на морское дно,
Пускай о камень разобьется,
Слезой свернется – все равно.
Она была и перестала,
И быть иною не могла, —
Чужим движеньем трепетала,
В чужом паденьи умерла.
1934
* * *
Чиновник на казенном стуле,
Усердствуя, протер дыру, —
Его начальственно ругнули,
И он постиг: не ко двору.
Стул очень быстро починили.
Чиновник умер. В феврале
Его семейно хоронили,
Прилично предали земле.
И кто-то отпечатал «В Бозе»
На ленте кремовой венка,
И снег на одинокой розе
Сверкал, похрустывал слегка.
И вдруг душа моя припала
К дешевым лентам и цветам, —
О, Боже мой! Как страшно мало
Ты нам оставил здесь и там.
1944
Розы на снегу
Дымятся розы на снегу,
Их вьюга заметает пылью, —
Проворный попик на бегу
Трет белый нос епитрахилью.
Трескучий холод кости ест, —
Все разошлись мороза ради, —
И только – розы, снег и крест,
Приваленный к чужой ограде.
И двое пьяниц, – землю бьют,
Тяжелым заступом ломают,
Продрогнув, крепко водку пьют
И что-то грешное поют,
Отроковицу поминают.
И во хмелю своем, гордясь
Ее невинной красотою,
Уж не робея, не стыдясь,
От ветра лишь отворотясь,
Нечистой тешатся мечтою – —
Железная земля тяжка, —
Гроб гулко ахает и стонет,
Под грудой мерзлого песка
Никто не смеет и не тронет.
Она лежит, снегов бледней,
На смертном иль на брачном ложе,
И небо низкое над ней
На вечность мутную похоже.
Дымится куст, дымится твердь,
Земля во власти мглы летучей,
Безлюдье в темноте скрипучей, —
Лишь ночь и ночь. Лишь смерть и смерть.
1944
* * *
Большие звезды недвижимы,
И прочен камень под ногой;
Лишь поздний ветер – мимо, мимо, —
Грозит рассыпаться пургой.
Без снега все оледенело,
Все стало твердым и звенит, —
Мороз и ночь целуют смело
Холодный воск твоих ланит.
Ты на постели белоснежной,
На ложе девственно-льняном, —
Так необычен профиль нежный
При слабом пламени свечном.
Но это ты, тебя я знаю, —
Твои уста, твоя рука, —
Я каждый шорох вспоминаю
И каждый жест издалека.
Былая страсть еще со мною,
Я жду ответного огня, —
Явись, явись, пускай иною,
Пускай другой, но для меня.
Могиле вечность только снится,
За гробом вечность не нужна,
Как снежный прах она дымится,
Как камень падает она.
Без наслажденья и без боли,
Лишь маска мерзлого лица,
Лишь краткий вопль в пустынном поле,
Который длится без конца.
1945
* * *
Был музыкант – и больше нет, —
Бредет с поминок дьякон хмурый.
Ночь дует яростно в кларнет,
Не затрудняясь партитурой.
Труби, труби, жестокий рог, —
Быть может, кто-нибудь услышит, —
Клокочет вьюга вдоль дорог,
Сугробы снежные колышет.
Сквозь эту бестолочь и тьму,
Сквозь эту злобную тревогу
Стучатся ангелы к нему
В его морозную берлогу.
Трещит сосновая доска,
Но не поддастся, не обманет,
Работа плотничья крепка,
Никто для вечности не встанет.
Трубит до хрипа высота,
Но ни свиданья, ни прощанья, —
Так совершенна глухота
Среди нестройного звучанья.
1946
* * *
Скрипят подошвы в тишине,
Кадильный дым легко синеет,
И роза в пышной белизне
На крышке гроба леденеет.
Но вот – опущен в землю гроб
Движеньем ловким и проворным,
И первый камень бросил поп,
За ним старуха в платье черном.
И я, смелея от стыда,
Взял мерзлой глины, как велели,
И долго целился туда,
Где розы хрупкие белели – —
Еще вздыхали здесь и там,
В сторонке говорились речи,
Но холод припадал к устам,
Покалывал тревожно плечи.
И в повседневной суете
Душа привычно опустела, —
Лишь остывающее тело
Рвалось к лазурной высоте.
1944
* * *
О, Боже мой, какая синева!
О, Боже мой, беспомощность какая!
Вспорхнуть, лететь и щебетать, едва
Послушный воздух грудью рассекая – —
Все утеряло связанность и вес, —
Взлетают камни стаей журавлиной,
Развеялись озера над долиной
И к дальним звездам уплывает лес.
А я не знал до этого мгновенья,
Что грубый мускул окрылен давно,
Что столько трепета и дуновенья
В привычной косности заключено – —
Воздушный шар на шелковистой нити
В голубоглазом царстве детворы, —
Каких еще восторгов и открытий
Ждать от веселой и простой игры?
Мой первый день земной моей разлуки,
Мой первый путь к лазурным высотам!
Нет, ты не мне крестом сложила руки,
Ты не меня оплакиваешь там.
1939
* * *
Опять со мной воспоминанья, —
Так в тлеющем черновике
Живут лишь знаки препинанья
На перечеркнутой строке.
Но от чернильницы к порогу,
Дом полунощный накреня,
В какую странную дорогу
Уводит прошлое меня!
Шумят слова пчелиным роем,
И, вслушиваясь в ночь и тьму
Я безучастно руки жму
Моим шекспировским героям,
Давно остывшим ко всему.
Быть иль не быть? Так страшно мало
В душе осталось узелков,
Что жизнь на память завязала, —
Так много новых башмаков
Душа за гробом истоптала.
1949
Вальс
Он ловко палочкой взмахнул,
Дал знак таинственный гобою,
Лукаво флейте подмигнул, —
И, отшвырнув случайный стул,
Я в омут бросился с тобою.
Как море рокотала медь,
И хриплый ангел плакал слева
Холодными слезами гнева
О тех, кто не полюбит впредь.
И в некой глубине подводной,
Где в звездное окно, как в сон,
Стремила ночь полет свободный
И глухо ахал геликон, —
Корделия, твой голос страстный
Вдруг оборвался и затих, —
Корделия, твой труп безгласный
Растаял на руках моих.
И снова в нищенском уборе,
Скупую отерев слезу
Я заклинаю ночь и море,
Жестокий ветер и грозу.
Обычай древний соблюдая,
Со мной бредет мой шут, ворча,
Дорожным посохом стуча,
И борода его седая
Как плащ струится вдоль плеча.
1944
Офелия
Н. А. К.-П.
1
Ночь ломится в мое окно,
Расплющила о стекла губы, —
Во всех печах ревут давно
Морозом схваченные трубы.
В саду белесом вой и стон,
Снег ходит полотном трескучим,
Мой заколоченный балкон
Захлестнут пологом летучим.
Я к стеклам приникаю лбом,
Гляжу настойчиво наружу,
Я ненавидящим теплом
Дышу в клокочущую стужу – —
Где сучья черные свистят,
Над омутом реки широкой
По ветру волосы летят,
С прибрежной путаясь осокой.
И слезы поздние мои
От встречной бури холодеют, —
Офелия, твои ручьи
И розы мутные твои
В разрытом воздухе седеют.
2
На берегу туманный луг
Летучие виденья множит,
Настольной лампы тусклый круг
Не освещает, но тревожит.
В цветах, в слезах, шурша фатой,
Офелия скользит по дому
(Так ветер входит в дом пустой,
Так сон является больному).
И в мир теней вовлечена,
На стебель водяной похожа,
Ложится медленно она
На зыбкую прохладу ложа.
– Сожми колени, чтобы мог
Я головой на них склониться,
У этих непокорных ног
Давно привыкло сердце биться.
Я пальцы тонкие ловлю,
Я кудри мокрые ласкаю,
Дышу ей в сердце и люблю,
И в темный омут увлекаю.
Она глядит в мое лицо,
Почти размытое волною,
Она спешит свое кольцо
Поднять тревожно надо мною.
И, зародясь в белесой мгле,
Не заглушенный занавеской,
С коротким звоном, на столе
Луч (ослепительный и резкий)
В пустом ломается стекле.
3
Измятый куст в пыли тяжелой
К могильной клонится плите, —
День и засушливый и голый
Горит в огромной высоте.
Я мутной зелени не мну,
Роз перегретых не срываю,
На хрупкую их белизну
Скупой слезы не проливаю, —
Но в сумраке моей руки
Цветы становятся влажнее, —
За каплей капля шум реки
Все беспокойней и слышнее.
И, прорываясь меж камней,
В движеньи бурном и широком,
Вода вскипает у корней
Свинцово-облачным потоком.
И каждый стебель – как струя,
Весь куст клокочет белой пеной,
И вновь с любовью иль изменой
Над омутом склоняюсь я.
И вижу выплески льняные
Распущенных небрежно кос,
Песок и травы водяные
В туманном зареве волос.
И на лице ее дремотном
Пугливых рыб живая тень, —
Любовный сон в раю болотном,
В ночь ускользающий мой день.
Офелия, шаги дозора
К рассвету не нарушат сна,
Над дикой башней Эльсинора
Нависла тучей тишина.
Ночная буря отшумела,
И день зачах давным-давно.
В пустынных комнатах темно,
Лишь сучья дерева несмело
Царапают мое окно.
1949
Заклинания, или стихи о России
* * *
Ночь, посвященная мечте,
Любви таинственной начало.
Без ритма сердце в темноте
Подковой сорванной стучало.
И, наклоняясь из седла,
Я вновь прислушивался к звуку, —
Ты каждым выстрелом звала
Иль обрекала на разлуку.
И капля первого дождя,
Стекая по щеке соленой,
Внезапно в ливень перейдя,
В плач безнадежный и влюбленный,
По вывихнутой мостовой
В напрасных жалобах бежала, —
Ты ль низкой тучей дождевой
Меня на запад провожала?
Ночь, посвященная борьбе,
Многоголосице обозной,
Распутице и вше тифозной,
Ночь, посвященная тебе.
* * *
Тебя еще как будто нет,
И я загадывать не смею
Лицо под молодостью лет
Любовь под нежностью твоею.
Предчувствие. Иль сон. Иль вздох, —
Почти печаль, почти страданье, —
Лишь имени начальный слог,
Любви назначивший свиданье.
Но вот уже, издалека,
Биенье сердца настигая,
Прощальной молнией смычка, —
О, дорогая, дорогая, —
Живой водой, ночной травой,
Разливом утреннего смеха, —
Во всех признаньях голос твой,
В ночь закатившееся эхо – —
1960
* * *
Всю ночь, всю ночь, всю ночь мело,
Деревья гнулись и свистели,
Под окна листьев намело,
Как будто листья в дом хотели.
В пустынном мире тьма одна,
Нигде ни проблеска, ни слова, —
В такую ночь, когда волна
Все корабли топить готова,
Когда на мачте рваный флаг
Иль проще – старый плащ в тумане.
Иль проще – в мусоре бумаг
Плач, перечеркнутый заране – —
И все же, подойдя к окну,
Для верности глаза зажмуря, —
– Тебя одну, тебя одну! —
А там о стены бьется буря – —
Вот-вот, и выдавит окно,
Сломает раму выдвижную, —
Как будто счастье подошло
С той стороны совсем вплотную – —
* * *
Слепая лошадь без седла
Уже упала на колени, —
Ей снится голая скала
И скрежет дальних отступлений – —
Воспоминаний не хочу
(Бог знает, то ли это слово),
Я каждым именем молчу,
Но что с того? Душа готова.
И отворачивая прочь
Крыло, изъеденное молью,
Она идет в такую ночь,
С такой невыразимой болью,
Что, если протянуть струну
От сердца до калитки старой,
До тех кустов, где в старину
Ночь пела птицей иль гитарой, —
И, если пальцем лишь нажать, —
Что знаю я? Все шумы сада, – —
От струн иных не убежать,
Иных, быть может, и не надо.
Все ветки свесились ко мне,
Росу и звезды рассыпая – —
Что снится ей в тяжелом сне?
Зачем упала, засыпая?
* * *
Босыми быстрыми ногами
Зеленый приминая мох, —
Лес, наплывающий кругами,
И с каждым кругом – вздох и вздох.
В лесу железная дорога,
И гулкий свод над головой, —
Так было в этом детстве много,
Что ты теперь уже не твой.
Там эхо пряталось, играя
С певучим голосом твоим,
И, звук за звуком подбирая,
Слагало имя – Элоим.
Плач Иова в траве болотной —
Лишь узкая струя воды —
Дуб многошумный тенью плотной
Вливался в легкие следы.
Судьбы особые приметы
В слоистом мареве жары,
И меж густых стволов просветы
В почти библейские миры.
И четкий семафор над входом,
Над закругленной крутизной, —
Там, в Фастове, где год за годом
Душа, оставленная мной – —
* * *
He ожидая, на ходу,
Случайно, вдруг, – не ветка даже, —
Два-три листа в чужом саду,
Сочнее, может быть, и глаже,
Крупней, моложе, зеленей, —
Душа предчувствует, не зная, —
За ночью ночь, и столько дней,
Что ты теперь совсем иная – —
Но в памяти разлив реки,
Трава, забрызганная светом,
Кремней отточенных прыжки
По гладководью рикошетом – —
И вот уже летит, летит,
И ласточкой в лазури тонет, —
– – Пускай вернется, погостит,
– – Пусть кончиком крыла затронет!
Воздушным росчерком пера
По голубому задевая, —
Еще вчера, еще вчера,
Но столько лет не заживая – —
* * *
Во мгле сплошного снегопада
На белом фоне полотна
Движеньем многоствольным сада
Мне намечается она.
Морозной веткой без изъяна,
Фатой серебряной, и вот, —
Как бы из дальнего тумана
Она уже встает, встает —
И оглушительным потоком
В распахнутые настежь, вдруг, —
И рядом, в омуте глубоком,
Обозначая первый круг,
Без камня, без паденья тела,
Все шире расходясь волной,
Ударила и закипела
И ослепила белизной.
Лишь брызги утреннего смеха
Летят на чуткие кусты,
И листья отряхают эхо
На землю, где ступала ты —
Снег, снег. На островерхой крыше
Труба иль черная рука
Указывает выше, выше,
Где ночь сгустила облака.
* * *
К. Вильчковскому
Забудь ее, – большим потоком
(Как синий воздух нарочит)
Она и Пушкиным и Блоком
Под веткой сломанной звучит.
И вырвавшись струной протяжной
С утеса на утес и вновь, —
Любви неверной и продажной,
Уже не верящей в любовь,
Бросает вызов пеной белой
И вырытым со дна песком —
Забудь ее, рукой умелой
Или намыленным шнурком, —
Или под горло, где живая
От нежной впадины звезда,
Как ветку сердце обрывая —
О, никогда, о, никогда!
Кипя, теченье труп уносит,
Стихами выгрызает грудь, —
Еще стихов и трупов просит, —
Забудь ее, забудь, забудь – —
* * *
О, понимаю, понимаю, —
Оставим, впрочем, до поры, —
Играя ложечкой, снимаю
Слой раскаленной кожуры.
Чуть рыжеватая, с загаром
От потускневших позолот,
Чуть красноватая, на старом
С сияньем изнутри, – и вот —
Осколки хрупкие фарфора
Подпрыгивают на полу,
Кофейной гущей по столу
Глаз расплывается, и скоро —
Лишь луч стремительный, стрела
(О, сердце на стволе древесном),
Теряя жало в мире тесном,
Пятном – не вытереть – легла —
Все вдребезги – уже не склеить, —
И только в роще голубой
В предсмертных сумерках лелеять
Мечту, рожденную тобой —
* * *
В таком же точно, горделивом,
Забавно выпуклом – В таком,
С голубоватым переливом
И золоченым ободком —
Фарфор с капризной паутинкой
Иль тонкой трещиной на дне, —
В таком – – Переводной картинкой
Мир появляется в окне —
И у зашибленной коленки
Лукаво назревает смех,
И пуля весело от стенки
Отскакивает, как орех – —
Разоблаченная примета,
Причин повторных полоса, —
Иль в теле каждого предмета
Есть жизни тайной полчаса, —
И он, в своих границах точных
Весь обозначен, напряжен,
Твоей судьбой вооружен,
Вдруг рвется из кругов порочных,
И ночью, в городе чужом
Пленяя обликом похожим,
Грозит растерянным прохожим
Воспоминаньем как ножом —
* * *
Корделия, – могла бы ты ползком
Иль на коленях вымерить дорогу,
Ведущую в вонючую берлогу,
Где твой король заночевал тайком?
Зарыть лицо в косматой седине
(Еще в лучах короны горделивой)
И гладить горб, наросший на спине
По-нищенски покорной и пугливой?
Принять, лаская, голову на грудь
И старческие слушать причитанья, —
Могла бы ты, Корделия, весь путь
Забыть для плача этого свиданья?
А за тобой – гуляка площадной,
Свистун-монах и фермер бородатый,
И мальчики, зовущие куда-то,
И голый холм, и ливень проливной – —
Корделия! Вот солнце без стыда
Над Англией твоей висит, пылая,
А ты ползешь неведомо куда —
О, если бы, о, если бы могла я!
* * *
И все же знал, – пускай не точно,
Но допускал наедине,
Что если даже не нарочно,
Что если даже на луне
Иль на иной планете, выше,
Иль дальше числовых примет,
На самом дне, на самой крыше
Того, чего уже и нет,
Что только мыслится тревожно
В болезни, в странном полусне,
Что в сне простом и невозможно,
Что больше и не снится мне, —
Но знал, предчувствовал вернее,
Всем уговорам вопреки,
Всем силам, – и не стал нежнее,
И навсегда, и ни руки, —
И в памяти ни отраженья,
Ни искаженья одного, —
О, ни разлуки, ни сближенья,
Ни смерти даже – Ничего.
* * *
В заносы, в бунт простоволосый,
Но поскорей, но поскорей, —
В разрытый щебень, под откосы,
Без тормозов, без фонарей,
По голым рельсам, отцепляясь
Иль прицепляясь на ходу,
А трехдюймовка, накаляясь,
Волчком, запущенным на льду,
А ночь, вытягивая шею,
По-вдовьи кутаясь в платок, —
И зарево, треща, над нею
С шестка летает на шесток – —
Офелия, о нимфа! Нежной
Болотно-сумрачной водой,
Фатой венчальной белоснежной
Под угасающей звездой —
Или седая, неживая
Или иная, не своя,
Забившись в уголок трамвая,
С корзиной старого белья, —
Десятилетьями без цели,
Лишь что-нибудь еще сказать, —
И так, в могиле иль в постели
Лежать и плакать и взывать,
И заклинать и, заклиная,
Не верить и молчать, – хоть раз,
Во сне, быть может, вспоминая,
Офелия! – Коснуться глаз – —
* * *
Над Росью, над моей рекой,
Где розовые скалы в воду
Как в зеркало, – еще такой —
С разгона головой в свободу, —
Веслом натруженным гребя,
В дырявой лодке плоскодонной,
В одну тебя, в одну тебя,
В одну тебя еще влюбленный,
Переплывая синеву,
Лазурь опущенного взгляда,
В Александрийскую листву,
В ветвистую прохладу сада,
По старой Гетманской в зарю,
К таинственной звезде Полярной,
К мечтательному фонарю,
К наклонной каланче пожарной,
К годам, где старая печаль
Персидской поросла сиренью, —
Хотя б на миг один причаль
Взволнованной счастливой тенью – —
Над Белой Церковью луна, —
И льется летняя истома
На труп зарезанного сна,
На мусор нежилого дома,
На милые твои черты, —
И вновь, в движенье поворотном,
Луна спокойно с высоты
В прозрачном воздухе дремотном – —
* * *
Софье Прегель
И если так, и если даже
Бельмо слепое в словаре,
Она со мною, та же, та же, —
Зарубкой свежей на коре.
Вся в шуме листьев, в блеске, в громе,
В ударе гулком под ребром,
В измене старой, в новом доме,
В глазах невидящих и в том,
Как ночью нехотя с окраин,
Больное сердце торопя,
По лестницам вползает Каин,
Зубами черными скрипя,
И в том, как ложка, разливая,
Над паром въедливым дрожит
И падает и, остывая,
Как труп на скатерти лежит – —
Так возникает, – непохожей,
Себя сама не узнает,
Но здесь уже, в костях, под кожей,
И, кажется, еще поет —
Тем голосом, тем страшным звуком,
Подслушанным среди волков,
И только сердце ржавым стуком
Считает время у висков —
Не отпущу и не забуду
Не разлюблю, – за каждый год,
За каждый камень, здесь и всюду,
В пустыне всех земных широт.
* * *
Среди вокзальных наставлений
Играя шляпой иль ключом,
Случайно, без приготовлений
Коснуться призрака плечом – —
И в первый миг не замечая
Ни холодка, ни ветерка,
Но спутникам не отвечая,
Кого-то потеснив слегка,
Вдруг вырваться нетерпеливо
Из рук, терзающих еще,
И гладить, гладить молчаливо
В толпе занывшее плечо – —
Ни судороги, ни ожога,
Но долго повторять потом —
О, ради Бога, ради Бога, – —
Внезапно пересохшим ртом – —
И спотыкаясь о ступени,
Роняя вещи на ходу,
Взывать вослед скользящей тени —
– Уже иду, уже иду! —
А там, сквозь вечность проплывают
Голубоватые черты,
В вечернем дыме тают, тают —
Уже не ты, уже не ты – —
1956
* * *
Подходит смерть, и странно мне прощанье
С самим собой на чуждом языке, —
Как будто чувств подложных завещанье,
Забытое на пыльном чердаке.
Так странно мне признаться, что без цели
Блуждал я столько беспокойных лет,
Что суждено мне умереть в постели,
Что выпьет с горя добрый мой сосед,
Что на пять лет по третьему разряду
Чужой земле мой прах передадут,
Потопчутся, поговорят что надо,
И наскоро всплакнут – и отойдут.
Но я услышу, вечность проникая,
За Бояркой вечерний стук колес, —
То дачный поезд, окнами мелькая,
Уже уходит в мир метаморфоз – —
Ночь первая надвинется сурово,
Свое лицо правдиво обнажит,
И по деревьям необычно ново
Без шума темный ветер пробежит.
Вторая ночь придвинется на смену, —
Вздохнет вдовой, помедлит надо мной
И озарит кладбищенскую стену
Влюбленной в небо Пушкинской луной.
1956
Калифорнийские стихи
1961-1966
* * *
Ночь поздняя черным-черна,
По стеклам в ночь ручьи стекают,
Деревья в проруби окна
Как руки длинные мелькают.
В саду потоп. Бурлит вода,
Цветы всплывают вверх корнями,
Дрожащий ветер иногда
В дом пробирается тенями.
Входите запросто, мой друг, —
Как встарь со мною помолчите,
О криво стоптанный каблук
Потухшей трубкой постучите.
Послушных слов не находя,
Взъерошьте волосы густые,
И шум дождя, и шум дождя
Заменит нам слова пустые.
Давайте слушать дальний гром
И плеск, и лепет, и журчанье, —
Так распадается наш дом
И громко плачет на прощанье.
Ночь и сад
Иллариону Воронцову-Дашкову
1
Не знаю, ласточки иль ноты
На телеграфных проводах, —
Вот-вот смычком их тронет кто-то
Еще затерянный в садах.
Быть может ветер, тень быть может,
Быть может осторожный сон, —
Но в час вечерний выйдет он
И вздох на музыку положит.
Ты будешь слушать, – потому
Что все теперь неповторимо,
Что ночь сама уже незримо
Листы разметила ему.
2
Твой мир, с его туманным дном,
С его текучим обновленьем —
Все те же звезды за окном,
Но вот окно в саду ином
(Сад, где терзает сожаленье).
Любил ли ты? В густых ветвях
До утра соловьи кричали,
И свистом пули второпях
На птичий голос отвечали.
Во мраке слабого крыла
Испуганное трепыханье,
И треск разбитого ствола,
И орудийного жерла
Неумолимое дыханье – —
Так просто, – все воспоминанья
Свести к числу забытых лет, —
Но этот отраженный свет
Не нужного тебе признанья – —
Горит и падает звезда,
Вся ночь озарена до боли, —
– О, подскажи!
– Быть может да,
Быть может только. И не боле.
3
Медлительно и многоствольно
Свой голос понижает сад, —
Ты будешь повторять невольно —
– Потом закат, потом закат.
Начало фразы музыкальной,
Легко запевшей на ходу,
Иль поздних листьев шум прощальный
В незатихающем саду.
Закат, закат. И ночь вошла,
Неспешно окна затемнила,
В пустое кресло у стола
Свой плащ широкий уронила.
Молчанье. Отдых. Мир дневной
Как рана свежая зализан,
Вокруг меня и надо мной
Весь воздух музыкой пронизан.
Холодное журчанье гор,
Деревьев сонных бормотанье,
Подземной бури клокотанье,
Звезд полуночных разговор.
4
Ты болен, болен. Этот сон
Неясный, ни о чем, и все же
О чем-то, что всего дороже, —
Не сон, но призраки имен,
Колеблемые ветром лица,
Предчувствие настороже,
Пустая мертвая страница,
Но оживленная уже
Пера одним прикосновеньем
В туманных поисках штриха,
Возможным трепетом стиха,
Возможным бури дуновеньем,
Возможной сердца глубиной,
Души движеньем осторожным,
Одним признаньем невозможным, —
О, Боже мой, – одной, – одной, —
Одной слезой, что не упала,
Но промелькнула в стороне,
И высохла, и камнем стала,
Сметающим тебя во сне.
* * *
Л. Росс
Бессонница и задыханье, —
Тебе курить запрещено, —
Последней ночи трепыханье
Срезает молнией окно
И ливня ложного потоки
На лбу холодном иль в окне,
Дождя расплывчатые строки,
Стихи о гибели вчерне, —
А ты следишь сквозь кольца дыма,
Как оперенная стрела,
Нацелясь, пролетает мимо
Над гладкой плоскостью стола,
Над этой жизнью, сердцем этим,
Над всем, что мы когда-нибудь,
Прощаясь, наскоро отметим,
Чтоб позже, разойдясь, вздохнуть, —
Позвать, прислушаться и снова,
Ломая спички на ходу,
Забыть от слова и до слова
И зажигать звездой звезду, —
Большой Медведицы и Малой
Две тени слить на потолке
И, надрываясь грудью впалой,
Их взвесить медленно в руке.
* * *
И все о нас, и все о нас, —
Прощальной темы нарастанье,
Вечерней пены клокотанье
(Виолончель и контрабас).
И море в лунном обрамленье —
(Каким крылом перечеркнуть?)
Последний парус в отдаленье
(Когда-нибудь и где-нибудь) – —
Но звезды первые блеснули,
И нежным сумеркам в ответ
Две скрипки дрогнули, – иль нет —
Два сердца, кажется, вздохнули
О том, что поздний вздох – не тот, —
Обрывок ноты безымянной,
Пометка в партитуре странной
Длиннот предельных иль высот,
Иль ускорений знак туманный,
Души, быть может, нежеланный,
Но неизбежный переход
Вот в этот вечер, в эти звуки
Иль в отраженье (навсегда)
Звезды, запевшей в час разлуки,
Слезы, скользнувшей как звезда.
* * *
Когда окно в саду тревожном
Взойдет, как дальняя звезда,
И сад в порыве невозможном
Все ветки выплеснет, – когда,
Как сердце ночи, лист огромный
Прильнет к туманному стеклу,
И осень в грусти вероломной
Пилой ударит по стволу
И, задыхаясь, птица стонет
И умирает на лету,
А буря беспощадно гонит
Ее в такую высоту,
Где нет падений иль снижений,
Где падать некуда, – и вот,
Смотри, – от долгих поражений
Лишь этот остается взлет.
* * *
Цветы и молнии, – в саду
Огромной радуги подкова, —
О, подожди, я выйду снова,
В забытый голос упаду
И, ветку мокрую срывая,
Тебя сияньем окроплю,
Скажу, что все еще люблю,
Скажу, что, даже умирая – —
О, подожди, – мне все равно,
Что годы между нами стали,
Что помнишь ты меня едва ли,
Что я и сам забыл давно,
Не вспомнить ни одной приметы, —
Так память мертвая молчит, —
Но нежностью, но болью этой
Как встарь душа кровоточит.
* * *
Письмо, которое не скоро
Еще напишется, – строка,
В тонах минора иль мажора
Зовущая издалека,
Иль просто ветра суматоха,
Гул набегающей грозы, —
Предчувствие большого вздоха,
Предчувствие большой слезы, —
Конверт обычного формата
Без марок и без штемпелей,
Письмо откуда-то куда-то,
Для всех Изольд и Лорелей,
Для всех Офелий иль видений,
Еще терзающих во сне, —
Ненужный перечень падений
В несуществующей стране.
* * *
Любви второй, любви бесплодной
Волшебных формул не дано, —
Ночь льется синевой свободной
В огромное твое окно.
Дыши, – но в воздухе певучем
Звезды заказанной не тронь, —
Мы падать звезды не научим
В уже бессильную ладонь,
Так падать, сердце обжигая,
Выскальзывая так из рук,
Что даже в имени – Другая —
Забытый возникает звук,
Тот вздох, в котором все дрожало,
И трепетало, и влекло,
Как свежевырванное жало
Иль перебитое крыло.
* * *
Вступленье к осени, – на пляже
Лишь стаи чаек, – все равно,
С дождем случайным заодно,
Все ближе музыка и даже
Влетает брызгами в окно,
Тем шелестом, тем трепетаньем, —
Дыханьем с тенью пополам,
Что оживают по углам
Ветвей туманным сочетаньем.
В летучих флейтах и смычках
Продольный блеск неторопливый, —
Должно быть, в легких облаках
С большими розами в руках
Проходит Шуберт молчаливый, —
В твои разлуки вовлечен,
В твои закаты опрокинут,
Из жизни осторожно вынут,
Опущен в полусмерть иль сон,
Где слов привычных и не надо,
Где только вздох иль темный стих, —
Цветы потерянного сада
На коврике у ног твоих.
* * *
Еще без темы и без плана,
Дыханьем ритмы находя
(О, розы, полные тумана,
О, розы, полные дождя),
Скитаться от стола к порогу,
На валкий натыкаться стул,
Прислушиваясь понемногу
Как в лампе нарастает гул,
И электрическим разрядом
Перебегая в темноте,
Три ведьмы вдруг запляшут рядом
(Три вспышки на твоем щите).
О, Макбет! Слушай заклинанья,
Таинственные взрывы слов, —
Глухие стоны иль признанья
Вот этих стульев и столов.
* * *
Двойник, поэт иль кто-то третий
Подслушает его слова,
Знакомых истин дважды два,
Набор невнятных междометий,
И плоской тенью притворясь,
Легко фонарь переступая,
Куда-то в ночь, куда-то в грязь,
Куда-то в смерть, – но, тень простая,
Он отступает на чердак
(Он слишком к высоте привязан), —
Мрак, оживленный кое-как,
Бессмертьем наскоро наказан.
И вдруг – стремительным перстом
Он карандаш чернильный тронет,
Тетради выложит, потом,
Как в омуте, в мечтах утонет —
О чем, о Боже мой, о чем
Он будет плакать до рассвета, —
Что́ тень ему глухая эта,
Что гнется за его плечом?
* * *
А. Г. Воронцовой-Дашковой
Все реже всплески водяные
И скрип уключины сухой,
Лишь осень в заводи глухой
Полощет пальцы ледяные.
Двоится эхо над рекой —
Протяжный голос повторений,
Ряд музыкальных ударений,
Еще не связанных строкой.
И в небе мертвое крыло,
Как некий образ стихотворный,
Роняет капли крови черной
На замедленное весло, —
И над пустынным островком
(Пример падений иль парений),
Колеблемые ветерком,
Летят обрывки оперений
В таком безмолвии, в таком, —
Весь мир заполнен тишиной
И шорохом и сожаленьем,
Души тревожным изумленьем,
И высотой и глубиной.
* * *
А. Н. Кожиной
Под топот беспокойных ног
Выходят скрипки на арену, —
Прелюдия или пролог,
Подготовляющий измену.
– – Оле, оле! – поджарый бык,
Как контрабас, копытом роет,
Пузырчатая пена кроет
Его изжеванный язык.
И точно соблюдая меру,
Усердно пляшет дирижер, —
Кармен глядит, глядит в упор
На золотистого тореро.
Здесь смерть уже на волосок, —
Как эти флейты загрустили,
Как эти плечи опустили
Ознобом тронутый платок.
– – Оле, оле! – Не все ль равно, —
Два сердца связаны до боли,
Им в каждой музыке дано
Встречать друг друга против воли…
А сад мучительно поет,
Деревья обратились в звуки, —
– – Я ранен, милая, – и вот —
Все скрипки поднимают руки.
* * *
Беззвездный мир и тишина,
Мир позднего благоуханья,
В саду глубокая волна
Таинственного задыханья.
Вот дрогнет ветка в стороне,
Тяжелый лист перевернется,
И ночь, вздохнувшая во сне,
Вдруг каждым деревом проснется.
Все шире призрачных ветвей
Торжественное колыханье,
Все ощутимей меж бровей
Прохлады близкое дыханье.
Как будто осень лишь ждала
В аллеях душных этой встречи, —
Она вплотную подошла
И тронула меня за плечи.
И наклонясь из темноты,
В лицо мое глядит тревожно
И хочет угадать черты,
Признать которых невозможно.
* * *
Влюбленный в ночь, я ночи жду, —
Был долог день тяжеловесный, —
Как пахнет сыростью в саду
И нежной плесенью древесной —
Сойди, благословенный мрак,
Заполни все земные щели, —
Ни лая хриплого собак,
Ни подлой человечьей трели.
Лишь сердца бой. Издалека,
Послушная живому звуку,
Безмолвья темная рука
Мне слабо пожимает руку.
В пустынном небе ни звезды,
Но кое-где меж облаками
Как бы росистые следы,
Оставленные каблуками.
Закинув голову назад,
Сорвать воротничок позорный —
Где это было? Ночь и сад,
Глубокий вздох и шорох черный.
* * *
И. Б. Дерюгиной
Туманной осени пора,
Зари последней позолота, —
В саду редеющем Забота
Глядит в большие вечера.
Она проходит по аллее,
Сырыми листьями шуршит
И, отдыхая иль жалея,
Домой вернуться не спешит.
От пряди легкой и небрежной
Тень голубая на виске,
И ягоды рябины нежной
В ее рассеянной руке.
Душа смущенная не знает,
О чем поет, зачем грустит, —
Прощается иль вспоминает,
Иль ласточкой летит, летит – —
Но эти сумерки вдыхая,
Так долго слушает она,
Как будто музыка глухая
Ей в каждом дереве слышна.
* * *
В. Н. Осипьян
Я выйду ночью как-нибудь,
Тихонько сяду у порога,
Чтоб помолчать, чтоб отдохнуть,
Взгрустнуть иль помечтать немного.
Все будет пусто вкруг меня,
Ни друг, ни враг не станет рядом,
И только два иль три огня
Зажгутся над соседним садом.
Я буду в тишине ночной
Смотреть на отблески живые, —
Вздыхая, ветка надо мной
Уронит капли дождевые.
Как слезы, дальним холодком
Они щеки моей коснутся,
И, может быть, в душе проснутся
Воспоминанья ни о ком – —
О тени легкой и незримой
В воображаемой стране,
Приснившейся когда-то мне
В бессоннице неповторимой.
* * *
Е. Б. Хрущовой
Не правда ль, – вечером, когда
Нам кажется, что нас забыли,
Мы вспоминаем иногда
И тех, кого не полюбили.
Без угрызений, без тоски
И, может быть, без сожаленья
Мы узнаем полет руки,
Лицо, зачеркнутое тенью,
Иль голос, иль случайный знак,
Какое-то простое слово, —
И сердце вдруг забьется так,
Как будто плакать мы готовы…
Воспоминаний поздний свет,
Разоблаченная химера, —
Должно быть, счастью места нет
В душе, счастливой свыше меры.
Оплачем все, что стоит слез,
Оплачем даже эти слезы, —
Гиперболические розы
И куст обыкновенных роз.
* * *
Когда рояль дрожит струнами,
И ночь, готовя эпилог,
Прохладой, шорохом и снами
Вливается через порог,
И, поздний сон оберегая,
Послушным клавишем звуча, —
Не ты войдешь, но та другая, —
Мой легкий сон, моя свеча,
Моя звезда, – иль отраженье
В уже распавшейся волне, —
Вечернее самосожженье,
Затрепетавшее в струне,
И все, что будет долго длиться
Земной любви наперекор, —
Лететь, и падать, и томиться,
Как эхо гор, как эхо гор – —
* * *
Здесь близок океан. Сюда
Порой доходит ропот странный, —
На нас прозрачная звезда
Глядит из ночи безымянной.
Неосязаемый простор
Порос деревьями густыми,
На горизонте цепи гор
Цепями кажутся простыми.
Какая тишина, мой друг!
Лишь птица изредка рванется,
Неровный обозначит круг
И в чащу сонную вернется.
И вновь таинственный прибой
Встает и глохнет в отдаленье,
Как будто где-то за тобой
Огромное сердцебиенье.
* * *
Давай немного постоим,
Послушаем еще немного, —
Как в детстве, именем моим
Меня окликнула дорога.
Быть может, это голос твой,
Но только глуше и печальней,
Быть может, кто-то неживой
Прельщает нас дорогой дальней.
Таинственная власть примет, —
Как захватило нас молчанье,
Вот эта ночь, и звездный свет,
И листьев сонное журчанье.
* * *
Какая жалкая забава
Сачком обшаривать траву, —
Вот бабочка, мечта иль слава,
Легко задела синеву.
Как совершенство невесома,
Живой расцветки торжество,
С куста на куст, и выше дома,
Все дальше, дальше от него, —
Полету солнечному рада,
Но высотой уменьшена,
Над шорохом большого сада
Растает в воздухе она.
И кто-то ослепленным взглядом
Измерит прихотливый путь,
И кто-то, восхищенный, рядом
Захочет глубоко вздохнуть.
Смертельное прикосновенье
Неизмеримой высоты, —
Не это ли исчезновенье
Любовью называла ты.
* * *
Не от свинца, не от огня
Судьба мне смерть судила, —
Шрапнель веселая меня
Во всех боях щадила,
И сталь граненая штыка
Не раз щадила тоже, —
Меня легчайшая рука
Убьет в застенке ложи.
В жилете снежной белизны
И в черном фраке модном,
С небрежной прядью седины
На черепе холодном
Скрипач, улыбку затая,
Помедлит над струною,
И я узнаю, – смерть моя
Пришла уже за мною.
И будет музыка дика,
Не шевельнутся в зале,
И только молния смычка
Падет во тьму рояля.
Перчатку узкую сорву
(А сердце захлебнется),
И с треском шелковым по шву
Перчатка разорвется.
Я молча навзничь упаду
По правилам сраженья,
Суровый доктор на ходу
Отдаст распоряженья.
И, усмиряя пыл зевак,
Чиновник с грудью впалой
Заметит сдержанно, что так
Не прочь и он, пожалуй.
* * *
Налево, направо – шагай без разбора,
Столетья считай на ходу, —
Сирень наступает на башни Самбора,
Ночь музыкой бродит в саду.
Ты призраком бредишь, ты именем болен,
Парчой откидных рукавов,
Серебряной шпорой и тем, что не волен
Бежать от любви и стихов.
Как дробь барабана, на гулком паркете
В камнях самоцветных каблук, —
Мазурка до хрипа, до смерти, и эти
Признанья летающих рук…
Не надо, не надо, – я знаю заране —
Измена в аллее пустой, —
Струя иль змея в говорливом фонтане
Блестит чешуей золотой.
Ночь музыкой душит, – – и флейты и трубы,
В две скрипки поют соловьи,
Дай сердце, Марина, дай жаркие губы,
Дай легкие руки твои.
Сад гибелью дышит, – недаром мне снится
Под бархатной маской змея, —
Марина, Марина, Марина, царица,
Марина, царица моя.
* * *
Замостье, и Збараж, и Краков вельможный
Сегодня в шелку и парче, —
На ели хрустальной закат невозможный,
Как роза на юном плече.
О, польское счастье под месяцем узким,
Дорога скрипит и хрустит, —
Невеста Марина с царевичем русским
По снежному полю летит.
Сквозь звезды и ветер летит и томится,
Ласкает щекой соболя, —
Расшит жемчугом на ее рукавице
Орел двоеглавый Кремля – —
Ты смотришь на звезды, зарытые в иней,
Ты слушаешь верезг саней, —
Серебряный месяц над белой пустыней,
Серебряный пар от коней.
Вся ночь в серебро переплавится скоро,
Весь пламень в дыханье твоем, —
Звенит на морозе венгерская шпора,
Поет ледяным соловьем.
О, польская гибель в заносах сирени,
В глубоком вишневом цвету, —
Горячее сердце и снег по колени,
И цокот копыт на лету – —
Все музыкой будет, – вечерней гитарой,
Мазуркой в уездной глуши,
Журчаньем фонтана на площади старой,
Нечаянным вздохом души – —
* * *
Иллариону Воронцову-Дашкову
Повторный осторожный стук,
Но никого за дверью нашей – —
Как солнце над высокой чашей,
Над лампой освещенный круг.
Я буду ждать. Будильник старый
Еще не скоро затрещит, —
На книжной полке тень гитары
Иль черный удлиненный щит.
Осколок доблести ненужной,
Мечты сомнительной оплот
Глядит пробоиной наружной,
Дырой зияющей, и вот, —
Вот входит юноша, вздыхая,
Он белое несет копье,
Отточенное острие
Кровоточит, не высыхая.
За каплей капля ритм дождя,
Настойчивый размер паденья, —
Так бьется сердце до рожденья,
Так, не любя иль не найдя,
Мы делим время на минуты,
Отсчитываем каблуком,
Так на машинке ни о ком
Письмо печатаем кому-то – —
Грааль, Грааль, – мой хриплый голос
Задушен спазмой горловой, —
Но ослепительно живой
В дыму табачном реет волос.
Один лишь светлый волос твой.
1964
* * *
Когда, возникнув для распада,
Над садом падает звезда,
И вслед за ней – движенье сада,
И вздох и шорохи, – когда – —
Когда, как в обморок ныряя
В ветвистый мрак, в древесный гул, —
И ты, бессвязно повторяя,
– Он умер. Кажется, уснул – —
А кто-то, стул отодвигая,
– Он умер – кажется, – вздохнул.
О, дорогая, дорогая,
Он мертвым пламенем блеснул,
Он туго петлю затянул,
Стихи на жизнь перелагая,
Но сад и поздняя звезда,
Листвы прохладной колыханье,
И вздох, и шорох, и дыханье
Стихом нахлынувшим, когда – —
1960
* * *
В закатном небе, в летней роще,
В ручье пугливом иль в углу,
Где незаметнее и проще, —
Щекой взволнованной к стеклу,
Навстречу звездам и туману,
Где черной веткой бьешься ты,
Не перестану не устану
Любить поблекшие черты.
Подвешу сердце на пороге,
Чтоб осветило, если ночь,
Накрою сердцем, если ноги
Захолодели, – но помочь,
Пригладить пряди над висками,
Бровей коснуться, чтоб тепло
Губами, грудью и руками
В твои ладони перешло – —
* * *
Меня обманывали дети,
Я сам обманывал себя,
Но по невидимой примете
Вслепую узнавал тебя.
Ты в каждой буре трепетала,
Ты в каждом имени жила,
То тенью ласточки влетала,
То тенью голоса звала.
И уплотненная мечтами,
Бессонной ночи эпилог,
Ты шевелилась меж листами
Моих рифмованных тревог.
И вот – в пустыне аравийской,
За письменным моим столом,
Стоишь звездой калифорнийской
Над восковым уже челом.
1961
* * *
На нашем маленьком вокзале
И ты придешь меня встречать,
И что бы рядом ни сказали —
Ты будешь слушать и молчать.
И вот – четыре капитана
Как Гамлета меня внесут,
В плащ Эльсинорского тумана
Меня, вздыхая, завернут.
Все обвиненья и угрозы,
Все подозрения забудь, —
Без страха положи мне розы
На окровавленную грудь.
Постой. Теперь в последнем плаче
Признай, скажи, подай мне знак,
Что быть и не могло иначе,
Что только так – – О, только так!
* * *
Для последнего парада,
Накреня высокий борт,
Резвый крейсер из Кронштадта
Входит в молчаливый порт.
И с чужой землей прощаясь,
К дальним странствиям готов,
Легкий гроб плывет, качаясь,
Меж опущенных голов.
Правы были иль неправы —
Флаг приспущен над кормой, —
С малой горстью русской славы
Крейсер повернул домой.
Брызжет радостная пена, —
Высота и глубина, —
Лишь прощальная сирена
В синем воздухе слышна.
Час желанного возврата
(Столько звезд и столько стран), —
В узком горле Каттегата
Северный залег туман.
И до Финского залива,
Сквозь балтийский дождь и тьму,
Бьет волна неторопливо
В молчаливую корму.
И встают, проходят мимо
В беглой вспышке маяка
Берега и пятна дыма,
Острова и облака.
Из стихов, не вошедших в книги
* * *
Твои миндалевые очи
Вонзились в мой простертый взгляд, —
Куда идти, в какие ночи,
В какой пылающий закат?
Твои ль карающие руки
Меня на гибель обрекут,
И я ли, раб твоих минут,
Развею смертью тень докуки?
Гони вперед, вперед, за грани
Осевших грузно облаков, —
Пойду туда и грудь израню
О копья бешеных клыков.
И нет тебя. Ты снова стала
Царицей выжженных степей,
Обрывки ржавые цепей
Твои скрепляют опахала.
Под медным небом, на скрещеньи
Семи пустынь, твой древний трон,
И в черной бездне довременья
Восстал железный твой закон.
И во вселенной нет закона
Превыше сомкнутых бровей,
И рати царских сыновей
К твоим ногам несут знамена;
Падут у замкнутого круга
Никем не перейденных дум,
И знаю, к северу от юга
Пройдет над трупами самум.
Так брось же в ночь меня, к истокам
Моей пылающей тоски,
Где дыбом красные пески
Уже вздымаются до срока.
* * *
Ты ль коса моя, кудрявая коса,
Ты ль гармоника, стальные голоса!..
Выйду вечером я к реченьке-реке,
След запутаю на мокром на песке.
Друг желанный мой начнет меня искать,
Под ракитами подружку поджидать, —
Может, смилуюсь, забуду к ночи зло:
«Эх, целуй меня, куда уже ни шло!»
Похвальба
Наши девушки-лебедки
Вашим девкам не чета, —
Не катаются на лодке,
Не ломают кочета.
Не кидаются со страху
В огороды на пустырь
И не бегают к монаху
В подгородний монастырь.
В нашем смирном околодке
Нет того, чтоб вечерком
Подгулявшая молодка
Залегла с озорником,
Оттого-то сыплют смело
Новобрачным нашим хмель,
А по свадьбе – месяц целый
Честью красится постель!
Куманек
За стеной храпит свекровь;
В окна ветер бьет с размаха,
На лежанке, словно кровь,
Кумачовая рубаха.
Кто-то крадется во тьме,
Так и ходят половицы, —
Не пришел бы кум к куме
За забытой рукавицей…
За околицей пуржит;
Меж столбов оледенелых,
На веревке, вихрь кружит
Костенеющее тело.
Кум то двинется бочком,
То, пускаясь в пляс без толку,
Дразнит синим языком
Освещенную светелку.
А в дому, всю ночь без сна,
Ошалелая от страха,
Смотрит мужняя жена
На недвижную рубаху.
Метель
Посв. Л.Д.
За околицей нечесаная вьюга
Выше дерева дороги замела;
Ждет любовника постылая подруга,
Косы русые в три ряда заплела.
Погоди ужо. Дай выбраться из ночи…
Вихри белые, что плети, снегом жгут;
Лечь бы замертво, да ведьмовские очи
Сердце гневное на привязи ведут.
Звезды к полночи проглянут из метели,
Ветры выметут белесую пургу, —
Есть с кем тешиться, томиться на постели,
Есть что высказать на радостях врагу.
Да не ласкою попотчевать с дороги —
В грудь покорную под сердце кулаком,
Чтоб без голоса свалилась на пороге,
Чтоб не двигалась под мерзлым каблуком.
У, проклятая! Как к Пасхе нарядилась,
Ленту алую в который раз вплела…
Только б к полночи погода прояснилась,
Только б к полночи добраться до села.
Сеновал
Ночью прошлой спал – не спал я
На душистом сеновале, —
Не во сне ли целовал я,
Не во сне ль меня ласкали?
Я не знаю, мне казалось,
Что плечо во тьме белело,
Что томилось, отбивалось
И горело чье-то тело.
Мне привиделось – приснилось
На душистом свежем сене —
Чье-то сердце рядом билось
И упрямились колени.
Мне привиделось, что рядом
Кто-то плакал и смеялся,
И изорванным нарядом,
И руками закрывался.
А потом, изнемогая,
На груди моей могучей,
Трепетала грудь другая
Все доверчивей и жгучей.
И сегодня, как с похмелья,
Я качаюсь, будто пьяный;
Вспоминаю запах зелья,
Блеск очей да рот румяный.
Похмелье
Повернулся и сел в постели;
На часах – непривычно рано;
В коридоре шаг скрипели:
– «Скоро ль выспится там обезьяна?»
Встал. Накинул пальто небрежно,
Дотащился к окну спросонок…
Был сентябрь голубой и нежный,
Как пятилетний ребенок.
Чуть погладил виски и щеки
И шепнул, на морщины глядя:
– «Все-то пьешь, пропиваешь сроки, —
Право, бросил бы лучше, дядя?»
Хорошо головой с похмелья
Прислониться к холодной раме…
Пахнул двор золотистой прелью,
И хотелось, как в детстве, к маме.
Легкость, легкость и кротость божья!
Так нетрудно любить и верить,
И гореть покаянной ложью,
И прощенных обид не мерить.
Стихи
I
Я себя не жалею давно,
И тебя пожалеть неохота – —
Вон горит золотое руно
На картонном щите дон Кихота.
Златорунная шерсть холодна,
Ненадежны картонные латы, —
Хорошо на скале чугуна
Вырезать исступленные даты.
Проводить по глубокой резьбе
Тепловатой рукой без обиды,
Вспоминая о мифах Колхиды,
О щите, о руне, о тебе —
II
Давно моей бессоннице знаком
Печальный стыд ненужного рассвета —
В подвале сторож прогремел замком,
В воображеньи – выстрел пистолета.
– Быть иль не быть? – Мучительный вопрос
Я про себя решу, быть может, вскоре;
Уж оснастил неведомый матрос
Ладью мою в беззвездном Эльсиноре.
Уже бежит пустынная волна
В иную ночь предвестницей решенья,
И древняя Ирония – луна —
Встает обломком кораблекрушенья.
Измена
Вот комната моя. Она низка,
В ней громкий звук до шепота придавлен;
От стертых ковриков до потолка
Здесь каждый дюйм растоптан и отравлен.
Тебя томят жестокой наготой
До желтизны прокуренные стены?
О, этот воздух, ветхий и густой,
Почти готов слепиться в плоть Измены.
Уже всплывают пыльные зрачки,
Мохнатой бабочкой висят на шторах,
И маятника легкие щелчки —
Как бег убийцы в дальних коридорах.
Зачем в графине вспыхнул и потух
Багровый свет? Откуда эти блики?
Измена рядом, – напряженный слух
За тишиной угадывает крики.
Она вбежит, любовь моя, крича, —
И упаду, весь пол зальется кровью —
Из глаз твоих две змейки, два луча,
Сбегут ко мне, от шторы к изголовью.
* * *
Я не ищу с врагами примиренья
И близости с друзьями не бегу,
Но ни любви, ни злобы, ни презренья
Не подарю ни другу, ни врагу.
Да, сердце знает страсти и движенья,
Тайник души прохладен, но не пуст,
И часто томный жар изнеможенья
Касается моих дрожащих уст.
Но и сраженный не ищу союза
С другой душой, желанья одолев —
Пою один, и чутко вторит Муза
Мой одинокий сумрачный напев.
Бегство
Я разгадал несложный твой обман,
Не опускай прищуренного взора, —
Ты только тень, веселый дон-Жуан,
Кочующая греза Командора.
Пускай вдова склоняется нежней,
Пусть предается полуночной чаре, —
Могильный камень бредит перед ней,
Перебирая струны на гитаре.
1
Нет, не догнать последнего трамвая.
В асфальт неспешно втаптывая злость,
Кварталов шесть прошел пешком, зевая,
В седьмом – швырнул обломанную трость.
Иль в поздний час мы над собой не властны?
Какие грузы вызрели в душе!
Вон женщина безмолвно и бесстрастно
Пересекла пустынное шоссе.
Лицо в тени, – но легкий шаг так странен,
Но узкий след мучительно знаком – —
О, ты ли, ты ль скользнула, донна Анна,
Постукивая четким каблуком?
Быть может, бред, но помню ночь иную, —
Все шорохи сливались в тяжкий звон, —
И он пришел, терзаясь и ревнуя,
Гранитный муж, ответить на поклон.
Остановись! На площади безлюдной,
На перекрестке, – бездыханный труп —
Я вспоминал мучительно и трудно
Огонь твоих, о, донна Анна, губ.
Твой слабый крик, и глаз тревожный пламень,
И теплый мрак кладбищенских садов, —
Я звал тебя, но грудь давили камни,
Развалины погибших городов.
Века, гранит и мертвые колени,
Как две горы, вросли в мою гортань, —
Мне памятник сказал сегодня: – встань
И будь моей запечатленной тенью.
2
Две лестницы и коридор короткий;
Свод комнаты – Гляди, сама судьба
Мое окно заделала решеткой
И дождевые смяла желоба.
Глубокий двор томится вечной жаждой,
Все выгорело, все прокалено,
Здесь каждый камень, угол, выступ каждый
Напоминает высохшее дно – —
Да, это ты. Упрек в девичьем взоре,
Негромкий смех, – но мысль твоя ясна, —
Сухой песок кастильских плоскогорий
Тебя овеял в вырезе окна.
Я звал тебя, и ты пошла за мною,
Быть может, вечность протекла с тех пор, —
Мне кажется, я высох сам от зноя,
Вдыхая соль твоих далеких гор.
Моя любовь! Холодный и жестокий,
Я лишь тебя искал в пустыне лет,
Зачем же снова хрипло числит сроки
Мой одряхлевший сломанный брегет?
Ты слышала? Опять по двери бродит,
Гремит ключом гранитная рука,
И к низкому крыльцу коня подводит
Злорадная дорожная тоска.
3
Вновь ветер мнет потрепанную шляпу,
Свистят в ушах летучие года,
Бегут, бегут на север провода – —
Ты будешь долго вспоминать и плакать.
Я мог забыть, но старое пальто
Еще хранит невиданные складки,
Как будто плащ болотной лихорадки
Обвил меня тропической мечтой.
Я мог забыть, – но ржавый нож в кармане,
Но блеск морей и мертвые пески,
Но сотни лет терзаний и тоски,
Но Командор, пришедший на свиданье!
Нет, я не твой. Огромная рука
Мое плечо нащупала и сжала – —
О, тяжкий скрип гранитного кинжала,
О, женский крик, пронзающий века – —
4
Вперед, вперед, бунтующая тень.
От женских слез, от милых женских рук
Туда, в холодный, полуночный день.
За северный неодолимый круг – —
И вот предстал, огромный, как скала,
Нормандский дуб, закутанный в туман, —
Широкий плащ отяжелила мгла;
Он доскакал, счастливый дон-Жуан.
Он доскакал. Дымился и храпел
Голодный конь. Свисали облака
Сквозь ветви дуба. Снег, гранит и мел,
Да ночь предстали взорам седока.
Скрипя, взошла полярная звезда.
Он вслушался, глядел за перевал, —
Там падала гремучая вода
Иль зарождался снеговой обвал.
Но нет, но нет. Все ближе и грозней
Знакомый шум, и громче эхо гор – —
Вдруг ночь прорвалась грохотом камней.
Так мог ступать лишь мертвый Командор.
* * *
Уже в постели, отходя ко сну,
В полубеспамятстве, припоминаю —
Вот только выключатель поверну —
И ты войдешь, и я тебя узнаю.
В каком бреду ты жалила меня,
В каких я вычитал забытых строках
Два смоляных пылающих огня,
Два львиных глаза, умных и жестоких…
И, засыпая, вздрагиваю вновь, —
Все это было, это будет сниться, —
На темной лестнице густая кровь
К ногам твоим торжественно струится.
Я утром чай завариваю сам,
Изнемогаю от газет и скуки,
Не верю в сны, – но часто по утрам
Разглядываю собственные руки.
* * *
Я точно вывел формулу страстей
И отделил стремленья от обмана,
Так отделяет мясо от костей
Седой хирург, исследующий рану.
Ни женский шепот, ни лукавый взгляд,
Ни нежное руки прикосновенье
Отныне чувств моих не шевелят,
Не трогают прохладного забвенья.
И вот, мудрец, бесстрастный и немой,
Я осужден на опыты без цели,
И полнится не кровью, а чумой
Нагое сердце в обнаженном теле.
* * *
Еще коплю для будущего силы,
Ревниво жду обещанных наград, —
А дни бегут, а время тонкий яд,
По капле капля, подливает в жилы.
Уж мудрость скучная дружна со мной,
Уж опыта холодные уроки
У темных век легли каймой широкой
И скоро тронут волос сединой.
Но поздний жар в остывшем сердце бродит,
Но ожиданьем обостренный слух
Рождает ночью вымыслы, и вдруг —
Простая мысль, – ведь молодость уходит.
И кажется, я понял наконец,
Что боги скачут мимо ожиданья,
Что под личиной первого страданья
Прошел богов неузнанный гонец.
* * *
Что знаешь ты об этой тишине?
Я полюбил мою пустую келью, —
Пусть дым и копоть, сырость над постелью, —
Но не закрою пятен на стене.
Ни сельский вид, ни профили влюбленных
Не опозорят яростных следов
Обузданных событий и годов,
И зимних бурь, и ливней исступленных.
Они мои. Обиды и мечты
Отныне с камнем нераздельно слиты, —
Так проливает ржавчину на плиты
Холодный пламень серной кислоты.
Не говори же, с гневом и досадой,
Что ветра нет, что море улеглось,
Здесь и твое дыханье пронеслось
Мучительной и гибельной усладой.
Дождь
Стоит, глядит, – сутул, покат, —
Качает зонтиком лиловым…
Неостывающий плакат
Пылает одиноким словом.
Вокруг сапог большим окном
В подземный мир втекает лужа;
И слышу под сырым сукном
Взлетает одинокий ужас.
Что видит он? Какой судьбе
Моленья шлет или упреки?
И гневно ветер на столбе
Подъял вдруг пламенные строки.
– Тоска, тоска – —
Так вот зачем
Спина так стерта и горбата…
Пройду неслышно, глух и нем,
Из уваженья к ноше брата.
Мщение
Медвежий мех на лаковом полу – —
Как здесь тепло, как много в доме света, —
Я без усилий тонкую иглу
Нашел в случайной скважине паркета.
Но бьют часы, пора. Пора давно,
Мороз и ночь зовут нетерпеливо,
Досужий ветер ломится в окно,
Быть может, ветер Финского залива.
Давно пора. По улице кривой
Я поведу корабль рукой умелой,
И над чужой постылой мостовой
Чужая ночь вдруг станет ночью белой.
Воображенье верное мое
Все крыши выгнет в купола, из праха
Взнесет гранит и в ратушу с размаха
Адмиралтейское вонзит копье – —
О, дикий плод упорного труда,
О, злобы час! По мраморным колоннам
Уже стекает невская вода
С неповторимым выплеском и звоном.
Пой, ветер, пой… Вот, молча подыму
Дрожащую от гневной страсти руку,
И рухнет призрак в ледяную тьму,
В ночной провал, в небытие и скуку – —
Не обвиняй. Не праздная мечта
Моим рассудком бурно овладела,
Но ненависть. Она не охладела,
Земной любви последняя черта.
* * *
Сквозь мирный быт – рассказы о былом;
Все улеглось, и страсти и обиды,
Потертый коврик под хромым столом
Взамен волшебного руна Колхиды.
Но помню я, – душа, пускай давно,
Дышала трубным воздухом сражений.
Ей ведом жар и дым (не все ль равно?)
Блистательных побед и поражений.
Наперерез всем бурям и ветрам
Душа моя, как встарь, лететь готова,
Под звонким сердцем незаживший шрам
Еще готов перекроиться снова. —
Лети же! Ввысь – промчись во весь опор, —
Пять этажей, – лишь вихрь ворвется в уши,
И солнце мира выйдет из-за гор
И канет в ночь, и память станет глуше.
* * *
Россия, Русь. Я долго не хотел
Назвать твое сияющее имя, —
В годах, в веках, суровый мой удел
Разъединен с уделами твоими.
О, я умел молчать издалека,
Не унижал страданий до упрека, —
Еще ни разу беглая рука
Не занесла тебя в ночные строки.
Но про себя, в бессонной тишине,
Я ненависть, как золото, считаю
И думаю, – все годы наверстаю,
Всю молодость, убитую во мне.
Пустынных лет холодная волна
Растает в море бурного мгновенья, —
Так верю я затем, что мне дана
Нелгущая печаль проникновенья – —
И вот, угрюм, забыт и одинок,
В часы забот, в неверный час отрады,
Кую, точу ославленный клинок,
Запретное оружие пощады.
Рыцарь на коне
Я рано встал. Лишь два иль три дымка
Над городом смиренно трепетали,
Погонщики мулов еще не встали
Для первого протяжного зевка.
И вот – ловлю привычно стремена,
Гляжу вперед внимательно и зорко, —
Клубится серой пылью на пригорке
Жестокая кастильская весна.
Я слушаю – до звонкой глухоты, —
Шаги ль звучат и наплывают ближе?
Но нет, то конь от жажды камни лижет,
То ветер гнет колючие кусты —
И снова ночь. Дорожные кремни
Скрипят во тьме пронзительней и суше,
Мой бедный конь устало свесил уши
И чуть бредет на дальние огни.
От диких роз, засохших на скале,
Исходит дым мучительный и сладкий,
Я кутаюсь в негреющие складки
И, засыпая, бодрствую в седле —
Да, прав цирюльник, – выдумка и бред,
Я в лихорадке видел Дульцинею —
Пусть. Все равно. Последую за нею,
За выдумкой, которой в мире нет.
Крылья
Пойду куда-нибудь. Несносно
Весь день не встать из-за стола, —
От желтой мути папиросной
Мысль путана и тяжела.
Быть может, встречу в грязном баре
Невероятную судьбу?
Услышу смех или пальбу
На исступленном тротуаре —
Узнаю счастье и обиды,
Восторг несчитанного дня,
В туманном парке с пирамиды
Сведу крылатого коня…
И, овладев крылом послушным,
Отрину вдруг, уже иной,
С недоуменьем равнодушным
То, что когда-то было мной.
* * *
На улице и мрак и мгла,
На встречных лицах непогода,
Очки из мокрого стекла
Стократ подводят пешехода.
На городской, на голый сад
Сошла туманная завеса, —
О, бедный мир, о, тихий ад,
Приют полуночного беса.
Не он ли, в белом сюртуке,
В широкополой шляпе низкой,
Болтает в мутном кипятке
Бесстыдно выпуклой сосиской?
Проворно сдачею звенит,
Привычно отпускает шутки
И острой ревности магнит
Вонзает в сердце проститутки…
Здесь будто драка, будто кровь,
Но все равно, мне мало дела, —
Не эта жалкая любовь
Моею ночью овладела.
Нет, не она зажжет пожар
И ослепительный, и бурный,
Чтоб грозно в высоте лазурной
Живой воспламенился шар.
* * *
Январь и ночь. Но мостовая
Почти по-летнему черна,
И ветер веет, не сдувая
Тепла с потертого сукна.
Как мог я думать, что напрасно
Жизнь под мостами изжита?
Ночь так темна и так прекрасна,
Так упоительно пуста.
Пусть пробегают люди рядом,
Кого-то яростно браня,
Пусть напирает тучным задом
Сосед багровый на меня, —
Сердитых окриков не слышу,
Не шевельнусь, не отойду,
Гляжу внимательно на крышу
И вижу чистую звезду – —
За мной, на тротуаре где-то,
Автомобиль без колеса,
Вот скорой помощи карета
Певуче кроет голоса,
Но что мне в том? Я пью глотками
Весенний непривычный сон,
Я полицейскими свистками
Как дальним эхом окружен.
Не оглянусь на хор недружный,
На тело в шубке меховой
И – мимо, мимо, – в ветер южный
По отзвеневшей мостовой.
Возвращение из Мюнхена
Летят стремительные дали,
Дорожный ветер бьет в глаза, —
С нажимом газовой педали
Я чередую тормоза.
И вдруг на резком повороте
Даю внезапно полный ход, —
Мгновенье ужаса, и вот —
Душа теряется в полете.
Еще земная от бессилья,
Но обреченная уже,
Она на грозном вираже
Как буря выгибает крылья.
И свистом вечности до боли
Насквозь, навылет пронзена,
Уж поневоле, против воли
Несется к гибели она.
И холодом летучим тронут,
Я к небу поднимаю взгляд,
А шесть цилиндров, сердцу в лад,
И задыхаются и стонут – —
И только там, в далеком сне,
Где дымом стелется долина,
Экспресс вечерний из Берлина
Едва ползет навстречу мне.
* * *
Недомоганья легкий бред,
Ознобы томной лихорадки, —
Я получаю на обед
Голубоватые облатки.
Как счастлив я! На диск стола
Склонясь, плыву в забвенье снова —
Давно душа моя ждала
Минуты отдыха простого.
Вот этих слов, вот этих строк,
Вот этих чувств полудремотных,
Вот этих рук, слегка щекотных,
Слетающих на мой висок.
Мне снятся грезы наяву, —
Мир стал прозрачнее и шире,
И гонит ветер синеву
В певучем и крылатом мире.
Как рифма, эхо под луной,
Стих в каждом шорохе случайном —
Не муза ль в сожаленьи тайном
Проходит тихо за стеной?
* * *
Кто я? Студент средневековый,
Поэт бродячий, тайный маг,
Иль, волей шумных передряг,
Берлина житель бестолковый?
Неразрешимые вопросы,
Ищу ответ – ответа нет – —
Так начинается рассвет
В тумане первой папиросы.
В девятом, разогретой смолкой
Иль медом липовым дыша,
Приходит муза и, шурша,
Колдует над пустынной полкой.
Мотив несложный напевает,
Заглядывает в дневники,
В остывшей печке раздувает
Чуть тлеющие угольки,
И вот уже пифийским жаром
Озарена ее рука,
И жертвенным исходит паром
Кувшин смиренный молока.
Поджарый хлеб, подносик чайный,
Цитата пушкинской поры,
И на стакане луч случайный
Морозно-солнечной игры.
И мыслю я: о, критик старый,
Ругатель мой! Что скажешь ты,
Когда я мир, для простоты,
Сравню с летающей гитарой?
Скрипачка
Причесан гладко локон черный,
Глубокий вырез прям и сух, —
Почти враждебно ловит слух
Ее смычка полет покорный.
Скупые точные движенья
Не развлекут и не смутят,
И девичий суровый взгляд
Как будто полн пренебреженья.
Но с каждым звуком глуше, глуше
Гудит нестройная толпа,
И то, что музыка скупа,
Язвительно тревожит душу,
И сердце мира не находит,
Щемит в предчувствии беды,
И темный страх уже обходит
Оцепеневшие ряды.
Уже далекий холод льется
В окрест лежащие дома,
Уж в окна белой бурей бьется
Сама зима, сама чума.
А там, где тень ее прямая
Плечом коснулась потолка, —
Все разрушая, все ломая,
Играет буря в два смычка.
Так вот зачем так море билось
В свои ночные берега – —
Лети, душа моя. Свершилось, —
Ты одинока и нага.
И ничего нет в мире целом,
Пустая твердь ясна, легка,
И только молния смычка
Еще дрожит на платье белом.
И только смутное движенье
Упавшей девичьей руки,
И только дикие свистки —
Свирепый вопль освобожденья.
* * *
Да будет так. Пусть не увижу
Родных могил в родном краю,
Но темной злобой не унижу
Высокую тоску мою.
На чуждых площадях не стану
Искать заемного огня, —
Свети же мне, веди меня,
Звезда бездомного цыгана.
Старинной клятвы не нарушу,
Не упрекну тебя ни в чем,
Молчаньем черным, как плащом,
Я ныне облекаю душу.
Пегас
Дымились осенью и стужей
Бока широкие коней,
Блуждали листья меж корней
И косо падали над лужей.
За лесом двигались дожди,
Земля томилась и грустила,
Двойное эхо впереди
Начало боя возвестило.
Расхлопываясь на дымки,
Взвились прицельные шрапнели,
И вверх пошли воротники,
И ниже сгорбились шинели.
Но с каждым выдохом жерла
Душа как будто запевала
И треск ружья, и скрип седла
В слова и ритмы одевала.
И вот, качнувшись в стременах,
Во власти музыки тревожной,
Я заблудился в нежных снах
И пал на камень придорожный —
О, муза! На полях Волыни
Не ты ль мой путь пересекла
И трижды сталью обожгла
Коня, крылатого отныне?
Черемуха
Полковник гвардии привычно
Пустил кудрявое словцо,
И было очень симпатично
Его калмыцкое лицо.
Глаза и зубы заблестели.
Но гром команды – строй молчит,
И только сердце где-то в теле
Не то что бьется, но стучит.
Веселой рысью и галопом
Лети, душа, на полный мах, —
За командирским Протопопом
Не отстает мой карабах.
Марш-марш в карьер! Чего же проще?
Дай шпору в бок, и шенкеля, —
И напрямик через поля
Гони к черемуховой роще.
О, милая! Вот-вот она,
Вся на ладони, вся как надо, —
Сантиментальная весна,
Грусть романтического сада – —
Ну и картечь! Лишь пыль и дым,
Бойцы и лошади как черти, —
Никто б не побоялся смерти,
Но бьют, канальи, по живым.
Ох, только бы не захромать, —
Не выдавай, мой конь ретивый!
Теперь – на всем скаку поймать
И разом ветку ту сломать
Для девушки одной строптивой.
Измена
Ну и ночевка! Две недели
Нас лютый заедал мороз,
Подумать, право, – я в постели,
И все в порядке, даже нос.
Хозяйка милая не сводит
С меня ласкающих очей,
И, беспокойный дух печей,
Кот плюшевый по креслам бродит.
Мотнув упрямой головой
– Найдется время пообедать, —
Выходит лошадей проведать
Отчаянный мой вестовой.
Как в идиллическом романе
Горит мечтательно свеча,
А между тем в ночном тумане
Смерть, подозрительно ворча,
Взяла прицел на нас заране.
Огонь! – И черная дыра
В созвездьях северных над нами,
Походный воздух со двора
Ворвался в комнату волнами,
Потрясена, оглушена,
Хозяйка как из гроба встала
И, ахнув, косы разметала,
И рядом падает она – —
Мой друг, простите ль вы измену
Мечтам в тургеневской глуши?
Увы, здесь знают счастья цену,
Замену слез, любви замену,
Движенье бурное души.
* * *
Прости-прощай, счастливый путь,
Когда-нибудь и где-нибудь – —
Валит на палубу народ,
Скрипит у мола пароход.
Гудит гудок, свистит свисток,
Белеет носовой платок.
Волна вскипела за кормой,
Уходят все. Пора домой.
Потуже горло повязал,
Неловко с насыпи спустился – —
Быть может, я не то сказал?
Быть может, я не так простился?
* * *
Черт ли с нами шутки шутит,
Колобродит, баламутит,
Белый снег жгутами крутит,
Засыпает все пути.
Ни проехать, ни пройти.
Потеряешь – не найти.
Кто там шарит, ходит, бродит,
Кто там с чертом шашни водит,
Тычет взводному шиши?
Эй, ребята, не греши,
В ровном поле – ни души.
Не балуй ты, в самом деле,
Где там снег? И где метели?
Небо сине, месяц май.
– Май так май, кровать ломай,
Честных девок не замай —
Голубое поле пусто,
Труп изрублен на капусту,
Ноги – в новых сапогах:
Прозевали впопыхах.
На реснице мертвой – вша.
Впрямь не стоит ни гроша
Православная душа.
С кожей содраны погоны,
Над погонами – короны…
Так порезать, поколоть
Человеческую плоть!
– По ко́ням! —
Верно, крепок их Господь.
– В Сионе! —
Да, плохое дело вышло,
Натворили, в рот же дышло,
Не поднять и не собрать.
Долго дома будут ждать.
Будет караулить почту
То ль невеста, то ли мать, —
А верней всего, что…
В чистом поле майский день,
Пять окрестных деревень,
Только шпоры трень-трень-трень.
Крест и белая сирень…
И сирень, и земляника, —
Поищи-ка, собери-ка,
Алых ягодок нарви, —
Руки вымажешь в крови,
К ночи высыпят прыщи…
– Кто там шепчет? Помолчи!
– Справа по три. Трубачи.
В трубах – солнце. На попоне
Под сиренью белой плоть.
О, коль славен наш Господь,
Славен наш Господь в Сионе —
Романс
Молчи, цыганская гитара!
Жизнь бестолкова и бедна,
И нет у нас бесценней дара,
Чем твой ужасный дар, война.
Как часто в синеве лазурной
Я пятен огненных ищу, —
О жизни грозной, жизни бурной,
О прежней жизни я грущу.
И вскоре вовсе опостылит
Мне этот безмятежный быт, —
Я ранен тишиной навылет,
Я нежным голосом убит.
* * *
Пройди сквозь муки и обиды,
Все унижения узнай,
Кажись благополучным с виду
И с каждым солнцем умирай.
В соседстве палачей веселых
Улыбку весело твори,
Но под броней одежд тяжелых
Огнем язвительным гори.
И в некий час рукой худою
Лохмотья тела совлеки
И окровавленной звездою
Небесный свод пересеки.
Стократ рождаясь, умирая, —
Стремительный огневорот, —
Достигни радужных высот
Тебе обещанного рая.
И ангелам в одеждах белых,
Хранящим райские межи,
Как равным братьям покажи
Остатки углей обгорелых.
* * *
Треск и грохот, дым фабричный,
Полицейский на коне, —
Мир привычный, мир обычный…
Скучно, милый, скучно мне.
Отчего же, умирая,
Верно, вспомню, хоть во сне,
Конский топот, звон трамвая,
Лампу в розовом окне?
* * *
Вздуваю угли, воду грею,
Завариваю горсть пшена, —
О, если бы скорей, скорее
Взорвалась под окном война!
И огненные пятна, бурно
Дырявя нежный небосклон,
Как очи грозные в лазурный,
В лазоревый прозрели сон.
И в час, когда заря восходит,
Бессонным рассказать могли,
Какие демоны там бродят,
Терзаются в лучах земли.
* * *
Поэзия, безволье, разложенье – —
Здесь самый воздух тленом напоен —
Так в шумном доме после похорон
Иль в бивуаках на полях сраженья
Случайный гость томится суетой,
Он шепчется, шагает осторожно,
И все, что стало просто и возможно,
Его пугает грубой простотой.
А я бегу от праздности высокой
И, вымолив у жизни полчаса,
На Монпарнасе смерти черноокой
Пушистые целую волоса.
* * *
Походкой трудной и несмелой
Хромой выходит на каток,
В колючих пальцах скомкан белый
Хрустящий носовой платок.
Он странных лиц не замечает
Он тайным смехом не смущен, —
На мой насмешливый поклон
Кивком небрежным отвечает.
И вот – подняв сухие веки,
Внимательно глядит туда,
Где зачинает танец некий
Полукрылатая орда.
И напряженно ждет чего-то
В скользящем мареве катка, —
Необычайного прыжка
Или паденья, или взлета.
* * *
Такая правда не терзает,
Но сушит душу и гнетет,
Такое чувство не цветет,
Но ползает иль оползает.
О поздняя любовь моя,
Мое крылатое паденье, —
Какое в сердце пробужденье,
Какая в помыслах змея!
Пусть нет ей пищи – и не надо, —
Она от голода страшней;
Чем голодней, тем больше в ней
Змеиной лютости и яда.
* * *
Шуршит, ползет, неуловимым телом
В пустой траве струится, как вода, —
На влажном брюхе, синевато-белом,
Лазурь небес блистает иногда.
Свилась в кольцо, распрямилась, пылится
Заросшая бурьяном колея – —
Так в ревности высокой шевелится
Моей любви несытая змея.
* * *
О родине последние слова,
О той стране, где молоды мы были, —
Послушай, друг, мы, кажется, забыли,
Как шелестит днепровская трава.
Что наших чувств и наших слез уроки?
И научились ли мы в горестях чему?
Отбыты все условия и сроки,
Но сердце вновь стремится к одному.
Степной курган и птица на кургане,
Татарские седые времена, —
Как жаждет нас степная целина
В лазоревом своем сокрыть тумане!
За грудью грудь, или зерно к зерну,
Не поглотить, но воспринять любовно,
Всю плоть в себя вместить единокровно,
В беззвездную живую глубину.
Чем старше мы, бездомней и всесветней,
Чем больше знаем о добре и зле,
Тем сладостней отдать одной земле
Сердечный жар и холод многолетний.
* * *
Противоречий не ищи
В душе моей, их слишком много, —
Но всем речам – одна дорога, —
Прислушайся и замолчи.
Душа томится в муке тайной,
Трепещет жилка на виске, —
Ночь пахнет степью и Украйной
В пустом парижском кабаке.
В час расставанья и печали
Мы оба сердцем расцвели, —
Как долго счастьем мы скучали,
Как счастливы мы быть могли – —
* * *
Впервые я узнал желанье,
Любовь и тела и души,
Тебя как агнца на закланье
Веду в полуночной тиши.
Впервые встала предо мною
Ты после стольких, стольких дней
Сестрой, любовницей, женою
И музой чистою моей.
Молюсь и припадаю к чуду, —
Благослови тебя Господь.
Так – с духом дух и с плотью плоть
Прощаю все, но не забуду.
* * *
Ты нежности просила у меня —
И нежен я, как ты хотела,
Во мраке ночи и при свете дня
Слова любви шепчу несмело.
Красавиц дерзких слушать не хочу,
Беседу полюбил иную,
У ног твоих признательно молчу
Не упрекаю, не ревную.
И нет во мне задора прежних дней,
Ни гордости былой, ни злобы, —
Что ж стала ты смиренней и грустней,
Как будто мы несчастны оба?
* * *
Я освещен закатом бурным,
Увенчан шапкой снеговой,
Я взор полусокрытый свой
Скрестил во льдах с лучом лазурным.
Ничто, ничто моей мечте
Теперь противиться не смеет,
Лишь захочу – и вихрь взвеет
В неизмеримой высоте.
Мое паденье здесь нарушит
Движенье медленных снегов,
Оно засыплет и задушит
Огни вечерние лугов.
И сердце, верное когда-то,
Развеется в звенящий прах,
И эхо грозное в горах
Играть им будет до заката.
Но белой смерти не пошлю
Предателям с моей вершины, —
Я умер сам во мгле долины, —
Не ненавижу, не люблю.
Одно отчаянье возносит
Меня к мерцающим звездам,
Но ничего, ни здесь ни там,
Душа не хочет и не просит.
* * *
1
Шурша, коляска подъезжала
К неосвещенному крыльцу,
Кобыла в яблоках заржала
Вслед вороному жеребцу.
Я дал ему с размаха шпору
И ускакал немедля прочь,
За первым поворотом в гору
Меня легко настигла ночь.
Высоко месяц плыл двурогий,
Смотрели звезды на меня,
Я долго мчался по дороге,
Потом умерил бег коня.
Он жарко поводил боками,
Жевал устало удила,
И пена мыльными клоками
Покатывалась у седла.
Прохладный утренник коснулся
Моей обветренной щеки, —
Роняя повод из руки,
Я вздрогнул и как бы проснулся.
2
Над темной степью облака
Приметно по краям алели,
У ног моих два-три цветка
В росе холодной тяжелели.
Луны поблекший полукруг
Скатился в тучку дождевую, —
Я вытер лоб рукой и вдруг
Упал ничком в траву сырую.
Рассвет приблизился давно,
Уже туман гулял низами,
Ржал конь, мне было все равно, —
Я плакал злобными слезами.
Я дал им волю. Холод их
Меня пронизывал глубоко.
Но не было в слезах моих
Ни облегченья, ни урока.
3
Печорин – образ роковой,
Сошедший со страниц романа,
Рожденный прихотью тумана
Над охлажденною Невой.
Чело, высокое без меры
Под бледной ледяной корой,
Кавказский сумрачный герой
Далекой Веры, бедной Веры!
Зарывшись в жесткую траву,
Мы плакали беззвучно оба,
Во сне ль одном иль наяву,
О женской верности до гроба.
Атом
В звонки, в гудки, в разлад каретный
Горошком сыпется свисток,
Но, упраздняя мир запретный,
Вскипает пеной многоцветной,
Бурлит на площади поток.
Аптеки, банки, писсуары,
И люди, – смыты в полчаса, —
В широкий путь, на тротуары,
Сирень раздула паруса.
В окне запущенной больницы,
На каждой двери и трубе
Сирень ветвистая толпится,
И пыльный город – только снится
Иному самому себе.
И в летнем баре полосатом,
Где шумно дышат малыши,
В стакане солнечном виши,
В твоем смущеньи виноватом, —
И всюду – неделимый атом
Любовью взорванной души.
Русская
Целый день шагал без дела,
Дошагался, нету дня, —
Что ты, друг мой, присмирела,
Молча смотришь на меня?
Скучно ль стало в нашей клетке,
Слова некому сказать,
Хорошо б зайти к соседке
Посидеть да повязать – —
– От соседки толку мало, —
Ведь она еще вчера
Кучу кружев навязала
И сбежала со двора – —
Знаю, знаю, пусто в доме,
Все пропали, кто куда, —
Кто к Фоме, а кто к Ереме,
Словно сгибли без следа.
Хоть зарежь кого, – услышит
Разве нянюшка одна,
Да и та живет – не дышит,
Не отходит от окна.
Не приметит, – не увидит, —
Леденцы весь день сосет,
За день мухи не обидит,
На меня не донесет.
Сядь ко мне, моя подружка,
Моя верная жена,
Тут помягче и подушка
Для тебя припасена.
Уложу тебя, накрою,
Сладко будет полежать,
Навалюсь и сам горою,
Кликну няньку подержать.
У старушки силы хватит
Оторваться от скамьи,
Полотенцем перехватит
Ножки резвые твои – —
Не ходить тебе дозором
Слушать в роще соловья,
Не гулять с прохожим вором,
Сероглазая моя.
* * *
Зажал на черный день копейку
Самонадеянный дурак,
Купил немую канарейку
Неисправимый мой чудак.
О подвигах поэт поведал
(На этот раз совсем не так),
И сытый плотно пообедал,
И выпил лишнее бедняк
Неосторожно, натощак – —
Жизнь вертится, бежит вразвалку,
Срывается, летит в дыру, —
И сердцу никого не жалко
На этом нищенском пиру.
Мой город
В подъездах дворники мечтают,
Грустит у будки часовой,
И розы белые летают
Над осторожной мостовой.
Сереброкрылые виденья,
Слегка кренясь на облучке,
Скользят бесшумно от Введенья
И пропадают на Толчке.
И некто с Пушкиным и Блоком,
Подняв лебяжий воротник,
В аптечном пламени широком
Ночным мечтателем возник —
Мой неопознанный двойник.
* * *
Под пальмой на песке горячем
Глядим в прозрачную волну,
Бросаем жемчуг в глубину
И рыбок весело дурачим.
Розовоперые стада
Проходят облаком под нами,
И обзывает без стыда
Нас глупый попугай лгунами.
Маори, марево морей,
Цветок из царства голубого,
В бумажных дебрях букварей
Не уместившееся слово – —
Лагуны светлые твои,
Твои коралловые тени,
Твои зеркальные ручьи
И соловьиные сирени, —
Я упраздняю навсегда
Все таможни и все границы,
Одна воздушная среда
Для человека и для птицы,
Мой мир веселый – отдаю
Всему крылатому народу, —
Поэт беспаспортный, пою
Одну любовь, одну свободу.
Ева
Склонясь над скважиной замочной,
Он подает условный знак, —
Рукой нечистой и порочной
Указывает на чердак.
Я вижу – ангел золоченый
Над ветхим ложем голубым
С улыбкой нежной и смущенной
В вечерний отлетает дым.
За ним струится полог пыльный,
Весь в ржавых пятнах иль в крови,
Отягощенный мглой обильной,
Былыми вздохами любви.
И на постели полосатой,
На беспружинном тюфяке
Адам ладонью грубоватой
Проводит по своей щеке.
А рядом, вырастая слева,
Лишь дуновение вчера,
Как утренняя роза, Ева
Выходит из его ребра.
Еще не омраченным взором
Глядит на мужа своего,
На рай запущенный, в котором
Дремотно дышит божество.
* * *
Освобожденья от другого,
Освобожденья от себя,
От мертвого и от живого,
От всех, что были до тебя,
От всех, что будут неизбежно,
Что позовут, подстерегут,
От тех, которые не лгут
Иль лгут мучительно и нежно.
* * *
У девочки прелестные глаза,
Она умрет, решая уравненья,
Над алгеброй взовьется стрекоза,
В календаре отменят воскресенье.
Все будет так. Чернильное пятно
На розовой тетради побуреет,
Мать в трепете над ним окаменеет,
Потом сосед – – Но, впрочем, все равно…
* * *
Опавший лист, скамью сырую
И шум осенний узнаю, —
И молодость мою – вторую —
Как прежде, ветру отдаю.
Туман и ночь плывут над садом
Меж двух дорог, меж двух эпох,
Я шлю всему, что дышит рядом,
Любовный иль смертельный вздох.
Во тьме ноябрьской непогоды
Она взлетает не спеша,
Лишь гулким воздухом свободы
Дышать согласная душа.
* * *
Как весело он бьет мячом
О землю, твердую от зноя,
Играет ветер над плечом
Матроской легкого покроя.
И чем размашистей удар,
Тем мяч подпрыгивает выше, —
Вот он почти уже на крыше —
Упругий, своевольный шар.
Ударь еще – еще паденьем
Притихший день ошеломи, —
Груз, становящийся виденьем,
Рукой умелой подними.
Пускай за окнами бранится
Жильцов унылая орда, —
Или теперь, иль никогда
Стекло в осколки разлетится.
Пан Юрий
Все дворы полны народа,
Топчут лошади траву, —
Сандомирский воевода
С дочкой выбрался в Москву.
Он словечка не обронит,
Двинет бровью и молчит,
Сивый ус платочком тронет,
Шпорой в шпору постучит.
Эй, Марина, что там стали?
– На ночь ехать не с руки, —
С гиком шляхом поскакали
Верховые гайдуки.
Ей-то что? Плясать бы снова,
Ходит ветер в голове – —
– Правда ль, пан, что Годунова
Хочет пострига в Москве?
– Трогай, черти! – В чистом поле
Любо косточки промчать,
По девичьей вольной воле
Сладко будет поскучать.
Все бы важно, все бы ладно,
Только хмуро на полях, —
Белым плечикам прохладно
В черно-рыжих соболях.
Что, невеста, загрустила,
Смотришь будто не своя?
Что головку опустила,
Краля, ласточка моя?
– Эй, Марина, выйдет скоро
Царская твоя судьба,
Это, дочка, не Самбора
Бархатная голытьба.
Русь красна не пирогами, —
Там для смеху млад и стар
Жемчуг топчет сапогами, —
Видел я князей-бояр!
Целованья не нарушат,
Силой нас не перегнуть,
Не повесят, не задушат, —
Выйдем в люди как-нибудь.
Пану Юрию обидно
Быть слугой у короля,
Пану Юрию не видно
Глаз опущенных Кремля.
* * *
Подснежником белым и хлопьями снега
Московская пахнет земля.
Пан Корвин-Гонсевский и хмурый Сапега
Сквозь зубы бранят короля.
Пора бы затеять потеху медвежью,
Пустить вкруговую ковши
Да бодрым галопом, да по Беловежью
Скакать до потери души.
О, громкое эхо рогов на охоте,
Кровавый и пышный разбой, —
Дубы в перетлевшей стоят позолоте,
И лед в высоте голубой.
Ты помнишь самборские вьюги, царица,
Веселый мороз на щеке, —
Пушистым хвостом заметает лисица
Пролазы в сухом лозняке.
– Не слушай, Марина, – для смерти и славы
Дороги везде широки, —
Уже подымаются в сердце Варшавы
Стихов золотые полки.
Дрожат городские упорные стены,
И ломятся в дыры дверей
Мазурка и марш похоронный Шопена —
Двойная картечь бунтарей.
Уже в цитадели лохмотья кафтанов
Цветным ожерельем висят,
Знамена безусых твоих капитанов
Орлиным крылом шелестят.
Она полуслышит разумные речи,
Глядит на мерцанье свечи,
И черные тени ей пали на плечи,
Как складки большой епанчи.
Астронавт
Так, – не на койке лазаретной,
Не в лихорадочной мечте, —
Я острой точкой межпланетной
Повис в чернильной темноте.
Миров Эйнштейновских заноза,
Гляжу в карманный телескоп, —
Внизу лирический потоп,
Меланхолическая роза
В луче наклонном, и рука
В прощальном трепете платка.
Вот сердца страшная примета, —
Вне узаконенной черты
Оно уже не хочет света,
Но высоты и пустоты.
Еще твои шелка живые
Цветут привычной бирюзой,
А я насмешливой слезой
Очки туманю роговые.
Так наши губы далеки,
Что скоро высохнут очки.
Увы, земная память гложет,
Но в славе новых скоростей
Моя любовь уже не может
Быть перекличкой двух смертей.
Мы не годами, не веками,
Но звездами разделены, —
В кольце космической волны
Планеты ходят поплавками,
И невнимательный рыбак
Их наблюдает кое-как.
Летит, летит снаряд непрочный
Меж черных и хрустальных сфер,
Уравновешенный и точный,
Работает секундомер.
Безглазый робот равнодушно
Передвигает рычаги,
Команда световой дуги
Переливается послушно
В нули огромного числа
На фоне матовом стекла.
И я – один. Земное тело
Освободилось от земли,
Земля как искра улетела,
Распалась в четкие нули, —
Чуть тронула магнитным током
В приборе сложном провода,
И в микрофоне – никогда —
Пружина щелкнула с упреком.
И фосфорической дугой
Зажегся в трубке мир другой.
* * *
Когда-то мельница стучала,
Купались дети на реке,
Жизнь только вехи намечала
И проходила налегке.
А на плотине, где шумело,
Кипело, брызгало – звезда
Осколком мутным неумело
Прикладывалась иногда.
Но воздух голубой Заречья,
Но голос пушкинской луны,
И соловьиные наречья
Белоцерковской стороны —
Молчанье первое, прохлада, —
Земля, орбиту изменя,
Всю ночь была кружиться рада,
Как бабочка, вокруг меня.
То стройной девочкой касалась
Счастливо-томного плеча,
То в омут мельничный бросалась
Цветным подобием мяча – —
Мой милый мальчик, друг мой дальний,
И ты, быть может, в полусне
Над алгеброй иль готовальней
Мечтаешь робко при луне.
В окне черемуха белеет,
И тополь, весь из серебра,
Шуршит, вздыхает и жалеет – —
Покойной ночи. Спать пора – —
* * *
Я, засыпая, плащ дорожный
Кладу любовно на кровать,
Ни сном пустым, ни клятвой ложной
Не разлучить, не оторвать.
Душа, ослепшая когда-то,
На дальний берег посмотри, —
Там легкий крейсер из Кронштадта
В тумане северной зари.
Дождливый ветер машет флагом,
Морская пена брызжет в лоб, —
Матросы замедленным шагом, —
Плывет, качается мой гроб.
Не надо плакать, – поздней встречи
В цветах, в слезах, – еще ступень,
Трубач торжественные плечи
В широкий расправляет день.
Еще ступень, – никто не смеет, —
Неразлучимы навсегда, —
О, как встает и пламенеет
Моя Полярная Звезда – —
* * *
Я сердце опустил в сосуд,
В голубоватый алкоголь, —
Его еще сводила боль,
Так ждал его последний суд.
И выпуская трупный яд,
По-рыбьи выгнувшись, оно
Упало с выплеском на дно
В свой тесный и прозрачный ад.
На банку с белым ярлыком
Я крепко наложил печать, —
Теперь молчать и не стучать,
И не любить, и не прощать,
И ни о чем, и ни о ком…
* * *
На холмике под свежей елью,
На идиллической земле,
Почти пастушеской свирелью
В лазурной возникала мгле.
Звала, грустила и мечтала,
Играла гребнем золотым
И в ветер косы расплетала,
Похожие на светлый дым.
В русалочьей траве зеленой
Тонула иль дремала ты,
Лишь голос нежный и влюбленный
Ласкал болотные кусты
И, мальчик с диким выраженьем
Уставших улыбаться глаз,
Я молча слушал твой приказ
И следовал за пораженьем.
* * *
Мы едем на рыбную ловлю с утра,
Гудит перегретый мотор, —
В пустыне слоями сплывает жара
К подножью отчетливых гор.
Песчаная глушь. Ни зверей, ни людей,
Но весело в небо смотреть, —
На родине храбрых индейских вождей
Не страшно от стрел умереть.
Орлиное сердце зарыто в песке,
Вздыхает безводная степь, —
Шофер указал уже нам вдалеке
Деревьев зеленую цепь.
Гора за горой, – Колорадо-река
Влечет глубиной голубой – —
Россия, Россия, – ты так далека,
Что мне не расстаться с тобой.
Мятеж
Крестом на карте обозначьте
Неведомые берега,
Где капитан повис на мачте
И в море выброшен юнга.
Всех опознаем до рассвета
И разберемся в именах, —
Пока же, первая примета —
Кто без штанов, а кто в штанах.
А ночь бурлит. И кот проворный,
Принюхиваясь там и тут,
Потрагивает лапкой черной
Прилипший к палубе лоскут.
Он, чуть мурлыча, подползает
На запах теплой колбасы,
Он что-то лижет иль лобзает
Кого-то в мертвые усы.
Да, ночь бурлит. В волне соленой
Созвездье Южного Креста
Мерцает, как зрачок зеленый
Осатанелого кота.
* * *
Горами отраженный звук,
Ночное эхо спать не смеет —
Бессонная звезда разлук
В настольной лампе пламенеет.
Звезда, слеза иль просто так —
В забытых нотах женский волос,
В скрипичном мире нотный знак,
В ключе скрипичном женский голос, —
Не голос даже, но стволов,
Листвы растерзанной смятенье,
Сердечных судорог и слов
Косноязычное сплетенье.
И эхо, вспышкой голубой
Гору с горой соединяя,
Летит стремительной судьбой,
Звезду падучую роняя – —
Когда затеряны давно
Разбившиеся в эхо звуки
И ветви трогают окно,
Как умоляющие руки – —
* * *
Вот ласточка с оторванным крылом, —
Ей в высоте от боли стало тесно,
Затрепетав, она простым узлом
С путей своих срывается отвесно,
Преодолев лазурную стену,
Другим крылом, живым, но непослушным,
Прощается с течением воздушным
И, ослабев, ныряет в глубину.
Закрыв глаза, дрожа от напряженья,
Вниз падает по линии прямой,
По линии земного притяженья
Куда-то в смерть иль, может быть, домой,
И, падая, щебечет и грустит,
В пронзительной лазури умирая,
И тень ее, как ласточка вторая,
Навстречу ей стремительно летит.
* * *
Безумец, ересью прельщенный,
Собрав на площади народ,
По сходным ценам продает
Весь мир, безбрежный и бездонный,
С набором всех его свобод.
И, к возраженьям равнодушный,
Глупцам внимая свысока,
Возносит пистолет послушный
К холодной впадине виска.
И там, где солнце расцветает,
Гремит лазурная сирень,
Он белым парусом влетает
В уже не календарный день.
И я, свидетель разложенья
Земных и прочих величин,
Всех истин головокруженья,
Столпотворенья всех личин, —
Я торопливо отмечаю
День новый в книжке записной
И тонкой шуткой отвечаю
На чей-то окрик площадной.
Усталость
Что там еще произошло?
Упала на пол зажигалка
(Весь день чертовски не везло), —
Не зря мне старая гадалка
Всегда предсказывала зло.
Не пасть ли в кресло? Привалиться
К покатой спинке головой
И не дышать, не шевелиться,
Всему чужой и сам не свой – —
И вновь на черном циферблате
С фосфорно-желтым ободком
Глухое время о расплате
Бормочет сонным языком.
Какая горькая прохлада
Втекает в узкое окно!
Метелью белой в гуще сада
Шумит забытое давно.
Трещат в деревьях пистолеты,
Мороз всю ночь ведет пальбу, —
О, слушай, слушай до рассвета
Невнятную твою судьбу.
* * *
Он тебя одарил дорогими каменьями,
А я, поэт, полуночными звездами.
Станут ревниво подруги ожерелья примеривать,
Звезд моих не увидит никто.
Но годы пройдут, постареешь ты,
Да, постареешь,
Станешь ночью не спать до утра,
Оправлять изголовье,
Жемчуга и наряды проказливым внучкам отдашь,
Пусть их носят себе на здоровье.
Не к лицу мне теперь дорогие уборы,
Молодому и старое впору.
Будет все, да не то,
Выйдешь как-нибудь ночью
В тенистый свой сад,
Ненароком увидишь – не звезды
Над садом горят.
Скажешь, это моя, а вон та золотистая тоже,
Нет светлей их на всем небосклоне, светлей и моложе.
* * *
Бьет полночь колокол соборный.
Метель усилилась. Дрожа,
Гляжу в окно на город черный
С высот шестого этажа.
Окоченевшими руками
В жаровне шевелю золу,
А вьюга длинными смычками
Тревожно водит по стеклу.
И вот – любовно раскрываю
Заветный лист черновика
И жаром рифмы согреваю
Холодный воздух чердака.
Склонясь, лелею стих несмелый,
Смыкаю строфы не спеша – —
Летит дыханье розой белой
На тонкий ствол карандаша.
Так полнят радость и тревога
Трудолюбивый мой досуг,
А поздний сон, мой робкий друг,
Ждет терпеливо у порога.
Помедли, утро. Лампа светит
В неомраченной тишине, —
И все до дна понятно мне – —
День бегло спросит – ночь ответит.
Лорелея
Ты звонко пела на скале
И пряла облака густые,
В бушующей, бурлящей мгле
По воздуху и по земле
Струила косы золотые.
Внимая пенью твоему,
Молчали бледные матросы,
И были праздные вопросы
Для обреченных ни к чему.
И в новом мире как тогда
Ты жертву песней призываешь,
Широкий парус обрываешь
И топишь хрупкие суда,
Зеленые глаза сощурив…
* * *
Я ночью площадь городскую
Перетащил на свой чердак,
В натопленную мастерскую,
Обставленную кое-как.
Я вышел рано до обеда
Проверить город, посмотреть,
Все так же ль высится победа,
Трубящая в пространство медь.
Кругом дома стояли густо,
Все было в целости, зато
В средине места было пусто, —
Необъяснимое ничто.
Смущенно люди подходили,
Смотрели в черную дыру,
И ничего не находили,
И в тайном страхе говорили:
– Да, ты умрешь и я умру.
Романс
Дверь на ключ, от глаз нескромных,
От напасти, от беды,
Поздний ужин. В окнах темных,
В темных окнах ни звезды.
Вижу – льется дождь беззвучный
Вдоль древесного ствола,
Ходит ангел, ходит скучный,
Вкруг пустынного стола.
То согнется, то качнется,
Скосит узкие зрачки,
То руки моей коснется,
Выпуская коготки.
Вот мурлыкнул, вышел вон – —
Веруй, веруй, иль не веруй, —
Поздний ужин, поздний сон.
* * *
Двенадцать пробило, соседи уснули,
Закручена в жгут простыня,
На мили кругом – ни огня.
Никто не услышит пронзительной пули,
Когда-то искавшей меня.
Она затерялась в небесном просторе,
Летит и жужжит и поет
Проносится мимо, но, может быть, вскоре
Ночную добычу найдет.
Остывшая трубка чернеет в постели,
На мертвой подушке зола,
Над озером горным качаются ели,
И в озере, словно в большой колыбели,
Перо голубого орла.
Крылатая тень опускается ниже
(Полет и глубок и высок),
Она пролетает все ближе и ближе,
Почти задевает висок.
Двенадцать пробило, на стенке рабочей,
Как эхо, другие часы,
Я жизнь или смерть вынимаю из ночи,
Кладу на большие весы.
Бессонница бродит неслышно по дому
В дырявом халате моем,
В стакан подливает и рому и брому,
Неловко играет ружьем.
* * *
Уже не странные стеченья
Несуществующих примет,
Не фокусы столоверченья,
Но ясный и простой ответ.
Как жаль, что мы спросить забыли,
Не загадали, и теперь —
Лишь конус освещенной пыли
Слегка придерживает дверь.
Но если все-таки, не сразу, —
Передышать, – и отворить?
И вдруг, не доверяя глазу,
Чуть отступая? Может быть?
Свет желтоватый излучая
(Тот мертвый свет на чердаках),
Потянется, не замечая,
И покачнется на носках – —
Зевнет, разляжется неловко
В углу на свалке пуховой,
Где в сонной одури веревка
Свернулась щупальцей живой.
* * *
Каким огромным напряженьем
Отмечен разворот крыла, —
Вся наша слава проросла
Неукротимым пораженьем.
О, Пушкин, Пушкин! В бестолковом
Мерцаньи петербургских дней
На диком поле Куликовом
Ты молча правил без саней.
Уже последний перегон
Копыта бодро отстучали, —
Благослови покойный сон
Без музыки и без печали.
Убит. И выстрелом по льду
Глухое эхо прокатилось,
Рассыпалось, переместилось
В хронологическом бреду.
* * *
Закат, закат. Мой тихий сад
Осенним золотом расплавлен.
Таким сияньем озаглавлен
Листвы лирический распад.
На розовом едва заметны
Голубоватые штрихи,
Здесь все рисунки беспредметны,
И в каждом шорохе стихи.
* * *
Сегодня море не шумит,
Над молом пена не взлетает,
Разлука больше не томит,
Лишь тихо за душу хватает.
И даль воздушная светла,
И голоса подобны пенью, —
Быть может, ты и не ушла,
Но легкой претворилась тенью.
Дитя лазоревого дня
Иль вестник ночи неизбежной,
Ты молча дремлешь близ меня,
Скользишь на отмели прибрежной.
* * *
Надышал звезду живую
На морозное стекло,
Время в улицу кривую
Частой каплей натекло.
Дождь закатными лучами
На развилистом стволе,
Пузырями и ручьями
Бурно роется в земле.
Вздрагивая кожей голой,
Отряхаясь иногда,
Сердце в пляске невеселой
Выпадает из гнезда.
Долго пальцами хрустела,
Плача, в сумерки звала,
Диким голубем летела
В звезды, в звезды без числа.
Ах, звенеть бы в дальней роще,
Слушать вечером зарю, —
Лучше, может быть, иль проще
Ранний вылет повторю.
Я стою перед тобою,
Я в глаза твои гляжу,
Легкой веткой голубою
Прядь густую отвожу.
* * *
Если вечер в доме, если
За окном тенистый сад,
Хорошо в покойном кресле
Чуть откинуться назад.
Не меняя положенья
Отдыхающей руки,
Слушать, слушать приближенье
Времени или реки – —
Я люблю без состраданья,
Я без жалости ловлю
Нежный шелест увяданья
Той, кого еще люблю.
Но, клонясь к перчатке белой,
Отмечаю каждый раз
Блеск покорный и несмелый
Жизнью утомленных глаз – —
С каждым днем заметней складки
У подкрашенного рта,
И прохладная перчатка
Невесома и пуста.
Бьется бабочка живая
На расплавленной свече,
Стынет шубка меховая
На сверкающем плече.
Акапулько
Был теплый вечер, и луна
Сияла, в вечер влюблена,
Влюбленно распевал сверчок,
И в скрипку был влюблен смычок.
Гавайской мандолины звон
В миндальный воздух был влюблен,
И в нежном серебре ветвей
Влюбленно щелкал соловей.
Влюбленный сад, и ночь, и я —
Вся влюблена была земля,
И отраженная луна
Была в зрачках твоих видна,
Как я пьяна и влюблена.
* * *
День разгорался над туманами,
И гравий нежился у ног,
Восточными коврами рдяными
Рассвет на теплый берег лег.
Святой земли курганы алые
Видны впервые как во сне, —
Шаги апостолов усталые
Звучат в библейской тишине.
И дышит грудь моя свободнее
В краю, где шествовал Господь,
Где древле пастухи Господние
Шатром избрали небосвод.
Они ушли в дорогу вечную,
На смену новые пришли,
Но так же тянутся к предвечному
И ныне, как в былые дни.
Какое древнее сокровище
Сто сорок славят языков,
Какое пестрое становище
У Иорданских берегов.
И жизни стройка современная
Напевных сил не оглушит —
Звезда Давида соплеменная
На Давидов ложится щит.
Заря Израиля свободная
Со всех холмов уже видна, —
Моя иссохшая, безводная,
Священная моя страна.
Леди
Л. Росс
О, как она свободно дышит!
В морозный воздух влюблена,
Она и слышит и не слышит
Ласкательные имена.
К чужим восторгам равнодушна,
Не призывая никого,
Она не голосу послушна,
Но тайной музыке его.
Приплясывая, приседая,
Упругий выгибая бок,
Она как буря молодая
В горячий собрана клубок.
Лишь цыкнет ножкой горделиво
В хрустально-радужный ледок —
И зритель пятится пугливо,
И подбоченится седок.
Вот-вот сорвется и поскачет,
Развеет гриву и вот-вот —
В лазури вьюгой обозначит
Свой торжествующий полет.
Зимняя прогулка
В пустыне белой верезг санный,
И черный лыжник у сосны,
И в дымном небе лик туманный
На четверть срезанной луны.
Дневная сутолка неслышна,
Ночная музыка чиста,
Но ненавистна, ненавистна
Душе земная красота.
* * *
Знать не хочу – ни рифмы, ни размера,
Не вздох, не плач, не площадная брань,
Но голосом домашним вглубь пещеры —
– Встань.
И медленно свивая пелены,
Покачиваясь, как пузырь на луже,
Уже идет, и вслед во тьме всплывают сны,
И вот – уже снаружи.
И солнца блеск иль горная вода
Лежит на камне, за день перегретом,
И, ослепленный непривычным светом,
Он закрывает рукавом глаза.
Эпитафия
Он был незнатен, неучен,
Но был поэт. Он был немногий,
Который даже исключен
Из эмигрантских антологий.
Прохожий! Мирно посиди
На сей гробнице незавидной,
Но, ради Бога, не буди
Его своей слезой обидной.
Он спит. Он, может быть, во сне
Внимает ангелам гремучим,
Громам архангельским, – зане
Был сам крылатым и певучим.
II. Поэмы
Моему сыну
Андрею Корвин-Пиотровскому
Золотой песок
I
Ты помнишь ли, мой Кирик милый,
Прогулки утром на авось?
На скалах розовая Рось
Двойное эхо разносила,
Текла меж пальцев и слегка
Топила пробку поплавка.
Там воздух родины любовно
Ласкал нагретую щеку
Был каждый мускул начеку,
И сердце отбивало ровно
Без перебоев, точно в срок,
Свой добросовестный урок.
И преклоняя слух прилежный
К земным таинственным речам
(Лишь теплый ветер по плечам
Водил своей ладонью нежной),
Я слушал имя, по слогам
Причалившее к берегам —
И слабый шелест, и журчанье,
И в небе трепет голубой, —
Со мной (и, может быть, с тобой)
Земля сходилась на прощанье,
Но весел был походный шаг
Латынью раненных бродяг.
Мой милый Кирик, брат названный,
Услышишь ли ты голос мой?
Иль где-то, на большой прямой,
Ты затерялся точкой странной,
И вспыхнул, и погас (увы)
К концу вступительной главы.
II
Не первым вздохом, не свиданьем,
Не наготой покорных плеч, —
Мы счастье мерим после встреч
От них оставшимся страданьем.
Мы счастьем, может быть, зовем
Лишь безнадежный плач о нем.
Но как бы ни было, – на деле
Есть счастьем меченные дни,
Как золотой песок они
В сердечной трещине осели, —
Там – ловко отраженный мяч,
Там – еж иль цирковой силач.
Иль дальний крик на переправе, —
Бранится лодочник со сна,
Над Белой Церковью луна
Встает в серебряной оправе,
И ночь срывает на дыбы
Александрийские дубы.
Мы слишком вверились Декарту
И в рассужденьях и в любви, —
Ты как-нибудь принорови
Географическую карту
К законам логики простой,
К лужайке, солнцем залитой.
Знакомые меридианы,
Знакомый параллельный круг,
Шрифт неразборчивый, и вдруг, —
Не голос северной Дианы,
Но мамы ласковый кивок
За верно понятый урок.
III
Все дыры, скважины и щели
Безоблачный пророчат день,
Из черной стала синей тень
У отдыхающей качели,
И в светлых лужицах апрель
Легко разводит акварель.
Он нежно кисточкой проводит
По голубому полотну
Он любопытному окну
Пленительный пейзаж находит
И смахивает, не сердясь,
Все лишнее в цветную грязь.
Не забывая строгих правил,
Мой чисто вымытый двойник
В свой перепачканный дневник
Две кляксы новые поставил
И, промокнув их наконец,
Сосет запретный леденец.
А я, через года пустые
Склонившись за его плечом,
Играю выцветшим мячом,
Печально правлю запятые,
Но ничего мне не понять
В том, что писалось с буквой ять.
Так наши почерки несхожи
И так щека его кругла,
Что, отступая от стола,
Я восклицаю – Боже, Боже, —
Затем некстати целый день
Меня преследует мигрень.
IV
Мигрень иль совести уколы,
Височный нерв или душа?
Вопроса в корне не реша,
Две резко несогласных школы
Согласны, кажется, в одном:
Причина недуга – в больном.
Всему виной воображенье,
Ума своеобразный плен, —
Кто выгоде прямой взамен
Предпочитает пораженье, – —
Кто поздно вечером тайком
Ведет беседы с двойником – —
И я, зажатый подворотней,
Нигде ключей не находя,
Ловил горошины дождя
И думал, что всего охотней
Сосал бы трубку я теперь
В вагоне, по дороге в Тверь.
Тверь упомянута некстати
Для рифмы, кажется, одной,
Но так запахло вдруг весной,
Что, дотянувшись до кровати,
Я понял: Тверь, конечно, нет —
Пусть Кук мне выберет билет – —
И барышня, за длинной стойкой,
Бесплатно улыбаясь, вмиг
Меня снабдила кучей книг,
И гидом, и отдельной койкой, —
А рядом плотный господин
Басил мне что-то про ундин.
V
Он признается мне с охотой,
Что лыжный изучает спорт,
Год круглый не снимает шорт,
Не поступается ни йотой
Хронометрических побед,
Что в поезде – он мой сосед.
И поезд тронулся. Ракета,
Футбольный мяч и лимонад,
Развернутая наугад
Вполне свободная газета,
И в верхней сетке чемодан
С наклейками различных стран.
Спортивно-синими очками
Он тычет в застекленный пляж,
Его таинственный багаж
Удобно собран под руками,
И сердце под шестым ребром
В соседстве с золотым пером.
И пес, породисто зевая,
Стальным ошейником звеня,
Поглядывает на меня,
Хвостом небрежным помавая,
Но левый желтоватый глаз
Чуть подморожен про запас.
Проводником наполовину
В купе опущено окно,
Пейзаж, описанный давно,
Я осторожно отодвину,
Лишь нехотя упомяну
Пальто, прилипшее к окну.
VI
А между тем, художник смелый
На чистом воздухе не прочь
Изобразить луну и ночь,
И черный луч от башни белой,
Наметить углем складки гор,
Замазать дымом семафор.
А между тем и в самом деле
Ночь прокатилась по земле,
И где-то в нищенском селе
По-русски петухи запели,
И в кружке глиняной сирень
От лампы удлинила тень.
И в школе грамоты начальной
В кружке любительском селькор
Читает Машеньке в упор
Печорина конец печальный, —
Мила, стыдлива и нежна
Его колхозная княжна.
О, Русь! О, Рось, – твое теченье
Меня прибило к тем годам —
Былого счастья не предам,
Люблю, – и ясно мне значенье
Твоей приветливой струи
И вздохи тайные твои.
Все дальше, дальше в глубь ночную
Уходит поезд. Путник рад
Без визы въехать в старый сад,
Где мальчик книжку записную
Украсил (кто не без греха)
Попыткой робкого стиха.
VII
Поэзия! Живая роза
На острие карандаша,
Как бы притихшая душа
Играет листьями мороза
В ночном саду моих тревог, —
Тень осторожная у ног —
Поэзия! Почти зевая,
Мы правим Пушкина. Каков
Он в смысле магии стихов?
– Гремит музыка боевая —
Где эта, так сказать, струна,
Которая была б слышна?
И ямб классический к тому же
Теперь не в моде, – почему
Так полюбился он ему?
Свободный стих отнюдь не хуже, —
Ритмический рисунок, – вот
Где тайна магии живет!
Парижский критик мой, – недаром
Он обучал нас тридцать лет, —
О, сколько съедено котлет,
О, сколько выпито за баром!
Но как он весь еще горит,
Как по-французски говорит!
И все же, мне порой сдается
(Какое слово!), мне порой
Мерещится (опять!) живой
Материал (увы!), где бьется
Без гофрированных прикрас
Живое сердце в добрый час.
VIII
О, сердце, сердце, символ странный
Любви и горестных потерь, —
Приотвори немного дверь
На зовы юности туманной!
О, как сжимается оно
От чувств, осмеянных давно – —
Сентиментальных отступлений
Мне мил сомнительный закон —
Выносят кресла на балкон,
Апрельский день без преступлений,
Без героических страстей,
Быть может, даже без гостей.
На оцарапанной коленке
Живая корка наросла,
На свежей белизне стола
С загаром золотистым пенки,
И так тепло, и так светло,
Что хочется разбить стекло.
Девятый час, не очень поздно, —
Слышнее дачниц голоса,
Еще терзаться полчаса —
– Люблю, – сказал Евгений грозно —
И легким парусом возник
Его матросский воротник.
Так, рифма к рифме, понемногу, —
И первый черновик готов,
Виденье утренних мостов,
Приготовленье к монологу,
Не скрашенному новизной
В часы бессонницы ночной.
IX
Мы знаем Гингера и Блока,
На книжной полке у меня
Литературная родня
Без пятнышка и без порока, —
Шекспир, Набоков, Гуль, Платон,
В. Сирин, Слоним и Мильтон…
Здесь три спасительные точки
Отводят вовремя беду…
Вновь под вагоном на ходу
Постукивают молоточки,
И в мой полуреальный мир
Случайный входит пассажир.
Веревкой накрест перевязан
Его уродливый пакет,
Он ищет места, места нет, —
Никто, конечно, не обязан, —
И, щуря виноватый взор,
Он ускользает в коридор.
Одно мгновенье! Так знакома
Его седая голова – —
Заглохший сад, роса, трава
И призрак чеховского дома – —
Возможно ль? Дачная мечта,
Рассказ в печатных пол-листа – —
Увы, литературным вздором
Я безнадежно начинен, —
Но если вдруг посмотрит он
Таким же близоруким взором,
Но если – – И дрожит слегка
Стекло от встречного свистка.
X
О чем я, впрочем? На диване
Лирически храпит сосед,
На задней выпуклости плед
Пристал в обтяжку; там, в кармане,
Бумажник холмиком торчит,
И пес его ворчит, ворчит – —
Опять не то. Прогулка, что ли?
Затеял Кук – теперь изволь – —
Стреляет головная боль,
И стонешь, стонешь поневоле – —
За дверью, в шляпе набекрень
Тиролец с перышком – Мигрень
Все неотвязней, все жесточе – —
Я медленно тону в песках
С холодным трупом на руках
Под небом европейской ночи.
Мрак безголосый, тишина,
В альпийском озере луна.
Дремотно пробегают ели
В картонной прелести своей,
Стремительный воздушный змей
(Иль просто облако) без цели
Скользит в воздушной вышине, —
Мир, зачарованный вдвойне.
Мой милый мальчик дремлет тоже,
Он ровно дышит. Иногда
В окне с черемухой звезда
Плывут в обнимку – – Боже, Боже!
И мячик розовый в углу
Змеей свернулся на полу – —
Поражение
Вместо вступления
Задворками разбитых дач
Коней вторые сутки мучим, —
За мной вихрастый штаб-трубач
Качается в седле скрипучем.
Какая скучная война, —
На фронте ни врага, ни друга.
И душу гложет мысль одна —
Не слабо ль стянута подпруга.
А солнце южное печет,
Густая пыль забила поры,
В глаза горячий пот течет,
Жмут сапоги, обвисли шпоры – —
И вдруг – внезапный поворот,
За ним прудок, покрытый тиной,
Гусиный выводок, и вот —
Русалка с длинной хворостиной.
Цветная кофточка узка,
Но так пленительно прильнула,
А из-под легкого платка
Такая молния блеснула – —
Как подтянулся эскадрон!
Как избоченился спесиво,
Как солнцем вылощен красиво
Золотокованный погон.
И, пламенным сверкая оком,
Срывая ногу так и так,
Приплясывая, скачет боком
Мой горбоносый аргамак.
И враз, почти без уговора,
Небрежной удали краса,
Гремят разведческого хора
Подобранные голоса.
И тенор, заливаясь свистом,
Уже ликует вполпьяна
О том, что в поле, поле чистом
Нам рано гибель суждена.
1
У смертников удел особый —
Жизнь щедро одарила их, —
Ворчит тюремщик узколобый,
Но он лишь тень среди живых.
Здесь все минуты на учете —
Полней живи, полней дыши, —
На смену сгорбленной заботе —
Стремительный полет души.
И вот она с недоуменьем
Глядит с воздушной высоты,
Над временем и над забвеньем,
На все, чем был когда-то ты.
И узелок твой за плечами
Как птичий голос невесом,
И твой почти не бывший дом
Вдруг весь осветится лучами
Иль свежевымытым окном.
2
Тогда воскреснувший Пугач
Еще примеривал движенья,
Во тьме невидимый трубач
Трубил надменно пораженья.
Потомки рыцарей стальных
Овчину смирную топтали,
В боях дневных, в боях ночных
Считать героев перестали.
И мы, влюбляясь на ходу,
Привычно кровью истекали,
Мы благосклонную беду
Губами жадными искали.
Но стихотворная сирень
И романтические розы
Подчеркивали скудость прозы
Окрестных сел и деревень, —
В окопы заползала лень.
3
Война хотела передышки
И обновленья прежних чувств, —
Мы знали счастье понаслышке
И по свидетельству искусств.
Мы верили и в пенье птицы,
И в верность розовых невест,
В рифмованные небылицы
И в непреложность общих мест – —
Мне грустно, грустно – Столько жара
Ты, сердце, расточило зря,
А в горных сумерках Тамара
Встает как горная заря —
И над вершинами Кавказа,
Где туч сверкающих гряда – —
Язык военного приказа
Надоедал нам иногда.
4
Еще дремота в мире бродит,
Меняет стрелки на часах,
А в дом разведчик звонко входит
С туманным утром в волосах.
Он передаст пакет с приказом,
Парадно шпорами рванет,
И ахнут пулеметы разом,
И пушка яростно зевнет.
И в памяти мутнеет где-то
Движенье ветки за окном,
Клочок приснившегося лета
В воздушном шарике цветном —
Душа становится скупее,
Письмо становится судьбой, —
Элегия и эпопея
В решительный вступают бой.
5
Нет новой темы о войне,
Она не правда, но преданье,
В ней все согласно старине —
И вдохновенье, и страданье,
Но есть худые сапоги,
Лоб, запотевший в лихорадке,
За рощей выжженной враги
В каком-то грозном беспорядке.
Один герой неутомим,
Он скачет, рубит, напирает —
Конь в серых яблоках под ним
Ноздрями тонкими играет.
Он пышно выгнул хвост дугой,
Храпит, копытом землю роя, —
Но хлопнул выстрел, и другой,
Герой упал, и нет героя.
6
О, ротмистр! Вы ль тайком вздохнули,
Как бы задумались душой,
Забыли сабли, пики, пули
Для этой тишины большой.
Лесная узкая дорога
Из галицийского села
В страну немого диалога
Нас незаметно привела.
Вы отпустили длинный повод,
И ваша трубка не дымит,
Пчела прилежная иль овод
В зеленых сумерках шумит.
Как мягко лошади ступают
По медом пахнущей траве, —
В неомраченной синеве
Без ветра листья закипают —
Два всадника, и тени две.
7
Закат, закат – Прости нам Бог
За то, что мы порою пьяны,
За элегических дорог
Непоправимые изъяны.
За петербургский кавардак,
За верность шарику цветному,
За блиндированный чердак,
За счет столичному портному.
Так много накопилось их,
Счетов и подлинных и ложных,
Из первых рук, из рук вторых,
Совсем простых и очень сложных – —
Без риторических затей
Нева Аврору колыхнула,
Натужно вздулась и пальнула
В толпу непрошеных гостей,
В Петровых и своих детей.
8
Ты помнишь странную тревогу,
Предчувствие глухих шагов?
Нева буравила дорогу
Среди гранитных берегов.
Она бурлила и кипела,
Трепала ветром вымпела,
Обломком льдины заскрипела
И в дымных кольцах отошла.
Летали брызги над мостами,
И тротуары без гуляк
Обледенелыми пластами
В свистящий пролегали мрак.
Торжественное разрушенье,
Величественный вид пустынь,
Громоподобное крушенье
Не сокрушаемых твердынь.
9
Нахмурив брови, Всадник Медный
На вздыбленном своем коне
Внимал, как рвется мат победный
К дворцовой рухнувшей стене.
Его лицо не потемнело,
Лишь под копытами коня
Змея свивалась и шипела, —
Рука державная, звеня,
Над мертвым городом широко
Зловещий очертила круг,
И смехом пламенное око
Как солнце вспыхивало вдруг.
На зов его уже бежали
Мальчишки с ближнего двора,
И с криком радостным – ура! —
Салазки быстрые съезжали
С подножий ледяных Петра.
10
Шумит гражданская гроза,
Гигант стоит неколебимо,
И только узкие глаза
Следят за ним неутомимо.
На загнанном броневике
Ладонь широкая разжата, —
Есть сходство грозное в руке
С той, устремившейся куда-то.
Штыки и снег со всех сторон,
Пайки – и выстрелы вприправу, —
Гранитный город обречен
На устрашающую славу.
Гнездо истории горит,
Птенцы раздавлены ногами,
Скрипят века под сапогами – —
Внимание! Он говорит – —
11
И загудел весь шар земной,
Как мяч футбольный перед голом,
Врываясь с треском в мир иной,
Он лопнул с грохотом тяжелым.
Заглохла наскоро война
Провинциально и ненужно, —
И та и эта сторона
Ее выплясывали дружно.
Но от людей, но от вещей
Сон отлетал, и ангел серый,
Уже бездомный и ничей,
Блуждал готической химерой.
Бессонница ко мне вошла,
Присела скромно к изголовью
И разговор про бедность вдовью
Со мной по дружбе завела – —
12
Россия призраков разбита,
Мы отступали в никуда,
И только конские копыта
Ритм замедляли иногда.
Не каждой буре сердце радо,
Но с каждой бьется заодно,
Оно стучало – надо, надо,
Здесь все равны и все равно.
Дыши отныне как попало,
Учись без пламени гореть,
И если жизни было мало, —
И в жизни – мало умереть.
И вот – последняя граница,
Скалистый берег и поток;
Мы по команде – на восток! —
Угрюмо повернули лица.
13
Над перелеском вдалеке
Еще рвалась шрапнель дымками;
Трубач понурый в башлыке
Окоченевшими руками
Вознес помятую трубу
И, запрокинувшись немного,
В ночное небо иль в судьбу
Трубил пронзительно и строго.
Едва окрашенной чертой
День занимался над полями,
Земля шумела пустотой,
Метелями и ковылями.
Я беспокойным голосам
Внимал как бы прозревшим слухом, —
Всем птицам, ангелам и духам, —
И я отрекся трижды сам.
14
Куда бежать от осуждений,
От жалоб и тифозной вши?
Страна высоких заблуждений
Еще открыта для души.
Мы за большое пораженье
И против маленьких побед,
Мы принимаем униженье,
В котором униженья нет.
Побитые камнями чуда,
Найдя в паденье уголок,
Глядим без зависти оттуда
На тех, кто с нами пасть не мог.
Междоусобицы гражданской
Полусозревшее зерно,
Я по ветру лечу давно, —
Но мне в долине Дагестанской
Лежать, быть может, суждено – —
15
Европа бредила во сне,
Ворочалась, звала, томилась, —
Средневековой старине
Мечта тяжелая приснилась.
Безвестный всадник проскакал,
И все мосты под ним дрожали,
Конь злобно щерил свой оскал,
За ним другие кони ржали.
Все убыстряя громкий скок,
Все больше напрягая жилы.
Он задыхался, изнемог,
И снова набирался силы.
Где средиземная волна
Блеснула пеной шаловливой,
Ездок рукой нетерпеливой
Над бездной вздыбил скакуна.
16
Был горный берег солнцем тронут,
Под солнцем – голубая мгла,
И там, где горы в рощах тонут, —
В воздушной пропасти скала.
И, выправляя стан железный,
Презрительно он посмотрел
На стены башни бесполезной
В щетине золоченых стрел.
– Наследство рабства золотого,
– Веков окаменевший сон, —
– Пускай ударит молот снова
– По наковальне их времен.
– Их песням скучным и тягучим
– За нашим ходом не поспеть,
– Мы спать бездельников отучим,
– Жизнь станет пламенем летучим,
– И это пламя будет петь.
17
Европа бредила, – но мы
Уже по-новому дышали
Привычным воздухом чумы, —
Мы слушали и не мешали.
Согревшись в беженской пивной,
Мы вспоминали цвет сирени,
Расстрел под северной луной,
Садов взволнованные тени – —
Но и в скитальческой тоске
Поэты наши и пророки
Дорожной палкой на песке
Упрямо выводили строки.
Недолговечные слова,
Косноязычное томленье, —
Маститым критиком едва
Отмеченное выступленье.
18
Изгнание. Мир без прикрас,
Не искаженный именами,
Здесь каждый локоть тычет в нас
И окрик следует за нами.
Но иногда, из-за угла,
Мы отмечали влажным взглядом: —
Вот тень Овидия прошла,
Вот Данте приютился рядом.
Давным-давно открытый путь,
Дорога трудная свободы, —
Равенны праздничная муть,
Дуная пасмурные воды.
На перекрестке двух эпох
Шаги, плывущие куда-то, —
В бессмертье изгнанного брата
Рукопожатье или вздох.
19
Мы умирали не старея
На европейских мостовых,
В лазурной гавани Пирея,
В парижских улочках кривых.
И лежа на спине глядели,
Не отводя хрустальных глаз,
Как звезды синие редели,
Как догорал зеленый газ.
Мы дружбу с небом заводили,
Чтоб быть подальше от земли.
Мы уходили, уходили
И, кажется, уже пришли.
Коперника и Птоломея
С печальным вздохом отмели, —
Мы отплываем от земли
К большим туманам Эмпирея,
К садам в космической пыли.
20
Прощайте, ротмистр. Вы, бывало,
Внезапно изменясь в лице,
Любили мчаться где попало
На сумасшедшем жеребце.
Вы не вернетесь. У киоска,
Жуя табачные усы,
В плаще, заношенном до лоска,
Вы молча сверили часы.
А время, сроки нарушая,
Бежит как горная река,
И кажется – рука большая
С водой смешала облака.
И кажется – в стремнине громкой,
Ломая в щепы тарантас,
Шальная лошадь иль Пегас,
Полуудавленный постромкой,
Глядит насмешливо на нас.
Ночная прогулка
1
Я чту Парижского собора
Тысячелетний мрак и гул, —
Монах медлительный на хоры
Прошел неслышно и уснул.
Мерцают розы, опадая,
Во мгле часовни боковой,
И чья-то голова седая,
Качаясь, кажется живой.
Здесь эхо звучно от безлюдья,
От слов старинных воздух чист, —
Вот медленно вздохнул всей грудью
Потрясший своды органист.
Пора домой. Моя дорога
Вдоль набережной мимо книг,
У выхода умно и строго
Посмотрит на меня старик.
2
Над Сеной по лазури влажной
Легко проходят облака,
Дымится плесенью бумажной
Весна у книжного ларька.
В потертом кресле, загорая,
Беспечно дремлет букинист,
Над ним, шурша и замирая,
Блестит новорожденный лист.
Бормочут и смолкают снова
В разбитой лодке голоса,
В руке упрямой рыболова
Не дрогнет тонкая леса.
Кругом явленья без названья,
Но я гляжу и прохожу,
Дремотного существованья
Напрасным словом не бужу.
3
Пришлец случайный и докучный,
Я слушаю издалека,
Как в мир прохладный и беззвучный
Втекает громкая река.
Вот башни старого собора
Густую оттолкнули тень,
Вот туча наползла, и скоро
Померкнет лучезарный день.
Бездомных книг никто не купит,
С пустым ведром уйдет рыбак, —
Вздохнет влюбленный, ночь наступит,
Ветвистый заиграет мрак.
И я под фонарем отмечу
В тетради, что ношу с собой,
Несостоявшуюся встречу
С необнаруженной судьбой.
4
Большое слово молчаливо,
Для прежних чувств названий нет, —
Сквозь призму плача или пива
Проходят отраженья лет.
Свечой оплывшей день вчерашний
Блуждает в окнах чердака,
Прожектор Эйфелевой башни
Обыскивает облака.
Неспешный луч обходит строго
Конкорд и Люксембургский сад, —
В ответ железная дорога
Дает блистательный парад.
И Северный вокзал, глотая
Широкой пастью поезда,
Дрожит, как рыба золотая
В туманных зарослях пруда.
5
Когда толпа кипеть устанет,
Угомонится вилок стук, —
Безвестный поезд в полночь канет,
В скрипичный превратится звук.
Уже несутся чемоданы
В большой водоворот дверей,
Носильщики, как капитаны,
Привычно снялись с якорей.
Взмахни платком – и осторожно
Набавит скорости вагон, —
Теперь часами слушать можно
Колес ритмический разгон – —
Огни на стрелках оживленно,
Сбегаясь, убегают прочь,
И смотрят девушки влюбленно
На поезд, уходящий в ночь.
6
Как сердце радо и не радо
Из эха кованным мостам,
Цветам прощального обряда,
Разлукой тронутым местам – —
Ты входишь в утро голубое,
Дрожа от свежести садов,
И скрип калитки за тобою
Звучит на тысячи ладов.
Плотины гулы водяные,
Петух заречной стороны
И шорохи, еще ночные, —
Лишь бормотанье тишины.
По синему чересполосью
Попробуй взять наискосок,
Где между Унавой и Росью
Кудрявый стелется лесок – —
7
О, Рось, – любимая примета
На теле родины моей,
Еще играют дети где-то
Средь пышной зелени твоей.
Из мальчиков, бегущих рано
По зову школьного звонка,
Кто маленького сверх-буяна
Готов признать издалека?
Незримой и неслышной тенью
Он сел на классную скамью, —
Лишь по сердечному биенью
Себя я в тени узнаю.
Но, молчаливо негодуя,
Поглядывает детвора
На голову полуседую,
Еще вихрастую вчера.
8
Урок истории туманной —
От этих и до этих пор, —
Махнув рукой, учитель странный
В пчелиный вышел коридор.
В луче широком пыль клубится,
Горит чернильное пятно, —
Двойное солнце Аустерлица
Трубя врывается в окно.
И, потрясая все основы,
Уже на лестнице, сплеча,
Гимнасты отразить готовы
Полет враждебного мяча.
Так, от удара до удара
Разнообразя стиль игры,
Они волчок земного шара
Вгоняют в новые миры.
9
Им взрослой помощи не надо,
Их философия проста, —
Романтик всюду ищет яда,
Быть может, для чужого рта.
Они без умолку горланят,
Урезав наспех полчаса,
И крепко слух ученый ранят
Нестройные их голоса.
Но пенью варварскому рада,
Еще по-юному резва,
Богиня песенного лада
Подсказывает им слова.
И большелобые поэты
Запоминают про запас
Ее татарские приметы,
Смягченные сияньем глаз.
10
Проходит мальчик шаловливый
По беспокойному двору,
С улыбкой хитрой и счастливой
Он предлагает мне игру.
Он теребит мой ранец тесный,
Нетерпеливо шарит в нем
И вынимает мир чудесный,
Омытый светом и дождем.
Рисунок памяти прилежной,
Эскиз цветным карандашом, —
В зеленой мгле левобережной
Штрихами обновленный дом – —
А мимо дома трактор шагом
Пыхтит, топорщится жуком,
И кто-то машет пестрым флагом
Иль красным девичьим платком – —
11
Старинной дружбой, дружбой верной
Моя душа озарена,
Той первобытной иль пещерной,
Иль проникающей до дна.
И, наблюдая глаз лукавый,
Я оживляю без труда
Ушиба знак на брови правой,
Приставший в драке навсегда.
И, завихрясь воронкой черной,
Летит мой европейский сон
Вдоль бывшей площади Соборной,
Открытой с четырех сторон.
Одна воздушная граница
Вдали наметила черту,
Чтоб сердцу можно было биться
И в глубину и в высоту.
12
Над Белой Церковью блистает
Почти незаходящий день,
Едва заметно вырастает
Садов отчетливая тень.
Но все деревья стали шире,
На старой Гетманской весна, —
Как небо изменилось в мире, —
Все – высота и глубина.
Лишь знойный трепет над полями,
Лишь облачная простыня, —
Теперь бы тронуть шенкелями
Разгоряченного коня.
Играя голосом и плетью,
Под трель малиновую шпор
Навстречу новому столетью
Помчаться вдруг во весь опор!
13
Как далеко меня умчала
Полузаконная мечта, —
В непоправимые начала,
В несохраненные места.
Неукротимый конь свободы
В железных ходит удилах,
И только годы, годы, годы
На всех путях, на всех углах.
Давно пробило полночь где-то,
И я узнать почти не рад
Парижа давние приметы —
Конкорд и Люксембургский сад.
И избегая встречи вздорной,
Я поднимаю воротник,
Но рядом лирик беспризорный
Нелепым зонтиком возник.
14
Мы возвращаемся окружно,
Нас не окликнут, не прервут, —
И силуэты наши дружно
В бессонном воздухе плывут.
Мы приноравливаем ногу,
Старательно равняем шаг
И вносим странную тревогу
В благополучный мир зевак.
Как будто длинное молчанье
Летит вдоль уличных огней,
Как будто времени журчанье
От слов несказанных слышней.
И, отраженная домами
Иль темным зеркалом реки,
Рокочет музыка за нами
Размером будущей строки – —
Возвращение
Вокруг пустынного собора
Царит эпическая лень, —
Нависла грудью вдоль забора
Провинциальная сирень.
Воскресный день течет без шума,
Давно молчат колокола,
Лишь повара творят угрюмо
Свои кровавые дела.
Весь город полон ожиданья,
Ждет каждой улицей пустой
Невоплотимого свиданья,
Чумы иль музыки простой.
И оправляя ворот тесный,
Еврейский мальчик в сюртуке
Стыдливо тенью бестелесной
Проходит с Пушкиным в руке.
За шагом шаг, за милей миля,
С далеких вавилонских рек,
Сквозь лес готического стиля
Он прошагал в двадцатый век.
Текли ручьи и усыхали,
Шумел египетский тростник, —
Все воды мира колыхали
В них слабо отраженный лик.
И мыля жилистую шею
Над ржавым тазиком своим,
Он вспоминал и Галилею,
И Рима первородный дым, —
И Рось, проснувшуюся рано
Под взмахом сонного весла,
Где в клубах розовых тумана
Моя Ксендзовская скала – —
Порой на площади Соборной
Уланы правили парад, —
Летели тучи пыли черной
На гимназический наш сад.
И если лошадь строевая
Вдруг собиралась для прыжка,
Он, радуясь иль узнавая,
Следил за ней издалека.
И ослепленный славой ложной
Иль древней славой оглушен,
В подвал под вывеской сапожной
Как Цезарь возвращался он.
И для него во тьме убогой,
Науки светской первый том,
Латынь богов в обложке строгой
Живым гремела языком.
Так в узел заплетались годы,
И сквозь туберкулезный жар
Он различал уже свободы
Пленительно туманный дар.
И вот – запретной книгой чудной
Глаза мозолит на столе
Самоучитель жизни трудной —
Париж, сияющий во мгле.
Библейские воспоминанья
Шумят, как грозные дубы, —
Путь добровольного изгнанья
Проходит за чертой судьбы – —
Нравоучительно и строго
Стучит сапожный молоток, —
Нужда читает слишком много,
Вычитывает между строк.
Что знали мы и что узнаем
О тени, вышедшей на свет?
Лишь роковое имя – Хаим,
Бегущее за ней вослед.
В своем убежище подвальном,
Мешая истины и сны,
Он жил философом опальным,
Забредшим к нам со стороны.
Средь беспорядочного хлама,
Спинозы верный ученик,
Он и в жару топорщил прямо
Свой рыжеватый воротник.
Как будто ночь уже бежала
По холодеющим листам,
Как будто буря угрожала
Его неистовым мечтам.
Проходит ветер по дорогам
И возвращается опять, —
Назло суровым педагогам
Я время обращаю вспять.
И с фотографии старинной
Сойдет забытая родня,
И кто-то коркой мандаринной,
Смеясь, нацелится в меня – —
Он пробежит по коридору,
Расталкивая детвору,
Влача серебряную шпору
По многоцветному ковру.
В пролеты лестницы парадной
Как гром ступенчатый падет
И молодо и беспощадно
В альбоме пыльном пропадет – —
Мы резво бегали когда-то,
Теперь мы ходим кое-как, —
Коробит грубая заплата
Наш подозрительный башмак.
В пылу хозяйственной заботы
Мы сами клеим каблуки,
И, в общем, нет у нас охоты
Считать сапожные стежки.
Но бойко в утра молодые
Мы забегаем в тот подвал,
Где классик в сапоги худые,
Как гвозди, годы забивал – —
О, полно, полно, – ты ли это,
На все глядевший свысока,
Жестоким званием поэта
Уже уколотый слегка?
Что в памяти моей осталось
От мелких и случайных встреч?
Лишь день-другой, – и эту малость
От перемен не уберечь.
Глядишь – и Кишинев погромный
Сверкнет в читальне городской
Овидия слезой огромной,
Влюбленной пушкинской строкой – —
Еврейский мальчик в шляпе рыжей,
Философ в узком сюртуке,
Мечтая робко о Париже,
Прошел сквозь память налегке.
Он растворился без остатка
В голодных и счастливых снах,
В высоком мире беспорядка,
В подземных встречных временах.
Давно ли мы в тетрадях школьных
Осмысливали кое-как
Несовершенство рифм глагольных,
И Цезаря, и твердый знак.
Но с первой сединой, впервые,
Жить начиная со складов,
Мы потекли на мостовые
Всех европейских городов.
И выпал нам Париж на долю
Виденьем нищенской сумы.
Меняя рабство на неволю,
С ним жребий разделили мы.
Париж без уличного смеха,
Без карусели огневой, —
Расстрелов яростное эхо
На присмиревшей мостовой.
Париж залег в мансарде грязной,
Храпит на койке раздвижной,
Беспечный свист и смех развязный
За подозрительной стеной.
Молчат предместья боевые,
В фабричном прячутся дыму —
Мигают фонари кривые
Сквозь историческую тьму.
Но Сены легкое дыханье
И нежный шелест облаков
Еще хранят очарованье
В архиве тлеющих веков.
И узнавая, вспоминая,
Определяя меру зла,
Старик с кошелкой, чуть хромая,
Как мышь скользит из-за угла.
Лукавых истин позолота
С рассудком трезвым не в ладу, —
Всю ночь прилежная охота
Идет на желтую звезду.
Одни сердечные биенья
Чуть различимы в тишине, —
В железных касках сновиденья
Разгуливают по стране.
Дневная птица присмирела,
И рыба отошла на дно,
Одна Рахиль сидит без дела,
Часы стучат – ей все равно.
Перина как душа разрыта,
Все вывернуто до костей, —
Солдат на кухне деловито
Считает вслух ее детей.
Голубоглазый, красногубый,
Широкоплечий и прямой,
Он сел для важности сугубой
На стул заведомо хромой.
Он вынул книжку записную
И добросовестно строчит, —
Ночь подошла к нему вплотную,
В затылок дышит и молчит.
Он длинный список увеличит
Еще на несколько имен, —
Вот сверил счет и пальцем тычет, —
Ревекка, Сарра, Аарон – —
Продажной совести уколы,
Молчанье совести живой, —
По существу – все люди голы
На самой людной мостовой.
Фотограф бурь неосторожный,
Я жизнь снимал со всех сторон, —
Чужим лицом и кличкой ложной
На пленке проявился он.
Но, изучая снимок свежий,
Я постепенно узнавал
Мой дальний городок медвежий,
Парад воскресный и подвал.
Так входит юность на прощанье
В заглохший и пустынный дом,
Где пышно разрослось молчанье
Тяжелолиственным плющом.
И распахнув навстречу двери,
С сердечным содроганьем ты
Глядишь и веря, и не веря
На друга милые черты.
Он приходил ко мне украдкой
В беспуговичном сюртуке,
Мы пили чай не очень сладкий,
Настоянный на порошке.
От исторического шума
Уже оглохший на сто лет,
Я спрашивать привык угрюмо
И пылкий получал ответ.
Косноязычный от волненья,
Локтями намечая крест,
Он робкой пластике сомненья
Предпочитал ударный жест.
Но иногда, устав от спора,
Он руки подымал без слов, —
Так подымают свиток торы
Над бурным выплеском голов.
Мы подружились понемногу,
Неторопливо, навсегда,
И, приближаясь к эпилогу,
Листали наново года.
В час сумерек и расставаний
Мы собирали на ходу
Цветы больших воспоминаний
В воображаемом саду.
Два имени и два народа,
Как руки, тесно сплетены
В печальном возгласе – Свобода —
И в утверждении – Равны. —
Среди развалин древней славы,
Среди кладбищенских красот
Мы продолжали верить в право
Всех человеческих высот.
Мечтатели, враги порядка,
Взрыватели морских пучин, —
Их убивает лихорадка
Души, горящей без причин.
Приходят боги и уходят,
Но остается трудный путь.
На нем как овцы годы бродят,
Чтоб стать эпохой где-нибудь.
Закон железный нарушая,
Безумец двинулся в поход,
Но в сумерках рука большая
Безумный закрывает рот.
Конец без музыки парадной,
Без утешительных венков, —
Лишь крови сгусток беспощадный
В соседстве шейных позвонков.
Он умирал в тюрьме особой,
Изъеденной со всех сторон
Такой неукротимой злобой,
Что выжить и не мог бы он.
Наследник славы европейской,
Венгерской и иных корон,
И я сошел в вертеп еврейский
За право умирать как он.
За право пожимать отныне
Любую руку без стыда
И каждой матери о сыне
Моем напомнить иногда.
Там было все невероятно,
Все было непонятно мне, —
Души сомнительные пятна
И свет, играющий в пятне.
В мой смертный час и я отмечу
Бег облака и дождь косой, —
Вся родина слетит навстречу
Рекой, туманом и росой,
Поющей птицей, ветром, громом,
Неувядаемой весной,
Разлукой каждой, каждым домом,
Осколком пули разрывной – —
С разлету, захлебнувшись светом,
Как ласточка взмахнет крылом, —
– Вот в этом мире, в доме этом
– Неотчуждаемый твой дом – —
И вдруг на площади Соборной,
Где мальчик Пушкина читал,
Мамврийский дуб вершиной горной
Как раненый затрепетал.
Мы мертвых погребаем ныне
Меж прочих неотложных дел,
Но старый Грош из польской Гдыни
Незрячим голосом запел:
– Я освятил тебя во чреве
– И до рождения призвал,
– Ты город мой, ты меч во гневе,
– Железный столб и медный вал.
– Я ждал тебя, но лоб блудницы
– На всех дорогах осквернен,
– И вот – я двинул колесницы
– Наследственных твоих племен.
– Определил, и не нарушу,
– И в ярости не отступлю, —
– Я как занозу выну душу
– Затем, что все еще люблю.
Как наша память благодарна
За то, что можно все забыть,
Что вновь за городом попарно
Мы научаемся любить.
Жизнь начинается с сирени,
С парада воинских частей,
С лирических стихотворений
И неустойчивых страстей.
Движенье в мире перегретом,
Бегут колеса в темноту, —
Мир запасается билетом,
Переселяется в мечту.
И старый беженец с узлами,
Гордясь библейской бородой,
Проходит важно меж столами,
Сопровождаемый бедой.
Знакомый путь, – пески и скалы,
И моря Красного волна,
Но чья-то воля высекала
На жарком камне письмена.
И дикий всадник на верблюде
В лохмотьях царственных своих
Гортанным голосом о чуде
Слагал в пустыне первый стих.
Над горной цепью раскаленной
Едва дрожала синева,
И голос женщины влюбленной,
Как эхо, разносил слова.
И дети плакать не хотели,
В отцовском прыгая седле, —
Лишь пальмы нежно шелестели
И таяли в лазурной мгле.
III. Драматические поэмы
Беатриче
Посвящение Н. А. К.-П.
Уж близок день. На письменном столе
Бледнеет круг под мутным абажуром,
Горбатый конь, в окурках и золе,
Беззвучно скачет бронзовым аллюром.
Остановись! Враждебное окно
Задернуто старательно и глухо,
Лишь беглый стих, проверенный давно,
Касается внимательного слуха.
Ты не со мной, – но тонкая рука
Еще ласкает бережно страницы,
Еще взлетают длинные ресницы
Над пестрым хаосом черновика.
Мятеж страстей, любви ревнивый жар,
И мудрости бесплодные уроки,
И опыта невыносимый дар
Я заключил в размеренные строки.
Они твои. В такой же поздний час,
Быть может, ты перечитаешь снова
О нежности, о гибели рассказ,
Дневное эхо голоса ночного.
Лица
БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ
ФРАНЧЕСКО ЧЕНЧИ – ее отец
ЛУКРЕЦИЯ ЧЕНЧИ – ее мачеха
МАРЦИО, ОЛИМПИО – наемные убийцы
МОНСИНЬОР ГУЭРРА
КАРДИНАЛ
ХУДОЖНИК ГВИДО
РИМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
СУДЬЯ
НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОЙ СТРАЖИ
ПАЛАЧ
ПЬЕТРО – помощник палача
СЛУГА В ДОМЕ ЧЕНЧИ
СОЛДАТЫ ГОРОДСКОЙ СТРАЖИ
Место действия – Рим. Время – 1598 год
Сцена 1 (Часовня св. Фомы. Гвидо складывает кисти)
Гвидо
Итак, отъезд решен бесповоротно?
Беатриче
Нет, не отъезд, – побег. Как жалкий узник,
Что пробует железные решетки
Своей тюрьмы, так я нетерпеливо
Ощупываю крепкие замки
Родного дома. Все в нем ненавистно.
Меня гнетут предчувствия. Меж тем
Мой бедный брат скрываться принужден
В трущобах генуэзских. День и ночь
Его следы обнюхивает свора
Шпионов подлых. Рано или поздно
Они его настигнут. Блудный сын
Не избежит отеческих объятий.
Его приволокут живым иль мертвым,
Верней всего – что мертвым.Гвидо Он вернулся.
Беатриче Возможно ли? Он в Риме?
Гвидо
Видно, кто-то
Помог ему по дружбе иль по злобе.Беатриче
Что делать с ним? Он в дерзости своей
Готов переступить любую меру.Гвидо
В иных делах не худо запастись
Простым терпеньем.Беатриче Добродетель слабых – —
Гвидо Благодарю.
Беатриче
Придира невозможный!
И вы могли подумать – – Как не стыдно!Гвидо
Я думаю, что вы огорчены,
Расстроены сегодня.Беатриче
Это правда,
Не будем ссориться. Но что же брат?Гвидо
Он строит планы. Монсиньор Гуэрра
Дает ему полезные советы
И, кажется, немного денег. Впрочем,
Он скоро сам пожалует сюда
И обо всем доложит вам подробно.Беатриче А, монсиньор! Он верен мне.
Гвидо
Увы,
Я только предан.Беатриче
Новая обмолвка?
Несчастный день! И я не ожидаю,
Что станет он удачнее. Я верю
В недобрый глаз и в темные приметы,
Они спешат судьбу опередить.Гвидо Вам встретился мертвец?
Беатриче
На то похоже,
И виноваты вы.Гвидо
Великий Боже!
Я умер иль убит?Беатриче
По счастью, нет
Но этот образ, чудо вашей кисти,
Способен потрясти воображенье.
Какое непонятное смешенье, —
Сомнение, неверие и святость – —
И чуда ждет, и вводит в искушенье.Гвидо Святой Фома не ищет легкой веры.
Беатриче
Святой Фома, с двусмысленной улыбкой,
До ужаса похожий на синьора
Франческо Ченчи – —Гвидо
Я писал с натуры.
Вас, например, я видел бы иначе:
День чист и непорочен. Светлый воздух,
И ряд холмов округлых в глубине.
На горизонте пять иль шесть деревьев
В цвету весеннем, розовом и белом,
Как свечи в алтаре. И, чуть прищурясь,
Мадонна юная глядит на перстень,
Сияющий на пальце обручальном – —
Апостол же смотрел на кровь и раны.Беатриче
Невесел он. В такой улыбке скрыт
Особый смысл. Мерцанье темной тайны
Под колпаком стеклянным. Будто дверь,
Заделанная наглухо в стене,
Беззвучно, медленно приотворилась
И обнажила в черной пустоте
Собрание уродливых существ – —
Какие-то лжелюди иль лжетрупы – —
Они глядят и шепчутся. Я знаю
Их мертвые слова и бормотанье – —Гвидо Вы грезите?
Беатриче
Не знаю, мастер Гвидо.
Но у вещей и у людей сокрыты
Под оболочкой видимой другие,
Текучие и зыбкие черты.
Они напоминают отраженья
В воде прозрачной. Все в них гармонично
До первого прикосновенья. Пальцы,
Которые хотели бы ласкать
Лицо такое, лишь нарушат гладь
Поверхности зеркальной, и мгновенно
Все дрогнуло, смешалось, исказилось
И обернулось дьявольской гримасой.Гвидо
Я слушаю и молча ужасаюсь – —
Я не хочу выпытывать признанья,
Но стоит вам сказать одно лишь слово,
Лишь приказать – —Гуэрра (входит)
Конечно, я некстати.
Оборванный внезапно разговор,
Уклончиво-недоуменный взор, —
Вы смущены, и кавалер косится
И, видимо, краснеет или злится.Гвидо
Он просто-напросто спешит домой.
Он, впрочем, удивлен. Прошу прощенья.
(Откланивается и уходит.)Гуэрра
Мне хочется поставить точку. Он
Учтив отменно, стало быть, влюблен
Иль проигрался.Беатриче
С некоторых пор
Вы мнительны, мой добрый монсиньор.Гуэрра
Я мнителен? Тем лучше или хуже, —
Но он взбесился не на шутку. Право,
Я обожаю легкие забавы,
Похожие на истину, к тому же.Беатриче Похожие на дерзости.
Гуэрра
Вниманье!
Лук напряжен!Беатриче Я ухожу.
Гуэрра
И значит —
Я без вины останусь виноват?
А я и сам словам моим не рад, —
В конце концов – я пошутил невинно.
И знаете ль? Нередко я ловлю
Себя на грешной и преступной мысли,
Что раздраженье вам к лицу. Глаза
Становятся как темные озера,
Зажженные огнем зеленых молний – —Беатриче Прощайте.
Гуэрра
А, молчу. Теперь ни звука,
Хотя молчанье – целая наука
Все высказать, не раскрывая рта.
В любом письме – мелодия не та.Беатриче Письмо при вас?
Гуэрра
Еще бы! Впрочем – нет – —
Да где ж оно? Я, помнится, запрятал
Его в карман. Или оставил дома?
Не может быть. Досадно. Иль – – Но, к счастью,
Я помню наизусть. Через неделю
Все будет кончено. Мальтийский бриг
Вас в Геную доставит. И синьору
Лукрецию. Знакомый капитан —
Отъявленный разбойник. Он надежен.Беатриче
Конечно, так. Но вспомните, прошу вас,
Быть может, вы записку потеряли?
А вдруг случайность, совпаденье – —Гуэрра
Случай
Не исключен, но, если разобраться,
Кому придет охота зря стараться?Беатриче Рим славится опасным любопытством.
Гуэрра Рим разучился грамоте.
Беатриче
За плату
Найдется чтец. Но мне пора. Прощайте.Гуэрра Еще мгновенье!
Беатриче
Поздно. Мой уход
Способен дома вызвать подозренье.
(Уходит.)Гуэрра
И вот она, награда. Маловато – —
Все для других, для мачехи, для брата
И, наконец, для Гвидо. Это слишком.
Мне только дружба, пресная струя
Из теплого ручья благоволенья.
Да, Гвидо, мальчик с личиком смазливым,
Вы пишете широкими мазками,
Но я силен в подробностях – – Записку
Я передам Олимпио. Она
В цепи судеб сыграет роль звена.
Сцена 2
(Комната во дворце)
Франческо (откладывает чертежи часовни)
Земля уже как яблоко созрела.
Когда-нибудь отяжелевший ветер
В последний раз протащит по земле
Бесформенные груды облаков,
Их обесплодит, высушит и сдует,
Как легкий сор, хрустящий под ногами,
В какой-то затхлый уголок вселенной.
Тогда из тесной глубины колодца,
Где истина веками обитала,
С голодным свистом выползет змея, —
Какое дело ей до мертвых истин?
Она посмотрит мутными глазами
Вокруг себя, на черный горизонт,
На скалы плоские в пустыне голой,
Похожие на жертвенные камни,
И обольется потом ядовитым, —
И, пожирая собственное жало,
Зароется в песок и околеет.
Кто вспомнит там последний день Помпеи?
Ты прав, мудрец, вложивший пальцы в раны,
Неверный отвергающий Фома,
Я долго был в долгу перед тобою;
Теперь – мы квиты. Зодчий укрепил
Последний камень, плотник острогал
Последнюю доску, и живописец
Остаток краски продал маляру.
Твой храм готов. Лишь дернут звонари
Веревку новую на колокольне,
И я приду смиренно поклониться
Твоим мощам. Еврей из Палестины,
Торгующий по праву земляка
Останками святых, заверил клятвой
И подписью их подлинность. Итак —
Лишь ты один не подлежишь сомненью.
Твой храм готов. И эхо в подземелье
Уже нетерпеливо окликает
Рассеянных прохожих и тебя,
Обласканная солнцем Беатриче.
Когда-нибудь подвыпившие слуги,
Бранясь тихонько, нас соединят
Под сводами, построенными мною,
И поспешат в ближайший кабачок
Помин души усопшей отзлословить.
И вот, на шатком мостике кредита,
Качаясь меж наличностью и жаждой,
Какой-нибудь находчивый лакей
Найдет внезапно точку равновесья.
В делах сердечных опытный и ловкий,
Он сообщит хозяйке по секрету,
Что в эту ночь и в этот самый час,
Неистовым желаньем распаленный,
Уже стучится к мертвой Беатриче
Ее отец, жестокий и развратный.
Что он при жизни продал душу черту
И получил за это позволенье
Вставать из гроба в полночь и бесчестить
Родную дочь – – О, если бы я мог
Все языки клещами вырвать!
(Стук в дверь.)Кто там? Входите же!
(Входит Гвидо.)
А, Гвидо!
Гвидо
Я с докладом,
Не вовремя, быть может?Франческо
Если б знали,
Как вовремя вы подоспели!Гвидо
Значит,
Скучали вы.Франческо
Вы угадали точно.
Скучал слегка, но, право, не нарочно.
Грех невелик. С кого бы ни начать —
Скучают все, – тот весело, тот скучно,
Один скучает просто чтоб скучать,
Другой скучает, так сказать, научно.
Все, впрочем, вздор. Вот ваши чертежи,
Они в порядке, я вполне доволен,
А живопись превыше ожиданий.
Ростовщики, банкиры и поэты
За вас горой. Неверный же Фома
Первейших дам буквально свел с ума, —
Вам предстоит писать для них портреты.
Мне этот шум нисколько не вредит,
Наоборот, – чем ваша слава шире,
Тем выше мой становится кредит
В финансово-художественном мире.
Я ваш должник. Итак – насчет уплаты:
Дворецкий, помнится, покрыл весь счет,
Но я прошу вас, в знак приязни, вот —
Здесь перстень мой и несколько дукатов.Гвидо Что за расчет!
Франческо
По совести. Мой дар
Напомнит вам, быть может, на досуге
О почитателе, о старом друге,
Который, в общем, был не очень стар.
Счастливый путь!Гвидо Я тронут.
Франческо
В добрый час!
(Гвидо уходит. Франческо открывает другую дверь)Франческо
Вы здесь уже? Входите.
(Входят Марцио и Олимпио)Я успел
Записку вашу прочитать. Не скрою,
Она меня немного рассмешила.
Олимпио, быть может, вы подробней
Опишете мне ваше приключенье.Олимпио
Все очень просто. Ночью, при луне,
Я шел вчера (обычная прогулка),
Как вдруг из тьмы ночного переулка
Выходит некто в маске, и – ко мне.
Преловко сунул мне записку эту
И – за угол. Я страшно удивлен,
Кричу – нахал! – бегу за ним, но он
Уже исчез, бесследно канул в Лету.
Вот, в сущности, и весь рассказ. Записка
Касалась вас, и близко. Неприлично
Мне было бы оставить без вниманья
Подобный факт. Подумав, я, невольный
Посредник иль, еще точней, свидетель,
Явился к вам без промедленья.Франческо
Гм,
Необычайно – – Ба! Вот совпаденье,
Зверь на ловца бежит. Подите ближе,
Внимательно смотрите. У фонтана,
Вы видите? Пересекает площадь
Красивый юноша в плаще коротком.Марцио Художник Гвидо.
Франческо
Он на редкость мил,
Но вместе с тем опасный интриган
И заговорщик. Тайный аноним
Не пощадил его в записке вашей.Олимпио Такого поля ягоды опасны.
Франческо Да, ядовиты.
Олимпио
Если обыскать
Внимательно его карманы – —Франческо
Браво!
Вот мысль! Не мысль, а золото.Олимпио
Однако
Посмотрим в корень. В случае борьбы
Возможны осложненья.Франческо Все возможно.
Олимпио
Но если суть отсеять осторожно
И вылущить одно ядро? Дабы
Секрет надежным охранить молчаньем,
Текст, так сказать, усилить примечаньем
Иль попросту покончить с ним вполне?Франческо Тогда?
Олимпио Синьор заплатит нам вдвойне.
Франческо
Но при условии, что в день иль два
Все будет кончено.Олимпио
Отнюдь не позже.
Где ваша шляпа, Марцио? Пора.
Почтение синьору.(Олимпио и Марцио уходят.)
Франческо
Этот плут
Сообразителен и лжет умело.
Тем лучше. Но нелепое письмо
Не выдумка. Любезный сын воскрес.
Его рука. Невероятный слог,
Помарки, пятна, грубые ошибки,
И вместо подписи – дурацкий росчерк.
Сомнений нет, здесь заговор. И Гвидо
По глупости иль по иной причине
Ввязался в эту дикую затею.
Как водится, беднягу кто-то предал,
Верней всего – приятель, друг коварный – —
О, дружба, дружба, сладкое вино,
Несущее тяжелое похмелье!
Нет, Беатриче, твой побег – химера,
Нет в мире силы – —Слуга (докладывает) Монсиньор Гуэрра!
Франческо
Как смеешь ты? Иль все вы сговорились?
Веди его, Иуда!
(Слуга удаляется.)Черт возьми,
Гуэрра здесь. Проклятая лиса
Разнюхала какую-то добычу.Гуэрра (входит) Кузен, простите, я по порученью.
Франческо Прошу, прошу.
Гуэрра
Мой добрый кардинал
Вам шлет привет.Франческо Он был всегда любезен.
Гуэрра Отменно добр. При случае – полезен.
Франческо
По-прежнему наукой увлечен
И комментирует Платона?Гуэрра
Он
Справляется, во-первых – —Франческо Рад послушать.
Гуэрра Здоровы ль вы. Ему сказали – —
Франческо
Вздор!
Вполне здоров. Хотя, с недавних пор,
Мой лекарь мне советует не кушать.Гуэрра Желудок?
Франческо Нет.
Гуэрра Но печень?
Франческо
Как всегда, —
И ровен пульс.Гуэрра Вы, значит, не хворали?
Франческо
С чего бы вдруг? Я вылил яд. Вода
Уж слишком пенилась в моем бокале.Гуэрра В бокале яд?
Франческо
Ну да. Мой бедный пес,
Вы помните? Шотландская порода, —
Лишь сунул в лужу любопытный нос —
Вмиг скорчился и околел. Урода
Я так любил! Как сына, даже боле, —
Но он погиб, и все мы в Божьей воле.Гуэрра
Неслыханно, ужасно! Я виню
Домашних слуг, здесь явно месть лакея.Франческо Иль заговор?
Гуэрра Но кто бы мог?
Франческо
Не смею
Подозревать ближайшую родню.Гуэрра
Еще бы! Но какой беспутный век!
Порок все глубже разъедает нравы,
Как ржавчина железо. Наша жизнь
Подобна золоченой колеснице,
Увитой терпкими цветами смут
И преступлений. Каждый встречный камень
Грозит ее мгновенно опрокинуть.
Не странно ли? Всего недели три
Я по делам отсутствовал, – Ассизи,
Перуджия, Сиена, – а меж тем
Под кровлей этой, прочной и надежной,
Уже успел повеять ветер смерти – —Франческо Так были вы в отъезде?
Гуэрра
Лишь вчера
Вернулся в Рим к святейшему приему
И уж затем не покидал двора
И как убитый спал до службы дома.Франческо
Итак – я жив. Но, помнится, хотели
Вы что-то во-вторых?Гуэрра
Да, в самом деле,
Но это мелочь, к слову. Кардиналу
Послышалось, что папа намекнул,
Что будто в Риме беспокойно стало,
И тут же вас легонько упрекнул.
А уходя, заметил, что едва ли
Вы сына просто-напросто прогнали.Франческо Мой блудный сын?
Гуэрра
Бедняга удручен
И полн раскаянья.Франческо
Но разве он
Не в Генуе?Гуэрра
Свирепая нужда
Его недавно привела сюда.Франческо Бездельник, мот.
Гуэрра
Какой-то кредитор
Хотел его сгноить в тюрьме.Франческо Забавно.
Гуэрра
Святой отец сказал, что с этих пор
Он будет все долги платить исправно.Франческо Кто, папа?
Гуэрра
Нет, проказник наш. И вы
Ему поможете из сожаленья.Франческо А если нет, к примеру?
Гуэрра
Но – увы,
Догадки папы стоят повеленья.Франческо
Естественно. Глубокие слова.
Теперь мне ясно. Что же, признаю
И подчиняюсь. Я готов отныне
Не только исполнять догадки папы,
Но каждый раз с почтительной улыбкой
Выслушивать и смех его клевретов,
И тайные угрозы их. Поспешно
Предупреждать малейшее движенье
Руки небрежной, подымать платок
Или перчатку, брошенную на пол,
Ну, словом, быть всегда слугой покорным.
Но, слушайте, быть может, это шутка?
И скользкая, к тому же? Может быть,
Вы отыскали повод к разговору,
Чтоб подчеркнуть внезапный ваш отъезд,
А с ним и непричастность к покушенью?
И, во-вторых, боясь, что мне известен
Приют бездельника, вы, про запас,
Чистосердечно тайну проболтали?
Молчите же, не возражайте! Мне
Змеиное шипенье ненавистно
И предпочтительней рычанье льва,
Затем, что лев не жалит, но терзает!
(Выходит в ярости)Гуэрра
Каков? Глаза как угли разгорелись,
Черты лица мгновенно исказились – —
Он страшен в бешенстве – – И дар проклятый
Угадывать. Как будто он читает
Под черепом запрятанные мысли.
Предчувствую, игра идет на все,
Здесь ставка стоит чьей-то головы – —
Не промахнись, рыжебородый дьявол!
Сцена 3
(Ночь. Пустынная площадь)
Олимпио
Который час? Ведь это преступленье.
Так опоздать!Марцио
Луна уже взошла,
Я думаю – не рано. Но терпенье,
Пейзаж не плох, светло, и ночь тепла.Олимпио
Ну, да, – терпенье и смиренье. Смело
Я признаюсь, я терпелив как мул.
Но есть предел. Шататься же без дела,
Держать всю ночь бессменный караул,
Изнемогать от жажды и зевоты,
Считать шаги, придумывать остроты, —
И все затем, что кто-то не пришел?
О, Марцио, я не на шутку зол.
К тому же я за правило поставил
Всегда быть точным. Наше ремесло
Не вяжется с неряшеством. Все зло
В небрежности и нарушеньи правил.
И вот – пример. Поверите ль? Порой
Я собираюсь даже на покой.Марцио Немудрено.
Олимпио
Лишь бедность, к сожаленью,
Содействует обратному решенью.Марцио
Я вам сочувствую. Кому охота
Обречь себя случайностям труда?
Пока на свете вздорят господа,
Нас всюду ждет надежная работа.Олимпио
Работа – да, но заработок – реже.
Увы, друзья и недруги все те же,
Но скупость, скупость! Каждый норовит
Урвать, урезать иль сойти на квит.
Прав Цицерон, ученый правовед, —
О, tempora, о, mores! Море бед!Марцио
Вы знаете изрядно по-латыни,
Я, по несчастью, в этих штуках слаб,
В грамматике застрял на половине,
В риторике увяз в сплошной ухаб.
Пустынные дороги и война
Мне заменили классиков сполна.
Я офицер, мне рифма не по чину,
Я варвар. Правда, некогда родня
В Болонью силой выгнала меня,
Но я сбежал в Триест. Не без причины.
И вот, с тех пор лишился я охоты
Запоминать цитаты и остроты.Олимпио
А чья вина? Ученые Пилаты
Давно вошли с невежеством в союз,
И в результате – девять наших муз
Не стоят греческой одной цитаты.
Унылый век. Подумаешь немного
И поневоле выйдешь на дорогу.
Одно спасенье, – женщины. Для них
Я все еще оттачиваю стих.
Да, женщины. Подобного сюжета
И классики избегнуть не могли,
А между тем они с ума свели
Не одного маститого поэта.
Да что поэты! Даже мудрецы,
Забыв на время вечные загадки,
Рядили мудрость в женские чепцы
И с ней превесело играли в прятки.Марцио
Мир так устроен. Каждый петлю ищет
По собственному горлу. Как ни жаль,
И нам веревки избежать едва ль,
Смерть рядышком и ползает и рыщет.Олимпио
Так вы аскет? Но, думается мне,
Лишь до поры. Клянусь, наступят иды,
И купидон безжалостный вдвойне
Вам отомстит любовные обиды.
Что до меня, – я создан, чтоб любить,
Мед из улья таскать медвежьей лапой,
Короче говоря, я мог бы быть
Архиепископом и даже папой.
И знаете ль? Виргилий и Гораций
Полезны для подобных операций.Марцио
А наш клиент и в ус не дует. Ночь
Короче носа, рассветает скоро,
Того и жди – зашмыгают дозоры
И честных классиков погонят прочь.Олимпио
Скорее в тень! Укройтесь в этой нише,
Вы слышите? Насвистывает он – —
(Приближается Гвидо)
Эй вы, свистун! Нельзя ли там потише?
Что за манеры?Гвидо Я вооружен.
Олимпио
Ага, угроза! Вы никак задира?
Но, сударь, здесь не частная квартира,
А площадь, и на ней особый кодекс
Постановлений, правил и законов.Гвидо
Подите прочь, иль я на помощь крикну, —
Эй, кто там? Помогите!Марцио (выходит из засады) Нет, без шуток.
Гвидо
Что нужно вам? Возьмите этот перстень
И убирайтесь.
(Бросает перстень Олимпио)Олимпио
Перстень? Где ваш стыд,
Я узнаю его, – с давнишних пор
Он был моим. Вы, сударь, просто вор!Гвидо
А, вижу, – я в засаде. Не грабеж
Задуман вами, но убийство. Кто же
Вам заплатил за кровь мою?
Олимпио
Вопрос,
Лишенный смысла. Скажем – некто в маске.Марцио
Вернее – знатный негодяй, из тех,
Что сами и зарезать не умеют.
Мы в этом деле – третья сторона,
Мы – только случай.Гвидо
Жалкое созданье,
Ты пробуешь из-под полы, украдкой,
Деньгой фальшивой совести дать взятку?Олимпио
Благоразумие! Вы так кричите
И сердитесь – – Что толку весь квартал
Тревожить попусту, пугать прохожих – —Марцио
Олимпио, нельзя ль угомониться?
Я нападаю.Гвидо (защищаясь) Со спины удобней!
Марцио
Внимание! Удар.
(Гвидо падает)Олимпио
Какая точность!
Не вскрикнул даже, только захлебнулся.
Такая шпага, Марцио, могла бы
Вам обеспечить лучшую карьеру
Богатство, славу – – ив конце концов
Небесный дар любви.Марцио
Любовь, любовь!
Кто любит здесь? Подросток сумасшедший,
Мечтательный монах, пастух голодный – —
Но этот малый храбро защищался
И зря погиб.Олимпио
Отслужим мессу завтра,
Теперь бежим.Марцио Сперва обыщем тело.
Олимпио
Слуга покорный, стоит ли стараться,
Еще как раз нарвешься на беду.Марцио Вы струсили?
Олимпио
Немножко. Я уйду,
Мы встретимся в Прекрасной Коломбине.
(Убегает)Марцио
Как молод он. Но юное лицо
Успело стать и важным и бесстрастным,
Как будто он внезапно облечен
Непререкаемой ужасной властью
Все нарушать иль завершать, судить
И принимать последнее решенье, —
А ты пред ним стоишь недоуменно
И в скважину замочную тайком,
Как мелкий плут, подглядываешь в вечность – —(Из-за угла показывается Гуэрра)
Гуэрра
Прекрасный вечер, Марцио любезный!
Ну, не сердитесь. Кстати, за углом
Меня ждут слуги. Их по меньшей мере
С полдюжины. Оставьте вашу шпагу.Марцио
Прекрасный вечер, добрый монсиньор,
Вы здесь шпионили?Гуэрра
Какое слово!
Гулял, гулял. Ба, это кто? Смотрите,
Маэстро Гвидо? Вот нежданный случай!Марцио А, черт возьми, вы слишком любопытны.
Гуэрра
Мой пылкий Марцио, задира милый,
И правда, с вами долго ль до беды?
Но успокойтесь, я не проболтаюсь.
Какое дело мне до ваших ссор?
Ведь вы его убили в поединке,
Не правда ли? Я, впрочем, очень рад
Счастливой встрече. Мне давно хотелось
Вам предложить услугу за услугу.Марцио Для этого меня вы проследили?
Гуэрра
Не все ль равно? Допустим, что вчера,
Столкнувшись с вами перед домом Ченчи,
Я кое-что успел сообразить.
Допустим также (все лишь допущенья),
Что ваш приятель, классик по призванью,
Порой не прочь зайти в мою читальню
Перелистать Теренция иль Плавта?Марцио Олимпио предатель?
Гуэрра
Вот упрямец!
Он просто ищет места подоходней
И помнит вас.Марцио
И оттого, по дружбе,
Меня морочить вздумал на прощанье.
Умно, умно.Гуэрра
Забавнейший остряк.
Так вы согласны?Марцио (равнодушно)
Дело слишком ясно,
И отказаться было бы опасно.Сцена 4
(Часовня св. Фомы)
Гуэрра
Все римские художники готовы
Стать на дыбы и подбивают чернь
Поднять скандал под знаменем искусства,
Поэтому сегодня на заре
В порядке спешном схвачен и повешен
Хромой цыган, не ночевавший дома
В ночь преступленья. Два иль три еврея
За связь с цыганом брошены в тюрьму.
У них нашли к тому же векселя
Одной особы, – важное лицо,
Стоящее вне всяких подозрений.
Судья мошенников не пощадил:
Не прибегая к сложной процедуре,
Он обнаружил где-то запятую,
В которой не было ни капли смысла,
И объявил, что векселя подложны.
Он выдал их истцу. Теперь кагал
Вопит неистово и сеет слухи,
Способные усугубить волненье,
Раздуть пожар и вызвать разоренье
Других особ, не менее почтенных.
Вот хроника событий за неделю.
Беатриче Рим забавляется, и вы довольны.
Гуэрра
Все эти бедствия в какой-то мере
Суть следствия печальной смерти Гвидо.Беатриче
Мой бедный друг! Он лег тяжелым камнем
На сердце мне – – Скажите, так ли трудно
Найти убийцу?Гуэрра
Стоит ли? Под солнцем
Скопилось слишком много разных истин,
И каждая из них грозит бедой.
Признаться ли? Из долгих наблюдений
И я одну усвоил про запас, —
Все истины известны в нужный час
Секретарям особых учреждений.Беатриче
Вот истина, которую не страшно
Поведать вслух, – умно и безопасно.Гуэрра Все лучше, чем свирепый лик Горгоны.
Беатриче
Напрасный страх. Она едва ли рада
К секретарям врываться без доклада.Гуэрра
Не знаю, право. Лишь совсем недавно
Она мне стала на ходу являться, —
То локоть тронет, то в затылок дунет.Беатриче Зачем вы ей?
Гуэрра
Простое совпаденье.
И я и Гвидо мыслили согласно
В одном вопросе, вам известном.Беатриче
Полно,
Вы слишком нервны. Нападенья в Риме —
Явление обычное. Их цель —
Простой грабеж, случайная пожива.
Рим голоден. Рим ищет пропитанья,
Все остальное – праздные мечтанья.Гуэрра
Мне нравится ирония. Она
Способствует прогрессу. Грубый варвар
Ее боится как огня. Однако
Кто и когда поклялся вам, что Гвидо
Не жертва тайной ненависти? Кто
Внушил вам мысль забавную, что я
Болезненно труслив, что жизнь моя
Освобожденья вашего дороже,
Что смерть за мной не увязалась тоже?
Так знайте же, – за каждой нашей встречей
Она следит ревнивыми глазами,
Подслушивает, бродит возле двери
И подбирает тихие ключи
К замкам негодным. Может быть, она
И вам уже в лицо дышала. Ночью – —
Нанизывая сонные слова
И вздохи, как янтарь на четки – – Вы
Обречены, давно, вам нет пощады,
Я знака жду, – наклона головы,
Движенья губ, уклончивого взгляда,
Лишь подозренья, что согласны вы – —
Не надо слов, довольно и безмолвья,
Той паузы, которую потом
Возможно и продлить – —Беатриче
Проклятый дом,
Здесь каждый шаг готов налиться кровью – —
(Выбегает.)
Сцена 5
(Комната Беатриче. Перед рассветом)
Беатриче
Сторожевая башня на горе
Окрашена зарей наполовину, —
Уже блестят оливковые рощи,
Как рыбья чешуя. Светлее воздух.
Уходит ночь. Но каждый новый день —
Как новая ступень на эшафоте,
Чем выше – тем страшнее, и нога
Нигде опоры твердой не находит.
(Входит Лукреция)Лукреция
Ты все не спишь. Ты стала словно призрак.
Поди ко мне, дай руку. Ты больна,
Лицо горит, а пальцы ледяные.
Тебя погубят слезы.Беатриче
Я не плачу.
Из глаз моих я выдавить могла б
Лишь раскаленные осколки камня.Лукреция
Здесь все готово камнем обрасти,
И слезы и глаза, – и даже ветер
В неосвещенных коридорах. Он
Не дует, но шагает осторожно
И рад послушать у дверей. Постой,
Я посмотрю ему в лицо.
(Отворяет дверь. На пороге Франческо)
О! Вы?Франческо
О, запоздалый пафос восклицаний, —
Любовных гроз простуженное эхо!Лукреция
Я вскрикнула случайно. Вы подкрались
Так незаметно – —Франческо
Как свирепый волк, —
Не правда ли? Молчите?Лукреция Как палач.
Франческо
Подите прочь, колдунья, – и не смейте
Мне попадаться под ноги. Ступайте.Лукреция
Не бойся, Беатриче. Егеря
Под окнами седлают лошадей.
(Уходит)Франческо
Ты рано встала, Беатриче. Утро
Лишь рассветает. Я перед охотой
Зашел тебя проведать. Будет жарко.
(Молчанье)Все говорят – любовь красноречива,
Но ненависть не разжимает губ.
Ты ненавидишь молча, – вдохновенно – —
Что делать? Такова природа сердца.
Порок и добродетель, это корни
Деревьев разных, но один поток
Их омывает. Ненависть ко мне
Ты возвела, конечно, в добродетель.
Да, все течет, и в мире нет законов
Незыблемых и постоянных. Словом —
Мир очень прост.Беатриче О, простота лукавых!
Франческо
Твои слова звучат как «Отче наш» – —
Да, да, ты добродетельна, и даже
Пронзающий преступника кинжал
Ни добродетелью, ни чистотой
С тобой сравниться не дерзнет.Беатриче
Позволь
Уйти мне в монастырь!Франческо
Нет, Беатриче.
Грех не боится монастырских стен.
Он следует за смертными повсюду.
Я презираю херувимский лепет,
Но чувствую прекрасное. Оно
В груди моей как боль. А ты прекрасна.
Тебе ль вздыхать и опускать ресницы,
Чтоб тешить мысль распутного монаха,
Привыкшего грешить в исповедальне?
К тому же, благочестие всегда
Так дурно пахнет чесноком и потом,
А ты привыкла к лучшим ароматам
Благословенного Востока – – Право,
Ты и сама похожа на флакон
Венецианского стекла. Хрусталь,
В котором кровь, вино, духи и солнце.
Вот я гляжу, и в утреннем луче
Трепещет волос твой, из шелка свитый,
Неуловимое движенье крови
Ласкает нежно розовую кожу,
И вся ты – солнечна, и каждый дюйм
Твоих стыдливостью омытых членов
Невинней, девственней мадонн пречистых.
Как хороша была бы ты в гробу!
Безгрешная, не тронутая взглядом,
Ни помыслом нечистым, белый звук
Гармонии небесной. Не жена,
Не женщина, – почти еще дитя,
Блаженная в святых отроковица – —
Но ты жива. И знаю, по плечам
И по глазам девически надменным
Когда-нибудь скользнет желанье. Сердце
Вдруг ощетинится и станет дыбом – —
И эта грудь откроется объятьям?
Блуждающая грубая рука
Принудит непокорные колени,
Которые и платье на ходу
Отталкивать готовы горделиво?
О, эта плоть, которой даже ветер
И даже тень едва коснуться смеет,
В захватанном наряде подвенечном,
Как жертва, отданная на закланье – —Беатриче Отец!
Франческо
Нет, нет, развратница, молчи!
Твой стыд – обман. Ты каждой каплей крови
Давно созрела для любви распутной – —
Ты горделива с виду, но во сне,
В беспамятстве, в ночном самозабвенье – —
Как жалкая ночная потаскуха,
Что зазывает пьяных в подворотню,
Ты раскрывала втайне наготу
Перед обманщиком, до тела жадным,
Пускай еще покуда безымянным,
Пускай еще неведомым покуда, —
Что нужды в том? Он впущен, гость случайный,
Любая прихоть распаленной грезы, —
Оборванный матрос с широкой грудью,
Иль цирковой борец, иль первый встречный – —
(Хватает ее за руку.)
О, берегись! Я – молния твоя,
Готовая ударить и разбиться
На тысячи пожаров, из которых
Ни одного не потушить слезами.
И кто здесь плакать станет? Может быть,
Лишь римские фонтаны – – Друг продажный
В них даже рук не вымоет. Я знаю
Весь этот сброд, обученный интригам
В передних разных кардиналов – – Гвидо
Изведал их предательскую дружбу!
(Беатриче кричит, вбегает Лукреция)Лукреция Сюда идут! Весь дом уже в тревоге!
Франческо
Проклятый труп! Ты снова на дороге?
(Уходит)Лукреция Зубами щелкает и брызжет пеной – —
Беатриче
Рука моя! она заражена
Смертельным ядом – – Ногти посинели,
Вся кровь от гнусного прикосновенья
Бежала прочь и медлит возвратиться
К багровым оттискам зубов змеиных – —
Но погоди, – у смерти зубы крепче – —Лукреция Ты в исступленье!
Беатриче
Каждый волос мой
Пронизан дикой радостью убийства!Лукреция Молчи, молчи!
Беатриче
Ни страха, ни пощады,
Ни жалости – – Я рада, – слышишь? Рада!
Сцена 6
(Корчма у дороги)
Марцио
В конце концов, скитанья и война
Способны закалить нам нравы. Жалость
Солдату не к лицу, и часто гибель
Скрывается под маской состраданья.
Я сердцем груб. Ни женщины, ни дети
Не властны возмутить мне душу. Слезы
Мне кажутся притворством, смех – обманом,
А крик и стон – обыкновенной бранью.Олимпио
По многим признакам заметил я:
Нет истины без легкого вранья,
Но вы – злодей, и это несомненно.Марцио
Должно быть, так – и все же, признаюсь,
Я испытал внезапное волненье
Над трупом Гвидо.Олимпио
Бедный малый. Рок
Над ним изрядно посмеялся. Но —
Мы лишь кинжал, – не так ли вы сказали? —
В руке преступной, – что-то в этом роде – —
Мысль рождена и завтра будет в моде.Марцио За каждой мыслью следует сомненье.
Олимпио
Что до меня, я твердо убежден
В непогрешимости моих суждений
И потому не знаю снисхождений.
Я за мораль, и в предстоящем деле
Она за нас. Мораль высокой цели.
Подумайте, какой прекрасный случай
Коварство покарать. Я представляю
Негодование синьора Ченчи,
Наказанного в собственной постели.
Итак, чтоб не было следов насилья,
Мы в глаз его вколотим тонкий гвоздь, —
Для верности немного ковырнем
В мозгу и тело сбросим вниз с балкона.
Балконную решетку мы сломаем.
Несчастный случай – человек упал
И умер сам от сотрясенья мозга.
Вы морщитесь? Вам что-то не по вкусу?Марцио
Мне неприятен монсиньор Гуэрра.
Зачем вы с ним?
Олимпио
Я знаю кавалера,
Он исполнителен и точен. Папа
Уже готов его отметить шляпой.Марцио
Его все дамы прочат в кардиналы,
Вы с ними заодно.Олимпио
И потому
Без колебаний уступил ему
Отвагу нашу, опыт и кинжалы.
Он несомненно делает карьеру
Я рад служить такому кавалеру.Марцио
Он лжец. Он ложью налит, как водой,
До черепа. Она сквозь дыры глаз
Наружу вытекает ручейком, —
Где ступит он – там лужа.Олимпио
Не беда,
Когда пожар, всего нужней вода.Марцио
Зачем он женщин притянул в игру?
Я не люблю жеманного бесстыдства
Под маской бешенства. Мне неприятна
И мысль одна, что слабая рука,
Которой в тягость даже украшенья,
Дерзает подымать клинок. Убийство —
Удел души суровой, но отважной,
Оно подобно пламени. Железо
В нем закаляется; могучий дуб
Пылает яростным огнем. Солома
Мгновенно истлевает в пепел. Кровь —
Привычна мне. Я холодно смотрел
На эти сгустки дымные смолы,
Неизъяснимо вязкие на ощупь,
Но никогда не разбавлял их медом
Иль розовой водой. Мне нестерпимы
Духи красавицы, к которым подло
Подмешан трупный запах разложенья.Олимпио
Мир требует немного исправленья.
Все это так. Но женщина – сонет.Марцио
Я не люблю стихов. Стихи лукавы,
В них темный смысл всегда запрятан где-то,
Все рифмы лгут.Олимпио
И правда – ложь поэта.
Еще глоток? Винцо у них на славу.
Сцена 7
(Поздний ужин. Франческо, Беатриче, Лукреция)
Франческо
Флоренция мне нравится. Она
Цветет искусствами, она богата,
Высокомерна, – и притом бедна,
Завистлива и даже воровата.
Там царствует аптекарь, и бароны,
Как следствие печальное, тайком
Из-под полы торгуют порошком,
Чтоб заправлять чужие макароны.
Но древний Рим понятлив. Он легко
Тосканскую успел усвоить моду
С той разницей, что отравляет воду
Фруктовый сок и даже молоко.
Да, да, – такие случаи возможны.
К примеру – вот вино.
(Подымает стакан на свет)
Прекрасный цвет,
Отличный вкус и запах. Чистой крови
Оно подобно. Нежные рубины,
Расплавленные в тонком хрустале,
Не более ласкают глаз, чем эта
Чарующая влага. Между тем —
Что стоит повару или лакею
В отместку за удар ничтожной тростью
В гробнице этой, тесной и прозрачной,
Которую шутя зовут бокалом,
Седую вечность заточить и смерти
Вручить холодные ключи – – Ужасно?
(Лукреции)
Поверите ль, синьора, я не смею
Вам предложить из этого бокала.Лукреция
Какая мысль!
(Пробует его вино)
Напиток превосходен.Франческо
О, смелость женская! Вы так бесстрашно
Отведали возможного забвенья,
Что справедливость требует и мне
Преодолеть сомненья. Беатриче,
Твое здоровье!Беатриче
Яд не обнаружен!
Иль очередь моя теперь отведать?Франческо
Не смейтесь, дочь моя. Предосторожность
Мне свойственна давно, но с ней и вера
В природу добродетели. Я рад
Признать за вами гору ценных качеств
И, в частности, примерную любовь
К достойной мачехе. И вместе с тем —
Я мнителен. Что делать? Но – увы!
Все измениться на глазах успело,
И времена и нравы. Все истлело.
Семейный быт непрочен, и нередко,
Припомнив кстати мнимые обиды
(А может быть, и вексель безнадежный),
Ближайший родственник готов услать
Нас в лучший мир, откуда нет возврата – —
Неустранимые плоды разврата.
(Пьет)
Я не педант, но твердо убежден,
Что каждая жена, без исключенья,
Испытывает легкое влеченье
К нелепым шалостям. А шалость жен
Порой не лучше худших из пороков – —
Я говорю, конечно, без намеков.
Мой долг – беречь от шалостей жену,
В особенности – отходя ко сну.
А спать пора. Вчерашняя охота
Хоть и кого уложит на три дня, —
Я ухожу, простите, но меня
До неприличия томит зевота.
(Уходит)Беатриче
Ты слишком весел. Что же, веселись,
Шути со смертью, может быть, она
Охотнее приходит к шутникам.Лукреция
Твоя ладонь запачкана немного
Какой-то пудрой.Беатриче
Сонный порошок,
Он повредить тебе не может.Лукреция
Губы
Я лишь слегка смочила, но дремота
Смыкает мне глаза – —Беатриче Одно волненье.
Лукреция
И сердце сжалось. Ледяная дрожь
Пронизывает члены – – Я готова
Кричать от ужаса – —Беатриче
Молчи. Ни слова.
Зачем последний сон тревожить плачем
Иль поздней жалобой?Лукреция
О, Беатриче,
Лишь эту ночь, единственную ночь
Оставь ему! Быть может, будет чудо – —Беатриче Ты малодушна.
Лукреция
Я несчастна. Камень —
И тот бы содрогнулся.Беатриче
Камень слаб, —
Что знаешь ты о камне? Если он
Горит внутри, но холоден снаружи —
Он разрывается от напряженья.
Пора дать знак.
(Ставит свечу на подоконник)
Смотри, свеча пылает
Как погребальный факел. Желтый воск
Застыл корой на пальцах. Столько жара
В холодном зове смерти.Лукреция Там стучат?
Беатриче Стучат. Все кончено.
Лукреция Я ухожу.
Беатриче Покойной ночи.
Лукреция
Мертвым нет покоя, —
Они лишь неподвижны.
(Уходит.)Гуэрра (входит)
Что за ночь!
Все вымерло кругом, и небо в тучах.
Мы в сад вошли со стороны оврага,
Не встретив ни души. Темно, пустынно,
Ни зги не видно. Близкая гроза
Всех разогнать успела. Даже сторож
Запрятался куда-то в конуру.
Такая ночь надежней часовых,
Я буду с вами, караул не нужен.Беатриче
О, нет, прошу вас. Поздно, слишком поздно, —
Решенья приняты, и каждый жест
Заранее обдуман. Ваше место
Внизу, в саду.Гуэрра
Вы полотна бледнее.
Вам дурно?Беатриче
Лишь мгновенное затменье,
Но все прошло.Гуэрра
Да, что еще? О чем-то
Я вам хотел напомнить и забыл.
Как душно. Вот тяжелый хлынет ливень,
Деревья затрещат, как паруса
На корабле разбитом – – Наш корабль
Уже готов. Но обещайте, если
Все будет так – —Беатриче
За дверью голоса,
Молчите же. Есть мера обещаньям.Гуэрра
Я словно труп, заколотый молчаньем.
(Стук)Беатриче Ага, пришли! Сюда, входите оба.
Гуэрра
Но только тише, тише, ради Бога.
(Входят Марцио и Олимпио)Беатриче Вам дом знаком?
Олимпио
С закрытыми глазами
Я мог бы здесь найти иглу.Гуэрра Отлично.
Олимпио Он спит уже?
Гуэрра Должно быть. Он в постели.
Олимпио
Пусть спит. Мы бодрствуем. Но вы хотели,
Мне помнится, вручить остаток нам?
Мы с Марцио все делим пополам.Гуэрра
Вот, здесь с лихвой.
(Протягивает кошелек Марцио)Марцио
Благодарю, но мне
Уплачено сполна.Олимпио
Тогда вдвойне
Обязан я вниманию синьора, —
И кончим деловые разговоры.
(Прячет кошелек)Гуэрра О, вы колеблетесь?
Марцио
О, нет, я тверд,
Но предпочел бы разбудить беднягу
И взять его в открытую на шпагу.Беатриче
Хотите вы сказать, что я лишь вор,
Трусливо жизнь крадущий, словно перстень,
Забытый на столе?Олимпио Чистейший вздор.
Беатриче
И я должна принять от вас урок
Высокой чести? Правила морали?
И это мне, в лицо – – И я не вправе
Ни промолчать, ни опровергнуть – —Гуэрра
Полно,
В вас говорит усталость. Эта ночь
Насквозь пропитана удушьем – – Спор
И неуместен здесь, и бесполезен.Беатриче
А мне и мысль простая ненавистна,
Поймите же, что я могла бы вновь,
Хоть раз еще, услышать этот голос,
Который словно яд сочится в ухо
И замораживает жилы – – Воздух
Вокруг него готов корой засохнуть,
Как гнойный струп на теле прокаженном —
Вам исповедь нужна?Марцио
Я не привык
Расспрашивать.Олимпио
Он сдержан на язык,
А мне вполне довольно кошелька.
Но поспешим, ночь слишком коротка.Гуэрра
Да, да, ступайте. В случае тревоги
Я дам вам знак. Я буду караулить
Под деревом, у самого балкона.
(Уходит)Олимпио
За дело, Марцио. Вот в эту дверь.
(Уходят)Беатриче
Какая тишина. И даже сердце
Насторожилось и притихло. Ровно
И мерно чередуются биенья
Голубоватой жилки у запястья – —
Такая тишина, что сонный слух
В ней без труда услышит голос смерти.
Она уже бормочет на пороге,
Раскрыла зев – – Медлительные тени
Проникли в дверь, подкрались к изголовью,
Неслышно подымают покрывало.
В лицо заглядывают. Ищут место,
Куда бы поразить. А он, недвижный
В мучительном своем оцепененье,
Внимательно рассматривает руку,
Нависшую как камень в темноте,
И безуспешно ищет объяснений
Загадке страшной – – Содрогаясь, он
Пытается проснуться и не может.
(Слышен крик. Олимпио пробегает мимо)Беатриче О, Боже мой!
Олимпио
Он сам нечистый! Вот он!
(Исчезает)(Медленно пятясь, появляется Марцио; за ним, шатаясь, показывается Франческо)
Марцио
Здесь путь кончается. Ни шагу дальше.
Он вырвался.Франческо С трудом и ненадолго.
Беатриче Все это бред, и мне пора очнуться.
Франческо
Постой. Ты так великолепна. Гнев
Горит пожаром на лице, и губы
Истерзаны грехом – – Последний трепет – —Марцио Унять его?
Франческо
Не торопись, нет нужды.
Назад, назад, убийца бестолковый, —
Что знаешь ты о ней и обо мне?
Не заслоняй ее – – О, Беатриче,
Высокая заря – – Ты, нежный стебель,
Пронзивший сердце мне – – Я умираю.Марцио
Все кончено, дыханье оборвалось.
Я вынесу его. Нет, не смотрите.
(Уносит труп)Беатриче
Я, кажется, ослепла. Этот грохот,
И молнии, летящие в глаза – —
И ледяное головокруженье – —
(Шатается. Вбегает Марцио и подхватывает ее)Марцио
Вам дурно? Эй, сюда, на помощь! В доме
Жив кто-нибудь? Откликнись!
Никого – —
Дом пуст, и помощь гибельна. По капле
Жизнь выльется – – Она уже не дышит,
На полпути слеза остановилась,
Как на распутьи. Нежная щека
Бледнее лилии и непорочней
Святых Даров. О, львиная душа
В сосуде хрупком!Беатриче (приходя в себя)
Что со мной? Зачем
Я здесь одна? О, как слаба я стала – —Марцио
Прижмись ко мне, – вот так. Ты легче пуха.
Казалось мне, что на руках моих
Не тело нежное, а легкий воздух,
И ты была беспомощней ребенка,
Уснувшего в глухом лесу от плача.
Не уходи. Ты встанешь, и с тобой
Вся жизнь уйдет, и без тебя я буду
Как дерево, поваленное бурей.
Мне кажется, тебя искал я долго,
И вот – нашел, и вот – не отпускаю – —
Рукам легко и радостно, как будто
Я их омыл в ручье живой воды, —
Они уже не в силах разомкнуться.
Гляди, ты видишь? Кожа на ладони
Вся в линиях глубоких и буграх,
Я изучал их темное значенье,
Узнал их смысл зловещий, но нигде
Не обнаружил линии чудес.
И вот, сегодня чудо совершилось.
Любовно, горестно, недоуменно
Я заключил его в мои ладони,
И чье-то сердце в них затрепетало.
И долго я не знал, твое ль оно
Или мое, и стало мне казаться,
Что ты и я таинственно срослись
В одно и стали сердцем неделимым.Лукреция (входит) О, Беатриче!
Марцио
Тише. Добрый сон
Над нею сжалился и вынул память.
Она проснется, может быть, иной.Лукреция
Ей нужен отдых. Следуйте за мной.
Сцена 8
Кардинал
Я раздобыл вам это назначенье.
Вы можете отправиться в Париж
Иль Лиссабон, по выбору, и даже
Куда-нибудь подалее. Мой долг
Оберегать племянника синьоры
Евлалии от разных глупых слухов.Гуэрра Какие слухи?
Кардинал
Ну, пирожник этот
Иль булочник. Он хвастал в пьяном виде,
Что вам обязан пышными рогами.
Его зовут Лоренцо.Гуэрра
Что за ересь!
Лоренцо стар и вдов. Он был женат
Тому лет двадцать на какой-то Кларе,
Горбатой от рожденья, и она
Скончалась в кабаке, когда мне было
Лет пять иль шесть. Проверить факт не трудно.Кардинал
Какая там проверка! Дело ясно, —
Галиматья, горячечный сумбур,
История четыреногих кур,
А на проверку – дьявольски опасно.Гуэрра Но если факт – —
Кардинал
Отнюдь не важен факт,
Но слух есть слух. Представьте, что меня
Ревнивый муж нашел бы, скажем, в спальне
Своей жены. Каков финал?Гуэрра Скандал?
Кардинал
Ничуть. Рим был бы восхищен проделкой
Духовного лица в высоком сане,
Известного и в Риме и в Милане,
И главное, заметьте, мы не любим
Чрезмерно откровенных рогоносцев.Гуэрра Пожалуй.
Кардинал
Факт не страшен никому,
Но слух – совсем иное дело. Он
Есть, в сущности, веретено для пряжи
Чего угодно, – для убийств иль кражи,
Иль совращенья крашеных старух.
Вообразим, опять же для примера,
Что тот же булочник пускает слух,
Что смерть австрийского барона в Пизе
Иль Генуе, тому назад лет сорок,
Весьма, весьма загадочна. Никто
Не стал бы слушать дурака. Но сразу
Пошел бы слух, что в деле, скажем, Ченчи
(Не Ченчи именно, но все равно)
Намеренно пропущено звено,
Которое – и прочее. Лоренцо
Могли бы выпороть или повесить,
Сослать могли бы на галеры. Мигом,
Я вам ручаюсь, Рим заговорил бы,
Что бедный малый пострадал невинно
И схвачен неспроста. Веретено,
Раз завертевшись, стало бы жужжать,
Гудеть, наматывать за нитью нить,
И прочее, и прочее. Пришлось бы
Треть жителей столицы перевешать,
Что нелегко, почти что невозможно.
Нет, подходите к слухам осторожно,
Подалее от них. Нет в мире мести
Ужаснее. Обдумайте и взвесьте.Гуэрра О, да.
Кардинал
Итак – в дорогу, и немедля.
Да, между прочим, конфиденциально,
В строжайшей тайне: с места назначенья,
По-дружески, вы сообщите мне,
Как именно погибла эта дура
Франческа.Гуэрра Клара?
Кардинал
Имя ни к чему.
Имен не надо, я и так пойму.
И помните: у нас пока цензура.Сцена 9
Гуэрра
Все ждут чудес, загадочных событий,
Таинственных метаморфоз. Пройдохи
Потворствуют мошенникам. Короче —
Рим ждет сенсации, готовит почву
Для дикого скандала. Древний цирк
По-прежнему пленяет нас. Недаром
Мы развлекались целые века
Войной, чумой, костром еретика
И даже собственным своим пожаром.
Так поразмыслив несколько, нетрудно
Извлечь из басни общую мораль:
Рим ждет предательства, и, как ни жаль,
Мы сами гибель дразним безрассудно.
Рим – чернь, а черни первая забота —
Кому-то льстить и предавать кого-то.
Олимпио Свидетеля, конечно?
Гуэрра
Если он
Заранее, к тому же, обречен.Олимпио Мне кое-что неясно.
Гуэрра
Что? Размер
Плиты надгробной? Трели некролога?Олимпио
Нет, все не то. Но некая тревога
Об участи, допустим, например,
Свидетеля второго? В жизни сей
Причалит ли в Итаку Одиссей?Гуэрра
О, вас принять повсюду будут рады
С фанфарами. Насмешливый Марсель,
Сицилия, душистый мрак Гренады,
Парижа красочная карусель – —Олимпио
Et cetera. И чрезвычайно глупо
Все променять на пошлый титул трупа.Гуэрра Вы клоните куда-то. В чем секрет?
Олимпио
Извольте. Марцио мне друг. Атлет
Блистательный. В борьбе незаменим,
Я без задоринки работал с ним.
Он курица, которая несет
Мне яйца золотые круглый год.Гуэрра
Прибавьте кстати: Марцио – мечтатель
И потому, в зародыше, предатель.
И знаете ль? По Риму ходит слух,
Что случай Ченчи несколько туманен,
Не подозрителен еще, но странен,
Что не мешало б приналечь на слуг, —
А в случае малейшего доноса
И вам, мой друг, не избежать допроса.Олимпио И вам?
Гуэрра
Увы. По счастию, родня
В Париж по делу вызвала меня.
Я этой ночью покидаю Рим.Олимпио Вот новости!
Гуэрра
Итак – поговорим.
Сцена 10
(Дом римского губернатора. Губернатор, Судья и Начальник городской стражи)
Губернатор
Доколе город будут волновать
Ужасные убийства эти? Право,
Порой мне кажется, что мы живем
Во вражеском каком-то стане. Жизнь
Дешевле в Риме, чем кусок веревки,
Которой мы смиряем преступленье.
Что ж Марцио?
Начальник стражи
Он здесь, под караулом.
( В дверь)
Гей, стража!
(Солдаты вводят Марцио)
Что, каков? Молчишь, разбойник?Губернатор Иль он сознался?
Начальник стражи Как же, и не думал.
Судья
Но это все равно. Его сознанье
Нам обеспечит маленькая пытка.Начальник стражи Он так нахален.
Судья
Все они нахальны
До времени, но опытный судья
В конце концов изобличит злодея,
А я почтительно признаться смею,
Что не с одним уже справлялся. Взять
Олимпио хотя бы. Тот смирился.Губернатор Смирись и ты! Смотрите, он смеется!
Марцио
Олимпио солгал. Он вида пытки
Не выдержал.Судья
Прекрасно, – а донос?
Доброжелатель все нам изложил
В своем письме.Марцио
Но где он? Клеветник
Мстит издали.Губернатор
О, небо! Укротите
Кутилу этого! Он мне противен!
(Стража уводит Марцио)
Чума, чума!Судья
Олимпио не лучше,
Такой же гусь, но дочиста ощипан.
И с этим справимся.Губернатор
Уж верно, гусь!
Но гусь преступный. Как же ощипали
Вы гуся вашего?Судья
О, я всегда
Веду допросы с легким экивоком,
И главное – играю простачка.
Естественно – покусываю ноготь,
Рассматриваю молча потолок,
По мелочам выматываю жилы, —
То проглочу нечаянный зевок,
То взбалтываю в баночке чернила – —
И косвенно, сторонкой, наблюдаю.
Ну, если птица мелкая, она
В окошко так иль этак вылетает,
Хоть с небольшой острасткой, натурально, —
Но если я в преступнике замечу
Начало лихорадки, некий зуд,
Рассеянность особого порядка
Иль, наконец, желанье дать мне взятку – —Губернатор Ага! Так, так – – Что делаете вы?
Судья
Я протыкаю протокол пером,
Я превращаюсь в молнию и гром.
И он готов. Он у меня в кармане.Губернатор
Вы и Олимпио таким манером
Перехитрили?Судья
Но, конечно, тоньше
И остроумней. Мой болван пыхтел,
Краснел, бледнел – – То пальцами хрустел,
То воротник расстегивал. То носом
Сопел ужасно. Словом, вышло так,
Что в злобе иль отчаянье дурак
Оплел себя подробнейшим доносом.Губернатор Блистательно! Великолепно!
Судья
Я
Люблю психологические бури.Губернатор О, да!
Начальник стражи
Что говорить, преловко. Суд
Воистину есть лютый пес закона,
И пусть мне горы золота дадут,
Я и кота судейского не трону.Судья
Закон – замок. Судейские – ключи,
И отпереть, и запереть мы властны.Начальник стражи По мне, отмычки менее опасны.
Губернатор Где суд молчит, там правят палачи.
Судья Аминь. Так Марцио слегка поджарить?
Губернатор
И поскорей. Обеих же красавиц
Арестовать и содержать под стражей
До нового приказа. Я теперь
Оставлю вас. Убийственное время!
(Уходит)Начальник стражи
Да, времечко неважное. Житья
Не стало более. Недавно воры
Напасть посмели на мои дозоры.Судья Дела, дела!
Начальник стражи
Беда, синьор судья.
Сцена 11
(Тюрьма. Марцио, Судья, Палачи)
Судья
Послушай, Марцио. Сказать по правде —
Я в запирательстве не вижу толку.
Иль мало палачи с тобой возились?
Подумай сам: улики налицо,
Олимпио, приятель твой, к тому же,
Во всем признался.Марцио Умер он.
Судья
Пустое.
Свидетельство осталось. Лишь профаны
Оспаривать его посмеют.Марцио
Пыткой
Его добыли.Судья
Так или иначе,
Но он сознался.Марцио
Ложь всегда послушна.
Олимпио с рождения не мог
Сказать и слова правды. Между прочим,
Не он ли выдумал без всякой нужды
Какого-то пирожника Лоренцо,
Который стал аббатом по ошибке?Судья
Дешевая схоластика. Давно
Доказано, что правде для рельефа
Полезна ложь. От каждого предмета
Ложится тень, и тем она длиннее,
Чем выше сам предмет, чем он крупнее.
В конце концов, верти иль не верти —
У истины одно лицо, но часто
Оно слегка меняет выраженье.
Что до Олимпио, то он увяз
На первом слове. Пойманный с поличным
Принес повинную и стал приличным.
Дальнейшее известно. Очень жаль,
Что умер он. Весьма занятный враль.Марцио Воображаю, что вы с ним творили.
Судья
Тут пытка ни при чем. Скорее, некто,
Замешанный сторонкой в преступленье,
Помог ему с грехами расквитаться,
Чтоб помешать и за него сознаться.
Алхимики за грош стараться рады,
Их что песку морского развелось,
Так мудрено ли, если довелось
Бедняге невзначай отведать яду?
Но, к счастью, груду ценных показаний,
Записанных со тщанием писцами,
Занумерованных, подшитых к делу,
Мы сберегли от злостных посягательств.
Итак, что знаешь ты?Марцио
Синьор Франческо
Упал с балкона и разбился.Судья
Кто же
Сказал тебе об этом?Марцио
Чистый случай.
Я проходил поблизости. Обрыв
Был освещен грозой, а на балконе,
Вниз перегнувшись, черный силуэт
Вдыхал, казалось, молнии. И вдруг
Раздался крик. И ясно я увидел,
Как в воздухе, хватаясь на лету
За выступ иль карниз, синьор Франческо
Затрепетал, вернее – заплясал,
Опору отпустил и головой
О камни грохнулся.Судья
Пустая сказка, —
С чего бы там решетка обломалась?Марцио Не знаю.
Судья
Каменщик удостоверил,
Что прутья были вделаны исправно.Марцио Он мог и ошибиться.
Судья
Если так,
То отчего при обыске нашли
Кровавое тряпье, хотя известно,
Что кровь – лишь следствие, а не причина
Паденья. Стоит лишь в детали вникнуть,
И факт убийства ясен.Марцио
Я не лекарь
И не аптекарь. Может быть, простое
Кровотеченье?Судья
Жалкая увертка.
Олимпио вполне чистосердечно
Покаялся и в разных вариантах
Цитировал нам имя Беатриче.Марцио
Такое имя – как железный щит, —
Олимпио хотел за ним укрыться.Судья
В тебе пропал недюжинный юрист,
Ты держишь нить, по-своему речист,
Но старые почтенные приемы
Здесь не в ходу. Мы не в гостях, а дома.
Эй, мастера!
(Входят палач и Пьетро)
Входи. Вот вам задача, —
Что он такое, этот человек?
Обглоданная кость, пузырь дырявый,
Раздавленная скорлупа. Однако
Он возомнил, что может околпачить
Иль просто за нос провести судью.
Недурно, что? Я назначаю срок:
Чтоб завтра же запел он соловьем!Палач Уж как-нибудь управимся вдвоем.
Судья Чтоб соловьем запел!
Пьетро
Мы сами рады
Послушать ночью все его рулады.Судья
Работайте хоть до второго пота,
До третьего.Палач
Тут главная забота —
Найти маневр. Сообразить.Пьетро
Он скоро
Научится другому разговору.Судья И как там Беатриче?
Палач
Все молчит
Похоже, что она скучает малость.Судья
Подать ее сюда.
(Палачи уводят Марцио)
Проклятый гаер,
Он мне еще заплатит, и с лихвою,
Здесь честь моя задета за живое.
(Входит Беатриче)
Прошу, вот кресло, я безмерно рад,
Мы побеседуем о вашем деле.
Но вы бледны, вы даже похудели,
И розы на щеках увяли – – Боже,
Вы на себя сегодня не похожи!
Да, эта сырость, этот воздух – – он
Как пластырь клеится со всех сторон,
Он не для вас. Поверьте, день и ночь
Я все ищу, изыскиваю средства
Вас уберечь от подлого соседства
С опасным сбродом, как-нибудь помочь,
По совести. Но совесть иногда
Идет вразрез с веленьями суда.
А кто теперь не судит? Лишь судья
Не правомочен принимать решенья,
И следственно – везде галиматья,
Сплошной потоп, всеобщее крушенье.
Тут не мешало бы слегка подумать,
Пофилософствовать в часы досуга,
Не правда ли? Что думаете вы?Беатриче
Я думаю, как часто униженья
Скрываются под маской уваженья.Судья
О, без числа. Для верного ответа
Такая алгебра нужна, что, право,
Я затрудняюсь. Всюду слезы, слезы – —Беатриче Несчастье плачет пылью иль не плачет.
Судья
Тем лучше, так ему виднее. Слезы —
Как мокрая повязка на глазах,
Куда ни ступишь – западня. Дороги
У нас запущены, вконец разбиты,
На них и мул привычный захромает.
Приходится подпрыгивать. К примеру —
Плясун канатный, – в чем его секрет?
В одном прыжке. Он шествует, а гибель
Внимательно сопровождает тело,
Лишенное опоры и поддержки,
И даже тени собственной. Но, ловко
Приплясывая и кренясь то вправо,
То влево, кланяясь и приседая,
И прыгая, понятно, – вытирая
Платочком пот, кончает он победой.
Все прыгают. Зато обратный путь
Мы заменяем лесенкой удобной.
Ловчимся, в общем. Слушайте, я прямо
Начну с конца. Закон, конечно, строг,
Но иногда как агнец мне послушен,
В нем столько дыр, лазеек и отдушин,
И обходных тропинок и дорог – —
Лишь пожелайте, и содею чудо,
Любой параграф выверну легко, —
Без хвастовства, в игольное ушко
Я протащу судейского верблюда.Беатриче
Есть у меня немало украшений,
Браслетов дорогих и ожерелий,
Мне их не жаль. Я рада все отдать
И за простую жалость к обреченным.Палач (входит)
Осмелюсь доложить, – не оплошать бы,
Он может кончиться как дважды два.Судья
Ступай, ступай, он выдержит и вдвое.
(Палач уходит)
Я продолжаю: в чем причина бед?
И говорю – в отсутствии смиренья.
Червь гордости приносит страшный вред,
Он точит все. Я ставлю ударенье
На слове «червь». Уступчивость – как розы
На платье подвенечном. Я ценю
Игры любовной милую возню,
Влюбленных, так сказать, метаморфозы.
В упорстве смысла нет. Оно лишь повод,
Предлог для многих действий, несовместных
С понятием о женской чистоте,
Оно всегда приводит к пораженью.
Вот истина, которую признал бы
И сам Сократ. Пример не за горами.
Вы помните, как в первый раз, когда,
Почти ломая кости, этот Пьетро
Вас обхватил обеими руками
И вдруг сорвал корсаж кровавой лапой,
И взвыл по-волчьи, будто одержимый – —
Я этой сценой лично оскорблен.
Я утерял надолго мирный сон, —
Сплошной позор, к несчастью, допустимый.
И случаев таких у нас немало.Беатриче Я палачей стыдиться перестала.
Судья
Напрасно, право. Изверги тайком
Не прочь попрать законы каблуком.
Что с них возьмешь? Понятно, я блюду,
Чтоб не было бесчестия суду.Беатриче
Мне кажется, что в каждом вашем слове
Угроза тайно выпускает жало.Судья
О, нет, напротив. Ваша добродетель
Невольное внушает умиленье.
Я предан вам. Я быть готов рабом,
Всем, чем прикажете. И мне не надо
Ни золота, ни ценных побрякушек,
Тем более что опись их известна.
Что золото? Пусть монастырский скряга
Иль ростовщик ему прилежно служит.
Есть идолы сильней, – любовь хотя бы,
Она бушует в мире как огонь,
Все обращая в уголь, на котором
Сгорели бы и Данте и Петрарка.
Любовь поэта – фимиам и дым,
В ней больше рифм, чем подлинного чувства,
Она вполне пригодна для искусства,
Но не к лицу читателям простым.Беатриче
Мне хочется заклеить уши воском,
Чтоб оградить ее от оскорблений.Судья
Все дело вкуса. Тема так обширна,
Что допускает бездну толкований.
Однако же – заметим: до сих пор
Здесь отвлеченный велся разговор,
Не делайте поспешных заключений,
Запомните.Беатриче
Бесстыдные слова, —
Иль я уже не дочь синьора Ченчи?Судья
Вопрос едва ль уместный. Впрочем, где он,
Синьор Франческо? Помнится, он тоже
Был и гневлив, и вспыльчив свыше меры.Беатриче
Он был как буря и ушел от нас
Подобно буре.Судья
Вот она, разгадка!
Был, значит, шум, попытка беспорядка?
Воображаю, хриплый бас и стон,
И театральный выход на балкон – —
А там гроза! На сцене как в аду
Рычит герой, предчувствуя беду – —
Трагедия софокловская, драма,
Комедия – —
(Слышен крик Марцио)
Ого! Какая гамма!Беатриче
Вот крик, в котором больше торжества,
Чем ужаса и боли. Он оборван – —
Рабы не знают милосердья. Трупы
Зовут на пиршество живых – – Но я
Пресыщена, меня тошнит убийством.
Виновна я. И Рим уже давно
Меня оплакал. Этот плач мятежный
На сонных площадях разбудит эхо,
В котором каждый звук наполнен бурей.
Чем вы смирите общее смятенье,
Что скажете простосердечной черни?
Что ведьма я, колдунья? Завывая,
Я бегала по Риму, обращалась
В капитолийскую волчицу, ночью
Сосала кровь детей новорожденных – —Судья
Для этих дел у нас регистр особый, —
Есть правила, но есть и исключенья.
Излишек истины – опасней лжи,
Соблазн красноречив. Святой отец
Велел ему язык укоротить.
Я взвешу все и за и против. Словом —
Рим трижды ни при чем. Покойной ночи.
Идите, вам для завтрашнего дня
Полезен отдых. Эта болтовня
Могла бы быть приятней и короче.
Сцена 12
(Тюрьма)
Палач
Ну, что ты скажешь, парень?Пьетро
Я скажу,
Что он хвастун бессовестный. Другой,
Лишь приспособишься его ломать,
Враз выложит отца, жену и мать,
И дочерей в придачу. Потому
Иной из нас и жалует тюрьму.
А этот что? Как каменный орех,
И даже скорлупа не как у всех, —
Грызешь ее, орудуешь щипцами,
Бьешь молотком, а все без пользы.Палач
Тут
Какая-то загвоздка. Мне сдается,
Что дело пахнет серой. В первый раз,
Когда ее волок ты на расправу
И платье рвал как бешеный, он пеной
От злости захлебнулся. А она
То ль подмигнула, то ли посмотрела
Исподтишка и что-то зашептала, —
Она его тогда околдовала.Пьетро Иначе – как же?
Палач
Будь еще она
Любовница ему – я понимаю, —
Иль, скажем, на худой конец, жена – —Пьетро Так, этак ли, – но я его сломаю.
Палач
Что там ломать? ни мяса, ни костей,
В нем не осталось и стакана крови.Пьетро Я с ним решил всегда быть наготове.
Палач
Смешно сказать, но верь или не верь —
Он мне понравился.Пьетро А мне она.
Палач
Что ж, ведьма, но как ангел сложена,
И в каждом пальце знатная порода.
Недаром ей положены гербы, —
Вот, выложишь такую на дыбы
И думаешь – не нашего прихода.
На ощупь даже косточка нежна,
Как булочка похрустывает сладко,
И горлышко, и крохотная пятка – —Пьетро Я видел сон, что мне она жена.
Палач
В уме ли ты? Весь Рим не сводит глаз
С решеток этих. Овощ не для нас.Пьетро
Подумаешь, великая беда!
Ну, четвертуют, – не большое чудо,
Ну, прибегут, посвищут господа, —
Я сам еще подсвистывать им буду.Палач
Там засвистишь! И рак сверлит в свисток,
Когда его бросают в кипяток.
Но в этом промысле тебе виднее,
А мне нужна невеста покрупнее.
(Марцио приходит в себя и стонет)
Пришел в себя? Ну, как дела, приятель?
Небось – неважно? Выпей-ка воды.Марцио Темно, не вижу. Вы глаза мне выжгли?
Палач
Пустое, просто в меру постарались.
Но ты держался молодцом. Послушай,
Когда имеешь ты какую просьбу —
Выкладывай. Обычай нам велит
Последнему желанью не перечить.Пьетро
Эх, слюни распустил – – Молчал, молчал,
А тут заговорил.Марцио
Я умираю,
И нет ее.Пьетро
Хо-хо! Губа не дура,
Туда же, крот! А ей какое дело,
Что должен ты к рассвету околеть?
Где правило написано такое,
Чтоб никого не оставлять в покое?
И, главное, о чем тебе жалеть?
О бабушке, о сломанной телеге,
О дождике, о прошлогоднем снеге – —
Что померещилось тебе спьяна?
И что ей ты, и что тебе она?Палач Иди, иди.
Пьетро
Пойду уже. А только —
Все это дурь.
(Уходит)Палач
Слыхал? Железный стержень,
А словно бы рехнулся. Сущий бес.Марцио Такая боль вошла в меня сегодня – —
Палач Перетерпи, недолго остается —
Марцио
Во мне уже чужое сердце бьется,
А сам я труп.Палач
Не стоит толковать,
Помалкивай. Словечко сохрани
И для других. Ага, идут они.
Хлебни вина. Крепись. Я лучше выйду
На случай. Парень тяжко неуклюж,
И может лишнее сболтнуть к тому ж.
(Уходит)Беатриче (вбегая) Ты жив еще?
Марцио
Я счастлив. Ты со мною.
Нагнись ко мне. Сядь рядом. Я боюсь,
Что голос мой внезапно ослабеет.Беатриче
Ты будешь жить, открыться я должна, —
Нам обещают вымолить прощенье.Марцио Но плачешь ты?
Беатриче
То слезы облегченья – —
Живой любви остуженные брызги,
Летящие над светлой бездной Бога – —Марцио
Слова твои темны. И я не вижу
Твоих страданий, потому что смерть
Мне застилает зрение. Дай руку.Беатриче
Я вся твоя. Скажи, что голос мой
Еще ты слышишь.Марцио
Слышу, но неясно,
Как будто он звучит в густом тумане.Беатриче
Зачем твоя рука похолодела?
Встань, Марцио, о, встань!Марцио (пытается приподняться)
Ах, трудно. В пытке
Все кости мне разбили, и колени
Не в силах разогнуться – – Беатриче!
(Падает)Пьетро (входит)
Пора кончать. Я должен отвести
Тебя до света в подземелье. Там,
Как водится – ни зги. Сплошная темень.
Но не робей, тут самый тайный путь,
Гляди, и выведет куда-нибудь.
Я посвечу в дороге фонарем,
А ослабеешь – на руки возьму,
Как перышко.Беатриче Он умер.
Пьетро
Что ему!
Нехитрая работа, все умрем.КОРОЛЬ
Посвящаю Ю. Офросимову
Сцена 1
(Комната во дворце. В глубине пять ступеней в опочивальню короля)
Фома
Ну, что-нибудь еще. Ты очень глуп
И оттого забавен. Говоря
По совести, мне нравится порой
Твоих нападок выпады кривые
Небрежной тростью веско отражать.Шут
Слова, слова! Одна несправедливость, —
И кто б еще в неравном поединке
Противу шпаг и кованых доспехов
С таким искусством мог бы защищаться
Оружием картонного закала,
Дозволенным к ношенью при дворе?
Увы, старик Иеремия мудр,
Но неудачник от рожденья. Впрочем —
И ваша милость, пресветлейший принц,
Похвастаться удачей вряд ли может.Фома
Я? Почему? Смирение и скромность,
Как говорят латинские отцы,
Двойное украшение. Я скромен,
Ну – и смиренен, да к тому же – принц.Шут
Так, так. Судьба обоим нам в насмешку
Помазала немного сладким губы:
Я шут придворный и слегка советник,
Но мог бы быть философом, поэтом
И мало ль чем еще? Проклятый горб
Определил иную мне карьеру.
Я шут. А вы – вы только принц, не больше.
Семь лет – супруг покойной королевы,
Да, принц-консорт, – куда как это лестно,
Потом отец, достойный короля,
И регент полновластный, – что еще?
Но – не король… Ученые арабы,
Что выдумали алгебру, назвали б
Вас королем, но мнимым. Так сказать,
Квадратный корень минус-короля.
Бездельники к тому же утверждают,
Что сам Аллах величиной подобной
Побрезгует как явно несъедобной.Фома
Все это так. Но желчи шутовской
Не следует чрезмерно разливаться, —
Тем более что как-то на досуге
Я прочитал старинный перевод
С халдейского: «Откуда есть урод,
Иль Клитово внимание о друге».
В главе седьмой – «О жалостном больном,
Который был изрядным болтуном» —
Клит говорит, что стоит лишь проткнуть
Язык злослова острым чем-нибудь, —
Стальной иглой иль штопором железным,
И – «оный шут становится полезным».
Цитирую на память, но дословно.Шут
Неровен час. Еще недоставало,
Чтоб к титулам, и громким именам,
И к прозвищам наследственным своим
Аптекарский ярлык вы прилепили.
Легко сказать – быть пациентом принца.
Мне эта штука вовсе не по вкусу;
К тому же я шаблона не поклонник
И не терплю бессмысленных традиций.
Проткнуть язык – всегда одно и то же —
Хоть в этом бы какой-нибудь прогресс…
И что за толк в лечении таком?
Ведь сотни лет, наверно, неспроста
Молва гласит, что за язык шута
И господина славят остряком.
Но я спешу. Мне нынче недосуг.
Прощайте, принц, вы в сильном раздраженье,
И кстати мне подумать о делах.
(Уходит)Фома
Он прав. Судьба, насмешливая ведьма,
Ко мне суровей, чем к нему. Всю жизнь,
Всю жизнь так яростно мечтать о троне —
И не подняться выше двух ступеней…
О, так желать!
Ребенок пятилетний,
Предпочитающий венцам и тронам
Колени няньки и игру в лошадки, —
Король. А я все жду, все жду – и тщетно.
Считаю дни и годы, и надежды,
И мелкой знати низкие поклоны,
И челяди почтительные взгляды,
И знаю – все мираж. Болотный призрак – —
И эта власть, убогие лохмотья
Ненастоящей мантии, что милость
Обычая мне щедро подарила, —
Она томит и жжет, как оскорбленье.
Желать как я! Дышать одним желаньем,
Все радости угрюмо запереть
В глухой сундук несбыточных расчетов
И, медленно слоняясь по углам,
Однажды ночью сердце окровавить,
Зарезать жалость цепкую и труп
Для любопытных опытов припрятать – —
И все затем, чтоб, выгорев дотла,
Золу души развеять по дорогам,
Которые открыты для других.
Да, может быть, пока я размышляю,
Друг всех бродяг, болтливый идол черни,
Филипп, ублюдок жалкий и лукавый,
Подсчитывает спорные права
И точит волчьи зубы на корону.
Она уже заметно покачнулась,
Вся в трещинах и в дырах. Первый ветер —
И полетит она бесславно в пропасть;
О, власть детей всегда полузаконна, —
Ведь у ребенка руки слишком слабы,
Чтоб в мяч играть свинцовой головой.
В такой игре – он лишь помеха, петля,
Сучок, который – должно растоптать,
Чтоб в дикой скачке конь не оступился…
Готов ли я? Свой замысел немой,
Как мать дитя, я выносил под сердцем;
Случайности предусмотрел и вычел.
Из всех друзей я выбрал только двух —
Расчет и точность. Эти не изменят.
Переступлю. Клеймо цареубийцы
Не жжет чела, венчанного короной – —
Вот, за стеной, так невозможно близко,
Он сладко спит, и в карусели сна
Веселые игрушки оживают
Для новых игр, – а в детском горле бьется
И словно пляшет молчаливый призрак
Кровавых пальцев, судорогой сжатых…
Лишь дверь одна меж этим сном и мною!
Я весь в поту. В висках холодный скрежет.
И ноги ослабели.
(Подымается по лестнице)
Пять ступеней
Не в силах я перешагнуть. Как будто
Уже совсем решился.
Полно, полно, —
Спокойствие. Есть логика добра
И право зла. Жестокий узел долга
Их часто связывает вместе. Что ж,
Стяну узлы, и эта дверь за мною – —
(Скрывается, входит шут)Шут
Ну-с, милый принц. Я выжал на досуге
Такой софизм из ваших поучений,
Клянусь Венерой… Впрочем, где же он?
Ага, должно быть, там, у ангелочка
В опочивальне. Вот же, я недаром
Всегда твердил, на каждом перекрестке,
Что у бедняги сердце золотое:
Червонец. Даже два червонца. Что?
Я не скуплюсь. Он добр – я щедр.
Мы квиты.Фома (спускается по лестнице)
Ты просто стар и глуп, Иеремия,
И даже шутки умной не способен
Хоть вызубрить, как школьник, наизусть.
Суди нас Бог, – но, кажется, тебе
Пора бы о душе подумать толком.Шут
Нам ум не чужд. Но глупость лишь одна
Назло уму назойливо умна.
Недурно, что? Вы завтра же Филиппу
Такую точно шутку сочините.
Ведь принц Филипп – Лукулл-от-каламбура,
И, может быть, светлейшая Мария
Рукоплескать вам станет за экспромт?
Красавица давно неравнодушна
К моим орехам в вашей скорлупе…
Однако? Ваша милость будто маску
Переменить успели? Вот потеха!
На вас лица нет – – Правда, – вы бледны,
И даже губы криво посинели.
Иль мне мерещится. Великий Боже!
Ваш лоб в крови… Возможно ли? И руки…
Чья эта кровь?Фома
Твоя, твоя, несчастный.
(Закалывает его)Шут
О, умираю!
(Падает)Фома
Стража, гей, на помощь!
Сюда, ко мне!
(Вбегает стража и слуги)Предательство, измена!
Король убит. Настигнутый убийца
Еще хрипит. Подосланный Филиппом,
Он это имя с кровью изрыгает…
Вы слышите? К оружию, к отмщенью!
(В толпе крики ужаса)Сцена 2
(Площадь. Помост у собора. На возвышении – герольд)
1-й горожанин
Что он сказал? Король уже в соборе?
Идет сюда?
2-й горожанин
Здесь, хоть убей, не слышно.
Поверите ль? Я три часа стою,
Но с каждым часом новые подходят
И норовят, без правил и без чести,
Протиснуться на первые места.1-й горожанин
Да, нечего сказать, хорош обычай, —
Ни к возрасту теперь, ни к положенью
Весь этот сброд не знает уваженья.
(Протискивается вперед)Торговка
Послушайте, куда вас прет нечистый?
Вы этак мне все юбки оборвете!1-й горожанин
Ну, тетка, не греши, скажи спасибо, —
Когда еще найдешь ты лучший случай
Товар лицом народу показать?
(В толпе смех)Подмастерье
Каким лицом? Небось, у ней двойник!
(В толпе смех)Торговка
Молчи, щенок. Ты, кажется, забыл,
Что тот двойник тебе родня отчасти?
Давно ли ты прыщом, мошенник, был
У матушки на этой самой части?
Эй, говорю, закройся, постыдись,
Хоть при честном народе не зудись.
(В толпе смех)Пьяница
Так, так его. От этих цеховых
Одно лишь зло для мертвых и живых.2-й горожанин
Заткни фонтан. И как не стыдно, право,
В подобный час, и на виду собора…1-й горожанин Тсс… говорят…
Пьяница
Ты сам бы помолчал.
(Трубы)Голоса Внимание, внимание! Герольд!
Герольд
…И совершив обряд коронованья,
Его величество, король, изволит
В знак милости явиться пред народом.
(Уходит, трубы и барабаны)Герольд
Король, король!
(На помост всходит Фома)Народ Да здравствует король!
Фома
Благодарю, мой доблестный народ.
(Шум смолкает)Господь и долг мне ныне возложили
На голову священную корону
И с нею бремя королевской власти.
В жестокий час сердечных испытаний
Я унаследовал бразды правленья.
Еще ни разу летопись злодейств
Не омрачалась горшим преступленьем…
Но Бог помог злодея обнаружить, —
Раскаяньем и муками томим,
Подосланный убийца перед смертью
Успел назвать другое имя. Вы
Уж знаете, кто истинный виновник.
Вы знаете, кто злобному шуту
Вложил кинжал в дряхлеющие пальцы,
Чтоб с помощью кощунственного сброда
Насильственно престолом овладеть.
Филипп, Филипп! Когда-нибудь Господь
За эту кровь младенческую взыщет…
Но скорбь – отцу, а государю – долг, —
Помолимся ж, чтоб праведный судья
Наставил нас на подвиг управленья
И претворил отцовскую печаль
В веселье подданных. И пусть отныне
Мне будет сыном добрый мой народ.Мария (вбегает и падает к ногам короля) Защиты, милосердья, государь!
Фома Мария, ты ль? Зачем ты здесь?
Мария
Пощады
Невинному!Фома
Невинному? Но разве
В моей стране закон уже бессилен?Мария
Что знаю я? Отец мой осужден
И может быть убит, и нет законов,
Которые смягчили б палача.Фома
Увы, дитя. Есть страшные пределы,
Где и любовь от ужаса немеет.
Но знаешь ли, подумала ли ты,
Каким злодейством совесть запятнал
Тот, за кого ты просишь в ослепленьи?
Кто, долг презрев, и родину, и Бога,
И честь свою, и свой высокий сан,
Дерзнул поднять свой меч на государя,
На короля, помазанного Богом,
Чей нежный возраст мог бы укротить
И каменное сердце василиска.Мария
О, это смерть жестокие слова
Вам, государь, тихонько подсказала!
Из милости, из состраданья к горю
Несчастнейшей из дочерей, которой
Уже и слез для плача не хватает,
Оставьте мне надежду в подаянье.
Когда б хоть тень, хоть призрак подозренья
В душе моей могли отца коснуться, —
Я первая б злодея осудила.
Но мне ли сердца близкого не знать,
Чей каждый стук я слышу и теперь,
Едва к земле в печали припаду?
Все помыслы его и все заботы,
Все радости его я с детства знала…
И он был зол? Когда я каждый волос,
И каждую седину в волосах,
И каждую морщину и примету
На лбу его могу пересчитать,
Закрыв глаза, на память, без ошибки?
Что я должна еще сказать? Быть может,
Улики ненависть изобрела, —
Ведь часто червь предательства и зла
Сверлит плоды и тайно корни гложет.
Быть может, он – лишь жертва клеветы,
Что подметает праведным дорогу,
Быть может, судьи были слишком строги
И не хотели видеть правоты.
Не вы ль ему все тайны доверяли
И вознесли на высшую ступень?Фома
И тем черней змеиная измена.
Закон и суд убийце предоставил
Все способы и средства к оправданью, —
И что ж? Вина сама себя сгубила.
Где голос тот, который произнес
Хоть звук один в защиту злодеянья?
Где голос тот, который громко скажет,
Что принц Филипп достоин милосердья?2-й горожанин Смерть, смерть ему!
Голосa
На плаху, под топор
Изменника, предателя и вора.Пьяница
А если бы и не был он виновен, —
Уж то добро, что станет принцем меньше.Торговка
Да и ее, с ее отцом проклятым
В один мешок.Голоса В тюрьму ее, в костер!
1-й горожанин
Что толковать? Отсюда видно, ведьма
Рыжеволосая. Раздеть колдунью!Фома
Ты слышала сама. Народа голос,
Как голос Божий, мудр и справедлив;
Он подтвердил решение закона,
И приговор скреплен. Но в добрый час
Я милостью начну свое правленье.Мария О, милости!
Фома
Пусть дети за отцов
Не будут впредь караемы до срока.
Мария, встань. Наследственный твой сан,
Все титулы, и замки, и поместья
Я обещаю словом королевским
Вернуть тебе и роду твоему.Мария
А я прошу лишь сердце мне вернуть,
Которое могла б я снова слушать.Фома
Мария, встань. Я тоже знаю сердце,
Которое навеки замолчало.
(По его знаку Марию уводят)Фома (народу)
Храни нас Бог.
(Уходит. Трубы и барабаны)Народ Да здравствует король!
2-й горожанин
Что скажете? Ведь добрый наш монарх
Из золота чистейшего отлит.1-й горожанин
И то сказать, красавица принцесса
Поистине, как ангел, хороша.Пьяница
Я, знаете, готов от умиленья
Расплакаться, хотя и трезв сегодня.
Такой король – всем бедным утешенье.
(Народ расходится)Торговка (к подмастерью)
А ты, бездельник, мог бы и учтивей
Быть с дамами. Мы, кажется, соседи.Подмастерье
А ведь и верно, если я не вру!
Тебе туда? Ну что ж, мы можем вместе
Пройтись квартал.Торговка
Пожалуй. Только – чур,
Не приставать с руками по дороге.
(Уходят)1-й дворянин Ну вот и все. Разыграно отлично.
2-й дворянин Разыграно? Хотите вы сказать…
1-й дворянин
Нет, нет, не то! Храни меня Господь
От мыслей тех, что в голову пришли вам.2-й дворянин
Мне в голову? Я просто убежден,
Что наконец порядок обеспечен.
Ведь сколько лет – то женщины, то дети
Невесело играли в королей.
Теперь конец, – корабль не разобьется.1-й дворянин Я страшно рад.
2-й дворянин
Я счастлив чрезвычайно.
Сцена 3
(Комната во дворце)
Мария
Вот, я пришла. И каждая ступенька,
Как подымалась я, казалось, жгла
Подошвы ног, и каждый встречный шорох
Был словно вздох отцовский под землей.
Что хочешь ты? Зачем послал за мной?
Иль, может быть, все жалобы мои,
Что размягчить могли б и твердый камень,
В твоих ушах звенят как горсть червонцев
В подоле скряги старого? Скажи,
Каких еще упреков и укоров
Хотел бы ты сегодня на потеху?
О, как давно тебя я разгадала.
Тебе нужны мои слова и слезы
Для опытов, холодных и жестоких.
Угрюмый смех, пустое любопытство
Ты бросишь мне в награду за труды.Фома А если бы искал я сожаленья?
Мария
Тебе ль его искать? Не для того ли,
Чтоб из него надгробный сплесть венок
Тому, кого сгубил и трижды предал?Фома Но твой отец виновен был.
Мария
Молчи,
Молчи, ты сам своим словам не веришь.Фома
Да, ты права. Быть может, он ни в чем
Не виноват, но смерть непоправима.Мария
И ты во всем бесстыдно признаешься?
И твой язык к гортани не прилип?
Скажи, в каком железном сундуке
Ты спрятал сердце под семью замками?Фома
О, сердце! Есть смертельные ключи,
Их выковал сам дьявол или Бог,
Ключи, подобные клинку кинжала,
Которые и в каменной груди
Находят скважину и входят в сердце,
Чтоб отпереть его или расплавить – —
Ключи любви, ужасные ключи,
Что отдирают с каждым поворотом
Живые клочья сердца.Мария
Любишь ты?
О, назови мне имя той несчастной,
Чтоб за нее могла я помолиться.Фома
Так помолись, Мария, за себя
И за меня немного, если можешь.Мария
Ты, ты сказал! И мне? И я должна
Еще и это вынесть оскорбленье?
И в небесах нет молнии такой,
Чтоб твой язык в золу испепелила?Фома
Кляни меня. За каждую мечту,
За каждый грех, за каждую минуту,
Что я тебя ласкал в воображенье.
Кляни меня за голову отца,
Погибшего на плахе без вины,
За все дела мои и помышленья…
Но сохрани еще одно проклятье,
Прибереги еще одно, – за сына,
Которого, вот этими руками,
Я в темноте зарезал равнодушно.Мария
Ты болен, да? Ты бредишь в лихорадке?
Молчи, молчи… Гляди в глаза мне прямо…
Иль ты убил и вправду? Говори,
О, отвечай же, Каин, Каин!Фома
Каин.
Так, это он, но только без печати.
И верь – он так спокоен, что сам Бог
Завидовать ему на небе может.
Да, Каин я. Но сердце не зовет
Раскаянья, не молит о пощаде.
Мой путь суров, но ясен до конца:
Пересеку спокойно и неспешно
Широкие пустыни, и когда
В предсмертный час шаги отяжелеют, —
Без жалобы я лягу на песок.
Лишь лунный свет, холодный и бездушный,
Осеребрит зыбучие пути
И оживит кочующие тени…
И будет все безмолвно, и никто
Моей ладони плачем не согреет.Мария
И я могла любить его когда-то…
О, Господи, мой Боже! Сотвори,
Чтоб это стало только сном минувшим!
Что хочешь ты? Какую гору мук
На плечи мне еще свалить задумал?Фома Хочу любви, твоей любви, Мария.
Мария Да, да, возьми и выпей эту душу!
Фома И ты меня не ненавидишь?
Мария
Ужас
Убил во мне и ненависть и злобу – —
О, что мой мрак перед такою ночью?
О, что мой плач перед таким страданьем?
Что боль моя перед таким признаньем – —
Сцена 4
(Исповедальня короля)
1-й слуга
Послушай-ка, ты думал ли случайно,
Что насморк с пылью особливо дружен?
Я до рожденья как-то был простужен
И склонен к насморку необычайно.
Поверишь ли, едва возьму метелку,
Лишь прикоснусь к обоям иль ковру, —
И вмиг в носу зачешется без толку,
И словно черт откроет там дыру.
Тут я уже одно спасенье знаю:
Что мочи есть сморкаюсь и чихаю.2-й слуга
У нашего аптекаря я видел
Претонкие духи; рискни, пожалуй,
Когда придется выбивать ковры,
Слегка попрыскать снадобьем под носом.1-й слуга Ты думаешь?
2-й слуга
А отчего бы нет?
Сам принц Филипп их покупать изволил, —
Да с той поры, как черт его попутал
На гнусное злодейство, весь запас
Непроданным остался на прилавке.1-й слуга
Так полагаешь ты, что в самом деле
Наш дорогой малютка государь
Зарезан был подосланным от принца?2-й слуга
Ну, вот еще! Своими же ушами
Я слышал, как хрипел Иеремия,
Что именно Филипп его послал
И дал приказ ужасный, и в награду
Четыре бочки золота сулил.1-й слуга
Четыре бочки! Кто бы мог подумать,
Что у злодея столько лишних денег.2-й слуга
Глупец. По-твоему корона вздор?
Ну подведи-ка счет такой короне,
Как наша.1-й слуга
Гм, ты, может быть, и прав,
И я бы сесть на трон не отказался.2-й слуга
За чем же стало? Благо у тебя
Есть чем сидеть, и на два трона хватит.
Но только помни, для такой игры
Еще бы несколько голов в запасе
Иметь не худо. Добрый наш король
Особый взгляд на этот счет имеет
И шулера всегда обрить сумеет.
Уж сам Филипп, на что играл отлично,
В конце концов обрит до плеч публично.
А за него ль прилежно день и ночь
Светлейшая Мария не просила?
И что ж? Пока он держит банк в могиле,
Здесь по ночам обыгрывают дочь.1-й слуга
Ты все смеешься. Это потому,
Что у тебя на грош воображенья.
Чуть что – сейчас на плаху, иль в тюрьму,
Иль на галеры, иль куда в сраженье.
Я не терплю всех этих «но» и «если», —
Эх, посижу хоть в королевском кресле.
(Садится)
Послушай, право же, недурно. Мягко.
И голова в каком-то просветленье…
Подай-ка мне подушку для спины.2-й слуга
Каков болван! Лишь задом прикоснулся
К величию, а мнит себя великим.
Да я тебя…1-й слуга
Тсс… Онемей. Король…
(Поспешно подбегают к двери. Входит Фома)Фома
Что, мыши, шепчетесь? Метете щели?
Шпионите? Все нюхаете жадно,
Не пахнет ли где падалью подгнившей?
Кыш, прочь, долой, бесовское отродье!
(Слуги уходят)Везде, везде шушукаются, жмутся,
Услужливо заглядывают в мысли
И, преданно цепляясь за колени,
Готовы все царапины и раны
У короля по-песьи зализать.
Куда бежать от верности такой?
Весь воздух вкруг проклеен тусклым взглядом,
Почтительно грязнящим исподлобья.
Король… Раздетая душа, что каждый,
Благоговейно локоть засучив,
Нечистым пальцем тянется потрогать…
О, скучно жить, когда и преступленье
Не смеет быть самим собой под солнцем.
Что мне осталось в этом заточенье,
Где жертвы даже ласковы со мной?
Мария! Легкое зерно под ветром,
Ты, что должна бы это сердце резать
Прикосновеньем каждым, каждым словом, —
И ты лишь сон, бесшумная Мария.Мария (входит)
Ты звал меня? А я, как раз, случайно
По лестнице спускалась и тотчас
Услышала твой голос.Фома
Нет, иди,
Почудилось тебе, должно быть.Мария
Правда?
Ты так давно со мною не бываешь, —
А без тебя мне как-то неспокойно,
И хочется все думать и грустить,
И хочется, чтоб ты опять со мною
Был ласковым и добрым, как когда-то.Фома
Я очень ласков. Только не сегодня,
Я несвободен. Вечером, быть может.Мария
Так ты придешь? Ты не забудешь? Нет?
О, Господи, я целый день мечтала
И все ходила мимо этой двери…
Ты хмуришься? Прости меня, я скоро,
Я ухожу. Я знаю, я болтлива,
Но так давно не видела тебя – —Фома (обнимая ее)
И ненависть погасла в этих стенах,
И самый бред рассудком обескровлен…
Порой не прочь мы ухо преклонить,
Чтоб выслушать скрипучие обиды
Своих глухих душевных тайников, —
Но я во всем одни удачи знаю,
И ни обид, ни даже огорчений
Заботливый судья не отпустил
На долю мне.
Убийственный отпор
Готовил я для Бога и людей.
Я, как пружину, волю закалял,
Чтоб отпустить ее в лицо преградам;
И вот она разжалась. Но кругом
Лишь пустота податливо качнулась.
Все напряженье, весь закал и мощь,
И натиск мой – погибли бесполезно.
Так ощупью по лестнице бредет
Слепой, и вдруг, не рассчитав ступеней,
Еще одну перешагнуть готовый,
Срывается и падает, нежданно
Ступив на гладко вымощенный пол…
(Входит духовник)Духовник Простите, государь.
Фома (не замечая его)
А дни проходят…
Душа молчит, покорно дремлет совесть,
И только мысль, как каторжник, томится.
Как некий зодчий, на песке зыбучем
Она бесплодные вопросы строит
И разрушает легким мановеньем
Руки нетерпеливой. И опять
Возводит к небу шаткие подпорки.
Но небо пусто. Старый Бог уснул.
Иль глух. Иль нем. Иль умер незаметно.Духовник Он только ждет.
Фома
Ты знаешь?
(Быстро оборачивается)
Кто здесь? Что?
Ах, это вы.Духовник
Смиренный ваш слуга
Явился к вам исполнить долг Христов.Фома
Да, да, я и забыл. Я стал забывчив.
Сегодня исповедь. Ну что ж? Быть может,
И вправду он лишь подтвержденья ждет,
Чтоб правый суд свершить без замедленья.Духовник
Никто не знает часа, государь,
Когда весы Всевышнего склонятся
Под тяжестью греховных наших дел.
Быть может, чаше груза не хватает,
И медленно качается она
Меж пропастью и райской высотой.Фома
А, груза? Так. Какое же злодейство,
По-вашему, я должен совершить,
Чтоб переполнить чашу ожиданья?Духовник
Что есть злодейство? Горние пути
До срока смертным взорам недоступны.
Что знаем мы о Промысле священном?
Быть может, то, что слабому уму
Покажется ужасным преступленьем, —
Лишь сделанный поденщиком заказ
По замыслу и воле Господина.Фома
Итак, отныне нет такой руки,
Которая могла б карать виновных?Духовник
Единственно – помазанный от Бога,
Приявший бремя власти в Божьем даре,
И те, с кем власть делить ему угодно.Фома Король?
Духовник Один лишь он.
Фома
Так. То для них,
Для подданных. Но если сам король
Последнего убийцы недостоин,
А Бог молчит, и все пути закрыты
К его делам, и замыслам, и воле?
Где, где оно, такое преступленье,
Чтоб и себе я вынес осужденье?
Какую гирю бросить на весы
Мне надобно, чтоб чаша опустилась
И раздробила это сердце в прах?
Иль нет совсем грехов для государей,
Которых бы не отпустили вы?
Иль малый груз – зарезанный ребенок,
Которому мы оба присягали?Духовник О, Боже!
Фома
Что, задумался, дрожишь?
Смирение и кротость содрогнулись?Духовник
О, Боже мой. Безмерно тяжелы
Твоих детей земные испытанья,
Но нам ли знать твои предначертанья?
Закон твой благ, и каждое паденье
Да будет нам как хрупкое стекло,
На коем ты душевного алмаза
Углы и твердость мудро испытуешь.
(Королю)
Мужайтесь, сын мой. Может быть, Господь
Вас милостью особою отметил
И в небесах особую награду
Великому страданью положил.Фома
Не много ли? Простого отпущенья
Мне было бы достаточно. Довольно.
Уйди, старик. Уйди, ты гадок мне.
Ишь, как глаза змеиным огоньком
Под черепом облезлым разгорелись!
Прочь, дьявол, прочь! Или, клянусь, мой меч
Я о твое притворство замараю.
(Духовник уходит, пятясь задом)
И небеса к убийце благосклонны!
Сцена 5
(Комната во дворце. Ночь)
Фома (глядя на спящую Марию)
Мария. Вот она, с лицом счастливым,
С полураскрытыми губами, грех
Забывшая в объятиях убийцы – —
Продавшая отца, и стыд, и гордость
За краткое мгновенье ложных ласк.
Так сладко спать! И так дышать спокойно,
Как будто сам Господь благословил
Ее любовь. И все вокруг спокойно.
(Опускает полог, отходит.)
Когда бы камень, дерево, железо
Или иной предмет, участник наших
Злодейств и преступлений, слез и горя,
Имел живую душу и сужденья, —
Какая б в мире буря бушевала.
Нашлась бы где такая пядь земли,
Где наша мысль могла бы одиноко
Выкраивать томительные бредни
И ткать из сумерек протяжных сны,
Одни лишь сны, без радости и муки?
Но камень мертв и все вокруг мертво.
В спокойствии, в бездействии, в томленьи,
Пятно кровавое покрылось пылью
И плесенью, и стало незаметным.
И тень моя, забрызганная кровью,
Не прячется, не бьется, не трепещет…
Беззвучная, ложится на ковер,
Безмолвная – колышется спокойно.
Лишь изредка опередит шаги,
Подымется, коснется потолка
И вновь падет, покорная, к ногам.
Спокоен я. Ни отклика, ни шума
Предсмертный стон ребенка не родил.
Я, кажется, уже его забыл.
(Идет к окну)
Там мутный дым и мутная заря
Плетутся, не спеша, в сыром тумане;
Быть может, дождь заклеит стекла окон
И смоет грязь на площади. И все.
(Открывает занавес)Голос Ай-ай, нельзя ль немного осторожней!
Фома
Ого, как будто кто-то посторонний?
(Пронзает занавес шпагой)Голос
Ну, так и знал. Опять меня проткнули
Своей проклятой шпагой! Бедный горб!
Он и за гробом вынужден служить
Для развлечений ваших неуместных.Фома
Да кто здесь? Кто бы ни был ты, клянусь,
Я проучу тебя, бездельник.Голос
Кто!
Конечно, я, старик Иеремия.
(Показывается из-за занавеса)Фома
А, значит, мертвецы и вправду могут
Разгуливать в преображенном виде?Шут
Мой бедный принц, иль, виноват, король, —
Вам очень бы хотелось в это верить?
Недурно, что? Старик Иеремия
Из гроба встал, запасся пышным слогом,
Пришел в ночи окровавленной тенью
И, длань подъяв, длиннейшим монологом
Потребовал преступника к отмщенью!
Увы, увы. Как можете вы видеть —
Я незлоблив, безвреден и учтив.
(Непринужденно садится в кресло)Фома
Проклятый шут! Уж верно говорят —
Горбатого могила не исправит.
Зачем ты здесь?Шут
Да так, и сам не знаю.
Должно быть, от тоски. Что делать мне
В сыром гробу, где я уж год скучаю
В однообразном и нелепом сне?Фома
Однако же, признайся, думал ты,
Что я умру от ужаса при виде
Твоих ушей, что некогда трепал я?Шут
Ну, как сказать. Вы очень романтичны
И любите, пожалуй, эти штуки, —
Ведь только что, наперекор науке,
Казалось мне, серьезно вы хотели,
Чтоб все кругом одной служило цели:
О мщении неистово кричать
И каждый шаг злодея обличать.
И под конец, охваченный обидой,
Не вы ль хотели с девой Немезидой
Делить до гроба сплин и геморрой?
А все затем, чтоб, сокрушив каноны,
Богиню мести, судей и законы
Мог выпороть воинственный герой.
Все ужасы вы мрачно перебрали,
Но в поисках оригинальных сцен
Лишь мой камзол убогий оборвали…
Нет, вы просты, сердитый мой кузен.Фома
Но кто же ты, что здесь сидишь и пляшешь
На этом кресле?Шут
Привиденье ночи.
Дыра души, заштопанная наспех,
Скользящая лениво в пустоте,
В загадочной среде без измерений,
В объеме странном, что упруг и плотен
И, как пружина, в действии своем
Сжимается. Но сжатия предел —
Здесь некий нуль, науке не известный.
Он, сокращаясь, всасывает души
И все тела для новой обработки.
Я – только школьник, получивший отпуск,
Чтоб в сад чужой забраться на досуге.
А впрочем, может быть, мужайтесь, друг, —
Я – лишь обман, рожденный лихорадкой,
Галлюцинация, мечта. Не больше…Фома
Ты лжешь, ты лжешь, проклятое отродье,
Мечта не может быть такой нелепой.Шут
Ну, утешайтесь. Я же вас насквозь
И поперек, и вдоль давненько знаю.
И мне вас жаль. Обидно ведь – свершить
Ужасное злодейство, да такое,
Что вся земля должна бы содрогнуться, —
А в результате – вовсе ничего.
Ни отклика, ни шума. Все спокойно…
Да и злодейству нужен резонанс,
Чтоб стать трагическим, а так – не стоит
И начинать. Какая-то дыра
Иль топь беззвучно камень проглотила
И даже не пустила пузырей.
Герой туда, герой сюда – все спит;
Глядишь – и он уснул. И нет героя.
Осталась только жалкая нелепость,
Как здравый смысл иль физики законы.Фома Так сгинь же, бес!
Шут
Какие выраженья!
Au revoir, я с нервами не лажу;
Вы раздражаетесь, и мне пора
Уйти в туман, расплыться, раствориться.
(Расплывается в воздухе)Фома
Обман, обман. Я бодрствую и грежу,
Как девочка, забытая в потемках – —Мария (просыпаясь)
Ты все не спишь? Послушай, я дрожу, —
Престранный сон мне душу потревожил.
Привиделось мне, будто кто-то третий
Был здесь, одетый сумраком туманным,
И кровь мою заворожил со смехом,
И, наклонясь ко мне, рукой косматой
Души коснулся и бессмертье вынул…Фома
Бессмертье – Боже мой, как это мало!
То дух отца пришел к тебе неслышно,
Чтоб дочери преступную любовь
В пустую чашку бросить на весы,
Где взвешивает Бог его страданья,
И посмотреть, какая перетянет.Мария
Жестокий! Ты опять меня терзаешь
Своим презрением и смехом. О,
Но этот грех я для тебя свершила.
(Плачет)Фома
Да, я не прав. Прости, я был жесток,
Но призраки и мой покой смущают
И, может быть, подслушанные сны
Мне губы горькой желчью обжигают.
Но все пройдет. Я более не стану
Любви твоей испытывать страданьем;
Прости меня. Не плачь и спи спокойно.
(Задергивает полог)
Не много ласки нужно всепрощенью,
Чтоб утолить сухой обиды жажду – —
Так просто все, как мой последний вывод…
Да, да, пора еще одну забаву
Испробовать, хотя б из любопытства.
(Достает порошки и рассматривает их.)
Стакан вина, да этот порошок,
Аптекарем для вкуса подслащенный,
Да что еще? Пожалуй, завещанье?
А там и смерть, отличная развязка,
Нехитрая загадка для живущих.
(Всыпает порошок в вино и пьет)
А ведь недурно – плут Иеремия
Обязан мне карьерой привиденья.
(Склоняется в кресле и умирает)Смерть Дон Жуана
Посвящаю Ю. Офросимову́
Я гибну – кончено – о, Донна Анна!
А. Пушкин
Сцена 1
(Двор Донны Анны. Ночь)
1-й слуга
Приятель, эй! Откройтесь, наконец,
Вы человек иль статуя немая?
Клянусь Мадонной, я на помощь крикну, —
Вы выйдете?
2-й слуга (входит с улицы)
Диего, это ты?
Но что за шум?1-й слуга
Послушай, мне сдается,
Мне показалось, будто кто-то ходит
Там, за колоннами. Зайди, пожалуй,
Да обыщи, не спрятался ль и впрямь
За ними кто, а я покараулю
Среди двора.2-й слуга
Прошу, слуга покорный, —
Я не охотник подставлять бока,
Когда меня не трогают.1-й слуга Боишься?
2-й слуга
Каков храбрец. Попридержи язык,
Ты сам, как лист, дрожишь.1-й слуга
Да, задрожишь, —
Я мог бы присягнуть, что слышал крик
И в темноте знакомые шаги – —
Шаги – – но нет, подумать даже страшно.2-й слуга Да чьи шаги? Ври толком!
1-й слуга Командора – —
2-й слуга
Ты что ж? Вконец рассудок потерял
Иль заложил за воротник не в меру?
Покойный командор (Господь помилуй!)
Небось уже успел в раю обжиться, —
Сочти по пальцам, сколько дней прошло,
Как он погиб от шпаги дон Жуана
И вдовий траур сшила донна Анна?1-й слуга
Оно и так, а все же будто жутко —
Так ясно мне привиделось, что он
Прошел, звеня, тяжелый и огромный,
И словно врос в колонну тенью серой.2-й слуга
И правда, жутко стало. Все ли слуги
Вернулись?1-й слуга
Нет, я первый. По дороге
Одиннадцать пробило, а сегодня
Всех донна Анна отпустила к часу.2-й слуга И двор так пуст – – Уйдем, пожалуй.
1-й слуга
Да,
Пройдемся, брат, я, право, весь дрожу.
Поверишь ли, на лбу холодный пот,
И волосы под шляпой шевелятся.
(Убегают. Входит Лепорелло)Лепорелло
Давно пора, а дон Жуан не вышел.
Что ж, подожду. Проклятое житье.
Ни дня покоя. Шпаги да кинжалы,
Да мертвый хрип на темных перекрестках,
И здесь, и там, – Лаура, донна Анна,
И кто еще? А ты броди до утра,
И для чего? Зачем, подобно вору,
Я вынужден дрожать за каждый шаг,
Скрывать лицо под маской, извиваться,
Не спать ночей, худеть, носить записки
И твердо знать, что рано или поздно
Испанский гранд или злодей наемный
Нечаянно проткнет тебя кинжалом?
Ну-ну, судьба. Проклятое житье!
(Задумывается)
И то сказать, красавицы, как дуры,
Бегут к нему. А что в нем? Только то,
Что худ да зол. Нахален и неглуп – —
А донна Анна? Грустная вдова,
Печальная красавица, что мужа,
Едва похоронив, забыть успела
В объятиях убийцы? Грешный ангел – —
Да будь я познатней да побогаче —
Все быть могло бы несколько иначе.
(Из дому слышен крик донны Анны)
Ого, кричат? Создатель, с нами сила
Господняя. Там душат или режут!
(Выбегает донна Анна)Донна Анна
О, Боже мой, о Боже, умираю…
(Падает на руки Лепорелло)Лепорелло Ай, ай, да что случилось, донна Анна?
Донна Анна Вы? Кто вы? О!
Лепорелло
Не бойтесь, это я.
Здесь Лепорелло, друг, оруженосец,
Поверенный, посыльный дон Жуана.Донна Анна Его слуга?
Лепорелло
Гм, скажем – брат молочный, —
Не в этом суть. Вам лучше? Да присядьте, —
(Усаживает ее)
Где дон Жуан? Очнитесь, наконец,
Вы мертвеца бледнее.Донна Анна Ах!
Лепорелло
Вам дурно?
Где дон Жуан?Донна Анна О, Боже мой, я гибну…
Лепорелло (про себя)
Ну женщина, вот пытка: все свое, —
(К ней)
Где дон Жуан?Донна Анна
Не знаю, он погиб.
Он был, ушел, и снова воротился,
И вдруг вскричал, и в двери командора
Я статую увидела. Мадонна!
Зачем еще живу я? Для чего
Не умерла в то страшное мгновенье?Лепорелло Но где же он?
Донна Анна
Не знаю, в этот миг
Казалось – смерть мои глаза закрыла,
Лишь кровь в ушах звенела и стучала,
Да этот звон его шагов тяжелых,
И этот крик, – о, как его забуду!Лепорелло (облегченно)
И это все? Но можно ль так шутить?
Ух, вы меня до смерти напугали.Донна Анна Но дон Жуан?..
Лепорелло
Да, да, конечно, верю,
Был – и ушел. Обычная манера.
Вам было дурно? Невидаль какая!
Да есть ли женщина в Мадриде целом,
Которая без обморока может
Расстаться с дон Жуаном? Удивили!Донна Анна
Нет, нет, я не шучу, – мне стало дурно,
Но…Лепорелло
Вам привиделось. Одно волненье.
Ужасный сон, тяжелая мечта
Вас потрясли внезапно на прощанье.
Поверьте, так бывает. Очень часто
Пустой предмет – за шкафом полотенце,
Что сразу не приметишь в полутьме,
Иль тронутая ветром занавеска,
Иль старый шлем, иль что-нибудь еще —
Рождает ночью страшное виденье.
Но подойдешь, ощупаешь, утрешь
Холодный пот, переведешь дыханье —
И все поймешь, и видишь – все пустое,
Лишь ночи тень, одно воображенье.
Что говорить? Поверите ль? И мне,
Не дальше чем сегодня, показалось
В монастыре, где вы молились, будто,
На мой поклон учтивый, ваш супруг,
Хотел сказать я – памятник почтенный —
Мне головой кивнул. И что ж? Конечно, —
Всему есть объясненье. Это было
Движенье тени, легкая игра
Ветвей и солнца на челе гранитном.Донна Анна Все может быть, – но сердце бьется, бьется – —
Лепорелло
А дон Жуан небось уже храпит
И видит сны блаженные, счастливец – —
Да, кстати, вспомнил я, – из подворотни,
Когда я шел, шмыгнула тень и скрылась.
Кому б здесь прятаться? На то в Мадриде
Лишь дон Жуан причины изобрел.
(Из-за крыши выходит луна)
Ну вот, теперь вам лучше, вероятно, —
Взошла луна, и стало все понятно.
Пора домой. На башне бьет двенадцать.
(Часы бьют)Донна Анна
О, нет, останьтесь: – этот призрак страшный
Лишь притаился, может быть, и слуги
Вернуться не спешат.
Ай, что там?Лепорелло
Где?
За той колонной? Будто ничего.
А впрочем – есть. Посмотрим…
(Идет)
Иисусе!
Здесь труп. Как угораздило? Молчите,
Молчите же, я мигом все устрою
И сволоку его на перекресток,
Подалее – —
(Вглядывается в труп)
Проклятье, донна Анна!
Ведь это он, здесь дон Жуан! Он мертв!
(Донна Анна падает с криком)
Сцена 2
(Статуя Командора. Стена часовни с расписным окном)
Голос Дон Жуана
Ни день, ни ночь. Туман и липкий воздух,
И мертвый шум, и непонятный ветер.
Ни жизнь – ни смерть. Хочу себя пощупать —
Но ни руки, ни уха, – ничего.
Но все кругом – и солнце, и деревья,
Антоньев монастырь и командор,
Ревнивый муж, мне вывихнувший руку, —
Все как всегда, на месте и в порядке.
Но так нельзя. Без тела непривычно,
Душа зудит и жаждет воплощенья.
Гей, командор! Любезный дон Альвар,
Прошу тебя, смени вражду на милость,
Я новичок еще в делах загробных, —
Скажи, могу ли я, печальный дух
Беспечного когда-то дон Жуана,
Примерить плоть по мерке и по росту?
Хоть чью-нибудь, хоть не из очень важных —
Один костюм, железный иль бумажный,
Из дерева, гранита иль стекла?
Облечь мечту вещественной сорочкой,
Чтоб хоть на миг оформиться могла
Душа моя предметной оболочкой?
(Статуя указывает на окно)
Что, как? Окно? Вскочить на подоконник?
Какой намек! Я был всегда поклонник
Чужих балконов, окон и супруг,
Но можно ли обрамить скорбный дух?
Что делать там бесплотности и мгле?
Перебродить, очиститься в замазке,
Войти в стекло, расплавиться в стекле,
Приклеиться к заплесневелой краске?
(Статуя кивает утвердительно)
В стекло? Ах, так, уже соображаю, —
Поблекший образ снова оживить,
Стать росписью, святым и, может быть,
Сопутствовать красавицам из рая – —
Невинных дев вести стезей эфира?
Ну что ж, и то, была бы лишь квартира!
(Краски оконной росписи оживляются и принимают очертания дон Жуана)Дон Жуан
Уф! Вот и я. Устроился. Отлично.
Какой пейзаж! Кладбище, лес, Мадрид,
А за спиной – иль перед носом? Впрочем, —
Где нос и где спина? Я сплошь прозрачен!
Ну, в общем, – там Мадрид, а здесь часовня.
Ба, похороны, тут уже хоронят!
Кого бы это! Господи помилуй…
Послушай, командор, какая шутка, —
Возможно ль? Похороны дон Жуана.
Ну и дела! Пойми, меня хоронят,
А сам я здесь, стою, гляжу и плакать
Готов от умиления. Ей-ей,
В носу щекочет. Право, я от скорби
Готов чихнуть пометом голубиным,
Что на усах невежливо засох.
Но тсс… Идут… А ладан не из важных,
Я думаю, по случаю купили.
(Входят Он и Она)Он
Один лишь поцелуй, не будь жестокой, —
Ужель тебе несчастного не жаль?
Лишь поцелуй, я буду очень скромен,
И больше – ни гу-гу…Она
Так и поверю!
Рассказывай! Сначала поцелуй,
Потом другой, потом еще пристанешь,
Ну, а потом – кто знает вас, коварных?
Быть может, ты подумаешь, что я
Могла бы стать такою, как другие?Он
Ага, любить меня ты перестала,
Теперь все ясно. Если так – прощай.
Сегодня же я в семь, нет, ровно в шесть
Пришлю тебе записку с извещеньем,
Что эта грудь уже нашла могилу.Она
Ах, нет, не смей! Я вовсе не хочу
Брать на душу греха самоубийства.
В уме ли ты?Он
Спасение мое
В твоих руках.Она
Скажи – в губах, негодный!
(Целует его)
Нет, нет, ступай, ни столечко, ни больше.
И где твой стыд? Грешить у самой церкви?
Я говорю – не тронь. Приди попозже
Да постучи тихонько, я услышу.
(Замечает дон Жуана)
Ах, Боже мой! Смотри, с каким укором
Глядит святой! И так всегда, во всем,
Один лишь грех ты водишь за собою.
(Преклоняет колено перед дон Жуаном)
Ну, вот и легче.
(Из часовни доносится пение)
Что там? Отпевают?
Как хорошо. Кто умер? Говорят,
Какой-то гранд, и даже знаменитый,
На площади приятелем убитый – —
И будто бы тот самый дон Жуан…Он
Ну, как не знать? Он самый, дон Жуан.
Все девушки помешаны на нем,
С ним и во сне грешат.Она Молчи, бесстыдник!
Он
Ну, не сердись, я только пошутил, —
Ты всех невинней.Она
Тише, там идут, —
Твой смех всегда не к месту и некстати.
(Уходят)Дон Жуан (Командору)
А? Каково? Что скажешь, дон Альвар?
(Входит донна Анна, ее поддерживает Лепорелло)Донна Анна Уже прошло. Теперь – меня оставьте.
Лепорелло
Вам лучше? Эти слезы, донна Анна,
Быть может, облегчат слегка страданье.
Храни вас Бог! Идите. А за вас
Здесь я поплачу. Бедный дон Жуан…
Как он любил вас! Всей его любви
Вместить и вынесть сердце не могло,
И вот оно от счастья разорвалось.Донна Анна
Благодарю, мой добрый Лепорелло,
Вы так умеете утешить горе…Лепорелло
О, донна Анна, верьте, видит небо,
Я б отдал все за вас и дон Жуана – —
Я был почтен им дружбой и любовью,
Почтите же и вы меня доверьем.Донна Анна
О, вы его без просьбы заслужили;
Прощайте же, прощайте, Лепорелло.Лепорелло
Счастливый путь. Я плачу… До свиданья.
(Донна Анна уходит. Входит монах)Монах
Мужайтесь, сын. Не плачьте через меру,
Предел скорбей – Создателю упрек.
На все, на все Его святая воля;
Лукавый бодрствует и часто в слезы
Закидывает пагубные сети.Лепорелло
Да, мой отец, но как же не поплакать?
Покойник был приятелем моим,
Мы с ним росли и с детства вместе жили,
Как братья. Даже лучшие друзья
Нас иногда не различали. Помню,
Он говорил: мой друг, мой милый брат,
Мой Лепорелло! Если воля неба
Когда-нибудь разделит нас, клянись,
Что нашей дружбы годы не нарушат
И даже смерть сама не одолеет.Монах Редчайший друг!
Лепорелло Какое! Нежный брат…
Монах
Так, так. Я вас отлично понимаю,
Но, может быть, все к лучшему.Лепорелло
Не спорю,
Все к лучшему, но, право, очень жалко.
Конечно, может быть, он умер кстати;
Король давно сердит на дон Жуана.Монах
Как? Дон Жуан? Тот самый соблазнитель,
Бессовестный, безбожный дон Жуан?
Лепорелло
Увы, Жуан. Несчастный мой приятель.
Но будем ли к усопшему суровы?
Тем более что стоило лишь выждать —
И он бы стал безгрешнее монахинь.
Да, мой отец, пыл молодости бурной
В нем отцветал и блекнул с каждым днем.
Ведь страсть и грех проходят с волосами, —
А он лысел. Крепился – но лысел.
Лишь год еще иль много два, не больше,
И, верьте мне, искуснейший цирюльник
Не справился б с прической дон Жуана.
Мир мертвым!Монах Amen!
Дон Жуан
Более молчать —
Не в силах я. Каков наглец?Лепорелло
Вопрос
Изволили вы, кажется, задать мне?Монах
Я? Нет. Но ваши мысли мне приятны,
В них сочетается с рассудком мудрость.
Какой урок полезный получить
У вас могла бы ветреная юность!Лепорелло (скромно)
Я изучал науки в Саламанке
И философии не вовсе чужд.
(Уходят, дружелюбно беседуя)
Сцена 3
(В часовне. Гробница дон Жуана. На стекле – дон Жуан в виде росписи)
Дон Жуан
Мне кажется, я таю от лучей.
В сороковой, в последний этот день
Зов двух миров сливается в единый
Неведомый поток. Заходит солнце,
Закат поит меня багряной кровью…
В последний раз на выцветшем стекле
Прозрачной плотью вспыхну и погасну.
Усну и все оставлю, что любил,
И все уснет и станет неживым.
Быть может – сонная – еще придет
Пролить слезу заутра донна Анна,
Но дремы не стряхну и вновь не встану.
Последние земные ощущенья
Стираются и блекнут. Сохранилась
Лишь память, да руки окаменелой
Глухая боль в потемках серых бродит.
Как сжал он руку мне, ревнивый камень,
Мертвец надменный, мстительный и злобный,
Когда пришел послушно на мой зов
Оберегать любовное свиданье!
Как бросил навзничь яростно меня
И заскрипел гранитными зубами – —
Вот он стоит, суровый и безмолвный,
И, верно, ждет цветов от донны Анны.
Что ж, смерть вражду, как шпагу, притупила,
Миримся мы, и каждому из нас —
Ему и мне – по равному букету
В часы молитв приносит донна Анна.
(Стучат засовы. Входят Монах и Лепорелло)Монах
Пожалуйте, пожалуйте, мой сын,
Достойно всех похвал усердье ваше.
Я рад служить, молитесь на здоровье, —
Что может быть полезнее молитвы?
Когда бы все так часто посещали
Наш монастырь, живущий подаяньем,
Нам не пришлось бы думать о ремонте
Ветшающей обители Христовой.Лепорелло
Нет, мой отец, моей заслуги мало
В том, что вношу я лепту в этот храм.
Когда б не друг мой, бедный дон Жуан,
Я был бы сам бедней церковной крысы.
Уж как-нибудь, когда позволит время,
Вы за него особо помолитесь.Монах О, я ценю и это побужденье!
Лепорелло Могу ль забыть того, с кем так был близок?
Монах
И много ли, осмелюсь я спросить,
Оставил вам ваш друг по завещанью?Лепорелло
Порядочно. Он был чудак немного,
Но голова и сердце – золотые.
К тому же был он одинок совсем
И не в ладах с суровою роднею,
Ну, то да се, и, словом, сделал так,
Что ваш слуга наследником остался.
Признаться – я и сам не ожидал,
Что дар его посмертный так обширен.
Сказать ли вам? Я стал почти богат,
И не почти – но именно богат.
При случае я мог бы потягаться
И кое с кем из грандов родовитых.Монах Благой Господь все делает со смыслом.
Лепорелло
И то сказать, я заслужил добро.
Я беден был, но дух имел высокий,
Да и родством обижен не совсем.
Мой древний род всегда был благороден,
Я дворянин по праву и по чести;
А в верности, а в скромности – едва ль
Превозойти меня кому удастся.
Но будучи судьбою вознесен —
Я не могу унять сердечный стон…Монах
Что слышу я? Какая же причина?
Ужель вам так далась его кончина?Лепорелло
Я одинок. А в случае таком
И сам король живет холостяком.
Подумайте, – легко ли, в самом деле,
Всю ночь вздыхать, ворочаться в постели,
А тут еще бесовская орда
Такой пейзаж распишет иногда – —
И вот – учтя и те и эти знаки,
Святой отец, – я думаю о браке.Монах
Так с вами Бог! За чем же остановка?
Всем праздник есть, была бы лишь обновка.Лепорелло
И да, и нет. И хочется – и страшно.
У сердца свой, двусмысленный, закон,
Порой ему рассудок не указ,
И не всегда оно послушно воле.
Но я терплю. Кую узду желаньям,
Но между тем – и шпоры полирую.Монах
Такая мысль – червонец полновесный;
Истратишь ли, иль дашь взаймы, иль спрячешь —
А все добро и выгода прямая.
Мне кажется, что с мудростью такой
Вы путь прямой наверное найдете…
А женщина – что мягкая перчатка:
Умей надеть, и вмиг обтянет гладко
И примет форму нужную руки, —
Так говорят в Севилье старики.
Да, да, мой сын, я в вас вполне уверен;
Почаще лишь молитесь да поститесь,
Да Божий дом усердно посещайте.
Но мне пора в трапезную. Прощайте.
(Уходит)Лепорелло (подходит к гробнице и кланяется весьма почтительно)
Мой господин, преславный дон Жуан.
Не обессудьте верного слугу;
Я кое в чем, быть может, и виновен,
Но каждый день за вашу честь молюсь
И – видит Бог – на свечи не скуплюсь.
Покойтесь же без ропота в гробнице,
Не омрачайте гневом сна живых,
И пусть земля вам будет легким пухом.
(Входит донна Анна с цветами)Донна Анна
Вы снова здесь? Я вам не помешаю
Своею скорбью?Лепорелло
Вы ли, донна Анна,
Сомненьями терзаете мне сердце?
Вы, что его последнее дыханье
Так бережно и свято сохранили
И чьей любви я был свидетель скромный…Донна Анна
Ах, Лепорелло, не напоминайте
Мне о счастливых, о минувших днях.
С тех пор, как он навеки завернулся
В свой черный плащ и руки сжал крестом —
Одна печаль душе моей близка.
И в сновиденьях радости бегу я.
Что делать мне с веселыми мечтами?
Немой тоске навек обречена,
Вдова вдвойне – один лишь жребий знаю:
Не жалуюсь, молчу и умираю.
(Возлагает на гробницу цветы)Лепорелло
О, как печаль такая мне понятна!
Недаром вам он сердце завещал
И после смерти верен оставался.
Поверите ль? Тогда, в тот страшный час,
Когда его, своим плащом укутав,
Я, плача, нес на темный перекресток,
Чтоб вашу честь спасти от подозрений, —
Мне кажется, шептал он ваше имя.
Быть может, то был бред воображенья,
Но мне почудился знакомый голос.
Он говорил: «запомни, Лепорелло,
Я на тебя оставил донну Анну,
Клянись ее до гроба защищать»…
Сударыня, и я ему поклялся…Донна Анна
Мой добрый друг, хранитель вдовьей скорби,
Я вашу верность в сердце оценила
И не стыжусь пред вами даже плакать…
(Плачет)Лепорелло (растроганно)
О, ангельские слезы, донна Анна!
Когда б я смел служить вам до могилы!Донна Анна
Молчите, друг… Не здесь, не в этом храме…
(Уходят)Дон Жуан
Последний луч на башне городской
Как погребальный факел пламенеет
И вот – погас. Спешит за горы солнце,
В садах, где шелестит нагретый воздух,
На слабый шум ленивого фонтана
Приходит ночь под вдовьим покрывалом
Вздохнуть прохладой. В синей тишине
Звучит гитары лепет приглушенный.
В пустынной улочке влюбленный вор
Иль каверзный студент в дырявой шляпе
Нырнул в окно, распахнутое настежь,
Как око вечности – – Прощай, мой друг!
И ты прощай, пустой сосуд, что мною
Наполнен был и пересох до дна.
Все кончено. Рассыпься, донна Анна!
(Стекло раскалывается и падает со звоном)Ночь (Ночь. В кресле Пушкин. Входит Посетитель)
Посетитель
Прошу прощенья. В неурочный час
Я прихожу но важная причина
Меня принудила к тому.
Пушкин
Пустое, —
Все знают, ночь придумал часовщик,
Но подмастерье переставил стрелки.
Не спится мне. Присядьте. Снег и блеск
В мой кабинет бессонницу загнали.
Вы в экипаже?Посетитель Нет, пешком.
Пушкин
Вот славно, —
Я думаю, Нева до дна промерзла.Посетитель
Над Петербургом белый пар и мгла,
Чугунные решетки расцвели
Сверкающими розами. Мосты
Звенят под каблуком, как струны. Скрип,
Безлюдье, тишь. И только у Сената,
На площади пустынной так же скачет
Ваш бронзовый гигант с лицом суровым.Пушкин Вы любите наш благородный город?
Посетитель
О, да. Когда-то, помню, он возник
Как каменный цветок среди болот,
Потом расширился и вырос. Лес
Колонн гранитных, исполинских шпилей,
Ширь набережных, стройный бег проспектов, —
Он повзрослел, наш городок болотный.Пушкин Вы помните его другим?
Посетитель
Я стар,
Как этот плащ.Пушкин
Забавное сравненье, —
Оно мне нравится. И я люблю,
К тому же, мод старинных отпечаток.
Вот, например, хотя бы эта шляпа,
Она к лицу вам. Рыжие поля
Еще хранят неуловимый запах
Романтики немецкой. Горный воздух
На щеки лег загаром полнокровным
И каплями росы. Шальной студент
Кочует по дорогам Гейдельбергским
И проповедует пивной поход.
Пронизанный цветочной пылью ветер
Не торопясь вращает флюгера
Над готикой правительственных зданий,
Где спит в подвалах рейнское вино.
Счастливый мир устойчивых событий,
Стремительный полет воздушных стрел,
Гармония надежных перекрытий,
Высоких истин и полезных дел.
А мы глядим влюбленными глазами
В большое небо северных пустынь,
Как будто ищем в нем воспоминаний
Иль в тайные пророчества глядим.
Мне грустно думать, что наступит день,
Когда я этих улиц не увижу
Не растянусь под темными дубами
Лужаек царскосельских – – Летний вечер
Над озером, бывало, шелестел
Прозрачной веткой – – Дельвиг благосклонный
Читал мои стихи – – А ныне в гости
Ко мне все чаще забредает старость,
Болтливая предвестница молчанья – —
Ну вот, извольте, – я договорился,
И неспроста. Мне в третий раз приснился
Сегодня Ленский, мой поэт убитый,
Давным-давно читателем забытый.
Небось, вам скучно стало за двоих – —
Итак, давайте править корректуру, —
Там Бенкендорф нашел какой-то стих,
Царапнувший высокую цензуру.
Приказ: убрать. Не мудрствовать. Закон
Повыше разных штатских поучений.
У нас и смерть приходит на поклон
К чиновникам особых поручений – —
Так повелось, и музыка все та же, —
Священных рощ певучие стволы,
Кастальский ключ, Зевесовы орлы, —
Все под опеку полицейской стражи!
Такой концерт – —
(Ударяет по клавишам фортепиано и извлекает фальшивый аккорд)Посетитель
Ужасный диссонанс!
Так резать ухо может только гений.
Но, впрочем, в это столкновенье звуков
Вошла одна пронзительная нота,
До странности знакомая. Позвольте,
Я повторю ее. Один лишь звук, —
Прислушайтесь. Не правда ль? Вот он дрогнул,
Пропел, вибрируя, затих и умер.
Но слушайте. Сожмите крепче веки
И слушайте. Ага, он возвратился,
За ним другой. Виолончель и флейта,
Теперь орган. Пылающие звезды
Вздымаются в эфире возмущенном,
Здесь голос бурь и эхо без конца,
Глубокий трепет скрипки совершенной,
И, может быть, планеты – лишь сердца,
Запевшие симфонию вселенной.
Молчанья нет. Есть пауза смычка,
Ритмическое замедленье звука,
Немой порыв божественного Глюка
Иль Моцарта уставшая рука.Пушкин
Я слушаю и смутно вспоминаю, —
Такой же плащ и хриповатый голос – —
Мы, кажется, уже встречались где-то,
Тому назад лет десять. Но тогда
Вы были старше иль верней – моложе – —
Был поздний вечер. Вы вошли без стука,
Как близкий друг, уставший от разлуки,
С каким-то свертком типографским. Я
Не мог, однако, вспомнить ваше имя
В необычайном возбужденьи. Ночь
Текла, текла, и мы разговорились.
Я слушал вас внимательно. И вы
Мне подсказали замысел Пророка!Посетитель
Я только шум Поющего Потока,
Я мерзлый пар, идущий от Невы.
(Исчезает. Входит Данзас)Данзас
Ты все не спишь? А я почти случайно
На огонек позарился, и кстати, —
Вот уложу тебя в постель. На завтра
Довольно дел. Твой дикий поединок
Всех вымотал.Пушкин
Послушай, что за сон
Я видел наяву. Есть у меня —
Ты помнишь? Моцарт. Странный господин
Пришел к нему однажды, заказал
Учтиво Реквием – и скрылся. Он
Сейчас был здесь, мой черный незнакомец.
Вошел чуть сгорбленный, в плаще потертом,
И растворился в зеркале.Данзас
Вот бредни!
Тебя давно усталость караулит.Пушкин
Не знаю, но мне грустно и легко,
Как будто я помолодел внезапно
Или готов закончить труд, который
Задумал тайно с юношеских лет.Данзас
Еще бы! Все рождает вдохновенье
В душе поэта, даже проза. К слову, —
Противник будет ждать у Черной Речки.Пушкин Язык примет, – Зловещее названье.
Данзас
Ничуть, – какое-то воспоминанье,
Не помню точно, – мало ль их у нас?
Теперь ложись. Мой кучер на морозе
Небось заснул. Придется дать на водку.
Но что за ночь! Хоть волком вой. Все кости
Насквозь промерзли. Стужа, лед, сугробы,
Такая ночь – – Прощай!Пушкин У Черной Речки.
Бродяга Глюк
Сцена 1
(Ночь. У театрального подъезда. Критик и театральный слуга)
Слуга
Осмелюсь доложить – сплошной провал.
Какой-то гробовщик в цилиндре рыжем
Иль сочинитель виршей перед носом
Перехватил последний экипаж
И укатил, бесчувственный к угрозам
И доводам учтивым. За углом,
Да и подальше – никого.
Критик
Досадно,
К тому же – дождь.Слуга
Ничуть, – простая сырость;
Лишь кое-где еще стекают капли
С деревьев мокрых.Критик Побреду пешком.
Слуга
Вы слишком задержались. Музыканты
И те уж разошлись.Критик
Концерт не стоил
Всех осложнений.Слуга
Спора нет, – тоска.
Театр не дал и половины сбора.Критик Партер – молчок, и в ложах ни хлопка.
Слуга Да и галерка зла на дирижера.
Критик
Естественно. Недаром знатоки
Бранят его, не слушая. Вельможи
На этот раз не поддержали тоже.Слуга
Однако есть на свете чудаки,
Которые болтают втихомолку,
Что знатоков – давно пора на полку.Критик Сброд неучей.
Слуга
Я, кстати, не таков
И в меру сил стою за знатоков.Критик
Вполне логично. Опера, балет, —
Он и не смел писать в подобном роде,
А симфонический весь этот бред,
По счастию, у нас еще не в моде.
Что натворил он в зале сгоряча!
Запутал счет, смахнул с пюпитра ноты,
Загнал оркестр. Рубил, рубил сплеча —
И всех довел до пота иль зевоты.
Я сам творю. Последний мой этюд
В кругу друзей был признан образцовым
И с честью принят в ведомстве дворцовом.Слуга Там без причин отличий не дают.
Критик Он сам в своих несчастьях виноват.
Слуга Он на ухо, я слышал, туговат.
Критик
Не утверждаю, но вполне возможно.
Он слушает чрезмерно осторожно,
Внимательно, но странно свысока.
Вдруг – переспросит.Слуга Глух наверняка.
Критик
До крайности придирчив. Весь колючий.
Где ни коснись его, повсюду иглы
Торчат наружу.Слуга
В песенке поется:
Брюзга несносен и в гостях, и дома.Критик
Вы разгадали, неудачник глух.
А в музыке (простая аксиома)
Все дело в ухе. Музыка – есть слух.Слуга
Осмелюсь, сударь, предложить вопрос:
Как рассудить изволите вы ныне?
Я разумею – будет ли разнос,
И если нет – то по какой причине?Критик
Ответ несложен. Впрочем, кое-где
Он проявил и блеск, и пониманье.
Там был мотив, не помню, две-три ноты
Пронзительных и страшных… Долго ль он
Там будет бегать в темных коридорах?Слуга
Осведомлюсь немедля.
(Исчезает за дверью)Критик (один)
Ненавистен
Мне этот род отшельников. Угрюмый
Самолюбивый взгляд. Сухая бледность
Не в меру острых скул с налетом желчи —
Все в нем молчит. На пыльных сундуках
Валяются наброски черновые,
На подоконнике – подсвечник медный
В зеленых пятнах. На столе овальном —
Гусиное перо. Один рояль
Сверкает холодом. И в каждом дюйме
Убогой комнаты, в заплатах старых
Заношенного сюртука, и даже
В свисающей обильно паутине —
Предчувствие необъяснимой славы —
Слуга (вбегая)
Идет, идет!
(Он широко распахивает дверь. С непокрытой головой, волоча по земле свой плащ, стремительно проходит Композитор)Критик
Львом бросился к порогу!
Седая грива дыбом. Бровь – кустом —
Весь мрак залег на лбу его крутом,
Вся ночь за ним рванулась на дорогу —Слуга По совести – чудак не очень стилен.
Критик
Как черный плащ он проволок во тьму!
Лишь ветер свистнул —Слуга
Недобитый филин
С одним крылом.Критик
Я подойду к нему
Не скрылся бы.
(Исчезает в темноте)Слуга
Вприпрыжку через лужи —
Уж эти мне писаки. Всюду их
Насеяли. А что до чаевых —
То нет и не было на свете хуже.
Сцена 2
(Городской парк. Ночь. Критик и Композитор)
Критик
Я не унижусь до сведенья счетов;
Но есть вопросы общего значенья,
Есть выводы, которыми не вправе
Мы пренебречь. Искусство для немногих,
Искусство для себя – нелепость. Мы
Окружены средой, как рыба влагой;
Вода определяет форму рыбы,
Наружный мир обтачивает формы
Живого творчества. Наш скромный гений —
Лишь каменщик, усвоивший заданье.
Искусство – есть прекрасная полезность.
Полезно все, что нравится. Я знаю, —
Вы скажете, что мир еще в зачатке,
Он неустойчив; что придут другие,
С иными вкусами; что время
Совсем не то, что отмечают стрелки
Часов карманных, – может быть, не спорю.
Но где критерий? Все непостоянно,
Все зыбко и текуче. Лишь успех,
Один успех, являет нам опору
В неясных опытах. Что, право, толку
В сужденьях глупого студента, в том,
Что через двести лет поэт голодный
На чердаке своем, в кругу таких же
Бездельников, сболтнет меж двух глотков,
Что этот, мол, был крот, а тот, забытый,
Был соколом, орлом, был важной птицей,
И не взлетел затем лишь, что не мог
Сквозь узкие проломы тесной клетки
Проволочить крыло? Куда как жалко!
О, правнуки! Сомнительная честь, —
Судачат вслух, а судят много тише;
Пора понять, что публика – и есть
Народный суд, и ничего нет выше.
Ваш неуспех (в том разногласий нет)
Лишь подтверждает истину. Газеты
Давно уже давали вам советы.
Порой полезно слушаться газет.
(Раскат грома)
Вы дремлете? Быть может, я некстати
Ломаю копья? Между тем туман
Сгущается. Уж поздно в ресторан,
Но самый час добраться до кровати.Композитор (как бы просыпаясь)
Послушайте, как странно. В темноте,
Там, за деревьями, играет скрипка.Критик
Не может быть. А впрочем – точно. Кто-то
Пиликает на скрипке. Дикий случай.
Но нет, пустое. Здесь не разобраться
В нагроможденье разных звуков. Слух
Ваш утомлен. Я утверждать готов,
Что и меня вам слушать не под силу.Композитор
Один лишь звук, но райской чистоты,
Но нежности такой, что нет названья.
Вот он умолк, и эхо не посмело
За ним последовать. Из сфер иных
Он пал на землю, но не умер. Корни
Дубов и елей бережно впитают
Его в себя, и по стволам могучим,
Как по органным трубам, он взнесется
В высокую небесную лазурь.
И будет музыка. Исчезнет вес.
Все станет легким и летучим. Камни
От быстрых птиц в полете не отстанут.
На утренней заре, вослед туману,
Вдруг уплывут щебечущие рощи,
И полный медленного шума лес
Отдаст свою прохладу синим звездам —Критик Вы шутите?
Композитор
Послушайте, – опять.
Когда б не ночь, не этот зябкий ветер,
Что с голых прутьев отряхает брызги,
Я думал бы, что некий светлый дух
Наполнил мир своей певучей дрожью.
А может быть, и правда. В этот час,
Когда за низким облаком незримо
Летят обид крылатые рои,
Когда земля безмолвно предается
Невыразимой горечи и тленью, —
Там где-нибудь, у темного пруда,
Среди опавших листьев по дорожкам
Неузнанный проходит Ариэль,
Мечтатель светлоокий. Он играет
На легкой скрипке; шевелит струну
Из водоросли тонкой и беспечно
Ночную стужу заклинает.Критик
Полно, —
Не стыдно ли так нервы распускать?
Вас этот день злосчастный утомил,
Вы весь во власти грез и лихорадки,
Как женщина. Живые спят давно,
А мертвые пугать живых не смеют.
Верней всего, какой-нибудь бродяга
Шатается вокруг…
(Из-за деревьев показывается Глюк)
Да вот и он,
Ваш Ариэль. Его весь город знает:
Пропившийся столярный подмастерье
Без имени, безродный попрошайка,
Он ходит там и тут, слегка ворует
И развлекается за стойкой. В шутку
Его прозвали Глюком. Вероятно,
За склонность к музыке.
Ну, как, приятель, —
Зачем ты здесь?Глюк Пришел взыскать должок.
Критик Недурно, право. Кто же твой должник?
Глюк Да вы хотя бы.
Критик Ты не пьян?
Глюк
Нисколько, —
Два крейцера за вами, и давненько.Критик Не помню что-то.
Глюк
Где же все припомнить?
А между тем, тому, пожалуй, с месяц
Вы пили пиво в «Золотом Бычке».
И я был по соседству. Выпил кружку,
Другую, третью, может быть, и вышло
Два крейцера. Хозяин по привычке
Пристал ко мне, но я не растерялся
И указал на вас. Итак, за вами
Два крейцера.Критик
Послушай-ка, приятель,
Вот мой совет: проваливай.Глюк
Не смею
Мозолить вам глаза.Критик
Пошел, пошел!
(Глюк уходит)
На каждый час всему есть объясненье.
Вы мистик? Фокусы столоверченья
Теперь повсюду в моде. Бургомистр,
Поспоря с кем-то, выписал из Рима
Костлявого певца, в широкой шляпе
С пером высоким, с профилем таким,
Что женщины заранее готовы
Поверить в ад. И все заговорили
По-итальянски.
(Композитор встает)
Вы домой? Пожалуй,
Нам по дороге?Композитор
Добрый вечер.
(Неожиданно уходит в другую сторону)Критик
Славно, —
Урок учтивости. И ночь какая!
Сцена 3
(Городской парк. Ночь. Скамья над озером. Глюк и Композитор)
Композитор
Как ваше имя?Глюк
Подмастерье Глюк.
Я по земле гуляю там и тут
Считаю птиц, ночую где придется.Композитор
Не правда ли, есть странная отрада
В ночных скитаньях.Глюк
Знаю. Влажный ветер
Смычком широким водит по верхушкам
Деревьев голых. Выцветший фонарь
Скрипит мечтательно в ключе скрипичном,
А вы да я – мы слушаем прилежно.
И спутник ваш.Композитор Нет, это тень.
Глюк
Конечно, —
Я и сказал – ваш спутник. С ним я дружен.
Бывало, ночью, в поздний час, при звездах,
Он свесится в окно, падет на площадь,
Замрет и слушает. Слепой прохожий
Его ногой небрежно попирает,
Иль сонная телега переедет,
А он молчит и слушает. Сегодня
Он дирижировал в концерте. Я
Сквозь мутное окошечко на крыше,
Забытое билетным контролером,
Внимательно следил за ним весь вечер.
Рожденный в пламени и взятый мраком,
Он был похож на кормчего и бурю;
То вырастал под купол величаво,
То накренялся вдруг и падал в пропасть.
Все было в нем гроза и совершенство.
Он дал вступленье, и взлетели скрипки,
Задумчиво взошла виолончель
Звездой прозрачной в сумерках кларнета.
Он поднял руки медленно, – и гром
Обрушился, – и кончики волос
Затрепетали вдруг и ужаснулись.
Он хмурился. Качая львиной гривой,
В шумящий ветер обращал лицо,
Вздымал до звезд бунтующие волны
И, одичалый, в океане звуков
Гнал яростно свой челн. Под ним оркестр
Уж надрывался. Где-то в глубине,
Разбившись вдребезги о черный камень,
В водовороте погибали скрипки.
Все рушилось. Истерзанный оркестр
Не выдержал ужасного полета,
Рванулся и умолк. И захлебнулся.
Растерянно смотрели музыканты
В немую пасть пустынного партера;
С высокого утеса, шелестя,
Испуганные ноты соскользнули
И пронеслись над заревом барьера,
Как стая птиц, гонимых зимней бурей…
А он, в своей священной глухоте,
Отдавшись тайнам нового звучанья,
Уже вступал в запретные миры,
Где наше солнце робко затерялось,
Как нотный знак в обширной партитуре.Композитор
Я слушаю. Как непривычно внятен
Ваш голос. Будто плотная завеса,
Отъединявшая меня от звуков,
Разорвалась, раздвинулась, взвилась,
Как театральный занавес. Но странно
Мне темное значенье ваших слов.
Вы музыкант? Искатель тайной славы?
О, берегитесь. Тяжкая свобода
Дана художнику. Не всем под силу
Тащить ярмо высокого искусства.
Как часто в хоре тайных голосов
Мы слышим истины враждебный голос, —
Ревнивая и строгая хозяйка,
Она не терпит буйных постояльцев,
Ночных глашатаев с душой строптивой.Глюк
Что истина и что есть ложь? не раз
И спрашивали мы и отвечали,
И на полях тетрадей отмечали
О близнецах запутанный рассказ.
Но грубый опыт выяснил, что нам
Уже с рожденья ненавистны обе, —
Мы ключ искали к темным письменам,
Но как-то сбились на простые дроби.Композитор
Я слушаю. И кажется мне, право,
Что мне знаком ваш голос. Он иль очень,
До крайности, похожий где-то
Позвал меня однажды. В раннем детстве,
Иль ночью, иль в толпе. Во сне, быть может.
Зачем вы здесь? В каком краю далеком
Вы изучали речь косноязычья?Глюк
Давно, в пустыне, в зареве песков,
Среди камней, расколотых сомненьем,
Я формулу вершин и облаков
Объединил крылатым уравненьем.
Я взял число. Таинственно звуча,
Оно легло основой вдохновенья, —
Я вымысла ликующие звенья
Скрепил винтом скрипичного ключа.
И было все гармония и смысл,
Прекрасное влекло и волновало,
Но в музыке фантазии и числ
Чего-то мне еще недоставало.
Быть может, слез. Иль мутных истин зла,
Иль бреда совести недоуменной, —
Иль глухоты, в которой бы могла
Вновь зазвучать симфония вселенной.Композитор
Еще одно ночное наважденье, —
Как ваше имя?Глюк
Множество имен
Есть у меня, но все они чужие.
Я – поздний гость, зашедший ненароком,
Бессонницы случайный собеседник.
Когда меня бранят, я не сержусь,
А тем, кто темным шорохом взволнован, —
Я говорю: покойной ночи…
(Исчезает за деревьями)Дополнения
Беатриче (первый печатный вариант)
Посвящение
(Н. Е. К.)
Уж близок день. На письменном столе
Бледнеет круг под мутным абажуром,
Горбатый конь, в окурках и золе,
Беззвучно скачет бронзовым аллюром.
Остановись! Враждебное окно
Задернуто старательно и глухо,
Лишь беглый стих, проверенный давно,
Касается внимательного слуха.
Конец, конец – – Два года протекло,
Два года мысль тревожилась и пела – —
Кому скажу, как звонко и светло
В суровом сердце радость закипела – —
Ты не со мной, – но тонкая рука
Еще ласкает бережно страницы,
Еще взлетают длинные ресницы
Над пестрым хаосом черновика.
Завороженный музыкой немой,
В тебе лелею творческую муку, —
Покорная ритмическому звуку,
Душа скользить меж солнцем и чумой.
Мятеж страстей, любви ревнивый жар
И мудрости бесплодные уроки,
И опыта не выносимый дар
Я заключил в размеренные строки.
Они твои. В такой же поздний час,
Быть может, ты перечитаешь снова
О нежности, о гибели рассказ,
Дневное эхо голоса ночного.
Лица
БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ
ФРАНЧЕСКО ЧЕНЧИ – ее отец
ЛУКРЕЦИЯ ЧЕНЧИ – ее мачеха
МАРЦИО
ОЛИМПИО
МОНСИНЬОР ГУЭРРА
ХУДОЖНИК ГВИДО
РИМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
СУДЬЯ
НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОЙ СТРАЖИ
ПАЛАЧ
ПЬЕТРОЮ КОЗИМО – помощники палача
СЛУГА В ДОМЕ ЧЕНЧИ
СОЛДАТЫ ГОРОДСКОЙ СТРАЖИ
Место действия – Рим. Время – 1598 год.
Сцена 1
(Часовня св. Фомы. Гвидо складывает кисти)
Гвидо
Итак, отъезд решен бесповоротно?Беатриче
Отъезд? Как вор иль площадной убийца,
Что пробует железные решетки
Своей тюрьмы, – так с тайным содроганьем
Я пробую замки родного дома.
Нет, не отъезд, – побег, побег! Душа
Готова грызть медлительное время,
Чтоб сократить неволю заточенья…
Вы видели Кристофоро?Гвидо
Вчера
Я передал ему письмо и слепок
С замочной скважины.Беатриче
Он не раздумал?
Все так же ли настойчив и отважен?Гвидо И терпелив.
Беатриче
Ага, вот добродетель,
Убийственно похожая на трусость.
Вы хмуритесь? Я, кажется, сказала
Нелепость или дерзость? Боже мой, —
Я, в самом деле, слишком безрассудна.Гвидо
Я не сержусь, и вы не безрассудны,
Но нетерпенье – всадник без коня
Или кинжал без рукоятки…Беатриче
Полно,
Помиримся. Но что сказал мой брат?Гвидо
Его ответ вам должен передать,
Еще сегодня, монсиньор Гуэрра.Беатриче А, монсиньор? Он верен мне.
Гвидо
Увы,
Я только предан.Беатриче
Новая обида?
Несчастный день. Уж, видно, суждено
Мне попросить у вас прощенья. Но —
Я и сама не знаю, что со мной…
Меня гнетет зловещее волненье,
Предчувствие, душевная усталость…
(Указывает на образ)
Признаться ли? Быть может, этот образ
Меня наполнил страхом непонятным.Гвидо Святой Фома задумчив, но не страшен.
Беатриче
Святой Фома, с сомнительной улыбкой,
До ужаса похожий на синьора
Франческо Ченчи? – – О, скажите, Гвидо,
Кто выдумал двойную эту пытку, —
Быть дочерью врага и звать послушно
Врага отцом?
Вот он… Молчит. Насмешка
Жестокий рот надменно искривила – —
Не правда ли? В такой улыбке скрыт
Особый смысл; мерцанье темной тайны
Под колпаком стеклянным. Будто дверь,
К которой мы давно привыкли, вдруг
Слегка раскрылась, и за ней, во мраке,
Неясно проступили очертанья
Знакомых, но волнующих предметов.Гвидо
Но как чело вознесено высоко,
Какая мысль во взоре непокорном!Беатриче
Оставьте, мастер Гвидо. Есть черты,
Подобные неверным отраженьям
В воде прозрачной. Все в них гармонично
До первого прикосновенья. Пальцы,
Которые хотели бы ласкать
Лицо такое, лишь нарушат гладь
Поверхности зеркальной, и глядишь —
На месте, где качался дивный образ,
Дрожит урода гнусная гримаса.Гвидо
Так яростно отца возненавидеть!
Я слушаю и молча ужасаюсь
И, видит Бог, – любуюсь вашим гневом.
О, если бы я мог на полотне
Запечатлеть мятежный этот пламень!
Эринния, Сивилла…
А, теперь
Вы улыбнулись? Узнаю, – Мадонна,
Зовущая вечернюю прохладу
Поцеловать младенца Иисуса.
Невинный взгляд девически задумчив,
И золото волос, и пурпур губ,
Еще не тронутых земною страстью,
И неба золотистая лазурь…
На горизонте – пять иль шесть деревьев
В цвету весеннем, розовом и белом,
Как свечи в алтаре – —
О, сколько раз
В своих мечтах я видел этот образ
И поверял бессоннице глухой
Несмелые и дерзкие признанья!
В час отдыха и в творческом бреду
Я пил прохладу легкого дыханья
С незримых уст, внимал летучей тени,
Ловил одежд невыразимый шорох
И леденел в предчувствии голодном
Последнего блаженства…
(Входит Гуэрра)Беатриче Ах!
Гуэрра
Конечно,
Некстати я? Молчанье… Влажный взор,
Оборванный внезапно разговор,
И вы бледны – – и кавалер косится
И видимо краснеет или злится…Гвидо
Прошу прощенья.
(Холодно кланяется)Беатриче
Погодите, Гвидо, —
Иль нет, идите.
(Гвидо уходит)
С некоторых пор
Вы мнительны, мой добрый монсиньор.Гуэрра
Я мнителен? Тем лучше или хуже, —
Но он взбесился не на шутку. Право,
Я обожаю легкие забавы,
Похожие на истину к тому же.Беатриче
Похожая на дерзости. Извольте
Вести себя приличней.Гуэрра
Как строга!
Лук напряжен…Беатриче
Послушайте, довольно.
Я ухожу. Не стыдно ли?Гуэрра
Останьтесь.
Я пошутил. Пожалуй – невпопад,
Но верите ль? Нередко я ловлю
Себя на грешной и преступной мысли,
Что раздраженье вам к лицу. Глаза
Становятся как темные озера,
Зажженные вдруг молнией зеленой,
И ноздри тонкие вдыхают жадно
Соленый ветер налетевшей бури…Беатриче Вы замолчите?
Гуэрра
А, теперь – ни звука,
Или и вправду разразится буря.Беатриче Письмо при вас?
Гуэрра
Еще бы. Впрочем – нет…
Да где ж оно? Я, помнится, запрятал
Его в карман. Или оставил дома?
Иль потерял? Или – – досадно. Впрочем,
Я помню наизусть.
Через неделю
Все будет кончено. Корабль надежный
Вас в Геную доставит. И синьору
Лукрецию. Знакомый капитан
Уж посвящен в подробности побега.Беатриче
Конечно, так… Но вспомните, прошу вас, —
Быть может, вы записку потеряли?
А вдруг случайность, совпаденье…Гуэрра
Случай
Не исключен, но если разобраться, —
Кому придет охота нагибаться?Беатриче Рим славится опасным любопытством.
Гуэрра Рим разучился грамоте.
Беатриче
За плату
Найдется чтец. Но мне пора. Прощайте.Гуэрра Еще мгновенье!
Беатриче
Поздно, – мой уход
Способен вызвать дома подозренье.
(Уходит)Гуэрра
Всегда одно, всегда одно и то же, —
Все для других. Ума очарованье,
И быстрый смех, и важное молчанье,
И даже гнева темная стрела;
Мне только дружба – – Пресная струя
Из теплого ручья благоволенья.
Так этот мальчик стал мне на дороге?
Тропа узка, – посторонитесь, Гвидо;
Вы пишете широкими мазками,
Но я силен в деталях. Капля к капле —
И собирается поток…
Записку
Я передам Олимпио. Она
В цепи судеб сыграет роль звена.
Сцена 2
(Комната во дворце)
Франческо (откладывает чертежи часовни)
Пройдут века. Отяжелевший ветер
В последний раз протащит по земле
Бесформенные груды облаков
И распадется в мутной тишине.
Тогда, вздохнув, песок пустынь огромных
Без ветра встанет, сам собой, и хмуро
Обрушится у черных горизонтов,
Дымящихся болотным испареньем.
Адам Ева завершенных дней —
Песок и топь болотная – сомкнут
В последний раз бесплодные объятья,
И, выкидыш их хилый, на земле
Взойдет цветок печали и сомненья…
Соль мудрости на жадном языке,
Как ты горька! Но, содрогаясь, лижут
Тебя седые псы тысячелетий,
И только смерть откроет им обман
Лукавой истины и обнаружит,
Что истина – лишь тени на закате,
Колеблемые дуновеньем бурь.
Ты прав, мудрец, вложивший пальцы в раны,
Неверный отвергающий Фома, —
Я долго был в долгу перед тобою;
Теперь мы квиты. Зодчий закрепил
Последний камень, плотник острогал
Последнюю доску, и живописец
Остатки красок продал маляру – —
Твой храм готов. Лишь дернут звонари
Веревку новую на колокольне,
И я приду смиренно поклониться
Твоим мощам. Еврей из Палестины,
Торгующий по праву земляка
Останками святых, заверил клятвой
И подписью их подлинность. Итак —
Лишь ты один не подлежишь сомненью…
Твой храм готов. И черный склеп в подвале
Уже готов принять немых жильцов,
Пока их тени молят о бессмертьи.
Все будем там, бесславная добыча
Червей могильных, тлена и забвенья – —
И ты отпразднуешь в нем новоселье,
Обласканная солнцем Беатриче!
Когда-нибудь подвыпившие слуги,
Бранясь тихонько, нас соединят
Под сводами, построенными мною,
И поспешат в ближайший кабачок
Помин души усопшей отзлословить.
И вот, – на шатком мостике кредита,
Качаясь меж наличностью и жаждой,
Какой-нибудь находчивый лакей,
От зависти и ревности бледнея,
Шепнет хозяйке, что сегодня ночью
Улегся рядом с мертвой Беатриче
Ее отец жестокий и развратный.
Что он при жизни продал душу черту
И получил за это позволенье
Вставать из гроба в полночь и бесчестить
Родную дочь… О, призрак неотступный!
(В дверь стучат)
Ага, стучат?
(Входит Гвидо)
Войдите, добрый Гвидо.
Я ждал вас. Все ль исполнено?Гвидо
Работа
Закончена.Франческо
Прекрасно. Я как раз
Просматривал от скуки чертежи.
Да, есть, должно быть, сладостное чувство
В осуществлении мечты высокой,
В порывах творческих. Увы, давно
Восторги стали жребием завидным
Лишь схимников в обители искусства.
Вы счастливы?Гвидо
Порой. Но и печаль
Душе художника знакома. Труд
Принадлежит нам лишь наполовину,
И часто образ, выношенный в сердце
С тоской и мукой, вынуждены мы
За золото, за почести, за славу
Безжалостно вручать чужим заботам;
И бродят наши вымыслы и грезы,
Как матерью заброшенные дети.Франческо Мой бедный Гвидо!
Гвидо
Редкие слова
Вам нравятся, синьор Франческо?Франческо
Что ж,
Я полюбил вас, право. В этом доме
Лишь вы один умели согревать
Ворчливой старости холодный опыт,
Я ваш должник… Итак, насчет уплаты, —
Дворецкий, помнится, покрыл весь счет,
Но я прошу вас, в знак приязни, вот, —
Здесь перстень мой и несколько дукатов.Гвидо Нет, нет, синьор!
Франческо
Ни слова. Этот дар,
Быть может, вам напомнить на досуге
О чудаке скучающем, о друге,
Который быль не то что глуп, но стар.
Счастливый путь.Гвидо Прощайте.
Франческо
В добрый час!
Простите мне невольные обиды.
(Гвидо уходит)
Да, он влюблен. Тревожный пламень глаз
И эти жалобы… Мой глупый Гвидо!
(Подымает портьеру)
Вы здесь уже? Тем лучше.
(Входят Марцио и Олимпио)
Я письмо
Перечитал и вывел заключенье.
Олимпио, быть может, вы подробней
Расскажете мне ваше приключенье.Олимпио
Все очень просто. Ночью, при луне,
Я шел вчера (обычная прогулка),
Как вдруг из тьмы глухого переулка
Выходить некто в маске – и ко мне
Преловко сунул мне записку эту —
И за угол. Я страшно удивлен
(Каков нахал!) – хочу за ним, но он
Уже исчез, бесследно канул в Лету.
Вот, в сущности, и весь рассказ. Записку
Я передал, конечно, вам. Она
Мне подозрительна немного. Впрочем, —
Я в этом деле лишь посредник.Франческо
Гм,
Необычайно. Марцио любезный
И вы, Олимпио, подите ближе,
Сюда к окну. Налево у фонтана,
Вы видите? пересекает площадь
Красивый юноша в плаще коротком.Марцио Художник Гвидо?
Франческо
Да. Его бумаги
Мне очень бы хотелось прочитать.Олимпио Для этого их следует достать?
Франческо Притом – без промедленья.
Олимпио
Все понятно.
(Марцио и Олимпио уходят)Франческо (рассматривает записку)
Рука Кристофоро. Я узнаю
Его запутанный неровный почерк,
Сомненья нет. Так заговор? И Гвидо
По глупости иль по иной причине
Ввязался в это дикую затею…
Но кто-то бедняка бесстыдно предал, —
Соперник? Или враг? Иль друг коварный?
О, дружба, дружба, сладкое вино,
Несущее жестокое похмелье!
Нет, Беатриче, твой побег – химера;
Я крепко запер выходы и входы,
Замазал наглухо все щели. Сердце
Поставил я стеречь твои пороги,
И нет прилежней сторожа, и нет
Лютее пса. И мне он выгрыз душу!
О, даже я порой изнемогаю…
Кровь – как поток, в который пали скалы,
Вздымается, бурлит, и жжет, и душить, —
Я задыхаюсь – —
(Входит слуга)Слуга Монсиньор Гуэрра.
Франческо
Ты снова здесь? Иль все вы сговорились?
Я задушу тебя, шпион проклятый!
(Слуга отступает)
Веди его, Иуда!Слуга
Иисусе!
(Выбегает в ужасе)Франческо
Как жарко мне. Как страшно сердце бьется – —
Я, кажется, забылся, – скверный признак.
Так здесь Гуэрра? Хитрая лиса
Зашла ко мне, конечно, неспроста…Гуэрра (входит) Кузен, простите, я по порученью.
Франческо Прошу, прошу.
Гуэрbра
Мой добрый кардинал
Вам шлет привет.Франческо
Да, кстати, – я ведь знать,
Что быть сегодня странному стеченью:
Ряд обстоятельств вынудил меня
Предугадать визит ваш за три дня.Гуэрра Я поражен.
Франческо
Но что же ваш патрон?
Корпит над Плинием? Постится?Гуэbрра
Он
Справляется, во-первых…Франческо Рад послушать.
Гуэрра
… Здоровы ль вы. Он слышал, будто – —
Франческо
Вздор.
Хотя, пожалуй – – С некоторых пор
Мне лекарь строго запрещает кушать.
Но он чудак. Язык мой – как всегда,
И ровен пульс – —Гуэрра Вы, значит, не хворали?
Франческо
С чего бы вдруг? Я вылил яд. Вода
Уж слишком пенилась в моем бокале.Гуэрра В бокале яд?
Франческо
Увы. Мой бедный пес,
Вы помните? – шотландская порода, —
Лишь сунул в лужу любопытный нос —
Вмиг скорчился и околел. Урода
Я так любил – – как сына, даже боле, —
Но он погиб. И все мы в Божьей воле.Гуэрра
Неслыханно, ужасно! Я виню,
Конечно, слуг. Здесь, явно, месть лакея.Франческо Иль заговор.
Гуэрра Но кто бы мог?
Франческо
Не смею
Подозревать ближайшую родню.Гуэрра
Еще бы! Но какой беспутный век!
Порок все глубже разъедает нравы,
Как ржавчина железо. Наша жизнь
Подобна золоченой колеснице,
Увитой терпкими цветами смут
И преступлений. Каждый встречный камень
Грозит ее мгновенно опрокинуть.
Не дико ли? Всего четыре дня
Я проскучал в дороге, а меж тем
Под кровлей этой, прочной и надежной,
Уже успел повеять ветер смерти.Франческо Так были вы в отъезде?
Гуэрра
Лишь вчера
Вернулся в Рим к святейшему приему,
И уж затем не покидал двора
И, как убитый, спал до службы дома.Франческо
Итак, я жив. Но, помнится, хотели
Вы что-то во-вторых?Гуэрра
Да, в самом деле,
Но это мелочь, к слову. Кардиналу
Послышалось, что папа намекнул,
Что будто в Риме неспокойно стало,
И тут же вас легонько упрекнул.
А уходя, заметил, что едва ли
Вы навсегда Кристофоро прогнали.Франческо Кристофоро?
Гуэрра
Бедняга удручен
И полн раскаянья.Франческо
Но разве он
Не в Генуе?Гуэрра
Свирепая нужда
Его недавно привела сюда.Франческо Бездельник, мот.
Гуэрра
Какой-то кредитор
Хотеть его сгноить в тюрьме.Франческо Забавно!
Гуэрра
Святой отец сказал, что с этих пор
Он будет все долги платить исправно.Франческо Кто, папа?
Гуэрра
Нет, Кристофоро. И вы
Ему поможете, из сожаленья.Франческо А если нет, к примеру?
Гуэрра
Но – увы,
Догадки папы стоят повеленья.Франческо
Естественно. Глубокие слова.
Теперь мне ясно. Что же? Признаю
И подчиняюсь. Я готов отныне
Не только исполнять догадки папы,
Но каждый раз с почтительной улыбкой
Выслушивать и смех его клевретов,
И тайные угрозы их. Поспешно
Предупреждать малейшее движенье
Руки небрежной, подымать платок
Или перчатку, брошенную на пол,
Ну, словом, быть всегда слугой покорным.
Но слушайте, быть может, это шутка?
И глупая к тому же? Может быть,
Вы отыскали повод к разговору,
Чтоб подчеркнуть внезапный свой отъезд,
А с ним и непричастность к покушенью?
И во-вторых, боясь, что мне известен
Кристофоро приезд, вы, про запас,
Чистосердечно тайну проболтали?
Молчите же, не возражайте. Мне
Змеиное шипенье ненавистно
И предпочтительней рычанье льва,
Затем, что лев не жалит, а терзает!
(Выходит, задыхаясь)
Гуэрра
Ублюдок гнусный! Губы посинели,
И все черты мгновенно исказились – —
Он страшен в бешенстве. И угадать,
Так угадать! Как будто он читает
Под черепом запрятанные мысли…
Предчувствую, – игра идет на все,
Здесь ставка стоит чьей-то головы – —
Твоей, твоей, рыжебородый дьявол!Сцена 3
(Часовня св. Фомы)
Гуэрра
Он знает все.
Беатриче И все теперь погибло.
Гуэрра О, нет еще!
Беатриче Побег немыслим.
Гуэрра
Да,
Но есть еще надежда. Соберите
Все мужество, и ненависть, и гнев, —
Иль гибель нам… Я буду ждать сигнала
Сегодня в полночь, под окном – – Поставьте
Зажженную свечу на подоконник,
Спустите шнур – – Я по стене взберусь
Без шороха, без шума. Если надо, —
Я запасусь отравленным кинжалом.
Вы вздрогнули? Молю вас на коленях, —
Мы лишь обсудим замысел, не больше, —
Знак, знак один, чтоб мог я догадаться,
Что вы согласны! Слово или звук,
Движенье губ, одно движенье глаз, —
Не медлите, очнитесь – —Беатриче
Боже, Боже,
Здесь каждый шаг готов налиться кровью – —
Проклятый дом!
(Выбегает)Гуэрра
Проклятая условность!
Что стоит дело выслушать спокойно?
Итак, она как будто согласилась.
Расчет мой верен. Волею судеб
Мы связаны до гроба. Нераздельно.
Сцена 4
(Ночь. Пустынная площадь)
Олимпио
Который час? Ведь это преступленье,
Так опоздать.Марцио
Луна давно взошла,
Я думаю – не рано. Но – терпенье,
Пейзаж неплох, светло, и ночь тепла.Олимпио
Терпенье! Заповедь стара. Я смело
Могу сказать, что терпелив, как мул,
Но, черт возьми, шататься так, без дела,
Держать всю ночь бессменный караул,
Изнемогать от жажды и зевоты,
Считать шаги, придумывать остроты,
И все затем, что кто-то не пришел?
О, Марцио, я чувствую, что зол.
К тому же я за правило поставил
Всегда быть точным. Наше ремесло
Не мирится с неряшеством. Все зло
В небрежности и нарушеньи правил.
И вот – пример. Поверите ль, порой
Я собираюсь даже на покой.Марцио Немудрено.
Олимпио
Но бедность, к сожаленью,
Содействует обратному решенью.Марцио
Я вам сочувствую. Кому охота
Обречь себя случайностям труда?
Пока на свете вздорят господа,
Одна лишь есть надежная работа.Олимпио
Работа – да, но заработок – реже.
Увы, друзья и недруги все те же, —
Но скупость, скупость! Каждый норовит
Урвать, урезать иль сойти на квит – —
Прав Цицерон. Вы помните стихи?
О, tempora, о, mores, – вы плохи.Марцио
Вы знаете изрядно по-латыни,
Я, к сожалению, в науке слаб,
В грамматике застрял на половине,
В риторике – увяз в сплошной ухаб.
Пустынные дороги и война
Мне заменили классиков сполна.Олимпио
И женщины? Подобного предмета
И классики избегнуть не могли.
Прелестницы! Они с ума свели
Не одного маститого поэта.
Да что поэты! Даже мудрецы,
Забыв на время вечные загадки,
Рядили мудрость в женские чепцы
И с ней превесело играли в прятки.
Да, древние являют нам пример,
Что истина – лишь сборище химер,
А добродетель – зеркало кокоток.Марцио Решительно, не выношу красоток.
Олимпио
О, вы Катон? Но, думается мне,
Лишь до поры. Клянусь, наступят иды,
И Купидон безжалостный вдвойне
Вам отомстит любовные обиды.Марцио
Так значит, за любовью никогда
Не признавали чести и стыда?Олимпио
Порой и девственность имеет право
На снисхождение, но лишь затем,
Чтоб, исчерпав запас серьезных тем,
Мы получили тему для забавы.Марцио
Быть может. Но – я просто не любил,
Я слишком груб для тонких ощущений,
Для разных жалоб, вздохов и прощений – —Олимпио
Прощенье? Вздохи? Господи, дай сил, —
Ведь он дитя, мечтатель! Да скажите, —
Вы девственник? Не правда ль?Марцио
Замолчите,
Мне неприятен этот разговор.Олимпио
Так вот оно! Мне лично невдомек,
Какой возможен в аскетизме прок.Марцио
А наш клиент и в ус не дует. Ночь
Короче носа, рассветает скоро,
Того и жди, зашмыгают дозоры
И честных классиков погонят прочь.Олимпио
Клиент? Отличное определенье,
Пожалуй, он и не поймет такого
Поистине изысканного слова.Марцио Я склонен думать так же, к сожаленью.
Олимпио
Век неучей. Ученые Пилаты
Давно вошли с невежеством в союз,
И в результате – наши девять муз
Не стоят греческой одной цитаты.
А уж, конечно, грубая натура
Не ценит ни острот, ни каламбура.Марцио
Что делать? Я и сам наполовину —
Лишь варвар. Правда, некогда родня
В Болонью силой выгнала меня,
Но я сбежал в Триест – – не без причины.
И вот, с тех пор лишился я охоты
Запоминать цитаты и остроты.Олимпио О, вас в виду я вовсе не имел.
Марцио Тсс… звон шагов. Послушайте немного – —
Олимпио Как будто кто-то перешел дорогу.
Марцио Вновь – – Станьте в тень. Готовьтесь.
Олимпио
Это он.
(Из-за угла выходит Гвидо. Замечает убийц)Гвидо Ни шагу дальше!
Марцио (приближаясь)
Э, да вы задира?
Но только здесь вам, сударь, не квартира,
А площадь всем принадлежит равно.
Мы здесь гуляем.Олимпио И уже давно.
Гвидо
Назад, назад, иль я на помощь крикну, —
Эй, кто там? Помогите!Марцио
Черт возьми,
Я вынужден вам глотку запечатать.Гвидо (вынимая шпагу)
Засада? Слушайте, – ведь жизнь моя
Вам не нужна. Возьмите этот перстень
И уходите. Кажется, меня
Вы приняли случайно за другого.Олимпио
Увы, мой друг. Вы дьявольски похожи
На молодца, которого мы ждем.Гвидо
Ах, ты решил во что бы то ни стало
Добиться драки? Что же, получай!
(Нападает)Олимпио (увертываясь)
Благоразумие! Вы так кричите – —
Prudentia! Что толку весь квартал
Тревожить попусту?Марцио (обнажая шлагу)
Какое дело
Вас привело на этот перекресток?
Гвидо
О, негодяи! Кто вам заплатил
За кровь мою?Олимпио (заходит сзади) Патрон.
Марцио
Один почтенный
И с виду незлобивый господин,
Я думаю – его вы оскорбили.Олимпио Манерами дурными.
Марцио (нападая) Или взглядом.
Олимпио Иль грубостью.
Марцио (нападая) Иль скверным любопытством.
Олимпио Ignotum est, incertum.
Марцио
Предлагаю
Переменить позицию. Луна
Вам бьет в глаза и ослепляет зренье,
Я не хочу чтоб вы нас упрекнули
В нечестности.
(Заставляет его переменить место)Олимпио [2]
Вот так. Теперь – удар!
(Выбивает шпагу)Гвидо Ну, режь, собака. Я обезоружен.
Марцио Эй вы, клиент, – нельзя ли поучтивей?
Олимпио
А мы еще любезностью хотели
Украсить нашу встречу.Марцио
Дать ответ
На все его вопросы.Олимпио
Посвятить
В один секрет!Марцио
Предупредить, на случай,
О замысле одном коварном.Гвидо
Ты,
Чудовище! Из подлого убийства
Тебе хотелось бы скроить потеху?Олимпио
Ничуть, ничуть! Какое наслажденье
Вы можете доставить кавалерам?Марцио Но просто долг – —
Олимпио Принцип!
Марцио
Принцип диктует
Нам вас уведомить, не лицемеря – —Олимпио Не лицемеря, с простотой суровой – —
Марцио
О том, что вас преследуют враги.
Как знать? Быть может, в странном заблужденьи,
Вы лицемера почитали другом,
И в смертный час – —Олимпио Убийственный курьез!
Марцио За изверга помолитесь всерьез?
Гвидо
О, Господи, прости мне прегрешенья!
(Закрывает лицо руками)Марцио Итак, наш долг – —
Олимпио Принци;п – —
Марцио
Велит назвать, —
Вы слушаете? – подлинное имя – —Олимпио Как бишь его?
Марцио Ну да, – его зовут – —
Олимпио Внимание!
Марцио
Синьор Франческо Ченчи.
По справедливости, он заслужил
И гнев, и брань. Мы – только нож слепой
В руках убийцы.Олимпио
Исповедь бандита?
О, Марцио, меня вы взволновали!Гвидо
Одно мгновенье! Заклинаю вас,
Во имя смерти! – —Олимпио
Э, пора и кончить!
(Поражает его кинжалом в спину)Гвидо
О, Беатриче!
(Падает)Марцио
Черт возьми, вот штука,
Что вздумал вспомнить перед смертью – —
Даже
Неловко стало.Олимпио Малый был влюблен.
Марцио
Но что за имя – – Беатриче – – Всплеск
Морской волны – – Он славно защищался
И, видимо, был добрый человек.Олимпио Пора бежать.
Марцио
Сперва обыщем тело,
При нем должны быть письма.Олимпио
Если так, —
Я обожду в сторонке. Мертвецы
Мне неизменно действуют на чувства.
Вот, кажется, он подмигнул.Марцио
Пустое, —
Вы бредите? Но я вас не держу.Олимпио
Тогда бегу. До скорого свиданья!
(Указывая на труп)
Бедняжка! Он достоин состраданья.
(Убегает)Марцио (наклоняется над трупом)
Уж посинел. Глаза остекленели.
Давно ли это строгое чело
Переживало радость и заботы?
И вот – молчат холодные уста
И никогда уже не потеплеют – —
Да, Марцио, недаром ты ведешь
Подробный счет своей суровой жатве, —
Есть в этих лицах, важных и бесстрастных,
Какая-то неясная загадка – —
Иль все вопросы просто разрешимы?
Зачем же ты стоишь недоуменно
И в скважину замочную тайком
Подглядываешь вечность? Впрочем – нет,
Ты только ищешь нужные бумаги.
(Из-за угла выходить Гуэрра)Гуэрра
Прекрасный вечер, Марцио любезный!
Ну, не сердитесь. Кстати, за углом
Меня ждут слуги. Их по меньшей мере
С полдюжины. Оставьте вашу шпагу.Марцио
Прекрасный вечер, добрый монсиньор;
Вы здесь шпионили?Гуэрра
Какое слово!
Гулял, гулял – – Ба, это кто? Смотрите,
Маэстро Гвидо? Вот нежданный случай!Марцио (делая решительный жест) А, черт возьми, вы слишком любопытны!
Гуэрра
Мой пылкий Марцио, задира милый,
И правда, с вами долго ль до беды?
Но успокойтесь. Я не проболтаюсь.
Какое дело мне до ваших ссор?
Ведь вы его убили в поединке,
Не правда ли? Я просто очень рад,
Что встретил вас. Давно уж мне хотелось
Вам предложить услугу за услугу.Марцио Ага, я прав, – меня вы проследили?
Гуэрра
Не все ль равно? Допустим, что сегодня
Столкнувшись с вами перед домом Ченчи,
Я кое-что успеть сообразить?
Что ваш приятель, классик по призванью,
Порой не прочь зайти в мою читальню
Перелистать Теренция иль Плавта?Марцио Олимпио предатель?
Гуэрра
Вот упрямец!
Он просто ищет места подоходней
И помнит вас.Марцио
Так вот зачем внезапно
Он изобрел чувствительное сердце!
Умно, умно!Гуэрра
Забавнейший остряк.
Так вы согласны?Марцио (равнодушно)
Дело слишком ясно,
И отказаться – было бы опасно.
Сцена 5
(Комната Беатриче. Перед рассветом)
Беатриче
Святая Дева, помоги, я гибну – —
Отчаянье грызет мне душу. Кровь
Уже готова обагрить мне руки.
В висках стучит бессонный грех – – А солнце
Все медлит, медлит. Утренней рассвет
Забыл окно мое. Со всей земли
Ползут ко мне извилистые шумы
И шорохи. Безумие и страх
Под видом ночи бродят в коридорах.
Где взять мне сил?
Вот двери завалю,
Закрою вход вещами – —
(В другую дверь входит Лукреция)Лукреция Беатриче!
Беатриче Ай!
Лукреция Это я!
Беатриче
Почудилось мне вдруг,
Что он вошел – —Лукреция
Поди ко мне, дай руку;
Ты вся дрожишь в ознобе, ты больна;
Лицо горит, а пальцы словно лед – —
Ну, ободрись, не плачь. Смотри, и солнце
Уже скользить по стеклам.Беатриче
Я не плачу.
Из глаз моих я выдавить могла б
Лишь раскаленные осколки камня.Лукреция Ты видела опять недобрый сон?
Беатриче
Я не спала. То были только грезы;
Так грезят в долгом ожиданьи казни.
Заснут, – а в двери тук-тук-тук, и входит
Палач с засученными рукавами.
Вот и сейчас мне показалось, будто
Поникшая медлительная тень
Прошла по комнате, как черный ангел,
И даже ветерок холодный дунул.Лукреция
Постой, я дверь плотней закрою.
(На пороге показывается Франческо)
Ах!Франческо Как странно вы встречаете супруга.
Лукреция
Я вскрикнула случайно. Вы подкрались
Так незаметно.Франческо
Как свирепый волк,
Не правда ли? Молчите?Лукреция Как палач – —
Франческо Подите прочь!
Лукреция Я не уйду!
Франческо
Извольте
Немедленно убраться вон! Колдунья – —Беатриче Уйди, уйди – —
Лукреция
Храни тебя Господь!
(Уходит)Франческо
Ты рано встала, Беатриче. Утро
Лишь рассветает. Я перед охотой
Зашел тебя проведать. Будет жарко.
(Беатриче кивает утвердительно)
Скажи, меня ты очень ненавидишь?
Что делать! Такова природа сердца.
Порок и добродетель – это корни
Деревьев разных, но один поток
Их омывает. Ненависть к отцу
Ты, кажется, возводишь в добродетель?
Да, все течет, и в мире нет законов
Незыблемых и постоянных. Вывод —
Как будто прост – —Беатриче О, простота лукавых!
Франческо
Твои слова звучать, как «Отче Наш» – —
Да, да, ты добродетельна. И даже
Пронзающий преступника кинжал
Ни добродетелью, ни чистотой
С тобой сравниться не дерзнет.Беатриче
Позволь
Уйти мне в монастырь!Франческо
Нет, Беатриче,
Грех не боится монастырских стен,
Он следует за смертными повсюду.Беатриче Молю тебя!
Франческо
И слишком ты прекрасна,
Чтоб тешить мысль распутного монаха.
К точу же благочестие всегда
Так скверно пахнет чесноком и потом, —
А ты привыкла к лучшим ароматам
Благословенного Востока. Право,
Ты и сама похожа на флакон
Венецианского стекла. Хрусталь,
В котором кровь, вино, духи и солнце – —
Вот я гляжу, и в солнечном луче
Трепещет волос твой, из шелка свитый;
Неуловимое движенье крови
Позолотило розовую кожу,
И вся ты – девственна, и каждый дюйм
Твоих стыдливостью омытых членов
Невинней, девственней Мадонн пречистых.
Как хороша была бы ты в гробу!
Безгрешная, не тронутая взглядом,
Ни помыслом нечистым, белый звук
Гармонии небесной – – Не жена,
Не женщина – – Почти еще дитя,
Блаженная в святых отроковица – —
Но ты жива. И знаю, по плечам
И по глазам, девически надменным,
Когда-нибудь скользнет желанье. Грудь
Под легкой тканью сладостно сожмется,
Жемчужной влагой заблестят зрачки,
И в сердце – вспыхнет черный пламень страсти,
Сжигающей и девственность, и стыд – —
И эта грудь откроется объятьям?
Блуждающая грубая рука
Принудит непокорные колени,
Которые и платье на ходу
Отталкивать готовы горделиво?
О, эта плоть, которой даже ветер
И даже тень едва коснуться смеет,
Подымет гору мускулов тугих,
Испариной любовной разогретых,
И все ключи, все тайны, как раба,
К чужим ногам положит исступленно?Беатриче Отец!
Франческо
Нет, нет, развратница, молчи!
Твой стыд – обман! Ты каждой каплей крови
Давно созрела для любви распутной – —
Ты горделива с виду, но во сне
Скольких любовников уже ласкала?
Как жалкая ночная потаскуха,
Что зазывает пьяных в подворотню,
Ты раскрываешь в грезах наготу
Перед обманщиком, до тела жадным, —
Пускай еще покуда безымянным,
Пускай еще неведомым покуда, —
Что нужды в том? Он впущен, гость случайный,
Любая прихоть распаленной грезы,
Бандит, матрос, цыган, фигляр проезжий,-
Их сотни, тысячи, и все они
Живут в тебе и тешатся тобою!
И только мне противиться ты смеешь?
(Хватает ее за руку)Беатриче Пусти, пусти меня!
Франческо
Из состраданья,
Из жалости ко всем, кого ты любишь, —
Не отвергай меня – —
Постой, я знаю,
Ты замышляла бегство – – Негодяй,
Любовник твой или союзник, Гвидо
Погиб другим в предупрежденье!Беатриче
О!
Пусти, пусти меня – – Убийца!
(Вырываясь, бежит к выходу)
Гей,
Ко мне, на помощь!
(Вбегает Лукреция)Франческо (Лукреции)
Прочь с дороги!
(Уходит)Лукреция
Изверг!
Зубами щелкает, и брызжет пеной,
И рвет когтями – —
(Обнимает Беатриче)
Он тебя ударил?Беатриче (вырывается)
Рука, рука моя! Холодный гад
Прополз по ней, она совсем застыла, —
Гляди – дрожит, и ногти посинели,
Вся кровь от гнусного прикосновенья
Бежала прочь и медлит возвратиться
К» багровым оттискам зубов змеиных – —
Но погоди, – у смерти зубы крепче!Лукреция О, тише, тише!
Беатриче
Каждый волос мой
Пронизан дикой радостью убийства!Лукреция Молчи, молчи – —
Беатриче
Не сказано ль? Господь
Простер ладонь – и тварь затрепетала,
И плоть на плоть, и кровь на кровь – восстала – —
Сцена 6
(Корчма у дороги)
Марцио
В конце концов, скитанья и война
Способны закалить нам нравы. Жалость
Солдату не к лицу, и часто гибель
Скрывается под маской состраданья.
Я сердцем груб. Ни женщины, ни дети
Не властны возмутить мне душу. Слезы
Мне кажутся притворством, смех – обманом,
А крик и стон – докучной бранью.Олимпио
Вы —
Злодей.Марцио Охотно допускаю.
Олимпио
Варвар,
Бегущий, как чумы, любви красавиц.Марцио
Но вот недавно, в первый раз, быть может
Я испытал случайное волненье
Над трупом Гвидо – —Олимпио
Бедный малый. Рок
Над ним изрядно посмеялся. Но —
Мы лишь кинжал, – не так ли вы сказали?
В карающей руке. Вина не наша.Марцио Быть может, так.
Олимпио
Я твердо убежден
В непогрешимости моих суждений,
И оттого – не знаю снисхождений.
Но вы не в духе, мрачный мой философ?Марцио
Мне неприятен монсиньор Гуэрра,
Зачем вы с ним?Олимпио
Я знаю кавалера,
Он исполнителен и точен. Папа
Уже готов его отметить шляпой.Марцио
Его все дамы прочат в кардиналы,
Вы с ними заодно.Олимпио
И потому
Без колебаний уступил ему
Отвагу нашу, опыт и кинжалы.
Он, несомненно, делает карьеру,
Я рад служить такому кавалеру.Марцио
Как вам сказать – – Но он проговорился,
Что женщина замешана в игру, —
Подобная примета не к добру.
Я не люблю бессильного коварства
Под маской бешенства. Мне неприятна
И мысль одна, что слабая рука,
Которой в тягость даже украшенья, —
Дерзает подымать клинок.
Убийство —
Удел души суровой, но отважной.
Оно подобно пламени: железо
В нем закаляется; могучий дуб
Пылает яростным огнем, солома —
Мгновенно истлевает в пепел.
Кровь —
Привычна мне. Я холодно смотрел
На эти сгустки дымные смолы,
Неизъяснимо вязкие на ощупь,
Но никогда не разбавлял их медом
Иль розовой водой. Мне нестерпимы
Духи красавицы, к которым гнусно
Подмешан трупный запах разложенья.Олимпио
Не возражайте! Вы – Савонаролла,
Иль циник, иль отъявленный прозаик, —
А женщина – сонет.Марцио
Стихи лукавы.
В них темный смысл всегда запрятан где-то.
Все рифмы лгут.Олимпио
И правда – ложь поэта.
Но будем пить, Фалернское на славу.
Сцена 7
(Поздний ужин. Франческо, Беатриче, Лукреция)
Франческо
Да, да. Такие случаи нередки.
Сегодня жив, а поутру – глядишь,
Холодный труп бессмысленной улыбкой
Приветствует наследника. Причины
Внезапной смерти лекари не ищут.
Зачем? Покойник нем, а узел жизни
Уже развязан щедрою рукой,
И все в порядке. Словом – неизменно
Причина в несварении желудка.
Поди-ка, докажи, что за обедом
Иль ужином бесцветным порошком
Для вкуса сдобрили навар куриный
Или в стакан пустили капли две
Невинного, но крепкого настоя.
К примеру, вот вино.
(Подымает стакан на свет)
Прекрасный цвет,
Отличный вкус и запах. Чистой крови
Оно подобно. Нежные рубины,
Расплавленные в тонком хрустале,
Не более ласкают глаз, чем эта
Чарующая влага. Между тем,
Что стоит повару или лакею,
В отместку за удар ничтожный тростью,
В гробнице этой, тесной и прозрачной,
Которую, шутя, зовут бокалом, —
Седую вечность запереть и смерти
Вручить холодные ключи? Ужасно – —
(Лукреции)
Поверите ль, синьора? Я не смею
Вам предложить из этого бокала.Лукреция
Я не боюсь.
(Пробует его вино)
Напиток превосходен.Франческо
О, смелость женская! Вы так бесстрашно
Отведали возможного забвенья,
Что справедливость требует и мне
Преодолеть сомненья. Беатриче,
Твое здоровье!
(Пристально смотрит на нее)Беатриче
Яд не обнаружен?
Иль очередь моя теперь отведать?Франческо
Не смейтесь, дочь моя. Предосторожность
Мне свойственна давно, но с ней и вера
В природу добродетели.
(Пьет)
Конечно,
Вам взгляды ваши строго запретят
Опасный опыт с жизнью материнской,
Вы так благочестивы – – Я всегда
Готов признать за вами целый ворох
Прекрасных качеств, в частности – любовь
К достойной мачехе. Отец не в счет – —
Я мнителен, что делать? Но – увы,
Наш век распутный рабски перенял
Обычаи всех варваров. Нередко
При помощи щепотки тонкой яду
Ближайший родственник готов услать
Нас в лучший мир, откуда нет возврата.
Печальные последствия разврата – —
Я не педант, но твердо убежден,
Что каждая жена, без исключенья,
Испытывает легкое влеченье
К нелепым шалостям; а шалость жен
Порой не лучше худших из пороков.
Я говорю, конечно, без намеков.
Мой долг – беречь от шалостей жену,
И особливо – отходя ко сну.
(Встает)
Почтение синьорам. Райский сон
Уже готов смежить мои ресницы;
Святым и грешникам отлично спится,
А я, к тому же, будто утомлен.
(Уходит)Беатриче
Ты слишком весел. Что же, веселись,
Шути со смертью, может быть, она
Охотнее приходит к шутникам.Лукреция Ты подмешала?
Беатриче
Сонный порошок,
Тебе он повредить не может.Лукреция
Губы
Я лишь слегка смочила, но дремота
Меня томит – —Беатриче Одно волненье.
Лукреция
Страх
Сжимает сердце, ледяная дрожь
Пронизывает члены – – Я готова
Кричать от ужаса.Беатриче
Молчи, ни слова.
Пойду, послушаю.Лукреция
О, Беатриче,
Лишь эту ночь, единственную ночь
Оставь ему! Быть может, будет чудо.Беатриче Ты малодушна.
Лукреция
Я несчастна. Камень
И тот бы содрогнулся, Беатриче.Беатриче
Мы счастливы. Мучительные сроки
Исполнились. Душа, как нищий странник,
Блуждала слишком долго, и невмочь
Ей продолжать ужасные блужданья,
Пусть эта ночь несет одни страданья, —
Я счастлива. Благословенна ночь.
(Уходит)Лукреция
Он так смотрел сегодня, будто знал,
Что смерть к нему уже подкралась – – О,
Я не забуду этих глаз! Насмешка
И ужас в них боролись исступленно.Беатриче (входит)
Как быстро он уснул. Пора дать знак.
(Ставит свечу на подоконник)
Гляди, свеча горит светлей и ярче,
Воск растопился. Желтая кора
Застыла на руке. Как грозный факел,
Отчаянья и гибели сигналь,
Она дорогу помощи осветит.
(Молчание)Лукреция
Еще возможно замысел оставить.
(Стучат в дверь)Беатриче
Стучат?
(Подбегает к двери)Лукреция
Могильщики о крышку гроба
Лопатой стукнули.Гуэрра (входит) Они со мною.
Беатриче
Сюда, сюда, но тише, ради Бога.
(Марцио и Олимпио задерживаются у порога)Лукреция Я ухожу.
Беатриче Покойной ночи, мать!
Лукреция (целуя ее)
Храни тебя Господь.
(Уходит, плача)Гуэрра
Я долго ждал
Сигнал. Ночь темна, и воздух душен,
Сбирается гроза.Олимпио (тихо)
Она мила,
И, по наружности, отнюдь не зла.Марцио Молчите, вы!
Гуэрра Я думаю, пора.
Беатриче
Постойте – – Я как будто ослабела,
Весь дом качается, в глазах туман – —Гуэрра
Вам дурно?
(Бросается к ней на помощь)Беатриче
Нет, прошло. Лишь на мгновенье
Я содрогнулась.Гуэрра Я останусь.
Беатриче
Нет, —
Простая слабость женская не вправе
Менять решений. Вы сойдете вниз
Держать дозор. Я вновь спокойна.Олимпио
Эта
Симпатия похожа на любовь,
Я ожидал подобного сюжета.Марцио Я попросил бы, сударь, вас молчать.
Беатриче Вы ссоритесь?
Олимпио Мы думаем начать.
Гуэрра
Пора, пора. Входите же. Но ссора
Была бы неуместна.Олимпио (входит) В добрый час!
Марцио (входит) Спокойствие, спокойствие, сеньора.
Гуэрра Вы знаете расположенье?
Олимпио
Как же, —
Я здесь бывал частенько гостем. В доме
Нет никого?Беатриче Все слуги спят внизу
Марцио Мы слушаем.
Беатриче
За этой дверью, там,
Пройти две лестницы, и на постели
Найдете вы – —Марцио Он спит?
Олимпио
Но вы хотели,
Мне помнится, вручить задаток нам?Беатриче
Вот золото.
(Протягивает Марцио кошелек)Марцио
Благодарю, но мне
Его не нужно.Олимпио
Но тогда вдвойне
Обязан я вниманию синьоры.
(Берет кошелек)
И кончим деловые разговоры.Беатриче (Марцио) Что с вами? Вы колеблетесь?
Марцио
Я тверд,
Но предпочел бы разбудить беднягу
И в поединке честно выбить шпагу
Олимпио дорезал бы.Олимпио (насмешливо) Он горд.
Беатриче
Хотите вы сказать, что я убийца
Без проблеска стыда и чести? Вор,
Трусливо жизнь крадущий, словно перстень,
Забытый на столе?Олимпио Он мелет вздор.
Беатриче
Иль объяснить причины я должна,
Зачем, как гада, жалость раздавила
В душе моей и на смерть осудила
Того, кем даже смерть оскорблена?
Ступайте прочь! Я справлюсь и сама.
Мужчины стали слишком осторожны
И добродетельны – – Уйдите! О,
Мне нестерпима даже мысль, что я
Могла бы вновь услышать этот голос
Который, словно яд, сочится в ухо
И замораживает жилы – – Воздух
Вокруг него готов корой засохнуть,
Как гнойный струп на теле прокаженном.
Ни дня, ни часу, ни мгновенья жизни!
Вам надобны причины? Но язык
Не в силах их назвать!Марцио
Я не привык
Расспрашивать.Олимпио Нам хватит кошелька.
Марцио Но поспешим, ночь слишком коротка.
Гуэрра
Да, да, ступайте. Я среди двора
Покараулю. Помните, сомненье
Невыгодно в известном положеньи.Олимпио
Итак, чтоб не было следов насилья,
Мы в глаз его вколотим тонкий гвоздь,
Для верности немного ковырнем
В мозгу, и тело сбросим вниз, с балкона.
Решетку не мешает обломать:
Несчастный случай, – человек упал
И умер сам, от сотрясенья мозга.Марцио
Довольно болтовни. Идем.
(Направляется к выходу)Олимпио
Луна
Сегодня в отпуску, свеча нужна.
(Берет свечу и уходит следом)Гуэрра
Пойду и я. Не бойтесь, лишь стена
Отделит нас на краткое мгновенье – —
Да, что еще? Постойте, я хотел
Напомнить вам, и вдруг забыл.
Как душно – —
Вот грянет гром, и хлынет тяжкий ливень,
И затрещать деревья, словно парус
На корабле разбитом – —
Беатриче!
Корабль готов. Я светлой бирюзой
И жемчугом твое осыпал ложе – —
О, если буря бросится на нас, —
Я задушу ее, – мне нет запрета…
Нарушу все законы и обеты,
Все растопчу за день один, за час.
Ты не уйдешь! Нет в мире преступленья,
Перед которым в страхе отступлю,
Пусть я жесток, но я тебя люблю,
И полюбив – не знаю сожаленья!Беатриче
Молчи, молчи, и в этот час он смеет
Напоминать о плате!Гуэрра
Это страсть
Уста мои насильно разомкнула!
Но вот – я снова глух и нем. Довольно,
Я ухожу. Но помни, я вернусь!
(Уходит)Беатриче
Да, Беатриче, ты совсем одна…
Прислушайся. Что скажешь, сердце? Ровно
И мерно чередуются биенья,
И под запястьем легкая волна
Все так же катится неторопливо.
А между тем привычная душа
Наемного убийцы ужаснулась.
Что он сказал? Слегка замялся? Кровь
Ударила в лицо волной загара,
Да искра прыгнула в зрачке глубоком – —
Он промолчал, но бросил осужденье
И отказался от завидной платы.
О, совесть, совесть, твой ли это голос?
А ночь летит. Зловещее безмолвье,
Как зверь немой, насторожилось в страхе,
Глядит, не верит. Медленные тени
Проникли в дверь, подкрались к изголовью,
Тихонько подымают покрывало,
В лицо заглядывают – – Ищут место,
Куда бы поразить. А он, быть может,
В своем мучительном оцепененьи
Внимательно рассматривает руку,
Настойчиво скользящую во тьме,
И безуспешно ищет объяснений
Загадке страшной. И открыть глаза
Пытается сквозь липкий ужас смерти – —
(Слышен крик)
О, Боже, крик!
( Пробегает Олимпио)
Остановитесь!Олимпио
Ожил – —
Он сам нечистый!
(Исчезает. Медленно входит Марцио, он бледен.
За ним, шатаясь, показывается Франческо)Марцио Стой, ни шагу дальше!
Беатриче Ты встал, ты встал?
Франческо
С трудом и ненадолго – —
Постой, – ты так великолепна – – Гнев
Горит пожаром на щеках, и губы
Истерзаны грехом – – О, Беатриче,
Одно лобзанье, – я изнемогаю…
(Падает)Олимпио
Он падает! Безумье говорит
Его устами.Беатриче
Бешенство и злоба
Его грызут – – Добей его!
Франческо (пытается встать)
Нет нужды,
Назад, синьор любовник иль убийца, —
Я умираю. Помоги мне встать…
Покойной ночи, Беатриче.
(Умирает)Марцио (бросается к трупу)
Сердце
Остановилось. Кончено, он умер.
Нет, не смотрите, отвернитесь, – я
Его лишь вынесу – —
(Уносит труп)Беатриче
Ужасно – – Звон
Наполнил уши. Трепетные руки
Летают в воздухе, как стая птиц,
Забрызганных холодной кровью. С крыльев
Струится пот… О, этот стон предсмертный!Марцио (возвращается)
Там каменный овраг. Я обломал
Решетку на балконе. Он упал
На дно…Беатриче
В овраг? И камни не кричали?
Постой, он, кажется, зовет на помощь – —Марцио Нет, тихо все.
Беатриче
Послушай, этот звон,
Как погребальный колокол – – Мне душно,
Я умираю.
(Падает на руки Марцио)Марцио
Помогите! А, —
Дом пуст, и помощь гибельна – – Дыханья
Совсем не слышно. Губы посинели,
На полпути слеза остановилась – —
Какие длинные ресницы – – Локон
Завит по-детски – – Нежная щека
Бледнее лилии и непорочней
Святых Даров. О, львиная душа
В сосуде хрупком! Что со мной? Все тело
Затрепетало вдруг и ужаснулось
В тоске и жалости – – О, Беатриче,
Проснись, проснись!Беатриче (тихо) Бьет полночь – —
Марцио
Ты жива?
Еще, еще хотя бы слово!Беатриче Кто ты?
Марцио
Прижмись ко мне, вот так – – Ты легче пуха, —
Казалось мне, что на руках моих
Не тело нежное, а легкий воздух,
И ты была беспомощней ребенка,
Уснувшего в глухом лесу – —Беатриче
Ты плакал?
Твои глаза еще блестят.Марцио
Не знаю.
Но высшего блаженства никогда
Моя душа еще не испытала.Беатриче Да, Марцио? Тебя ведь так зовут?
Марцио Да, Беатриче.
Беатриче (приходя в себя)
Погоди, ты смотришь
Так странно – – Что со мной? Пусти, пусти!Марцио
Не уходи. Ты встанешь, и с тобой
Вся жизнь уйдет, – и без тебя я буду,
Как дерево, поваленное бурей.
Мне кажется, тебя искал я долго,
И вот – нашел, и вот – не отпускаю – —
Рукам легко и радостно, как будто
Я их омыл в живой воде. Теперь
Они уже не в силах разомкнуться.
Гляди, ты видишь? Кожа на ладони
От преступлений стерлась, огрубела;
Здесь каждая извилина и тень,
Бугор и впадина, хранят угрюмо
Зловещие следы воспоминаний.
Наедине с самим собой, упорно
Я изучать их форму, но ни разу
Не обнаружить линии чудес.
Мой путь был пуст. И вот, сегодня чудо
Свершилось. Нежно и недоуменно
Его я принял в жесткие ладони,
И вдруг в них сердце трепетно забилось.
И долго я не знал, твое ль оно
Или мое, и стало мне казаться,
Что ты и я таинственно срослись
В одно и стали сердцем неделимым – —Беатриче
Ты говоришь – и сердце замирает
И падает в стремительную бездну,
Где нет ни памяти, ни дня, ни ночи…
Лишь ветер носит в воздухе пустынном
Рассыпанное время и слова,
Не воплощенные в земное имя.Марцио Люблю тебя.
Беатриче
О, замолчи! Так стыдно
И сладко мне, беспомощное тело
Какой-то новой слабостью томится.
Так я спала? И в первый раз проснулась
В мужских объятьях – —
(Стремительно вбегает Гуэрра)Гуэрра Беатриче, ты?
Марцио Оставь ее.
Гуэрра Возможно ли?
Беатриче Уйди.
Гуэрра
Проклятая! Ты смеешь? Посмотри,
Он замарал твои колени кровью!
Змея, змея – —Марцио Уйди!
Гуэрра
Отцеубийца,
Я растопчу тебя!
(Выбегает в бешенстве)Беатриче
Твое дыханье
Мне пламенем ложится на ресницы.Марцио Прижмись ко мне – – Вот так – —
Беатриче Он все откроет.
Марцио
О, Беатриче, – имя… Светлый всплеск
Морской волны – —
(Склоняется над нею)Сцена 8
(Дом римского губернатора. Губернатор, Судья и Начальник городской стражи)
Губернатор
Доколе будут город волновать
Ужасные убийства эти? Право,
Порой мне кажется, что мы живем
Во вражеском каком-то стане. Жизнь
Дешевле в Риме, чем кусок веревки,
Которой мы смиряем преступленье.
Что ж Марцио?
Нач. стражи
Он здесь, под караулом.
(В дверь)
Гей, стража!
(Солдаты вводят Марцио)
Что? Каков?Губернатор
Молчишь, разбойник?
Иль он сознался?Нач. стражи Как же, и не думал.
Судья
Но это все равно, его сознанье
Нам обеспечит маленькая пытка.
Нач. стражи
Он так нахален!Судья
Все они нахальны
До времени. Но опытный судья
В конце концов изобличит злодея,
А я почтительно признаться смею,
Что не с одним уже справлялся. Взять
Олимпио хотя бы. Тот смирился.Губернатор (Марцио) Смирись и ты! Смотрите, он смеется!
Марцио
Олимпио солгал. Он вида пытки
Не выдержал.Судья
Прекрасно! А донос?
Гуэрра все подробно изложил
В своем письме.Марцио
Но где он? Клеветник
Мстит издали.Губернатор
О, небо! Уберите
Отродье это с глаз моих долой!
(Стража уводит Марцио)
Чума, чума.Судья
Олимпио не лучше,
Такой же гусь, но начисто ощипан, —
И с этим справимся.Губернатор
Уж верно, гусь,
Но гусь преступный. Как же ощипали
Вы гуся этого?Судья
О, я всегда
Веду допросы с легким экивоком
И, главное, играю простака.
Естественно, кусаю долго ноготь,
Молчу, смотрю бесцельно в потолок,
Некстати рву ненужные бумаги – —
Ну, если птица мелкая, она
В окошко так иль этак вылетает,
Хоть с небольшой острасткой, натурально, —
Но если я в преступнике замечу
Начало лихорадки, странный зуд,
Или смущенье, или просто бледность —
Конец. Я выверну его наружу.Губернатор
Вы и Олимпио таким манером
Перехитрили?Судья
Но, конечно, тоньше
И остроумней. Мой болван пыхтел,
Краснел, бледнел, то пальцами хрустел,
То воротник расстегивал. То носом
Сопел ужасно… Словом, вышло так,
Что в злобе иль отчаяньи дурак
Оплел себя подробнейшим доносом.Губернатор Великолепная удача!
Судья
Я
От радости готов был негодяя
Обнять!Нач. стражи
Что говорить, преловко. Суд
Поистине есть лютый пес закона,
И пусть мне горы золота да дут —
Отныне я судейского не трону.Судья
Закон – замок, судейские – ключи,
И отпереть, и запереть мы властны.Нач. стражи По мне – отмычки менее опасны.
Губернатор Где суд молчит, там правят палачи.
Судья Аминь. Так Марцио слегка подвесить?
Губернатор
Сегодня же. Обеих женщин срочно
Арестовать и содержать под стражей
До нового приказа. Я пока
Оставлю вас. Убийственное время!
(Уходит)Нач. стражи
Да, времечко неважное. Житья
Не стало более. Недавно воры
Напасть посмели на мои дозоры!Судья Дела, дела – —
Нач. стражи
Беда, синьор судья.
Сцена 9
(Тюрьма. Марцио, Судья, Палачи)
Судья
Послушай, Марцио. Сказать по правде,
Я в запирательстве не вижу толку,
Иль мало палачи тебя терзали?
Подумай сам: улики налицо,
Олимпио, приятель твой, к тому же
Во всем сознался.Марцио Умер он.
Судья
Пустое, —
Свидетельство осталось. Лишь профаны
Оспаривать его посмеют.Марцио
Пыткой
Его добыли.Судья
Явная нелепость.
Олимпио увяз на первом слове,
Запутался, попал в тупик, заврался
И сгоряча в убийстве сам сознался;
Прелюбопытный казус.Марцио Он погиб – —
Судья
Тут пытка ни при чем. Скорее – некто,
Замешанный сторонкой в преступленье,
Помог бедняге с жизнью расквитаться.
Ведь он бы мог и за других сознаться?
Алхимики за грош стараться рады,
Их, что песку морского, развелось,
Так мудрено ли, если довелось
Бедняге невзначай отведать яду?
Но, к счастью, груду ценных показаний,
Записанных со тщанием писцами,
Занумерованных, подшитых к делу, —
Мы сберегли от злостных посягательств.
Итак, что знаешь ты?Марцио
Синьор Франческо
Упал с балкона и расшибся.Судья
Кто же
Сказал тебе об этом?Марцио
Я случайно
Стоял поблизости и слышал крик,
И видел, как, стараясь на лету
Схватиться за решетку, он сорвался,
Опору отпустил и головой
О камни грохнулся.Судья
Пустая сказка, —
С чего бы вдруг решетка обломалась?Марцио Не знаю.
Судья
Каменщик удостоверил,
Что прутья были вделаны исправно.Марцио Он мог и ошибиться.
Судья
Если так,
То отчего при обыске нашли
Кровавое тряпье, хотя известно,
Что кровь – лишь следствие, а не причина
Паденья. Если же наоборот —
То факт убийства ясен.Марцио
Я не лекарь
И не аптекарь.Судья
Жалкая увертка;
Иль ты шутить со мной задумал? Ладно,
Я в свой черед еще отвечу шуткой – —
Скажи, тебе велела Беатриче
Убить отца?Марцио
Синьору в первый раз
Увидел я в тюрьме.Судья
Великий Боже,
Дай мне терпенья. Этот негодяй
Поклялся уморить судью. Довольно,
Я издевательства не потерплю
Над правосудием. Палач, в кнуты,
В кнуты его, чтоб глупое бахвальство
С него со шкурой слезло!
Беатриче
Позвать ко мне.
(Палачи уводят Марцио)
Непостижимый случай – —
Здесь, кажется, нашла коса на камень;
Конечно, дело слишком очевидно,
Но честь моя задета за живое.
(Входит Беатриче)
Почтение синьоре. Вы печальны?
Вы нездоровы, может быть? Глаза
Как будто потускнели – – Этот воздух
Пропитан насквозь гибельной заразой,
Он не для вас. Поверьте, день и ночь
Я одержим единственной заботой
Спасти вам жизнь.Беатриче
К чему? Я в смерть не верю,
Мне новый мир таинственно открылся,
Невыразимо светлый и прекрасный.
Когда впервые каменный застенок
Я обагрила кровью, в тот же час
Из берегов своих, скупых и ржавых,
Река страданий выступила грозно
И растеклась, журча, в необозримый
Волнующийся океан любви.
В нем чье-то сердце высилось, как остров,
Омытый влагой радости. Круша,
Валы его любовно поглощали.
И вдруг пронзил меня мечом крылатым
Восторг, и поняла я, что страданье —
Лишь тень любви, остуженные брызги,
Летящие над светлой бездной Бога.
Придя в себя на краткое мгновенье,
Я ощутила на ресницах слезы,
Соленую и горькую росу
Но тело билось в сладком содроганьи,
Летело ввысь и пело от страданья.Судья
Самообман. Напуганная мысль,
Не видя выхода иного, бурно
По высохшему ложу устремилась.
К тому же, эта новизна событий
И потрясений – – Слушайте, я прямо
Начну с конца:
Закон, конечно, строг,
Но иногда, как агнец, мне послушен;
В нем столько дыр, лазеек и отдушин,
И обходных тропинок и дорог – —
Лишь пожелайте, и содею чудо,
Любой параграф выверну легко, —
Без хвастовства, в игольное ушко
Я протащу судейского верблюда.
Я стар? Но опыт обновляет силы,
Седая страсть надежна и верна;
Как жар, под сердцем тлеет седина
И, вспыхнув раз, пылает до могилы – —Беатриче
Слова любви на мертвом языке…
Что знаешь ты о музыке беззвучной?
Пустой предмет, бездушный и жестокий,
Ты был рожден не женщиной. Природа,
Творя тебя, должно быть, оступилась.Судья Гей, берегись!
Беатриче
Молчи, трои угрозы
Не страх во мне рождают, но презренье;
Как жалок ты в своей бессильной злобе,
Могильщик ненасытный!Судья
И могла
Поверить ты, что я тобой прельщен?
Не догадалась, что игрой искусной
Я только выведать хотел признанье?
Прочь, прочь, обманщица, мне ненавистно
Твое притворство. Праздной болтовней
Ты лишь задумала отвлечь допрос.
(Слышен крик Марцио)
Ого?Беатриче Кричат? Его пытают снова?
Судья
Что делать нам с упрямцем?
(Входит Козимо)Козимо
Дело плохо,
Он может кончиться, как дважды два.Беатриче
О, Марцио!
(Бросается в застенок)Судья
Назад!
(Грубо ее оттаскивает)
Не твой черед.Беатриче
Ах, вижу я, здесь жалобы бессильны,
Рабы не знают милосердья… Трупы
Приходят в мир, чтоб жрать живых – —
Но смерти
Но этой смерти ты не опозоришь.
Виновна я! Глотай же это слово,
Пока оно на плахе не остыло.Судья
Заговорила? Благо, есть свидетель,
Я запишу. Иди.
(Козимо уводит Беатриче)
Итак – созналась – —
А, право, жаль, – бездельник будет рад,
Что одолел судью. На всякий случай,
Я удовольствие его разбавлю.
(В дверь)
Ну, что, молчит?Голос палача Молчит.
Судья
А ну-ка, малость
Ему крючок за жилы зацепи
Да подтяни легонько, вроде лютни.Голос палача
Осмелюсь, сударь, доложить, что вряд ли
Преступник выдержит такую пытку,
Он очень плох.Судья
Тем хуже для него.
(Отходит)
Ни проблеска раскаянья. И камень
Давно заговорил бы!
(Слышен крик)
А, добрались?
Немудрено, такого испытанья
Не выносил еще никто из смертных,
И сам палач как будто оробел
Приказ исполнить.
(В дверь)
Что, сознался?Голос палача
Обмер
Иль умер он.Судья
Еще разочек дерни,
Быть может, он в беспамятстве откроет
Сундук упорства.Голос палача
Бесполезно. Тело
Болтается, как кожаный мешок,
Наполненный обломками скелета.Судья
Он дьявол. Снять его.
(Палачи вносят Марцио)Палач Он дышит.
Судья
Утром
Я вновь приду. Замойте кровь на плитах.
(Уходит)Палач
В нем не осталось и стакана крови.
Ну что ты скажешь, парень?Пьетро
Я скажу
Что Беатриче взглядом или словом
Его околдовала, это ясно.
Вы помните, как в первый раз, когда
Ей волосы к веревке прикрутили, —
Он зарычал неистово и пеной
От злости захлебнулся? А она —
Заметил я – так странно посмотрела
Ему в глаза и что-то прошептала.
Она его тогда околдовала.Палач На то похоже.
Пьетро
И не диво разве,
Что за нее он вынес? Что ему
Девчонка эта? Если б хоть жена
Или любовница… Другой, наверно,
Оговорил бы и родную мать.Палач
Поверишь ли? Мне даже надоело
Ломать ему суставы. Я не знаю,
Где бить, где резать, где крючком поддернуть, —
Все, кажется, испробовали мы.
Смешно сказать, но мне порой сдается,
Что он способен вызвать жалость – —Марцио (стонет) О!
Палач
Пришел в себя? Ну, как дела, приятель?
Небось, неважно? На, хлебни воды.Марцио Темно, не вижу – – Вы глаза мне выжгли?
Палач
Какое! Просто в меру постарались.
Но ты держался молодцом. Послушай,
Когда имеешь ты какую просьбу —
Выкладывай. Обычай нам велит
Последнему желанью не перечить.Марцио О, Беатриче!
Пьетро
Ха, губа не дура, —
Вот захотел! Она хоть и убийца,
Но знатная. Какое дело ей,
Что должен ты к рассвету околеть?Палач
Ступай, не рассуждай!
(Пьетро уходит)Марцио Мне очень больно – —
Палач Терпи, теперь недолго остается.
Марцио
Я словно труп, а сердце все же бьется,
Так странно мне – —Палач
Не стоит толковать,
Ты очень слаб, побереги слова.
Ага, идут… Крепись. Я лучше выйду,
На случай. Парень глуп и неуклюж,
И любит лишнее болтать к тому ж.
(Уходит)Беатриче (вбегает) Ты жив еще? Мой Марцио – —
Марцио
Я счастлив – —
Нагнись ко мне, дай руку. Я боюсь,
Что голос мой внезапно ослабеет.Беатриче О, как они терзают!
Марцио
За тебя
Я умираю, – есть ли жребий выше?
Так вот оно, последнее блаженство,
Превозойти в страданьях и любви
Все степени, и меры, и пределы,
Отпущенные Богом человеку,
И умереть, благословляя имя,
Которое всех мер огромней – —Беатриче
Розы
Стекают с губ твоих мне в душу.Марцио
Ты
Меня все так же любишь? Не забыла,
Не проклинаешь памяти жестокой?Беатриче
Одна любовь, одна любовь с тобой – —
Что смерть и пытки? Даже честь и стыд
Мне кажутся летучим заблужденьем…
Я долго шла по лестнице крутой,
Нащупывая шаткие ступени,
Обломки гибели, и, спотыкаясь,
Дошла во тьме до ледяного круга, —
И оглянулась… Каждая ступень
Преобразилась в радуги и звуки,
И каждый камень под ногой поет,
Как нежная сияющая скрипка…
Теперь я знаю, – гибелью дыша,
Я в бурю шла по лестнице спасенья.Марцио Но плачешь ты?
Беатриче
Случайное волненье – —
Быть может, все дано нам в испытанье,
И бремя трудное – легко… Не так ли
Плясун канатный, прыгая над бездной,
Чтоб выпрямить неверный шаг, несет
Тяжелый шест в руках обеих? Гибель
Внимательно сопровождает тело,
Лишенное опоры и поддержки,
И даже тени собственной. Но мерно,
Раскачивая ношей, шаг за шагом,
Он достигает пристани заветной…Марцио Мне кажется, меня ты утешаешь?
Беатриче
О, я сама утешена тобой!
Круша меня в ту благостную ночь,
Три крови влил в меня ты, и под сердцем
Я три ручья в один соединила.
Звон горных вод и мутный шум потока,
Далекие чужие имена, —
Ты выпил их, но снова дал начало
Неиссякаемому бегу волн…Марцио
Слова твои темны. – Иль ты могла бы
Стать матерью? Ты плачешь? Я не вижу
Твоих страданий, потому что смерть
Мне застилает зрение. Дай руку.Беатриче
Мой Марцио, скажи, что голос мой
Еще ты слышишь.Марцио
Слышу, но неясно,
Как будто он звучит в густом тумане.Беатриче
Холодный пот с чела его струится – —
Встань, Марцио, о, встань!Марцио (пытается встать)
Ах, трудно. В пытке
Все кости мне разбили, и колени
Уже бессильны выпрямиться снова…
(Падает)Пьетро (входит) Светает. Ночь прошла, пора.
Беатриче Он умер!
Пьетро (пожимая плечами) Нехитрая работа, – все умрем.
8 ноября 1926 г. 3 ноября 1928 г.
[Шуточная пьеса]
Кремль. Царские палаты. Царь и князь Шуйский
Царь
Недобрый сон я видел. Будто рано
Проснулся я, зашел в какой-то сад,
Там малость погулял вперед-назад
И вдруг ступил ногой в Терапиано.
Как он попал, зачем валялся там?
Приснится же такое. Стыд и срам.Шуйский
Дозволь мне молвить слово, государь, —
То, говорят, вернейшая примета,
Что клад богатый по соседству где-то
Неведомой рукой положен встарь.Царь Рукой?
Шуйский
Ну да, рукой. И не иначе,
Что быть тебе счастливей и богаче.Царь Гм… Что же Марков?
Шуйский
Он, по слухам, хвор.
Кряхтит и жмется. С некоторых пор
Из терема совсем не кажет носу.
Боится, видно, козней иль доносу.Царь Донос? Так он повинен и в крамоле?
Шуйский Кто не повинен в ней? А он тем боле.
Царь
Ага! Я так и знал. Недаром он
И с Корвиным якшается, и с этим, —
Как бишь его?Шуйский Вердюк.
Царь
Ну да, Вернон,
Тот самый, что давно объявлен в нетях…
Не пишут, вишь…Шуйский Все ни гу-гу
Царь
Добро, —
Я вставлю им при случае перо.
Так, значит, Марков плох?Шуйский Молчит как пень.
Царь Но ты писал ему?
Шуйский
Писал. И почта
У нас исправно ходит каждый день.Царь Нечисто, князь.
Шуйский Нечисто.
Царь
Слушай, – вот что
Надумал я: зайди-ка ты в приказ,
Поговори с Дерюгиным, с Хрущевым,
Дай им понять, что, дескать, много раз
Я поминал их всех крылатым словом.
Да заодно при случае шпигни
И Кожина, и графа Воронцова, —
Сей гусь отпетый смылся образцово, —
Я думаю – все в сговоре они.
Пугни их. Царь сердит. Таких затей
Не терпит царь. Царь, мол, разматерился,
Всех разогнал намедни. Затворился
В хоромине своей, а это знак,
Что Маркова и марковских собак
Он угольком для памяти отметил.
Ты ж знай: еще не кукарекнет петел,
Как доберусь до друга твоего.Шуйский
Помилуй, царь! Да мне совсем его
Не надобно. Тем более что слух
Дошел до нас, что пишет он за двух.Царь Что пишет он?
Шуйский Помилуй, царь, беда…
Царь А, с ляхами связался?
Шуйский Много хуже…
Царь Не мямли, раб, выкладывай!
Шуйский
К тому же
Вердюку он читает иногда.Царь
Ври толком, пес! О чем твои намеки?
Что пишет?Шуйский (в сильнейшем волнении, заикаясь) Он-пи-пишет одностроки – —
Царь
Ох, душно мне!
(Падает)Шуйский
Гей, стража!
(Вбегает стража, бояре и несколько Эллисов)
Божий гнев!
Царь занемог. Он, несколько осев,
Вдруг хлопнулся о каменные плиты
И умереть готов без волокиты.
Но я тут ни при чем, наоборот…
Да что стоите вы, разиня рот?
За лекарем! Святителя зовите, —
Иль нет, отставить! Вагнера скорей
За шиворот хотя бы притащите, —
Он где-то там болтался у дверей…
Уж если он не вылечит царя —
Тогда капут!
(Входит Марков в сопровождении литовского иеромонаха)Марков Все это, в общем, зря.
Литовский иеромонах (безмолвствует)
Казак
Я ел мясо лося, млея…
Рвал Эол алоэ, лавр…
Те ему: «Ого! Умеет
Рвать!» Он им: «Я – минотавр!»
Февраль 1939 Париж
О жизни и творчестве Владимира Корвин-Пиотровского
Владимир Львович Корвин-Пиотровский – вероятно, наименее известный из значительных русских поэтов XX века. Имя его знакомо прежде всего тем, кто занимался литературным наследием русской эмиграции. Он играл немалую роль в период краткого расцвета «русского Берлина», входя непосредственно в круг Владимира Набокова, однако и позднее оставался заметной фигурой в других центрах русской диаспоры – Париже и Соединенных Штатах [3] . Не слишком большое по объему наследие Корвин-Пиотровского отмечено несомненным мастерством. Прежде всего он был поэтом, хотя писал и прозу; опубликовал также трагедию «Беатриче» и четыре короткие драмы. Сознательно следуя русской классической традиции, Корвин-Пиотровский избегал авангардных экспериментов: его творчество в целом укладывается в рамки постсимволизма, имеет параллели с акмеизмом, однако связано и с некоторыми более поздними направлениями, в том числе с литературой экзистенциализма (здесь, вероятно, следовало бы говорить не о влиянии, а о конвергенции). Стихам его свойственна установка на интертекстуальность и некоторую «вторичность», которая иногда оценивалась как эпигонство, но может быть понята и в ключе постмодернистской игры. Следует сказать, что они обычно отличаются точностью метафорического мышления, четкостью и гибкостью ритма и интонаций, органичностью архитектоники.
Двухтомник Корвин-Пиотровского, подготовленный автором и его вдовой Ниной Алексеевной Каплун (1906-1975), вышел посмертно. Первый его том составляют стихи, второй – поэмы и драмы (во второй том включены также статьи о творчестве поэта, некрологи и воспоминания современников) [4] . Сейчас эта книга стала библиографической редкостью. Эмигрантская литература о поэте сравнительно обильна; кроме рецензий на отдельные книги, ряд статей, а также рецензий на двухтомник появился после его смерти [5] .
Ценимый еще при жизни критиками и немногочисленными читателями – в том числе Бердяевым, Буниным, Набоковым [6] , – Корвин-Пиотровский пока что не обрел в истории русской литературы места, которое он несомненно заслужил. Некоторые его стихи дошли до читателей на родине, они появились в нескольких антологиях последнего времени [7] . В России были также напечатаны две его драмы [8] . Настоящая книга представляет собой первое относительно полное и комментированное издание поэтических сочинений Корвин-Пиотровского. В нее не входят прозаические произведения, статьи и письма, издание которых – дело будущего.
Владимир Корвин-Пиотровский – мало исследованный писатель. О многих периодах его биографии сохранились лишь скупые, неточные и отрывочные сведения. Загадки этой биографии отчасти объясняются характером поэта. В русской эмиграции он занимал обособленное положение. «Он мог быть сух и даже заносчив, но иной раз обжигал своей горячностью, упорством убедить оппонента в правильности своих воззрений, которые, кстати сказать, не всегда бывали устойчивыми. Некоторыми это свойство может быть принято как слабость или как избыток упрямства, но, может быть, именно эта его “поэтическая вольность" и питала его вдохновения» [9] ; «…иногда чувствовал он остро и свою “инородность" и “безродность". И потому, конечно, в отношениях с другими бывал он часто и труден и странен» [10] . Многие современники скептически или даже с раздражением относились к «чудачествам» Корвин-Пиотровского, в частности к его подчеркнуто высокому (хотя в общем обоснованному) мнению о своем таланте [11] .
Детство и ранняя юность поэта восстанавливаются в основном по семейной традиции. Они связаны с украинским городком Белая Церковь неподалеку от Киева. Пейзаж и история этого городка играют в творчестве Корвин-Пиотровского немалую роль. По словам Кирилла Померанцева, все его поэмы «исходят как бы из одной географической точки – из Белой Церкви, точно так же, как все картины Шагала исходят из другой такой точки – из Витебска» [12] . Дата и место рождения Корвин-Пиотровского ранее указывались следующим образом: «1891, Белая Церковь». Однако архивные материалы позволяют эти данные уточнить. Несколько французских документов, выданных поэту освобожденному из нацистского концлагеря, определяют дату его рождения как 15 мая 1891 года. В качестве места рождения несколько раз указан Киев (лишь в одном случае – Фастов) [13] . В Белой Церкви Корвин-Пиотровский видимо, провел детство и посещал гимназию.
Согласно воспоминаниям сына поэта, отец Владимира Корвин-Пиотровского, Лев Иосифович, был поляком, а мать – смешанного польско-русского происхождения. Будущий поэт имел двух сестер и двоюродного брата. Его любимым школьным предметом была история, но он рано стал интересоваться и математикой, к которой имел склонность всю жизнь [14] . Интерес к поэзии в нем пробудила мать. Семнадцати лет Корвин-Пиотровский пытался поступить во флот, но мать не дала на это своего разрешения. Год спустя (видимо, в 1909) он стал служить в артиллерийских частях [15] .
Утверждается, что семья поэта была дворянской и даже аристократической. «Внебытовую окраску придавало ему еще и то, что носил он фамилию двойную Корвин-Пиотровский и все не мог приспособиться, какой половинкой звучнее называться. Остановился, наконец, на второй, и первые сборники так у него и появились: Вл. Пиотровский», – пишет Юрий Офросимов [16] . Вплоть до 1945 года, иногда и позднее поэт подписывался второй частью фамилии. Однако со временем он стал настаивать и на торжественной первой части. «Шутя любил поговорить о древности рода Корвиных, напомнить о венгерском короле Матвее Корвине (1458) и о “правах" его, Владимира Корвина, на венгерский престол» [17] . Свою фамилию он связывал даже с историческими фигурами древнего Рима – то возводил ее к «некоему римскому консулу Метеллу Корвинусу» [18] , то «вел свой род от римского сенатора Марцелла Корвуса, отмеченного Сенекой за красноречие и упомянутого Горацием» [19] . Современники относились к этой родословной без особого доверия [20] .
Перед Первой мировой войной, в 1913 году, двадцатидвухлетний поэт совместно с Виктором Якериным издал в Киеве книгу «Стихотворения. Вып. 1» тиражом в 500 экз. Это подражательные и слабые, ученические стихи, о которых он позднее никогда не упоминал. Однако друга юности Якерина Корвин-Пиотровский не забыл и в конце жизни, в 1960-е годы, тщетно пытался разыскивать его в Советском Союзе через знакомую Анну-Лизу Бетцендерфер (Anne-Lise Betzenderfer) [21] . К Виктору Якерину («Кирику») обращено вступление поэмы «Золотой песок» [22] :
Мой милый Кирик, брат названный,
Услышишь ли ты голос мой?
Иль где-то, на большой прямой,
Ты затерялся точкой странной,
И вспыхнул, и погас (увы)
К концу вступительной главы [23] .
По словам самого поэта, в Первую мировую войну он был артиллерийским офицером [24] . Позднее, согласно свидетельству Романа Гуля, участвовал в Гражданской войне на стороне белых – в войсках генерала Бредова, потом в отряде есаула Яковлева [25] . Об этом периоде его жизни сохранилось несколько отрывочных рассказов. Утверждается, что он быстро достиг звания подполковника (на фронте присвоение очередного звания ускорялось), а в Гражданскую войну болел тифом и должен был «уползти из госпиталя на четвереньках», спасаясь от красных [26] . После этого был взят в плен и «чрезвычайно неумело […] расстрелян красными партизанами» [27] . Роман Гуль со слов поэта рассказывает, что белый офицер Корвин-Пиотровский спас от расстрела своего гимназического товарища, коммуниста Лифшица, который в 1920-е годы, приехав по делам из Советской России в Берлин, помог ему в издании книги стихов [28] . Все эти сведения трудно или невозможно проверить [29] .
Из письма Корвин-Пиотровского (4 июня 1931) к сестре Людмиле, жившей в Харбине, мы узнаем, что он оказался в польском лагере, после побега оттуда в 1921 году был интернирован в Германию, получил право работы и некоторое время учился в Берлинском Университете [30] . Поначалу пытался жить случайными литературными и окололитературными заработками, познакомился и подружился с Романом Гулем, Юрием Офросимовым, Федором Ивановым, Ниной Петровской, а также с Набоковым [31] . «Облачен он был в военную шинель разнообразных оттенков, не снимавшуюся и в моей комнате», – пишет Офросимов [32] . Затем Корвин-Пиотровский стал работать шофером такси. «Долгое время я очень нуждался, как и большинство русских за границей, нуждаюсь и теперь, но не так. [… ] Я, как тебе известно, пишу стихи, критики и издатели относятся ко мне хорошо, но денег это почти не приносит, и потому для более солидного заработка я езжу шофером на извочищьем [sic!] автомобиле. Как видишь, работа эта не очень почетная, но это единственное, чем могут заниматься за границей русские, вроде меня. Впрочем, мои знакомые не чуждаются меня и при встрече очень вежливо со мной раскланиваются, к огромному удивлению моих немецких пассажиров. Вообще, немцы, едущие в моем автомобиле (автомобиль, конечно, не мой, а чужой), часто обращаются ко мне с расспросами: кто я таков, чем был раньше и пр. Чаще всего, чтобы избавиться от этих расспросов, я отвечаю, что я венгр и плохо понимаю по-немецки. Само собой разумеется, что работа эта очень меня утомляет, но я не падаю духом и думаю рано или поздно купить когда-нибудь собственный автомобиль, тогда можно будет передохнуть», – писал он Людмиле (29 апреля 1931) [33] .
При этом Корвин-Пиотровский стал одним из видных деятелей берлинской литературной эмиграции. Он не только публиковался в периодике, читал свои произведения в кафе и др., но и был редактором издательства «Манфред», руководил отделом поэзии в журнале «Сполохи» (ноябрь 1921 – июль 1923). Некоторое время он обладал «двойственным статусом» полуэмигранта – работал метранпажем в газете «Накануне» [34] , сотрудничал в литературном приложении к ней, по-видимому, ездил в Зааров (Сааров) к Горькому [35] . Эти «примиренческие» настроения могут быть объяснены стремлением увидеть мать и других родственников, оставшихся под советским режимом. «Я все время думал и думаю о своих родных. Все время собирался в Россию, но мне не разрешили въезд на родину» [36] ; «…я очень рвался в Россию, и главным образом из-за матери, т. к. из Берлина я ничем не мог ей помочь. Но в Россию меня не пустили и не пустят» [37] .
Поэт считался «веретенцем», т. е. был членом писательского содружества «Веретено», основанного Александром Дроздовым (1895-1963), и входил в его совет, но в декабре 1922 года из содружества вышел [38] (оно окончательно распалось в 1923 году, когда Дроздов уехал в СССР). Летом 1922 года содружество издало альманах под тем же названием «Веретено», в котором Корвин-Пиотровский принял участие вместе с Буниным, Иваном Лукашем, Сергеем Маковским, Пильняком, Ремизовым, Сириным и др. В 1923 году в Берлине под маркой «Манфреда» и под редакцией Корвин-Пиотровского выходил альманах «Струги» , собравший подлинное созвездие имен: в нем Корвин-Пиотровский печатался рядом с Айхенвальдом, Балтрушайтисом, Андреем Белым, Пастернаком, Ремизовым, А. Толстым, Ходасевичем, Цветаевой, Эренбургом…
Чтения Корвин-Пиотровского в Берлине отмечены с 5 марта 1922 по 17 июня 1932 года [39] . Несколько раз (22 октября 1922, 8 февраля 1931, в конце декабря 1931) он выступал вместе с Сириным, а 26 апреля 1924 и с Маяковским (это произошло в ателье А. Гумича и Н. Зарецкого, «Кружок художников» которых был связан со сменовеховцами; в тот же вечер исполнялась баллада Брехта и эпилог пьесы Арнольда Броннена «Отцеубийство»).
Покинувшие «Веретено» писатели – В. Амфитеатров-Кадашев, Сергей Горный (Александр Оцуп), Сергей Кречетов, Лукаш, Сирин и другие 8 ноября 1922 года на квартире Глеба Струве основали «тайный» литературный кружок «Братство Круглого Стола», который посещал и Корвин-Пиотровский [40] . Утверждается, что он участвовал и в других берлинских литературных кружках [41] .
«До последней войны… я успел выпустить шесть сборников стихотворений, которые ничего кроме досады во мне не вызывают», – писал Корвин-Пиотровский в 1966 году [42] . На самом деле он опубликовал три сборника для взрослого читателя – «Полынь и звезды» (1923), «Святогор-скит» (1923) и «Каменная любовь» (1925). Они отнюдь не заслуживают столь резкой оценки, хотя в них поэт не всегда самостоятелен. В книгу «Полынь и звезды» входят стихи, написанные под явным воздействием Бальмонта («Я не знаю любви, я любви не хочу. .. »), Блока («Ты живешь в омраченной долине. .. »), Гумилева, а также Клюева и Есенина («Пути волчьи», «Север», «Голгофа малых», «Крест срединный») [43] . «Святогор-скит» состоит из трех религиозных поэм в духе сектантского фольклора. В сборнике «Каменная любовь» заметны переклички с «адамизмом» Городецкого («Сердце Адама», «Я вырезал его из дуба. .. »), сильны экзотические «степные» мотивы, есть отзвуки гражданской войны на Украине. Многие, особенно религиозные стихотворения следует назвать любопытными по содержанию – далекими от ортодоксального православия, часто «францисканскими», – выразительными по образам и ритму. Кстати, все три книги отличаются метрическим разнообразием (анапест, хорей, логаэдический, тонический, свободный стих), которое противостоит единообразию зрелого творчества поэта. Кроме того, Корвин-Пиотровский издал в Берлине несколько книжек для детей – «Светлый домик», «Погремушки» (обе 1922), «Веселые безделки» (1924), «Волшебная лошадка» (1925). По-видимому, все они сочинены вместе с Офросимовым, хотя это указано только на третьей из книжек. «Одно крупное русское зарубежное издательство купило у немецких издательств серию книжек-картинок для детей, и надо было немецкое “пересоздать" на русский лад. То есть, к иллюстрациям, бывало, по-настоящему хорошим, но порою типично немецким, сочинить нечто подходящее в русском духе в стихах, иногда целые поэмы. Случалось, что заказы давались на несколько книжек и к определенному сроку, тогда в помощь призывался Корвин. Я ложился на постель, а он – на кушетку, и, упиваясь кофе уже не ячменным, а настоящим, мы, кто скорее, изготовляли книжку, не очень много думая о целях воспитательных и утешая свою совесть тем, что такие упражнения способствуют технике стиха и, стало быть, как-то все же идут на пользу истинной поэзии» [44] .
Впоследствии автор счел возможным перепечатать лишь несколько поэтических текстов этого периода (в том числе, в сильно переделанном виде, стихотворение «Игоревы полки»). Однако в свое время они имели успех. Вместе с Сириным Корвин-Пиотровский упоминался в числе лучших молодых берлинских поэтов [45] . По словам Офросимова, Саша Черный прочил Корвин-Пиотровского в продолжатели традиции А. К. Толстого [46] . К. Мочульский в рецензии на «Полынь и звезды» сказал, что «в этическом пафосе поэта [нет] ни одной фальшивой ноты» [47] . О «Каменной любви» положительно отозвалась и тогдашняя, еще относительно либеральная советская критика (Н. Смирнов в «Новом мире» назвал автора книги лучшим из эмигрантских поэтов) [48] .
Хотя в начале 1920-х годов Корвин-Пиотровский занимал «сменовеховскую» позицию, одно время у него, по утверждению Офросимова, «были планы героической поэмы о Колчаке и нечто вроде плача Иова Многострадального – поэмы о Николае Втором» [49] . Он также писал прозу, которая, согласно тому же Офросимову, давалась ему с трудом и не была им особенно любима [50] . В целом она уступает его стихам, хотя в ранний берлинский период Корвин-Пиотровского – вместе с Сергеем Горным, Амфитеатровым-Кадашевым и Лукашем – определяли как прозаика (в противовес Набокову, который считался по преимуществу поэтом) [51] . Проза, в отличие от поэзии, обычно рассматривалась им как несерьезное занятие заработка ради. В 1922 году вышел сборник его рассказов «Примеры господина аббата», который современники сочли фривольным [52] , и, возможно, не обнаруженная до сих пор книга прозы «Крик из ночи». В журнале «Веретеныш» (1922) печатался сатирический роман «Заграничные приключения Ивана Сидоровича Башмачкина», который должны были писать четырнадцать авторов (Корвин-Пиотровскому досталась вторая глава), но это сочинение осталось незавершенным [53] . По-своему любопытен фантастический роман «Атлантида под водой» (1928), который Корвин-Пиотровский написал вдвоем с Овадием Савичем. Это остросюжетное произведение в духе «Аэлиты» Алексея Толстого (1922), но несравненно более ироническое, подчеркивающее условность повествования. По основному мотиву оно сходно с известной повестью Артура Конан-Дойля «Маракотова бездна», которая, однако, была опубликована только в 1929 году. Атлантида, согласно роману, сохранилась на дне океана под огромным искусственным куполом: туда попадают несколько землян, корабль которых в начале Первой мировой войны подорвался на мине. В Атлантиде они находят общество, управляемое тиранической кастой инженеров-священников. Не без помощи землян происходит революция, которая терпит поражение, но землянам удается вернуться в обычный мир. В романе заметно воздействие Свифта – в сюжете дана прямая ссылка на «Путешествия Гулливера»; многочисленны «свифтианские» сатирические ходы (церковь в Атлантиде обладает монополией на презервативы, общественное равновесие поддерживается тем, что властителей время от времени подвергают ритуальной порке). Ранее, чем в эмиграции, а именно в 1927 году, роман под видом перевода с французского был издан в СССР: как автор был указан некто Ренэ Каду, а Савич и Пиотровский – как переводчики [54] . По странному совпадению, французский поэт с таким именем действительно существовал (Ренэ Ги Каду, 1921-1951), но в момент написания романа ему было всего шесть лет. В последнее время роман был дважды переиздан в России (1991 и 1992) [55] .
Особенно важным для Корвин-Пиотровского было участие в берлинском Клубе поэтов (1928-1933), основанном Михаилом Горлиным [56] . Членами этого клуба были Ассад-бей, Раиса Блох, Офросимов, София Прегель и многие другие; в нем бывал Борис Вильде, приехавший в Берлин из Тарту (позднее герой французского Сопротивления), с клубом связана была и Лидия Пастернак, сестра поэта. В объединение входил Набоков, тогда еще выступавший как Сирин [57] . Вместе с ним Корвин-Пиотровский почитался в клубе лидером – только его Сирин принимал как равного [58] . Видимо, здесь сыграл роль не только талант Корвин-Пиотровского, но и свойства его характера: «…он был на редкость верным товарищем, и это чувство товарищества, понятия уже почти исчезнувшего из нашего обихода, никогда его не покидало» [59] .
В архиве поэта сохранился рукописный журнал клуба, в который входят протоколы (писанные Горлиным), письма, стихи, рисунки и т. д. [60] Материалы этого журнала дают представление о непринужденной атмосфере, царившей в кружке. Приведем оттуда некоторые выдержки. В протоколе восьмого заседания (15 мая 1928) находим:
Поэт Рабинович прочел перевод из Фауста (Пролог в театре, Сцена самоубийства). Перевод вызвал оживленные прения. Поэт Пиотровский выставил тезис: «Либо Гете плох, тогда перевод хорош. Либо Гете хорош, тогда перевод плох». Сам он считает второе свое предложение более вероятным, однако настаивать на этом не осмеливается ввиду «недостаточного знания немецкого языка». Поэт Сирин поддерживает поэта Пиотровского и также признается в своем незнании немецкого языка. Ввиду того, что оба вышеупомянутых поэта о своем незнании немецкого языка говорили не с пристойной стыдливой самоуничтоженностью, а с некаким [sic!] горделивым высокомерием, постановлено было дать им титул поэтов мракобесов. […]
...
После оффициальной [sic!] программы немало всех обрадовал поэт Пиотровский острой и глубокой поэмой-экспромтом на немецком языке о пользе «Веронала», после чтения которой, ввиду заслуг перед немецкой литературой, лишен был оный поэт Пиотровский звания мракобеса, оставшегося таким образом лишь за п[оэтом] Сириным.
Решено было торжественным пиршеством отпраздновать следующее девятое заседание. Поэтам Офросимову и Пиотровскому поручена закупка вина, прозопоэтессе Залькинд заготовление бутербродов.
На одиннадцатом заседании (25 июня того же года) стихотворение Ю. Джанумова привело «к сложному, глубокому и не весьма для других вразумительному спору п. Пиотровского и п. Рабиновича о ясности в искусстве». На двенадцатом заседании (9 июля) было предложено устроить «шествие на слонах и верблюдах по Курфюрстендамму провозглашение здравия всем членам клуба поэтов на Wittenbergplatz в присуствии президента Гинденбурга, министра народного просвещения Беккера, Юзи Левина и других именитых личностей». Здесь же намечены будущие праздники клуба – день его основания, день лицейской годовщины, а также 28 июля (15 июля по старому стилю) – «день тезоименитства обоих метров [sic!], Владимира Пиотровского и Владимира Сирина». «Политическая программа клуба поэтов определяется единственно отношением его к магарадже Бенаресскому Отношение это отрицательное». В журнале можно найти «Клубную азбуку»:
Гориллу редко видишь бритой, —
Граф Корвин – мальчик родовитый.
_____________________________
Тупиц легко узнать по морде, —
Тоскует Сирин об Оксфорде.
______________________________
Фаррер [61] – писатель ерундовский, —
Франтит упорно Пиотровский.
Поэт бывает редко точен;
Пиотровский гений – но не очень.
С азбукой сходны по духу куплеты, воспевающие участников кружка (15 мая 1928):
Пиотровский грозен в хмеле:
«Вы молчите – мне видней!»
«Поредели, побелели
Кудри – честь главы моей».
_______________________
Только Сирин очень кротко,
Очень вежливо молчал —
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
Разумеется, было бы неверно считать, что заседания клуба сводились к подобным непритязательным шуткам. Его члены читали там и вполне серьезные вещи: так, 5 марта 1928 года Корвин-Пиотровский прочел драматическую поэму «Король», 2 апреля – стихи «В гавани» и «Ямбы», а 9 июля – «неотделанную и незаконченную еще трагедию “Франческа да Римини", произведшую весьма сильное впечатление» [62] .
После выхода книги «Каменная любовь» стихи Корвин-Пиотровского печатались в эмигрантской периодике и в коллективных сборниках Клуба поэтов – «Новоселье» (1931), «Роща» (1932), «Невод» (1933). «Стихи у Корвина выливались с легкостью поразительной, но с тем большим упорством работал он над отделкой», – писал Офросимов [63] . Поздние берлинские стихи, многие из которых поэт в старости счел достойными включения в итоговый сборник, отличаются установкой на лирику начала XIX века, особенно на Пушкина (среди них есть цикл «Стихи к Пушкину»). В них вырабатываются черты поэтики Корвин-Пиотровского, свойственные ему и в дальнейшем – горькая и сухая тональность, причудливость образов, игра на стыках реального и ирреального, натурализма и патетичности, простая метрика, строгость словаря («Вечерняя звезда», «Зверь обрастает шерстью для тепла…»). Среди эмигрантов Корвин-Пиотровский относится к «архаистам» и в этом, как и во многом другом, сходен с Ходасевичем, которого, по мнению А. Бахраха, «не очень-то любил, но все же к нему бессознательно тянулся» [64] . Жизнь города он часто изображает в гротескных тонах с подчеркиванием мотивов неприкаянности, преступления, дьявольщины («Тени под мостом», «Пудель», «Когда с работы он идет…», «Сивилла»). Ущербный, обманчивый мир оборачивается адом и пустотой («Десятый круг»); в любовных стихах присутствует тема самоубийства («Как часто на любовном ложе … »), являются картины надвигающейся войны и мировой катастрофы («Так ясно вижу – без сигнала. .. »). По-видимому, воздействие на эти стихи оказала не только русская поэзия, но также Гофман и немецкий экспрессионизм.
В 1929 году вышла книга «Беатриче», в которую поэт включил четыре драмы. Все они написаны пятистопным, местами рифмованным ямбом, стилизованы под Шекспира и «Маленькие трагедии» Пушкина (согласно Офросимову, «Пушкина знал он досконально, слышал каждую его интонацию и ритм» [65] , Шекспира «холодновато чтил, но изучил основательно» [66] ). Критика отмечала нигилизм и скепсис драм Корвин-Пиотровского, напряженность их действия, своеобразие персонажей, а также ясный, отточенный язык. Заглавная трагедия основывается на истории Беатриче Ченчи – теме, которую до Корвин-Пиотровского уже разрабатывали Стендаль и Шелли, а позднее Антонен Арто и Альберто Моравиа. Изобилующая острыми сюжетными ходами, трагедия описывает Италию конца XVI века как аналог современного мира; в этом мире господствует порок, интрига, насилие и смерть, и лишь неожиданная вспышка любви рождает ощущение катарсиса.
Восторженную рецензию на «Беатриче» опубликовал Набоков [67] . Он оценил «пронзительную талантливость всей вещи», «чудесную, переливчатую выпуклость действующих лиц», «великолепн[ую] медлительность речей, важность и суровость эпитетов, полнозвучность и прозрачность стиха» и закончил свою статью словами: «У Пиотровского можно научиться ясности, чистоте, простоте, но есть, правда, у него одно, что мудрено перенять, – вдохновение». Впрочем, заглавной трагедии Набоков предпочел две следующие за ней, гораздо более короткие пьесы. Первая из них, «Король», написана в духе, в определенной степени предвещающем драматургию экзистенциализма: ее герой – властитель, совершивший тяжкие преступления и кончающий с собой от сознания бессмысленности и пустоты жизни. Вторая, «Смерть Дон Жуана», есть как бы продолжение пушкинской трагедии «Каменный Гость»: в ней торжествует пошляк Лепорелло. Пьеса «Перед дуэлью», завершающая сборник, есть краткий поэтический этюд о гибели Пушкина.
Впоследствии Корвин-Пиотровский основательно переработал все четыре драмы, особенно «Беатриче» и «Перед дуэлью» (название которой было изменено на «Ночь»). В его итоговом сборнике «Поздний гость» к ним присоединена драма «Бродяга Глюк», впервые опубликованная в 1953 году и изображающая фантастический эпизод из жизни Бетховена.
В 1930 году (по-видимому, в июне) Корвин-Пиотровский женился на Нине Алексеевне Каплун, которой посвящена трагедия «Беатриче» [68] . Этот брак был счастливым и способствовал творческому расцвету; заслугой Нины Алексеевны является и сохранение архива мужа. О своей женитьбе поэт писал сестре: «10 месяцев тому назад я женился на очень хорошей девушке (зовут ее Ниной), она хорошо знает иностранные языки, служит во французском посольстве в Берлине и зарабатывает больше, чем я. Это дает нам возможность сводить концы с концами, но мне очень жаль ее, бедняжка работает до 7 часов вечера в посольстве, потом дома, и очень устает. […] Она умница, добрая и любит меня. Она не только хорошая жена, но и верный друг, хотя и значительно моложе меня (ей 23 года). Знакомство наше началось со стихов. Она полюбила мои стихи и еще не зная меня, а потом уже мы познакомились. Пять лет были знакомы и теперь женились, несмотря на разные препятствия» [69] . «Препятствия», по-видимому, заключались в нежелании родителей Нины выдавать дочь за бедного эмигранта [70] . Брак позволил Корвин-Пиотровскому бросить ремесло шофера [71] . 13 декабря 1935 года у Владимира и Нины родился сын Андрей.
Берлинский Клуб поэтов распался с приходом к власти Гитлера. Многие его участники покинули Германию, что не всегда могло их спасти (Михаил Горлин и его жена Раиса Блох были арестованы во Франции во время оккупации и погибли). Ближайший друг Корвин-Пиотровского Офросимов оказался в Белграде. Сам Корвин-Пиотровский оставался в Берлине до 1939 года. По свидетельству сына, семья перебралась из Берлина в Париж перед самым началом Второй мировой войны вместе с французским посольством, где Нина работала. Впрочем, уже в феврале-мае 1939 года поэт находился в Париже – возможно, временно. Встречи с ним в промежутке от 7 февраля до 5 мая упоминаются в «камер-фурьерском журнале» – дневнике Ходасевича [72] . 4 марта был устроен его вечер, на котором присутствовали Адамович, Вейдле, чета Горлиных, Георгий Иванов с Ириной Одоевцевой, Набоков, Прегель, АннаПрисманова, Ходасевич и другие [73] . На этом парижском вечере Корвин-Пиотровский читал не только лирику, но и «Смерть Дон Жуана» [74] . Париж указан как место написания многих его стихов, относящихся к марту и апрелю 1939 года – это видно из рукописей.
Как уже было сказано, Корвин-Пиотровского ценили видные фигуры французской диаспоры – Бердяев [75] и Бунин [76] . Видимо, он общался и с Цветаевой. В книге воспоминаний Одоевцевой «На берегах Сены» Корвин-Пиотровский упомянут как участник встречи нескольких русских парижан с Цветаевой перед самым ее отъездом в Москву [77] . Но по утверждению Юрия Терапиано (впрочем, враждовавшего с Корвин-Пиотровским), он «…не сумел занять среди парижских поэтов того места мэтра, которое […] привык занимать в Берлине. Парижане, судившие его […] даже слишком сурово, нашли его поэзию провинциальной и внешней, а его погоня за формальным блеском противоречила […] одному из основных положений "Парижской ноты"» [78] . «Близости с русским поэтическим Парижем у Корвина не могло выйти – упал он в этот Париж действительно “телом инородным". Наполненный страстями воздух, веющий в его драматических поэмах, самый размах их явились полной противоположностью царившему сравнительно долгое время модному парижскому учению о поэзии “малых форм", упершемуся в конце концов в интимные дневниковые записи. […] В Париже Корвин болезненно чувствует безвоздушность окружающего пространства и одинокость в своем творчестве, и это тем тяжелее, что жизнь продолжает даваться нелегко» [79] . Некоторое время Корвин-Пиотровский публиковался в газете младороссов «Бодрость!». В свой французский период он сблизился с Анной Присмановой и ее мужем Александром Гингером, которые противопоставляли себя как салону Мережковского и Гиппиус, так и поколению «Чисел». Он вошел в группу «формистов» – впрочем, неясно, до или после нацистской оккупации [80] . Присманова посвятила ему стихи «Сирена», напечатанные в ее сборнике «Близнецы» (1946). Тем не менее, с несколько эксцентрической поэтикой «формистов» он имел мало общего.
Автограф В. Л. Корвин-Пиотровского с его рисунками. АКР, Box 7, Folder 125
Когда нацисты оккупировали Париж, Корвин-Пиотровский, как многие русские эмигранты, стал участником Сопротивления. Он был арестован гестапо на авеню Фош в Париже и с 3 января по 21 августа 1944 года находился в тюрьмах, в основном в крепости Монлюк (Fort de Montluc) в окрестностях Лиона; по непроверенным сведениям был приговорен к расстрелу, но перед самой экзекуцией его вместе с другими обменяли на пленных офицеров СС [81] . После освобождения Корвин-Пиотровский провел около месяца в госпитале. Стихи, написанные в тюремной камере, он позднее восстановил по памяти. Об этом периоде своей жизни поэт не любил рассказывать, но в автобиографической справке 1966 года заметил, что «удостоился смертного приговора и симпатии своих товарищей по тюрьме» [82] . Эта симпатия и уважение подтверждаются известным французским писателем Андрэ Фроссаром, который был заключен вместе с ним [83] . В его книге «Дом заложников» («Lamaison des otages», 1945) Корвин-Пиотровский описан как староста камеры, «славный товарищ, получивший это место после смерти двух переводчиков […] Был он обаятелен, исполнен благородства, с даром юмора […] Кроме того, он был удивительно смел, и я никогда не замечал в нем ни малейших признаков моральной слабости» [84] .
Автограф В. Л. Корвин-Пиотровского с его рисунком. АКР, Box 7, Folder 130
В октябре 1944 года мы опять встречаем Корвин-Пиотровского в Париже. Он упомянут в «Черной тетради» Нины Берберовой: «Собрание поэтов в кафе "Грийон", в подвале. Когда-то собирались здесь. Пять лет не собирались. Все постарели, и я в том числе. Мамченко далеко не мальчик, Ставров – почти седой. Пиотровский. Появление Раевского и Гингера, – который уцелел. Почтили вставанием Юру Мандельштама, Воинова, Кнорринг и Дикого [Вильде]» [85] .
Еще в ноябре 1944 года Корвин-Пиотровский был избран в правление Объединения русских писателей и поэтов во Франции и вошел в состав его «Коллегии по проверке деятельности отдельных лиц в годы оккупации» [86] . В июне 1948 года он был награжден французской медалью Освобождения за участие в движении Сопротивления [87] . После войны семья жила трудно, зарабатывая на жизнь раскрашиванием шелковых платков [88] . Этим Корвин-Пиотровский платил за обучение сына в Англии. На некоторое время он примкнул к группе «возвращенцев», публиковал в их печати стихи и просоветские статьи [89] ; в давнее стихотворение «Плач Ярославны», варьирующее мотивы «Слова о полку Игореве», ввел упоминание «конницы Сталинграда» [90] . Советский паспорт Корвин-Пиотровский, однако, не взял и вскоре отошел от группы [91] . В письме к старому приятелю Роману Гулю (31 октября 1953) он писал: «Ты прав: я много наглупил, но видит Бог – сердце мое и руки мои – всегда были чисты. Я о многом сожалею, но ничего не стыжусь» [92] .
В это время Корвин-Пиотровский принимал участие в неформальных парижских литературных кружках. По субботам он посещал квартиру Сергея Рафальского, где собирались Гингер, Присманова, Шаршун, Кирилл Померанцев и другие [93] . В первой половине 1950-х годов на собраниях в квартире Анны Элькан, где жил Сергей Маковский, поэт встречался с Адамовичем, Ивановым, Одоевцевой, теми же Гингером и Присмановой [94] . Участие его в литературных вечерах, чтения и выступления в Париже – как индивидуальные, так и с другими авторами – отмечены с 16 декабря 1944 года по 9 февраля 1960 года [95] . С 1945 до 1950 года он нередко печатался в журнале «Новоселье», основанном в Нью-Йорке и позднее перенесенном в Париж; был включен также в несколько антологий и коллективных изданий – «Встреча» (1945), «Русский сборник» (1946), «Эстафета» (1948), «На Западе» (1953), «Муза Диаспоры» (1960). В 1950 году опубликовал сборник лирики «Воздушный змей» (куда вошли и тюремные стихи), в 1960 году – книгу «Поражение», состоящую из четырех поэм и небольшого числа стихотворений. Обе книги подтвердили его поэтическую репутацию [96] .
Парижские стихи Корвин-Пиотровского написаны в метафизическом ключе, по-прежнему ориентируются на Пушкина, но также и на философских поэтов XIX века – Баратынского, Тютчева. В них ощутима и лермонтовская традиция: так, во многих стихотворениях («На дымный луг, на дол холмистый…», «Терзаемый недугом грозным…», «Я освещен закатом бурным…» и др.) использованы мотивы «Демона». Нигилизм, опустошенность, отрешенность от мира выражены особенно в ранних стихах этого периода («Непрочное апрельское тепло…» и др.). Парижские пейзажи отмечены эмигрантской тоской по России («Дырявый зонт перекосился ниже…»). С Ходасевичем Корвин-Пиотровского связывает интерес к острым стыкам «низкого» быта и вечности, вторжениям чуда – или небытия – в каждодневный мир («Бредет прохожий, спотыкаясь…», «Очки», «Фрегат», «Сквозняк»). В центре тюремных стихотворений («За дверью голос дребезжит…», «Нас трое в камере одной…») – столкновение неволи и внутренней свободы, приобретающей трансцендентное измерение. Репертуар тем и топосов поэта невелик, часта традиционная символика двумирности (полет ангела, воздушного шара, бабочка, зеркало, дым, туман). Отмечалось также метрическое однообразие Корвин-Пиотровского [97] . После раннего периода, закончившегося в 1923 году, он отдавал явное предпочтение четырехстопному ямбу [98] . Из 197 стихотворений, включенных в первый том сборника «Поздний гость», только 40 используют иные размеры (обычно хорей и амфибрахий); четырехстопным ямбом написаны и все четыре поэмы [99] . Однако эта монотонность искупается разнообразием ритмических форм, умелой звукописью. Рифмовка Корвин-Пиотровского обычно проста, он отнюдь не избегает грамматических рифм. С годами в его поэзии нарастает странность и загадочность, появляются почти сюрреалистические образы, причудливые искажения перспективы, смысловые и/или грамматические сдвиги, многочисленные эллипсисы, иногда оттенок пародийности («Чиновник на казенном стуле…»). Не вошедшее в «Поздний гость» стихотворение «Астронавт», развивающее тему смертной космической пустоты, пожалуй, предсказывает Бродского. Все чаще литературные отсылки, особенно к Шекспиру («Леди Макбет в темной ложе», «Офелия» и др.).
Следует заметить, что поэт был взыскателен к себе: в его архиве сохранилось много стихов, не включенных в сборники (кстати, в них он сплошь и рядом употребляет иные размеры, чем четырехстопный ямб, вплоть до свободного стиха). Стихотворения часто перерабатывались, имея по несколько вариантов.
Критики отмечали тяготение Корвин-Пиотровского к большим формам, нечастое у эмигрантских поэтов [100] . Некоторые (например, Ю. Иваск) говорили, что ему больше всего удавались поэмы [101] . Они посвящены детству в Белой Церкви («Золотой песок»), военным и эмигрантским воспоминаниям («Поражение», «Ночная прогулка»), истории еврейского мальчика, который предстает как бы двойником автора («Возвращение»). Все эти произведения отличаются легкостью и непринужденностью интонаций (автор часто вводит отступления, использует переносы, скобки и т.п.), а также некоторой смутностью и невнятностью сюжета, как бы случайностью образов, не только отсылая к пушкинской традиции, но и напоминая, скажем, поэмы Кузмина из его книги «Форель разбивает лед» [102] . Поэт продолжал печатать и прозу – рассказы, которые часто развивали мотивы, сходные с мотивами стихов и поэм (детство, война, впечатления искусства) [103] .
С 1953 года Корвин-Пиотровский был постоянным сотрудником «Нового журнала». Примерно с этого времени он стал планировать переезд в Америку, хотя старый приятель Роман Гуль предупреждал его о сопряженных с этим политических сложностях («Твое послевоенное "совпатриотство", участие в газете этой гнусной – вероятно, вам всем очень повредило в смысле возможности переезда сюда. Ибо, как всегда в таких случаях, – из мухи часто делают слона и к[акие]-н[ибудь] русские настрочат на тебя такие доносищи – что надо годами разматывать будет всю эту беллетристику» [104] ). В начале 1961 года (видимо, в феврале) поэт с семьей все же переселился в США, куда еще в 1938 году переехали из Берлина родственники Нины Алексеевны (сестра Люси Росс и ее муж). Здесь он принял американское гражданство. Семья жила на французские сбережения, с 1963 года родителям помогал и Андрей (ставший профессором математики Андрэ де Корвином). Жили в Сан-Хосе, позднее в Лос-Анджелесе. «Я – вне быта!» – писал Корвин-Пиотровский Офросимову [105] . У него появились новые друзья, в том числе известный славист, выходец из СССР Владимир Марков.
К калифорнийскому периоду в итоговом сборнике отнесены несколько десятков пейзажных и философских стихов (некоторые написаны еще в Европе). Они отмечены дневниковой интимностью, нередко – ощущением приближающейся смерти («Бессонница и задыханье…», «Не от свинца, не от огня…»). Среди них тематически (и ритмически) выделяются стихотворения о Дмитрии Самозванце и Марине Мнишек [106] («Налево, направо – шагай без разбора…», «Замостье, и Збараж, и Краков вельможный…»), а также о прибытии праха эмигранта на крейсере в Россию («Для последнего парада…»):Час желанного возврата
(Столько звезд и столько стран), —
В узком горле Каттегата
Северный залег туман.
И до Финского залива,
Сквозь балтийский дождь и тьму,
Бьет волна неторопливо
В молчаливую корму.
И встают, проходят мимо
В беглой вспышке маяка
Берега и пятна дыма,
Острова и облака.
Умер Корвин-Пиотровский в Лос-Анджелесе 2 апреля 1966 года, в Вербную Субботу. Там (в Голливуде) он и похоронен. Причиной смерти была аневризма аорты [107] . В гроб поэта был положен мешочек с киевской землей, который привезла девушка-француженка, побывавшая в Киеве туристкой.
За помощь в работе над данной статьей и комментариями к книге автор выражает искреннюю благодарность Андрэ де Корвину, Николаю Богомолову, Александру Воронцову-Дашкову, Ирине Лукка, Федору Полякову, Карен Роснэк, Василию Рудичу, Габриэлю Суперфину, Роману Уткину, Лазарю Флейшману, Бену Хеллману.
Томас Венцлова
Дом семьи В. Л. Корвин-Пиотровского в Лос-Анджелесе
Могила поэта
Могила Н. А. Корвин-Пиотровской
Вид кладбища в Голливуде, где похоронен поэт и его жена
Комментарии
За основу книги принят посмертный двухтомник Владимира Корвин-Пиотровского Поздний гость, составленный его вдовой Ниной Корвин-Пиотровской (в отборе текстов и композиции которого, возможно, участвовал сам поэт). Редакции стихотворений, поэм и драматических поэм, напечатанные в этом сборнике, полагаются окончательными . Сохранен порядок текстов, данный в двухтомнике.
Кроме сборника Поздний гость в книгу включены три более ранних сборника поэта – Полынь и звезды, Святогор-скит и Каменная любовь. Включены также юношеские тексты Корвин-Пиотровского из книги Стихотворения, изданной вместе с Виктором Якериным. Те стихи из сборников Полынь и звезды и Каменная любовь, которые вошли в Поздний гость (а именно, Игоревы полки, Снова хмель загулял во сне, Земля), публикуются в составе Позднего гостя и по его тексту. Стихотворение Каменная любовь, одинаковые тексты которого вошли в Полынь и звезды и в Каменную любовь, публикуется только в составе второго из названных сборников.
Особый раздел составляют стихотворения Корвин-Пиотровского, не вошедшие в книги. Они сохранились в различных печатных изданиях, а также в архиве поэта (Vladimir Korvin-Piotrovskii Papers, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, GEN MSS 598) – в виде черновиков, беловых рукописей (иногда рукой поэта и его жены, иногда переписанных женою), машинописных копий. Для данного издания выбраны архивные тексты, которые представлялись нам хотя бы относительно цельными; из нескольких вариантов выбирался наиболее завершенный. Поэт часто датировал свои стихи: эти даты приведены в комментариях (слова «с пометкой» означают, что дата, указание места и пр. даются дословно по архивному тексту). Произведения, не вошедшие в книги, расположены хронологически; те из них, даты которых не установлены, даются в конце раздела в том порядке, в каком расположены в архиве.
Раздел «Дополнения» включает первый вариант драмы Беатриче (1929), сильно отличающийся от варианта, вошедшего в Поздний гость, шуточную драму без названия, сохранившуюся в архиве поэта, и шуточное же стихотворение Казак – плод сотрудничества Корвин-Пиотровского и Набокова.
В данное издание не включены детские книжки Корвин-Пиотровского (обычно написанные вместе с Юрием Офросимовым), его эпиграммы (которые редко можно назвать удачными), пародия на Анну Присманову и др. Не включено также его достаточно обширное прозаическое и эпистолярное наследие. Вполне возможно, что в различных изданиях и архивах со временем найдутся и другие стихи поэта. Однако настоящее издание можно считать дающим представление о всем его творческом пути – от ранних опытов до смерти.
В публикуемых нами текстах исправлены явные ошибки и опечатки. Орфография и пунктуация в основном приведены в соответствие с современными нормами, однако сохранены некоторые особенности, характерные для Корвин-Пиотровского (например, его пристрастие к двойным и даже тройным тире).
Поэт печатался во многих эмигрантских периодических изданиях (Дни, Сполохи, Веретено, Жар-птица, Струги, Накануне, Руль, Наш век, Современные записки, Русские записки, Бодрость!, Русские новости, Советский патриот, Новоселье, Возрождение, Мосты, Грани, Новый журнал), а также в антологиях и коллективных сборниках Деревня в русской поэзии (1922), Из новых поэтов (1923) , Новоселье (1931) , Роща (1932) , Невод (1933) , Встреча (1945) , Русский сборник (1946) , Эстафета (1948), На Западе (1953), Муза диаспоры (1960), Содружество (1966). Эти публикации отмечены в комментариях, указаны также и разночтения (не считая мелких орфографических и пунктуационных).
Список сокращений
АКП – Архив Корвин-Пиотровского (Vladimir Korvin-Piotrovskii Papers, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, GEN MSS 598).
Б – Беатриче (Берлин: Слово, 1929).
ВЗ – Воздушный змей (Париж: Рифма, 1950).
КЛ – Каменная любовь (Берлин: Волга, 1925).
П – Поражение (Париж: Рифма, 1960).
ПГ 1 – Поздний гость, т. 1 (Вашингтон: Виктор Камкин, 1968).
ПГ 2 – Поздний гость, т. 2 (Вашингтон: Виктор Камкин, 1969).
ПЗ – Полынь и звезды (Берлин: Книгоиздательство писателей в Берлине, 1923).
С – Владимир Пиотровский, Виктор Якерин, Стихотворения, выпуск первый (Киев: Типография Р. К. Лубковского, 1913).
СС – Святогор-скит (Берлин: Манфред, 1923).
I. Лирика
Стихотворения
С. 9 . Осенняя мелодия. – С, с. 5.
С. 9 . Зачарованные мгновения. – С, с. 7.
С. 10 . Одиночество. – С, с. 9-10.
С. 11 . Русская песня. – С, с. 18-19.
С. 13 . К родине. – С, с. 21-22.
С. 14 . Из окна. – С, с. 24.
Полынь и звезды
Елизавета Борисовна Маковская – неустановленное лицо, возможно, жена издателя Дмитрия Яковлевича Маковского (1858-1933).
С. 17 . Я променял уют надежной кровли… – ПЗ, с. 9.
С. 17 . Святой Георгий (Святой Георгий! Лунный щит…). – ПЗ, с. 10-11.
С. 18 . Я сжег себя на медленных кострах… – ПЗ, с. 12.
С. 19 . Сушит губы соленая мгла… – Дни, 1923, 28 янв. (№ 75), с. 11, под названием Стихотворение. – ПЗ, с. 13. В обеих публикациях явная опечатка вс. 11: «крыло» вместо «чело».
С. 19 . Ты живешь в омраченной долине… – ПЗ, с. 14.
С. 20 . Вновь в мою неприбранную келью… – Сполохи, 1992, № 13, с. 13, в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (II), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 15. Рукописный вариант с датой «16/IV-24 г.» и с разночтением:
с. 1:
Вновь в мою неубранную келью
опубликован в статье: Федор Поляков, «Русский Берлин в архиве Рейнгольда фон Вальтера», Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана, Москва: Водолей, 2010, с. 297.
С. 20 . Дышу сухим песком пустыни… – Сполохи, 1922, № 13, с. 13, в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (I), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 16.
С. 21 . Через пропасти – к горным вершинам… – ПЗ, с. 17.
С. 21 . Ты хотел. Я лишь вызрел на ниве… – ПЗ, с. 18.
С. 21 . Я не знаю любви, я любви не хочу… – Сполохи, 1922, № 13, с. 13,в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (III), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 19.
С. 22 . Как-то свеж, но по-новому горек… – ПЗ, с. 20.
С. 22 . На тебе снеговую парчу… – ПЗ, с. 21.
С. 23 . Вижу в блеске далекой зарницы… – ПЗ, с. 22.
С. 23 . Есть такая Голубая долина… – ПЗ, с. 23.
С. 24 . И вновь приду к тебе небитыми путями… – ПЗ, с. 24.
С. 24 . На запад солнца иду в пустыне… – Дни, 1922,24 дек. (№48), с. 2, без деления на четверостишия, с разночтениями:
с. 4:
Благословен ты, Вечерний Свет.
с. 15:
Пронзи мне душу копьем возврата
с. 20:
За Тихим Светом идти во мгле.
– ПЗ, с. 25-26.
С. 25 . Быть может, мне завещаны печали… – Сполохи, 1922, № 13, с. 13, в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (VII), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 27.
С. 25 . Тебя я видел, но не помню… – Сполохи, 1922, № 13, с. 13, в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (V), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 28.
С. 26 . Я не верю, не верю, не верю… – Сполохи, 1922, № 13, с. 13, в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (VI), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 29.
С. 26 . Ты летишь к неживому созвездью… – ПЗ, с. 30.
С. 27 . Святой Георгий (Вьюжной ночью, в вихре оргий…). – Жар-птица, 1922, № 7, с. 3, без деления на четверостишия, с разночтением:
с. 14:
От удара конских ног,
– ПЗ, с. 31-32.
С. 28 . Лунное моление. – Жар-птица, 1922, № 7, с. 14, без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 35.
С. 28 . У врат. – Сполохи, 1922, № 9, с. 2. – ПЗ, с. 36.
С. 29 . Струги закатные. – Сполохи, 1921, № 2, с. 2, без названия, с делением на четверостишия, с разночтениями:
с. 3-4:
А в небе солнце истекает золотой кровью,
Как отрубленная голова на золотом блюде.
с. 6-7:
Под мягкой грудью лиловой кручи.
А в вечернем небе золотые свечки
с. 9:
Ах ты край мой родной, родная моя Россия,
с. 18:
Иссекли твое сердце снегами, —
с. 25-27:
А хотя бы и погасли над лесом сполохи
Недорезанной огненно-красной птицы,
На светлых стругах доплывут до Христа твои вздохи
с. 29:
Тогда сойдет Христос с престола золотого
с. 31:
И, чтоб не лишить тебя твоего последнего крова,
с. 33:
Рядом с тобою станет в бедном притворе
– ПЗ, с. 37-39.
С. 30 . Криница светлая. – ПЗ, с. 40-41.
С. 31 . Моление о чуде. – ПЗ, с. 42-43.
С. 32 . Голгофа малых. – ПЗ, с. 44-46.
С. 33 . Крест срединный. – ПЗ, с. 47-48.
С. 34 . Поводырь всех скорбящих. – ПЗ, с. 49-51.
С. 35 . Скучно смотреть, как дождь… – ПЗ, с. 52.
С. 36 . Быть может, есть заветные границы… – Сполохи, 1922, № 13, с. 13, в группе семи стихотворений под общим названием Из цикла «Святой Георгий» (IV), без деления на четверостишия. – ПЗ, с. 53.
С. 37 . В поле водном месячный серп… – ПЗ, с. 61.
С. 37 . Пути волчьи… – ПЗ, с. 62-63.
С. 38 . Север. – ПЗ, с. 64.
Святогор-скит
С. 41 . Святогор-скит. – Струги, 1923, № 1, с. 113-118, с указанием: Берлин, 1921. – СС, с. 5-14.
С. 46 . Звездной тропой: Распятие, Воскресение, Вознесение. – Сполохи, 1922, № 4, с. 21-24. – СС, с. 15-32.
С. 54 . Полынь-город. – Веретено, 1921, № 1, с. 33-36, без даты, без деления на главки, с разночтениями:
с. 5-6:
А над нею, до утра, зарницы,
– СС, с. 33-38 (дата неверна).
Каменная любовь
С. 61 . Не кровь моя, а древняя смола… – Накануне. Литературная неделя, 1924, 20 апр. (№ 90), с . 1, без деления на четверостишия. – КЛ, с. 7.
С. 61 . Сердце Адама. – КЛ, с. 8.
С. 62 . Что делать мне с моей тяжелой кровью… – Накануне. Литературная неделя, 1924, 8 июня (№ 129), с . 1, с разночтениями:
с. 7-9:
Свирепый конь затопит мокрой гривой
Апрельских звезд разбитый водоем.
Проходит ночь; размеренней и глубже,
– КЛ, с. 9.
С. 62 . Я вырезал его из дуба… – Накануне. Литературная неделя, 1924, 20 апр. (№ 90), с . 1, без посвящения, без деления на четверостишия. – КЛ, с. 12-13. Борис Бродский (1901 – не ранее 1951) – эмигрантский литератор из круга Корвин-Пиотровского, в 1951 г. выслан из Франции в СССР за просоветскую деятельность.
С. 63 . Ты рада горькому куску… – КЛ, с. 15.
С. 64 . Песок и соль. В густых озерах… – Накануне. Литературная неделя, 1924, 1 янв. (№ 1), с. 1, с разночтениями:
с. 11:
Легенда взорванного быта,
с. 19:
Пусть топчет плачущее тело -
– КЛ, с. 16-17.
С. 64 . Крови закон. – КЛ, с. 18-19.
С. 65 . Из песни о короле. – КЛ, с. 20-21.
С. 66 . Для слепого – одна стезя… – Накануне. Литературная неделя, 1924, 8 июня (№ 129), с. 1. – КЛ, с. 22.
С. 67 . Мой круглый щит из дерева и кожи… – КЛ, с. 23.
С. 67 . Так гони же сквозь ветер кобылу… – КЛ, с. 24.
С. 68 . Арго. – Накануне, 1923, 19 авг. (№ 412), с . 9, с разночтениями:
с. 1:
В черном доке, кормщик одинокий,
с. 10:
Мокрый холст тяжеле чугуна…
– КЛ, с. 25. Арго – в греческой мифологии корабль участников похода за золотым руном (аргонавтов).
С. 68 . Уже не радует, не тешит… – КЛ, с. 26-27.
С. 69 . Плечо – бугром, и сердце – в два обхвата… – КЛ, с. 28.
С. 70 . Рыбацкая. – КЛ, с. 29.
С. 70 . О, зверь лесной и ночью водопой… – Накануне, 1923, 19 авг. (№ 412), с . 9, под названием Костер, с разночтениями:
с. 9:
О, любо мне в раскошенных зрачках
с. 15:
И эхо гнать в разбуженном лесу
Между строфами 4 и 5 дополнительная строфа:
Гасить пожар на каменном челе —
Глухой огонь языческого гнева,
И вновь будить в тысячелетней мгле
Твой древний крик и стон, праматерь Ева!
– КЛ, с. 30-31.
С. 71 . Дух земли. – КЛ, с. 32-33.
С. 72 . Скалит зубы – такая ль плаха… – КЛ, с. 34-35.
С. 72 . Затравила в яру лисицу… – Накануне. Литературная неделя, 1924, 1 янв. (№ 1), с. 1, с разночтениями:
с. 5:
Подожду, не уйду – могу ли —
с. 8:
В одиночку на звезды выть…
с. 15:
В час урочный вгони в могилу —
– КЛ, с. 36.
С. 73 . Каменная любовь. – Сполохи, 1922, № 11, с. 1. – ПЗ, с. 65-67. – КЛ, с. 41-44. Стихотворение завершает оба сборника.
Поздний гость
Для эпиграфа к сборнику использованы строки из стихотворения Гость.
С. 77 . Плач Ярославны. – Руль, 1928, 15 апр. (№ 2245), с. 2, с разночтениями:
1, с. 15-16:
Это скачут твои с парада,
За тобой, до могилы, вскачь.
2, с. 22:
В ту Каял, в ту реку быстру
3, с. 19:
Между степью и Черным морем
3, с. 28:
За певучий камыш волна.
4, после с. 20:
Для тебя, для далекой лады,
Пролетел удалой горнист
Огневым, грозовым снарядом
В кумачовый, в метельный свист…
4, с. 33-34:
Скачет, скачет кудрявый, лихо, —
На скаку лишь уста видны —
– Советский Патриот, 1945, 9 июня (№ 33), с. 2, тот же текст, что в ПГ 1. – ПГ 1, с. 13-17.
С. 81 . Игоревы полки. – КЛ, с. 37-40, несколько отличающийся вариант. – Новоселье, № 26 (апр.-май 1946), без даты, с разночтением:
с. 75:
И в кирпиче высоких труб
– ПГ 1, с. 18-20.
С. 84 . Снова хмель загулял во сне… – Из новых поэтов, с. 85, без названия, без даты – ПЗ, с. 60, под названием Хмель, без даты. – КЛ, с. 14, без даты. – ПГ 1, с. 21 (дата неверна).
С. 84 . Земля (Ярится степь, – уже не дева…). – Сполохи, 1922, № 14, с. 1, с делением на четверостишия, с разночтением:
с. 4:
Свои раскрыла рамена.
– ПЗ, с. 57-59, без даты, с тем же разночтением. – КЛ, с. 10-11, без даты, с тем же разночтением. – ПГ 1, с. 22-23.
С. 86 . Глухая ночь. Фонарь, зевая… – ПГ 1, с. 24.
С. 86 . Вечерняя звезда (На обозленный и усталый…). – Руль, 1929, 29 сент. (№ 2689), с. 2. После пятой строфы следуют еще три, отсутствующие вПГ 1:
И с каждым вздохом небо ближе,
Все ощутимей облака —
Уже не слышу и не вижу
Насмешливого двойника.
На шумной площади соборной
Средь непонятной суеты
Он затерялся точкой черной,
Неразличимой с высоты —
Во власти молчаливой скуки
Должно быть бродит по углам
И смотрит, щурясь близоруко,
Игру блистательных реклам.
– ПГ 1, с. 25.
С. 87 . В холодный дым, в туман морозный… – ПГ 1, с. 26.
С. 88 . Волхвы (Взошла звезда над каменной трубой…). – Руль, 1929, 9 июня (№ 2593), с. 2, с разночтениями:
с. 10:
Яснее стали складки очертаний, -
с. 14-15:
Все марева, возникшие от жажды,
Все голоса, пропевшие однажды,
– ПГ 1, с. 27.
С. 89 . Рюген (На горизонте редкий мрак…). – ПГ 1, с. 28. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «о. Рюген», без деления на четверостишия, с разночтением:
с. 10:
Доходит из дубравной мглы, -
Рюген – остров в Балтийском море, принадлежащий Германии. Аркона – город и религиозный центр полабских славян на Рюгене (до XII в.).
С. 89 . Зверь обрастает шерстью для тепла… – Руль, 1928, 18 марта (№ 2223), с. 2, как первое стихотворение цикла Ямбы, с разночтением:
с. 5:
Меня томит мой сумеречный день,
– Невод, с. 43, с тем же разночтением. – ПГ 1, с. 29. Беловая рукопись-АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «Berlin», без деления на четверостишия.
С. 90 . И дождь, и мгла. Не все ль равно?.. – Руль, 1928,23 сент. (№ 2380), с. 2, с разночтениями:
с. 1-2:
И снова дождь. Не все ль равно?
Артист в душе, хромой Кубелик.
с. 8:
Метет, как буря, прядь седая.
с. 11-12:
Какие строгие уста,
Какое сгорбленное тело —
с. 21-22:
И вот – поникшее чело
Перегорело и остыло:
– ПГ 1, с. 30. Ян Кубелик (1880-1940) – известный чешский скрипач и композитор.
С. 91 . Порой, как бы встревоженный слегка… – Руль, 1929, 25 дек. (№ 2762), с. 2, как второе стихотворение цикла Ночные прогулки (с общим указанием места «Берлин»), с делением на четверостишия, с разночтением:
с. 14:
Душа, как поле осенью, нарыта,
-ПГ 1, с. 31. АКП (Box 7, Folder 114), дата 1929.
С. 91 . Тени под мостом (Где ночи нет, а день не нужен…). – Руль, 1928, 29 июля (№ 2332), с. 2, с посвящением Н. К. [Нине Каплун], с разночтениями:
с. 2:
Под аркой черного моста,
с. 4-6:
Лохмотья Каина и Хама,
Лоскутья краденых шелков, —
с. 24:
Что грезой кажется другим.
– Невод, с. 39-40, с тем же посвящением и разночтениями. – ПГ 1, с, 32.
С. 92 . Когда прожектор в выси черной… – Руль, 1928,25 дек. (№ 2458), с. 2, под названием Из ночных прогулок, в другой редакции, начиная со с. 6:
И кажется, что мост и город —
Лишь шелест ветра у виска, —
Тогда, за дымом паровоза,
За грузным катером речным,
За низким облаком ночным
Вдруг нежно вспыхивают розы.
Кто может знать? Но бег тревожный,
Весь этот лязг, и шум, и стон,
Весь этот мир – быть может, ложный,
Мучительный и краткий сон.
И где-то райская долина
За дымной стужей заперта,
И вот – сырых громад Берлина
Коснется ангелов пята.
Да, каждый, кто в тоске бессонной
Глядел внимательно в канал,
Кто ветра свист неугомонный
Настойчиво запоминал, —
Предчувствием объятый тайным,
Вдруг видел в отблеске стекла,
Во мгле витрин, в огне случайном
Размах огромного крыла —
Пойми меня, – но сердцу трудно
Быть камнем в пыльной мостовой
Иль хладной каплей дождевой,
И сердце бьется безрассудно.
– Невод, с. 41-42, под тем же названием и в той же редакции. – ПГ 1, с. 33. АКП (Box 7, folder 115) – с пометкой: «переделано в 1952»; там же (Box 4, Folder 108) – пометка «авг. 1952».
С. 93 . Бессонница. – Руль, 1931, 20 сент. (№ 3289), с. 2, под тем же названием, но без части 1, с разночтениями:
с. 15:
Так и выйдет на дорогу
с. 24:
А за целью бегать лень.
– ПГ 1, с. 34-36. АКП (Box 4, Folder 109) – часть 1 с датой 1930.
С. 95 . Я полюбил Берлин тяжелый… – Руль, 1930, 21 сент. (№ 2986), с. 2, под названием Из «Ночных прогулок», без даты. – ПГ 1, с. 37.
С. 96 . Пудель (Да, есть, о – есть в обычном мире…). – Руль, 1930, 16 февр. (№ 2805), с . 2, как первое стихотворение цикла Ночные прогулки, с разночтениями:
вместо строф 4 и 5: И слышу – кто-то ходит рядом,
Почти касается руки,
И обливает тонким ядом
Похолодевшие виски.
вместо строф 8 и 9: Но жду, – из уличного мрака,
Когтями черными звеня,
Вползет лукавая собака
И молча взглянет на меня.
– ПГ 1, с. 38-39. В Фаусте Гете под видом пуделя герою является дьявол.
С. 97 . Иду по набережной черной – Наш век, 1931, 20 дек. , № 7, с. 6, с разночтением:
с. 9:
Когда в траве перержавелой
и с последним четверостишием, изъятым в ПГ 1:
Пускай случится, что случится,
Пусть совершится в полчаса
Все, что как вор давно стучится
В мои ночные голоса.
– Роща, с. 39, с тем же последним четверостишием и иным вариантом третьей строфы:
Когда на насыпи дорожной
Завьется первая трава,
И ветер, в радости тревожной,
Освищет старые права,
– ПГ 1, с. 40. АКП (Box 7, Folder 133) – дата 1930.
С. 98 . Чуть подует ветер влажный… – ПГ 1, с. 41. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 6.IV1931.
С. 98 . К прохладе гладкого стола… – Современные записки, 1933, № 51, с. 184, как первое стихотворение цикла Стихи о моем столе. – ПГ 1, с. 42. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Берлин 1931».
С. 99 . В тот день отчетливей и резче… – ПГ 1, с. 43. АКП (Box 7, Folder 129) – машинопись с пометкой «Берлин» и записью: «Прочитано в клубе берлинских поэтов как стихи Н. Корвин-Пиотровской, после чего она была единогласно принята членом клуба».
С. 100 . Должно быть, нá море туман… – Руль, 1930, 1 июня (№ 2891), с. 6. – Советский патриот, 1945, 26 окт. (№ 53), с. 3, под названием Стихи, без даты. – ПГ 1, с. 44. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «1931-43».
С. 101 . Сегодня снег. Окно вагона… – ПГ 1, с. 45.
С. 102 . Бреду в сугробе, и без шубы… – ПГ 1, с. 46.
С. 102 . Гость (Колоколец не звучит…). – Руль, 1931, 18 янв. (№ 2994), с. 2. – Новоселье, с. 42-43, как шестое стихотворение цикла Стихи к Пушкину, без названия. – ПГ 1, с. 47. АКП, (Box 4, Folder 109) – дата 18.I.1931.
С. 103 . Так ясно вижу – без сигнала… – Руль, 1931, 26 апр. (№ 3166), с. 2. – ПГ 1, с. 48.
С. 104 . Я грезил в сонной тишине… – ПГ 1, с. 49.
С. 105 . Ночью (Поздней ночью зажигаю…). – ПГ 1, с. 50. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Берлин 12. 10. 34».
С. 106 . Зима. Трубящая эстрада… – ПГ 1, с. 51. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Берлин 1934».
С. 107 . Где с вечера прожектор скудный… – ПГ 1, с. 52. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 6. VII. 1936.
С. 107 . Венеция (Здесь тайны строгие забыты…). – ПГ 1, с. 53. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 6. VII. 1937.
С. 108 . Луна-парк (Взлетела яркая ракета…). – ПГ 1, с. 54. АКП (Box 7, Folder 126) – с пометкой «2 июль 37».
С. 109 . На шумных братьев непохожий… – ПГ 1, с. 55. АКП (Box 7, Folder 126) – с пометкой «2 июль 37». АКП (Box 4, Folder 109) – дата 4. VII. 1937.
С. 109 . Как часто на любовном ложе… – ПГ 1, с. 56. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «8. 7. 37 Berlin», без деления на четверостишия, с разночтениями:
с. 6:
Терзаем острым коготком
с. 16:
Забытой бритвы лезвие —
С. 110 . На берегу большой реки… – ПГ 1,с. 57. Беловая рукопись-АКП (Box 3, Folder 98), с датой 31. III. 1937, без деления на четверостишия и без двух последних строк.
С. 111 . Когда с работы он идет… – ПГ 1, с. 58. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), без деления на четверостишия, с пометкой «11. 7. 37 Berlin». АКП (Box 4, Folder 109) – под названием Демон.
С. 112 . Сивилла (Весь день молола нянька вздор…). – ПГ 1, с. 59. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Берлин 11. 2. 1938».
С. 113 . В зеленом зареве листа… – Руль, 1928. 14 окт. (№2398), с. 2, как второе стихотворение цикла Октябрьские строки с общим посвящением Н. К., с делением на четверостишия. – ПГ 1, с. 60 (дата неверна).
С. 113 . Бегу пустыней переулка… – ПГ 1, с. 61.
С. 114 . Недаром целый день вчера… – ПГ 1, с. 62.
С. 115 . Стихи к Пушкину
1. Не спится мне. Не знаю почему… – Руль, 1928, 5 февр. (№2187), с. 4, как первое стихотворение цикла. – Новоселье, с. 38, как второе стихотворение цикла, с делением на четверостишия. – ПГ 1, с. 63.
2. Шарлоттенбург, Курфюрстендам, – не верю… – Руль, 1928, 5 февр. (№ 2187), с . 4, как второе стихотворение цикла. – Новоселье, с. 39, как третье стихотворение цикла, с делением на четверостишия. – ПГ 1, с. 64.
3. Не мудрено. Ведь рифма не в фаворе… – Руль, 1928, 5 февр. (№ 2187), с. 4, как третье стихотворение цикла. – Новоселье, с. 40, как четвертое стихотворение цикла, с делением на четверостишия. – ПГ 1, с. 65.
4. Час замыслов. Работа бьет ключом… – Руль, 1928, 5 февр. (№ 2187), с. 4, как четвертое стихотворение цикла, с последним четверостишием, изъятым в ПГ 1:
Вино горчит. Неспешные глотки
Слегка волнуют —
Потаенной ночью
Он выкрадет мои черновики
И, холодея, изорвет их в клочья.
– Новоселье, с. 41, как пятое стихотворение цикла, с делением на четверостишия и тем же последним четверостишием. – ПГ 1, с . 66.
5. Да, им легко. Одна забота … – ПГ 1, с. 67-68.
6. Гляжу на смуглые черты… – ПГ 1, с. 69-70.
С. 119 . Стихи о вдове (Под вдовьим покрывалом черным…). – ПГ 1, с. 71-72. АКП (Box 7, Folder 136)-два машинописных варианта под общим названием «Вдова».
Вариант 1:
Есть привлекающая сила
В печали молодой вдовы,
В наклоне легком головы,
В том, что она уже любила.
Есть ревность тайная к мечтам,
Румянящим ее ланиты,
Есть зло в сознании – он там,
Ты брошена, ты им забыта —
Далее (со строки «Я не люблю, но может быть») – как в печатном тексте, с незначительными пунктуационными разночтениями. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 1939.
Вариант 2 – с пометкой «Берлин-Париж», с разночтениями:
с. 6:
Касаясь хрупкого плеча,
с. 20:
И дерзостно, и вдохновенно —
Там же – переписанная Ниной Корвин-Пиотровской выдержка:
...
Из письма из Парижа – Май 1939
При сем прилагаю стихи о вдове. Это, конечно, неправильно, ибо первая строфа нехороша. Придется править и третью строфу (и это будет сделано), но … шлю вдову, как доказательство, что времени зря не теряю. Заметь: первый цикл был о любви, второй – о вечности. Вдова – синтез того и другого: любовь – это связь между нашим вещным миром и вечностью, поэтому она отражает и жизнь и смерть.
С. 120 . Десятый круг (И я сошел безмолвно и угрюмо…). – ПГ 1, с. 73-74.
С. 123 . Не надо вечности. Томится… – Современные записки, 1940, № 70, с. 124, с иным вариантом первой строфы:
Есть страх бессмертья. Он таится
В неодолимости веков,
Душа не хочет и боится
Нерасторгаемых оков.
– ПГ 1, с. 75. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «Май 39. Paris», без деления на четверостишия. АКП (Box 7, Folder 132) – с пометкой «апрель 39 Париж», в варианте Есть страх бессмертья… пометка «5/4/39 Париж».
С. 123 . Влюбленных парочек шаги… – ПГ 1, с. 76.
С. 124 . Дырявый зонт перекосился ниже… – ПГ 1, с. 77.
С. 125 . Всю ночь парижская весна… – Русские записки, 1939, № 17, с . 10-11, без даты, с разночтением:
с. 19: Но порознь видим, порознь слышим
– ПГ 1, с. 78. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «39 Paris», без деления на четверостишия. АКП (Box 7, Folder 133) – дата 3. III. 1939.
С. 125 . Ты будешь помнить ветер встречный… – Встреча 2, с. 9. – ПГ 1, с. 79. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «Paris 39», без деления на четверостишия. АКП (Box 7, Folder 128) – дата 30. VI. 1939.
С. 126 . Твоя ленивая вражда… – ПГ 1, с. 80. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «39. Paris», без деления на четверостишия.
С. 127 . Бродяга праздный на мосту… – Бодрость!, 1940,14янв. (№ 257) , с дополнительными строфами после с. 12:
Душа как будто сквозняком
Унесена в страну иную, —
О чем враждебным языком
Еще прошу, зачем ревную?
Тебя я больше не люблю,
Мы встретились без принужденья,
Я все забыл, – быть может, сплю,
Но тщетно жажду пробужденья.
– ПГ 1, с. 81. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98) с пометкой «38 Paris», тот же текст, что в Бодрости!, без деления на четверостишия. АКП (Box 7, Folder 133) – с пометкой «3/ III/ 39 Paris».
С. 128 . Бредет прохожий спотыкаясь… – ПГ 1, с. 82. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «12.8.40 Paris», без деления на четверостишия. АКП (Box4, Folder 109) – две даты: 31.III.1937 и 12.VIII.1940.
С. 128 . Прощальной нежностью не скоро… – ПГ 1, с. 83.
С. 129 . Крикливых дачниц голоса… – ПГ 1, с. 84. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «39», без деления на четверостишия.
С. 130 . Моих разомкнутых ресниц… – ПГ 1, с. 85. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), без деления на четверостишия, с пометкой «23. 10. 40 Paris», с разночтением:
с. 1:
Моих обломанных ресниц
С. 131 . Покрыта лужица ледком … – Бодрость!, 1940,15 февр. (№259 ) , с делением на четверостишия. – ПГ 1, с. 86. АКП (Box 7, Folder 136) – с пометками «4. 2. 40 Paris» и «7/I – 40».
С. 131 . На дымный луг, на дол холмистый… – ПГ 1, с. 87. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), без пробела перед завершающим четверостишием, с пометкой «20. 10. 40 Paris».
С. 132 . Какой свободы ты хотела… – ПГ 1, с. 88. АКП (Box 4, Folder 109) дата 25.V1943. АКП (Box 7, Folder 131) – вариант с пометкой «Париж 29/3/1939», без строк 1-4, с разночтениями:
с. 5:
Твоя любовь, твои страданья!
с. 20:
Твоя любовь! Твои страданья!
С. 133 . Струится солнце вдоль ствола… – Встреча, с. 10. – ПГ 1, с. 89. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes март 44».
С. 134 . Трубочист (На крыше острой, за трубой…). – ПГ 1, с. 90. АКП (Box 4, Folder 109) с пометкой «12 ноябрь 44 Париж».
С. 135 . Решеткой сдавлено окно… – ПГ 1, с. 91.
С. 136 . В тюрьме моей, во мраке черном… – ПГ 1, с. 92. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes февраль 44».
С. 137 . По ветра прихоти случайной… – ПГ 1,с. 93. Машинопись – АКП (Box 7, Folder 122), с датой 14.XII.1945, с разночтением:
с. 8:
Мгновенный звук такой свободы,
В рукописи там же – посвящение Роману Гулю.
С. 137 . Предвестник осени туманной… – ПГ 1, с. 94. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 21.XL 1945.
С. 138 . Жестокой верности не надо… – ПГ 1, с. 95. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 21.VI.1946.
С. 139 . В раю холмистом, меж сиреней… – ПГ 1, с. 96. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 17.IV1946.
С. 139 . Я вам признался, против правил… – ПГ 1, с. 97.
С. 140 . Упала чашка с тонким звоном… – ПГ 1,с. 98. АКП (Box 7, Folder 137) – дата 1955.
С. 141 . Вальс (А, вальс Шопена – – Нотный лист…). – ПГ 1, с. 99. АКП (Box 7, Folder 137) – дата 27-28.VII.1955.
С. 142 . С плащом и палкой кое-как… – Новый журнал, 1954, № 36, с. 121, как первое стихотворение цикла Ночные прогулки, с делением на четверостишия, без даты, с разночтениями:
с. 1:
С плащом и шляпой кое-как
Между с. 20 и 21 дополнительная строфа:
Где в этом мире ты пристанешь?
Кренятся утлые дома,
И все кругом, куда ни глянешь,
Лишь тьма одна, и всюду тьма.
– ПГ 1, с. 100. АКП (Box 7, Folder 137) – дата 23.VIII.1952.
С. 142 .Мой вечер тих. Невидимых ветвей… – ПГ 1,с. 101. АКП (Вох 4, Folder 108), без деления на четверостишия, с датой 17.III.1953.
С. 143 . Король глядел без удивленья… – ПГ 1, с. 102.
С. 144 . Леди Макбет в темной ложе… – ПГ 1,с. 103. Беловая рукопись в АКП (Box 4, Folder 108), без деления на четверостишия, с датой 18.III. 1953. Черновик там же, с пометкой «25 / IX / 50 Paris».
С. 145 . За кружкой пива дремлет повар… – Новый журнал, 1954, № 36, с. 123, как третье стихотворение цикла Ночные прогулки, без даты, с разночтением:
с. 13:
Покинув угол неприметный,
– ПГ 1, с. 104.
С. 146 . День завершен, как следует, как надо… – Новый журнал, 1954, № 36, с. 122, как второе стихотворение цикла Ночные прогулки, без даты, с разночтениями:
с. 1-2:
Бесшумная осенняя прохлада, —
Весь город стал и глуше и нежней, —
с. 11-12:
Ложатся вдоль решетки на дорогу
Ряды географических широт.
с. 21-24:
Мечтатель мой! В расстегнутой крылатке,
Дырявый зонт распялив про запас,
Ты слушаешь в блаженной лихорадке,
Как эта ночь захлестывает нас.
– ПГ 1, с. 105.
С. 147 . Над дверью вычурной фонарь… – ПГ 1, с. 106. АКП (Box 7, Folder 137) – с пометкой «Париж 1955».
С. 148 . Туман
1. На Эйфелевой башне флаг… – Новоселье, 1950, № 42-44, с. 30. – ПГ 1, с. 107. АКП (Box 4, Folder 108) – текст рукой Нины Корвин-Пиотровской, без деления на четверостишия, с датой 17.XI.1948, с разночтениями:
после с. 2: Бульвар над Сеной пуст и наг, —
Рука остывшая в кармане.
Я слабо пальцы шевелю, —
Тепло уходит понемногу, —
Но как жалею и люблю
Я эту сонную дорогу,
Каким молчаньем на меня
Река тускнеющая веет, —
с. 9-10:
Я в одиночестве моем
Не одинок и не оставлен,
с. 13-14:
Смотрю на листья и дышу,
В воде их провожая взглядом
2. Туманной ночью вдоль канала… – Новоселье, 1950, № 42-44, с. 30-31. – ПГ 1, с. 108.
3. Во всех садах приглушены… – Новоселье, 1950, № 42-44, с. 31. – ПГ 1, с. 109. АКП (Box 7, Folder 137) – рукопись двух последних стихотворений с датой 1950.
С. 151 . Стоим, обвеянные снами… – ВЗ, с. 7.-ПГ 1,с. 111. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes, март 44».
С. 151 . Воздушный змей (Змей уходил под облака…). – Советский патриот, 1945, 19 мая (№ 30), с. 3 , с указанием «Тюрьма Френ, 1944». – Русский сборник, 1946, № 1, с. 140, без деления на строфы, без даты, с разночтением:
с. 5:
Прозрачной жизнью трепетала.
– Эстафета, с. 52, без деления на строфы, без даты, с разночтением:
с. 21:
Поспешно строя наблюденья,
– ВЗ, с. 8-9. – На Западе, с. 156, без даты. – ПГ 1, с. 112.
С. 152 . В трубе большого телескопа… – ВЗ, с. 10-11. – ПГ 1, с. 113. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Март 44 Fresnes».
С. 154 . Двойник (Весенний ливень неумелый…). – ВЗ, с. 12-13. – Грани, 1959, № 44, с. 50, без даты. – Муза диаспоры, с. 180-181, без даты. – ПГ 1, с. 114. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes».
С. 155 . Очки (На письменном столе блистают…). – Встреча, с. 11, без названия. – Эстафета, с, 53, под названием Дверь , без даты, с разночтением:
с. 25: Весь освещенный нашей болью
– ВЗ, с. 14-15. – ПГ 1, с. 115. АКП (Box 4, Folder 109) – без названия, с пометкой «Fresnes».
С. 156 . На пыльной площади парад… – Новоселье, 1947, № 35-36, с. 56-57, под названием Сад, с указанием «Fresnes 1944», с разночтением:
с. 5:
Он щедро в синеве прохлады
– Эстафета, с. 54, под названием Сад, без места и даты, с тем же разночтением. – ВЗ, с. 16-17. – ПГ 1, с . 116 .
С. 157 . Фрегат (На рынке пестром и крылатом…). – ВЗ, с. 18-19. – ПГ 1, с. 117. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes март 44».
С. 158 . Под вечерок, с женой поджарой.. – ВЗ, с. 20-21. – ПГ 1, с. 118. АКП (Box 7, Folder 134) – с пометкой «Fresnes 1944».
С. 159 . Из подворотенной дыры… – ВЗ, с. 22-23. – ПГ 1, с. 119. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes 44».
С. 160 . В большом шкафу библиотечном… – ВЗ, с. 24. – ПГ 1, с. 120. АКП (Box 7, Folder 134) – с пометкой «20/ VII/ 46 Paris».
С. 160 . Сквозняк (Стаканы в зеркало швыряя…). – ВЗ, с. 25. – ПГ 1, с. 121. Беловая рукопись – АКП (Box 4, Folder 108), без названия, с датой 12.IX.1949.
С. 161 . На землю пала ночь глухая… – ВЗ, с. 26. – ПГ 1, с. 122. АКП (Box 7, Folder 126) – дата 28.V.1937.
С. 162 . Глядится в зеркало чудак… – ВЗ, с. 27. – ПГ 1, с. 123. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 18.IV1946. АКП (Box 7, Folder 133) – с пометкой «20/ 4/ 46 Париж».
С. 162 . Лазурь воскресная чиста… – ВЗ, с. 28. – Грани, 1959, №44, с. 50, без даты, с разночтением:
с. 15:
Но, лопнув, падают клочками
– Муза диаспоры, с. 182, без даты, строфа 3 разделена на два четверостишия. – ПГ 1, с. 124.
С. 163 . Зеркальный мир (Я заблудился ненароком…). – Советский патриот, 1945, 19 мая (№ 30), с. 3 , с указанием «Монлюк, тюрьма Гестапо, 1944». – Эстафета, с. 51, без деления на строфы, без даты. – ВЗ, с. 29. – ПГ 1, с. 125.
С. 164 . Опрокинул чернильницу (Писец, бумаги разбирая…). – ВЗ, с. 30-31.-На Западе,с. 157, без даты.-ПГ 1, с. 126. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 24.VII.1946.
С. 165 . Ночные бабочки (На площади клубится пар…). – ВЗ, с. 32. – ПГ 1, с. 127. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «11. 11. 44 Париж».
С. 166 . В ночном молчанье, в некий час… – ВЗ, с. 33. – ПГ 1, с. 128. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), без деления на четверостишия, с пометкой «39. Paris напеч. в 43» (эту публикацию нам обнаружить не удалось), с другим вариантом строк 13-20:
Но скрипнет дверь, царапнет мышь, —
И чувства встрепенутся разом, —
День мутным и белесым глазом
Глядит из-за соседних крыш.
И длится дрожь существованья,
Пустая память о былом.
Душа бежит очарованья —
Душа склонилась перед злом,
Как перед бездной без названья.
АКП (Box 7, Folder 132) – дата 8.IV1939. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 23.VI.1943.
С. 167 . Дождь сечет. Фонтан кирпичный… – Руль, 1929, 25 дек. (№ 2762), с. 2, как первое стихотворение цикла Ночные прогулки, без четвертой строфы, с разночтением:
с. 9:
И, прильнув к плите холодной,
– Роща, с. 37-38. – ВЗ, с. 34-35, с той же датой, что в ПГ 1. – ПГ 1, с. 129 (дата неверна).
С. 168 . Непрочное апрельское тепло… – Русские записки, 1939, № 17, с . 10, без даты. – ВЗ, с. 36. – ПГ 1, с. 130. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «Апрель 39. Paris», без деления на четверостишия. АКП (Box 7, Folder 133) – дата 4.III.1939.
С. 168 . Еще не глядя, точно знаю… – Русские записки, 1939,№ 17, с. 11, без даты. – ВЗ, с. 37. – Грани, 1959, № 44, с. 50-51, без даты. – Муза диаспоры, с. 183, без даты. – ПГ 1, с. 131. Беловая рукопись в АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «Paris 39», без деления на четверостишия. АКП (Box 7, Folder 133) – дата 11.IV1939.
С. 169 . Уже ноябрь туманит фонари… – ВЗ, с. 38-39. – ПГ 1, с. 132. Беловая рукопись – АКП (Box 4, Folder 108), без посвящения, с пометкой «14 / XI – 48». Над с. 4 – незачеркнутый вариант:
Уставились на мокрые афиши.
Люси Росс (Lucy Ross, ок. 1900 – ок. 1980, Лос-Анджелес) – сестра Нины Алексеевны Корвин-Пиотровской, познакомившая ее с поэтом. Перед второй мировой войной выехала с мужем Джоном Россом в США и позднее уговорила семью поэта перебраться из Парижа в Лос-Анджелес.
С. 170 . Поздно, поздно. В бороде… – Руль, 1929, 25 дек. (№ 2762), с. 2, как третье стихотворение цикла Ночные прогулки. – Новоселье, с. 37, как первое стихотворение цикла Стихи к Пушкину. – ВЗ, с. 40. – ПГ 1, с. 133.
С. 171 . Листья (Сырые листья вдоль дороги…). – Русские новости, 1948, 2 дек. (№ 235), с. 4, без названия. – ВЗ, с. 41. – Грани, 1959, № 44, с. 51, без даты. – Муза диаспоры, с, 184, без даты. – ПГ 1, с. 134. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 1944. Евгения Юдифовна Рапп (1875-1960) – сестра Лидии Юдифовны Рапп-Бердяевой, близкий друг и издатель Н. А. Бердяева.
С. 171 . Карусель (Кусты сирени и свобода…). – Русские новости, 1948, 9 янв. (№ 136), с. 4, под названием Весна на карусели. – ВЗ, с. 42-43. – ПГ 1, с. 135. АКП (Box 7, Folder 133) – дата 25.IV.1946.
С. 172 . За дверью голос дребезжит… – Советский патриот, 1945, 24 авг. (№ 44), с . 4, как первое стихотворение цикла Тюремные строфы (с общим указанием «Тюрьма Френ. 1944»), с разночтением:
с. 12:
Высокую мою мечту.
– ВЗ, с. 44. – ПГ 1, с. 136.
С. 173 . Нас трое в камере одной… – Советский патриот, 1945, 24 авг. (№ 44), с. 4, как второе стихотворение цикла Тюремные строфы. – ВЗ, с. 45. – ПГ 1, с. 137.
С. 174 . Терзаемый недугом грозным… – ВЗ, с. 46-47. – ПГ 1, с. 138. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «Апрель, 37. Berlin», без деления на четверостишия.
С. 175 . Нас обошли и жали с тыла… – Русские записки, 1939, № 18, с. 61, под названием День, без даты, с разночтениями:
с. 7:
И пламя темное войны
с. 24:
Стал днем живых и я – живу.
– ВЗ, с. 48-49. – ПГ 1, с. 139. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «37. Berlin», без деления на четверостишия.
С. 176 . Мой сад наполнен влагой дождевой… – ВЗ, с. 50. – ПГ 1, с. 140.
С. 176 . Лазурь безоблачно мутна… – ВЗ, с. 51. – ПГ 1, с. 141. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «26 / VII – 46 Paris».
С. 177 . Играл оркестр в общественном саду… – ВЗ, с. 52. – ПГ 1, с. 142. Анна Присманова (1892 – 1960) – эмигрантская поэтесса, входившая вместе с Корвин-Пиотровским в группу «формистов».
С. 177 . Звезда скатилась на прощанье… – ВЗ, с. 53. – Грани, 1959, № 44, с. 51, без даты, с разночтением:
с. 5:
И эхо повторить готово,
– Муза диаспоры, с. 185, без даты. – ПГ 1, с. 143. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), с пометкой «39. Paris», без деления на четверостишия, с разночтением:
с. 5:
И звонко повторить готово,
АКП (Box 7, Folder 128) – дата 30.VI.1939.
С. 178 . Прохладных роз живая белизна… – ВЗ, с. 53. – ПГ 1, с. 144. АКП (Box 4, Folder 108) – с пометкой «август 48».
С. 178 . Пройдет трамвай, и в беге колеса… – Современные записки, 1934, № 56, с. 209, без посвящения. Вместо второй строфы – две другие:
Все тронуто прощальной тишиной, —
И стук мяча на теннисной площадке,
И взмах руки в заштопанной перчатке,
И женский голос где-то за спиной.
Да, осень, осень. В шуме городском
Вдруг различаешь новые созвучья.
С невольной дрожью топчешь каблуком
На тротуары сваленные сучья.
– Встреча, с. 10, с датой 1932, без посвящения. – Эстафета, с. 56, без даты, без посвящения. – ВЗ, с. 54. – ПГ 1, с. 145 (дата неверна). Сергей Маковский (1877-1962) – поэт, критик, мемуарист, редактор журнала Аполлон (1909-1917), с 1920 года в эмиграции.
С. 179 . Горят широкие листы… – Руль, 1930, 1 окт. (№ 2994), с . 2, с разночтением:
с. 7-8:
Как музыка струится ввысь
Из городских высоких скважин.
– Встреча 2, с. 9, с датой 1943, с тем же разночтением. – Эстафета, с. 55-56, с тем же разночтением. – ВЗ, с. 55. – ПГ 1, с. 146.
С. 179 . Не обвиняй. Любовь не обвиняет… – Встреча, с. 10. – ВЗ, с. 56. – ПГ 1, с. 147. АКП (Box 7, Folder 134) – с пометкой «8 апрель 1943».
С. 180 . Июльский мрак, полночная прохлада… – Встреча, с. 10. – ВЗ, с. 57. – ПГ 1, с. 148. АКП (Box 7, Folder 133) – с пометками «25/ 6/ 43» на одной рукописи и «Paris» на другой.
С. 181 . Сентябрь блистает и томится… – ВЗ, с. 58. – ПГ 1, с. 149. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), без деления на четверостишия, с пометкой «26.8.38 Берлин». Между строфами 2 и 3 – дополнительная строфа:
В листве широкой и богатой
Поют незримые смычки,
В косом паденьи лист крылатый
Касается твоей щеки.
С. 181 . Ноябрь туманный за окном… – ВЗ, с. 58. – ПГ 1, с. 150.
С. 182 . Глухая осень движется на нас… – Встреча 2, с. 9. – ВЗ, с. 59. – ПГ 1, с. 151. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «31 августа 45 Париж».
С. 182 . На склоне городского дня… – Русские новости, 1947, 31 янв. (№ 90), с. 4, под названием Стихотворение, с посвящением . – Эстафета, с. 55, без даты, без посвящения. – ВЗ, с. 60. – На Западе, с. 159, без даты, без посвящения. – ПГ 1, с. 152. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 23.XI.1946.
С. 183 . Весь день вдыхаю с дымом папирос… – Руль, 1928, 14 окт (№ 2398), с. 2, как первое стихотворение цикла Октябрьские строки с общим посвящением Н. К., с разночтением:
с. 15:
Пусть будет смерть. Но краски и слова,
– ВЗ, с. 61. – ПГ 1, с. 153 (датаневерна).
С. 184 . Вздыхает эхо под мостом… – Русские новости, 1948, 16 сент (№ 224), с. 4 , с разночтениями:
с. 12-13:
Вновь бьется сердце у меня
От каждого прикосновенья
– ВЗ, с. 62. – ПГ 1, с. 154. АКП (Box 7, Folder 122) – машинопись без деления на строфы, с датой 11.ХП.1945, с разночтениями:
перед с. 1:
О, милая моя земля,
Моя веселая планета!
Присвистывая и пыля,
Блуждаю по тропинкам лета.
с. 5-7:
Но с теплым ветром заодно
Я время числю по-иному, —
Так порожденное зерно
Е. Гризелли – жена итальянского скульптора Итало Гризелли (1880-1958), друга семьи Корвин-Пиотровских, создавшего портреты поэта и Нины Алексеевны.
С. 184 . Огни пустынного залива… – ВЗ, с.6З.-ПГ 1,с. 155. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 31.VII.1936. Беловая рукопись – АКП (Box 7. Folder 125), с разночтениями:
с. 5-12:
Волна светилась и дымилась,
Ломала встречную волну,
И тускло по морскому дну
Звезда разбитая катилась.
Как быстро скудная земля
В сияньи влажном потонула!
Дыханьем весла шевеля,
К нам бездна ластилась и льнула.
с. 15:
И темной жизни содроганье
С. 185 . Темнеет небо понемногу… – ВЗ, с. 64. – ПГ 1, с. 156. Беловая рукопись – АКП (Box 3, Folder 98), без деления на четверостишия, с пометкой: «39. Paris напеч. в 43» (эту публикацию нам обнаружить не удалось), с разночтениями:
с. 7-8:
Что – скоро будет и что было
Еще не слиты до конца.
с. 13-16:
Омытый теплым дуновеньем
Почти доступной высоты,
С каким теперь недоуменьем
Свой день припоминаешь ты.
АКП (Box 4, Folder 109) – дата 20.VI.1943. АКП (Box 7, Folder 132) – даты 7.IV.1939 и 8.IV1939.
С. 186 . Заря уже над кровлями взошла… – Руль, 1930,14 сент. (№ 2980), с. 2, под названием Последняя отрада, без даты. – Роща, с. 40-41, под тем же названием, без даты. – Советский патриот, 1945, 21 сент. (№48), с. 3 – ВЗ, с. 65. – ПГ 1, с. 157 (дата неверна).
С. 186 . Сколько грохота и грома… – ВЗ, с. 66. – ПГ 1, с. 158. Машинопись – АКП (Box 7, Folder 126), без посвящения, без деления на четверостишия, с датой 5.VII.1937, с разночтением:
с. 15:
Только дождь, журча, сбегает
С. 187 . Дождь, дождь и дождь. И ночь. В окно… – Бодрость!, 1939, 31 дек. (№ 256). – ВЗ, с. 67. – На Западе, с. 160, без даты. – ПГ 1, с. 159. АКП (Box 7, Folder 133) – с пометкой «Middelkerke 25 июля 39».
С. 188 . Трубачи (На летнем взморье трубачи…). – Наш век , 1931,8 нояб. (№ 1), с. 4, под названием «Стихи», с разночтениями:
с. 4:
На меди пламенем дрожали.
с. 10:
Отражена игрой соседней,
– Невод, с. 37-38, без названия, с разночтениями:
с. 11:
Одна труба, как будто с гор,
с. 13-16:
Мы дальше в море уходили,
Туда, где звуки не слышны,
И весла четко бороздили
Покой зеленой глубины.
с. 21-22:
День отплывал – огнем и светом
Вливались сумерки в него, —
с. 25-26:
Иль в ослепительном просторе,
Быть может, только весел стук,
– ВЗ, с. 68-69. – ПГ 1, с. 160.
С. 189 . Пена (Гляди на клочья легкой пены…). – ВЗ, с. 70.-ПГ 1, с. 161. АКП (Box 7, Folder 134) – дата 26.V1943.
С. 189 . Чиновник на казенном стуле… – Новоселье, 1945, № 21, с. 32, как первое стихотворение цикла Розы на снегу, с общим указанием «Тюрьма Френ, 1944», без деления на четверостишия. – ВЗ, с. 71. – ПГ 1, с. 162.
С. 190 . Розы на снегу (Дымятся розы на снегу…). – Новоселье, 1945, № 21, с. 32-33, как второе стихотворение цикла Розы на снегу, с общим указанием «Тюрьма Френ, 1944», без названия, без деления на четверостишия, с разночтениями:
с. 5:Все разбрелось, мороза ради, —
с. 12:
[отсутствует]
с. 20:Гроб гулко охает и стонет,
– ВЗ, с. 72-73. – На Западе, с. 158, без даты.-ПГ 1, с. 163.
С. 191 . Большие звезды недвижимы… – Новоселье, 1949, № 39-40-41, с. 33, в составе цикла Ночь, с общим указанием «Посв. Н.» , без даты, с разночтением:
с. 27:Лишь дальний вопль в пустынном поле,
– ВЗ, с. 74-75. – ПГ 1, с. 164. АКП (Box 7, Folder 109) – с пометкой «Посвящается моей жене Нине» и датой 20.11.1945.
С. 192 . Был музыкант – и больше нет… – Новоселье, 1949, №39-40-41, с. 32, в составе цикла Ночь, с общим указанием «Посв. Н.» , без даты, с разночтениями:
с. 7:Метель клокочет вдоль дорог,
с. 17:
Зовет до хрипа высота,
– ВЗ, с. 76. – ПГ 1, с. 165. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 22.VII.1946.
С. 193 . Скрипят подошвы в тишине… – Новоселье, 1945, № 21, с. 33-34, как третье стихотворение цикла Розы на снегу, с общим указанием «Тюрьма Френ, 1944», без деления на четверостишия. – ВЗ, с. 77. – ПГ 1, с. 166.
С. 194 . О, Боже мой, какая синева!.. – ВЗ, с. 78. – ПГ 1, с. 167. АКП (Box 7, Folder 133) – с пометками «апрель 39 – Париж» и «30/ IV/1939 Paris».
С. 194 . Опять со мной воспоминанья… ВЗ, с. 79. – ПГ 1, с. 168.
С. 195 . Вальс (Он ловко палочкой взмахнул…). – Новоселье, 1947, № 31-32, с. 39, с указанием «Fresnes, 1944», с разночтениями:
с. 8:Слезой отчаянья и гнева
с. 20:
Я заклинаю лес и море,
– ВЗ, с. 80-81. – ПГ 1, с. 169. АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Fresnes, март 44».
С. 196 . Офелия
1. Ночь ломится в мое окно… – Новоселье, 1949, № 39-40-41, с. 34, в составе цикла Ночь, с общим указанием «Посв. Н.» , без даты. – ВЗ, с. 82-83.-ПГ 1,с. 170. АКП (Box 4, Folder 108) – дата 16. VII. 1946. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 22.VII.1946.
2. На берегу туманный луг.. – ВЗ, с. 83-85. – ПГ 1, с. 171.
3. Измятый куст в пыли тяжелой.. – ВЗ, с. 85-87. – ПГ 1, с. 173.
С. 200 . Ночь, посвященная мечте… – Новый журнал, 1957, № 49, с. 46, как первое стихотворение цикла Стихи о России. – П, с. 72. – ПГ 1, с. 175.
С. 201 . Тебя еще как будто нет… – Мосты, 1960, № 5, с. ПО, под названием Эхо (2). – ПГ 1, с. 176.
С. 201 . Всю ночь, всю ночь, всю ночь мело… – Новый журнал, 1957, № 49, с. 50, как шестое стихотворение цикла Стихи о России. – П, с. 66, с разночтением:Вот-вот и выдавит стекло,
– ПГ 1, с. 177. АКП (Box 4, Folder 103) – с пометкой «24 / авг. 56».
С. 202 . Слепая лошадь без седла… – Новый журнал, 1957, №49, с. 46-17, как второе стихотворение цикла Стихи о России. – П, с. 69, с разночтениями:
с. 10:Пальто, изъеденное молью,
с. 20:
И может быть, бежать не надо.
– ПГ 1, с. 178.
С. 203 . Босыми быстрыми ногами… – Новый журнал, 1957, № 49, с. 47-48, как третье стихотворение цикла Стихи о России. – П, с. 64. – ПГ 1, с. 179. Элоим (Элохим) – одно из древнееврейских имен Бога.
С. 204 . Не ожидая, на ходу… – Новый журнал, 1957, № 49, с. 48-49, как четвертое стихотворение цикла Стихи о России, с разночтением:
с. 3:Два-три листа в глухом саду,
– П, с. 67, с тем же разночтением. – ПГ 1, с. 180.
С. 204 . Во мгле сплошного снегопада… – Новый журнал, 1957, № 49, с. 49-50, как пятое стихотворение цикла Стихи о России. – П, с. 68. – ПГ 1, с. 181.
С. 205 . Забудь ее, – большим потоком… – Новый журнал, 1957, № 49, с. 50-51, как седьмое стихотворение цикла Стихи о России, без посвящения. – П, с. 65. – ПГ 1, с. 182. Кирилл Елита-Вильчковский (1904-1960) – литературный критик, участник движения младороссов.
С. 206 . О, понимаю, понимаю… – Новый журнал, 1959, №58, с. 112-113, как второе стихотворение цикла Фарфор. – ПГ 1, с. 183. АКП (Box 7, Folder 137) – с пометкой «июль 1955».
С. 207 . В таком же точно, горделивом… – Новый журнал, 1959, № 58, с. 112, как первое стихотворение цикла Фарфор. – ПГ 1, с. 184. АКП (Box 4, Folder 108), с делением на четверостишия, с пометкой «30/ VII – 55», с разночтениями:
с. 8:Мир проявляется в окне
с. 11-16:
И кожура пустая пенки
В загаре желтом, как у всех,
Воспоминанье иль примета?
Особенная полоса?
Или у каждого предмета
Есть жизни тайных полчаса
с. 18:
Весь обозначен, окружен
С. 207 . Корделия, – могла бы ты ползком… – Новый журнал, 1959, № 58, с. 113, под названием Корделия. – ПГ 1, с. 185. АКП (Box 7, Folder 137) – с пометкой «27/ 5/ 57 Paris».
С. 208 . И все же знал, – пускай не точно… – Новый журнал, 1956, №44, с. 69-70, как часть цикла Заклинания. Объединено (вероятно, вследствие опечатки) в один текст со стихотворением В заносы, в бунт простоволосый… – П, с. 70, с посвящением Л. Росс. – ПГ 1, с. 186.
С. 209 . В заносы, в бунт простоволосый… – Новый журнал, 1956, № 44, с. 68-69, как третье стихотворение цикла Заклинания. Объединено (вероятно, вследствие опечатки) в один текст со стихотворением И все же знал – пускай не точно… – П, с. 71, с посвящением «Н. А. К.-П.» [Нине Алексеевне Корвин-Пиотровской], без третьей строфы, с разночтением:
с. 13:Уже иная, не своя,
– ПГ 1, с. 187. Беловая рукопись – АКП (Box 4, Folder 103), с пометкой «23 /I/ 56», с разночтением: с. 26:
Не верить и молить, – хоть раз,
С. 210 . Над Росью, над моей рекой… – Новый журнал, 1956, № 44, с. 67-68, как второе стихотворение цикла Заклинания, с разночтением: с. 18:
Персидской зацвела сиренью, —
– П, с. 60-61, с тем же разночтением. – Содружество, с. 253, с разночтением: с. 22:
И льется легкая истома
– ПГ 1, с. 188. На труп зарезанного сна… – отсылка к «Макбету» Шекспира.
С. 211 . И если так, и если даже… – Новый журнал, 1956, № 44, с. 66-67, как первое стихотворение цикла Заклинания, без посвящения, с разночтениями:
с. 3:Пятно пустое, – та же, та же, —
с. 5:
Вся в шуме листьев, в ветре, в громе,
с. 8:
В глазах заплаканных, и в том
с. 18-19:
Неузнавающей, но вот —
Уже в костях, уже под кожей,
с. 23:
И только ставень ржавым стуком
с. 25-26:
Пускай иная, – не забуду,
Одну тебя – за каждый год,
– П, с. 62-63, с посвящением, с теми же разночтениями. – ПГ 1, с. 189. Беловая рукопись – АКП (Box 4, Folder 103) без посвящения, с датой 18. VIII. 1955, с разночтениями: с. 8:
В глазах заплаканных, и в том
с. 18-19:
Неузнаваемой, но вот —
Уже в костях, уже под кожей,
с. 26:
Не разлюблю – за каждый год,
София Прегель (1897, Одесса – 1972, Париж) – эмигрантская поэтесса, близкая знакомая Корвин-Пиотровского.
С. 212 . Среди вокзальных наставлений… – Возрождение, 1956, № 53, с. 55, с разночтением:
с. 13:Но вскрикнуть и твердить потом
– ПГ 1, с. 190. АКП (Box 4, Folder 108) – дата 9.VIII.1955.
С. 213 . Подходит смерть, и странно мне прощанье… – ПГ 1, с. 191. Боярка – городок вблизи Киева.
С. 214 . Ночь поздняя черным-черна… – Новый журнал, 1955, № 41, с. 136, под названием Ночь, с разночтением:
с. 20:И словно плачет на прощанье.
– Содружество, с. 247, с делением на четверостишия, с разночтением: с. 20:
И долго плачет на прощанье.
– ПГ 1, с. 193.
С. 214 . Ночь и сад. Весь цикл – Новый журнал, 1964, № 77, с. 43-45. Илларион Воронцов-Дашков (1918-1973) – знакомый поэта, сосед семьи Корвин-Пиотровских в Лос-Анджелесе. Поэт часто читал стихи в его доме.
1. Не знаю, ласточки иль ноты… – Новый журнал, 1964, № 77, с. 43. – Содружество, с. 248, без посвящения. – ПГ 1, с. 194.
2. Твой мир, с его туманным дном… – Новый журнал, 1964, № 77, с. 43 – 44. – ПГ 1, с. 195.
3. Медлительно и многоствольно… – Новый журнал, 1964, № 77, с. 44, с разночтением:
с. 5:Из тех, что ловят находу
– ПГ 1, с. 196.
4. Ты болен, болен. Этот сон… – Новый журнал, 1964, № 77, с . 45, с разночтениями:
с. 9-10:Таинственным прикосновеньем
Невыявленного штриха,
– Содружество, с. 250. – ПГ 1, с. 197.
С. 217 . Бессонница и задыханье… – Новый журнал, 1962, № 67, с . 64-65, как первое стихотворение цикла Стихи о звездах с общим посвящением Л. Росс, с разночтением:
с. 4:Разрежет молнией окно.
– ПГ 1, с. 198.
С. 218 . И все о нас, и все о нас… – Новый журнал, 1962, № 67, с. 65, как второе стихотворение цикла Стихи о звездах, с разночтением:
с. 10:
И нежным сумракам в ответ – ПГ 1, с. 199. Видимо, первый (сильно отличающийся) вариант под названием Лунная – АКП (Box 8, Folder 145).
С. 218 . Когда окно в саду тревожном… – Новый журнал, 1962, № 67, с. 66, как третье стихотворение цикла Стихи о звездах. – Содружество, с. 246. – ПГ 1, с. 200.
С. 219 . Цветы и молнии, – в саду… – Новый журнал, 1962, № 69, с. 20, как первое стихотворение цикла Тени, с разночтением:
с. 13:Не вспомнить ни одной приметой, —
– ПГ 1, с. 201.
С. 220 . Письмо, которое не скоро… – Новый журнал, 1962, № 69, с. 20-21, как второе стихотворение цикла Тени, без деления на четверостишия, с разночтением:
с. 15:Внезапный перечень падений
– Содружество, с. 249, без деления на четверостишия, с разночтениями: с. 14-15:
Терзающих тебя во сне, —
Жестокий перечень падений
– ПГ 1, с. 202.
С. 220 . Любви второй, любви бесплодной… – Новый журнал, 1962, № 69, с. 21, как третье стихотворение цикла Тени. – ПГ 1, с. 203. АКП (Box 8, Folder 145) – дата20.III.1962.
С. 221 . Вступленье к осени, – на пляже… – Новый журнал, 1962, № 69, с. 21-22, как четвертое стихотворение цикла Тени. – ПГ 1, с. 204.
С. 221 . Еще без темы и без плана… – Новый журнал, 1962, № 69, с. 22, как пятое стихотворение цикла Тени. – ПГ 1, с. 205. АКП (Box 8, Folder 145) – пометка «Лос Анжелес».
С. 222 . Двойник, поэт иль кто-то третий… – Новый журнал, 1962, № 69, с. 23, как шестое стихотворение цикла Тени, с разночтением:
с. 20:Что медлит за его плечом?
– ПГ 1, с. 206. АКП (Box 8, Folder 145) – дата 20.III.1962.
С. 223 . Все реже всплески водяные… – Новый журнал, 1962, № 70, с. 8. – ПГ 1, с. 207. В рукописи (АКП, Box 3, Folder 95) пометка «L.[os] A.[ngeles] 1/2 окт. 62». Анастасия Германовна Воронцова-Дашкова (урожденная Генкель, 1927-1982) – жена Иллариона Воронцова-Дашкова, соседка поэта в Лос-Анджелесе.
С. 223 . Под топот беспокойных ног… – Новый журнал, 1963, № 72, с . 112-113, как второе стихотворение цикла Посвящения, с первой строфой, отсутствующей в ПГ 1:Еще о музыке. В саду
Мечтатель принимает позу, —
Кармен бросает на ходу
Свою растрепанную розу.
Разночтение: с. 9:
И соблюдая такт и меру
– Содружество, с. 251, в той же редакции, что ПГ 1, но с делением на четверостишия. – ПГ 1, с. 208. АКП (Box 8, Folder 145) – дата 10.1.1963. А. Н. Кожина – знакомая поэта, соседка его в Лос-Анджелесе.
С. 224 . Беззвездный мир и тишина… – Новый журнал, 1955, №42, с. 109, как второе стихотворение цикла Сад. – ПГ 1, с. 209.
С. 225 . Влюбленный в ночь, я ночи жду… – Новый журнал, 1955, № 42, с. 108-109, как первое стихотворение цикла Сад. – ПГ 1, с. 210.
С. 226 . Туманной осени пора… – Новый журнал, 1963, № 72, с. 112, как первое стихотворение цикла Посвящения. – ПГ 1, с. 211. АКП (Box 8, Folder 145) – с пометкой «15/12/ 62 Los Angeles». И. Б. Дерюгина – знакомая поэта в Лос-Анджелесе.
С. 226 . Я выйду ночью как-нибудь… – Новый журнал, 1963, № 72, с. 113-114, как третье стихотворение цикла Посвящения, с разночтением:
с. 11:Вздыхая, ветка на меня
– ПГ 1, с. 212. В. Н. Осипьян – Варвара Осипьян, одна из первых русских знакомых поэта в Лос-Анджелесе.
С. 227 . Не правда ль, – вечером, когда… – Новый журнал, 1963, № 72, с. 114, как четвертое стихотворение цикла Посвящения. – ПГ 1, с. 213. Е. Б. Хрущова – знакомая поэта в Лос-Анджелесе, сестра И. Б. Дерюгиной.
С. 228 . Когда рояль дрожит струнами… – Мосты, 1960, № 5, с. 109, под названием Эхо (1), с разночтениями:
с. 7:Не ты, мой друг, но та, другая, —
с. 15:
Летать и падать, и томиться,
– ПГ 1, с. 214.
С. 228 . Здесь близок океан. Сюда… – Новый журнал, 1961, № 65, с. 62, как четвертое стихотворение цикла Калифорнийские стихи. – ПГ 1, с. 215. АКП (Box 3, Folder 94) – дата 22.V.1961.
С. 229 . Давай немного постоим… – Новый журнал, 1961, № 65, с . 63-64, как третье стихотворение цикла Калифорнийские стихи, с дополнительной (первой) строфой:Ты слабо дышишь. Я едва
Тебя во мраке различаю,
Я на невнятные слова
Лишь стуком сердца отвечаю.
– ПГ 1, с. 216.
С. 229 . Какая жалкая забава… – Новый журнал, 1961, № 65, с . 63, как второе стихотворение цикла Калифорнийские стихи. – ПГ 1, с. 217.
С. 230 . Не от свинца, не от огня… – Новый журнал, 1955, № 42, с. 107-108, под названием Баллада. – ПГ 1, с. 218-219. АКП (Box 4, Folder 109) – текст рукой Нины Корвин-Пиотровской под названием Баллада, с разночтениями:
с. 5-8:И вспышка мутная штыка
Не обжигала тоже, —
Меня убьет удар смычка
В застенке душной ложи.
с. 13:
Скрипач, усмешку затая
вместо с. 25-32:
И вдруг нахлынет тишина,
Все захлестнет волною, —
И люстры желтая луна
Погаснет надо мною.
С. 230 . Налево, направо – шагай без разбора… – Новый журнал, 1958, № 55, с. 110, под названием Сцена у фонтана, без деления на четверостишия, с разночтениями:
с. 15:
Струя как змея в говорливом фонтане
с. 17-18:Ночь музыкой душит, – и петли и трубы,
И в черных лучах соловьи,
– Содружество, с. 252, с разночтением:
с. 7:
Серебряной шпорой иль тем, что не волен
– ПГ 1, с. 220. АКП (Box 3, Folder 100) – беловая рукопись под названием Сцена у фонтана, с датой 15.V.1958, без деления на четверостишия, с разночтениями:
с. 5:Ты именем бредишь, ты памятью болен,
с. 9:
Как дробь барабана гремит на паркете
с. 11:
Мазурка до муки, до смерти – и эти
с. 15:
Струя как змея в торопливом фонтане
с. 17-18:
Ночь музыкой душит, – и петли и трубы,
И в черных ручьях соловьи, —
с. 21:
Я гибну, я предан, недаром мне снится
АКП (Box 4, Folder 108) – черновик с датой 24.VII.1955. Самбор – город на Западной Украине.
С. 232 . Замостье, и Збараж, и Краков вельможный… – Новый журнал, 1965, № 79, с. 116-117, без деления на четверостишия, с разночтениями:
с. 21:О, польская гибель в сугробах сирени,
с. 25:
Все музыкой будет, – цыганской гитарой,
– ПГ 1, с. 221. Замостье (Замосць) – город на востоке современной Польши. Збараж – город на Западной Украине.
С. 233 . Повторный осторожный стук… – ПГ 1, с. 222-223. АКП (Box 8, Folder 145) – с пометкой «San Jose». Грааль – легендарная чаша с кровью Христа, символ трудно достижимой цели.
С. 234 . Когда, возникнув для распада… – ПГ 1, с. 224.
С. 234 . В закатном небе, в летней роще… – ПГ 1, с. 225.
С. 235 . Меня обманывали дети… – ПГ 1, с. 226; в предпоследней строке явная опечатка: «Стоит» вм. «Стоишь». АКП (Box 8, Folder 147) – посвящение Р. Гулю.
С. 236 . На нашем маленьком вокзале… – ПГ 1, с. 227. АКП (Box 3, Folder 94) – дата 2.VI.1961.
С. 236 . Для последнего парада… – Новый журнал, 1961, № 65, с. 62, как первое стихотворение цикла Калифорнийские стихи, с разночтениями:
с. 3:Легкий крейсер из Кронштадта
с. 7:
Гроб к нему плывет, качаясь,
с. 18:
Сколько звезд и сколько стран, —
с. 23-28:
Будут волны торопливо
Мчать безмолвную корму —
Там проходят мимо, мимо
Берега и острова, —
Голубые пятна дыма,
Сон, намеченный едва.
– Содружество, с. 254, с разночтениями: с. 4:
Входит в незнакомый порт.
с. 18:
(Сколько звезд и сколько стран!),
– ПГ 1, с. 228.
Из стихов, не вошедших в книги
С. 241 . Твои миндалевые очи… – Сполохи, 1922, № 7, с. 2.
С. 242 . Ты ль коса моя, кудрявая коса… – Деревня в русской поэзии, с. 92.
С. 242 . Похвальба. – Деревня в русской поэзии, с. 93.
С. 243 . Куманек. – Сполохи, 1922, № 6, с. 3, с делением на четверостишия, с разночтениями:
с. 18:
Онемевшая от страха,
с. 20:
На знакомую рубаху.
– Деревня в русской поэзии, с. 94.
С. 243 . Метель. – Деревня в русской поэзии, с. 95.
С. 244 . Сеновал. – Деревня в русской поэзии, с. 96.
С. 245 . Похмелье. – Накануне, 1923, 23 сент. (№ 442), с. 7.
С. 245 . Стихи (I. Я себя не жалею давно…; II. Давно моей бессоннице знаком…). – Руль, 1928, 12 февр. (№ 2193), с . 2.
С. 246 . Измена. – Руль, 1928, 26 февр. (№ 2205), с . 2.
С. 247 . Я не ищу с врагами примиренья… – Руль, 1928,25 марта (№ 2229), с . 2, как второе стихотворение цикла Ямбы.
С. 247 . Бегство. – Руль, 1928, 1 апр. (№ 2235), с . 2.
С. 250, 251 . Уже в постели, отходя ко сну…; Я точно вывел формулу страстей… – Руль, 1928,6мая(№2262),с.2. АКП(Box7,Folder 126)-дата 25.IV.1937, вместо последнего четверостишия – два других:
Разъединясь на мутных два ручья,
Она в кольцо сплетается за нами,
Мы пленники отныне, ты и я,
На этом острове, омытом снами —
Треща, будильник возвращает день,
Исполненный и праздности и скуки —
Какая теплая живая тень
Мне пожимает на прощанье руки.
С. 251 . Еще коплю для будущего силы… – Руль, 1928, 13 мая (№ 2268), с. 2, под заглавием Стихи. I.
С. 252 . Что знаешь ты об этой тишине?.. – Руль, 1928, 24 июня (№ 2302), с. 2.
С. 252 . Дождь. – Руль, 1928, 28 окт. (№ 2410), с. 2.
С. 253 . Мщение. – Руль, 1929, 20 янв. (№ 2478), с. 2.
С. 254 . Сквозь мирный быт – рассказы о былом… – Руль, 1929, 17февр. (№ 2502), с. 2.
С. 255 . Россия, Русь. Я долго не хотел… – Руль, 1929, 3 марта (№ 2514), с. 2.
С. 255 . Рыцарь на коне. – Руль, 1929, 30 июня (№ 2611), с. 2.
С. 256 . Крылья. – Руль, 1929, 18 авг. (№ 2653), с. 2.
С. 257 . На улице и мрак и мгла… – Руль, 1930, 16 февр. (№ 2805), с. 2, как второе стихотворение цикла Ночные прогулки.
С. 258 . Январь и ночь. Но мостовая… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 1930.
С. 259 . Возвращение из Мюнхена. – АКП (Box 7, Folder 119), с датой 1931. В с. 16 и 18 не зачеркнуты варианты: «Несется к пропасти она», «Я к солнцу поднимаю взгляд».
С. 259 . Недомоганья легкий бред… – Современные записки, 1933, № 51, с . 184-185, как второе стихотворение цикла Стихи о моем столе. АКП (Box 4, Folder 109) – дата 1931.
С. 260 . Кто я? Студент средневековый… – АКП (Box 7, Folder 120), с пометкой «Берлин» и датой 17.II.1932.
С. 261 . Скрипачка. – АКП (Box 7, Folder 123) – машинопись с датой 19.IX. 1934, рукопись с пометкой Нины Корвин-Пиотровской «Берлин 7, 8 октябрь 34». В рукописи разночтения:
с. 23-24:
Все сокрушая, все ломая,
Играет гибель в два смычка.
АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Берлин 10. 10. 34».
С. 262 . Да будет так. Пусть не увижу… – АКП (Box 7, Folder 116). Текст рукой Нины Корвин-Пиотровской – Box 7, Folder 134, с датой 31.III.1937. Машинописный текст с той же датой – Box 7, Folder 126, без пробела между с. 4 и 5, с разночтением:
с. 6:
Просить заемного огня, —
С. 262 . Пегас. – Новый журнал, 1955, № 40, с. 92, как первое стихотворение цикла Из ненаписанного дневника. Более обширный вариант, без названия и деления на четверостишия – АКП (Box 7, Folder 118), с датой 28.IV.1937. Разночтения:
перед с. 1:
Мы глинистого косогора
Осилить долго не могли;
Орудия едва ползли,
Четвертое пристало скоро.
с. 3:
Шуршали листья меж корней
с. 5-6:
Земля томилась и грустила,
За лесом двигались дожди.
с. 9-11:
Взвились прицельные шрапнели,
Расхлопываясь на дымки, —
И вверх всползли воротники,
после с. 12:
Все беспокойнее и чаще
Осколки сыпались вокруг,
Все радостнее был испуг,
И сердце замирало слаще.
с. 14-16:
И выдых каждого жерла,
Ружейный треск и скрип седла
В слова и ритмы облекала.
с. 17-19:
И полон музыки тревожной,
Я заблудился в нежных снах,
Легко качнулся в стременах
с. 23:
И жаркой сталью обожгла
АКП (Box 4, Folder 109) – с пометкой «Берлин».
С. 263 . Черемуха. – АКП (Box 7, Folder 118), после предыдущего стихотворения, под номером 2. Шенкель (нем.) – обращенная к коню часть ноги всадника, служащая для управления.
С. 264 . Измена. – АКП (Box 7, Folder 118), после предыдущего стихотворения, под номером 3.
С. 265 . Прости-прощай, счастливый путь… – АКП (Box 7, Folder 126), с датой 25.IV.1937.
С. 266 . Черт ли с нами шутки шутит… – АКП (Box 7, Folder 118), с датой 27.IV1937.
С. 267 . Романс (Молчи, цыганская гитара!..). – АКП (Box 7, Folder 126), с датой 1.V.1937. АКП (Box 4, Folder 109) – под названием Гитара, с той же датой. Возможно, первый вариант стихотворения Вздуваю угли, воду грею…
С. 268 . Пройди сквозь муки и обиды… – АКП (Box 7, Folder 126), с датой 3.VII.1937.
С. 268 . Треск и грохот, дым фабричный… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 4.VII.1937.
С. 269 . Вздуваю угли, воду грею… – АКП (Box 3, Folder 98), с датой 6.VII.1937 и пометкой «Берлин».
С. 269 . Поэзия, безволье, разложенье… – АКП (Box 4, Folder 109), с пометкой «Париж» и датой 25.II.1937.
С. 270 . Походкой трудной и несмелой… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 11.II.1938.
С. 270 . Такая правда не терзает… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 16.IV1941.
С. 271 . Шуршит, ползет, неуловимым телом… – АКП (Box 7, Folder 121), с датой 16.IV1941.
С. 271 . О родине последние слова… – АКП (Box 7, Folder 121), с датой 17.IV1941. Незачеркнутые варианты:
с. 7:
Исполнены условия и сроки,
с. 9:
Татарские глухие времена, —
С. 272 . Противоречий не ищи… – АКП (Box 7, Folder 121), с датой 17.IV1941.
С. 272 . Впервые я узнал желанье… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 10.V1943. АКП (Box7, Folder 134) – дата 10.IV1943.
С. 272 . Ты нежности просила у меня… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 12.IV1943.
С. 273 . Я освещен закатом бурным… – АКП (Box 7, Folder 139), с датой 12.IV1943.
С. 274 . Шурша, коляска подъезжала… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 12.IV1943.
С. 275 . Атом. – АКП (Box 7, Folder 139), помещено среди стихов 1943 года. Виши – французская минеральная вода.
С. 276 . Русская. – АКП (Box 7, Folder 139), помещено среди стихов 1943 года.
С. 277 . Зажал на черный день копейку… – АКП (Box 4, Folder 109), с пометкой «Fresnes».
С. 277 . Мой город. – АКП (Box 4, Folder 109), с пометкой «Fresnes
44».
С. 278 . Под пальмой на песке горячем… – АКП (Box 4, Folder 109), с пометкой «октябрь 44».
С. 279 . Ева. – АКП (Box 7, Folder 122), с датой 1944. Там же другие варианты.
С. 279 . Освобожденья от другого… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 14.ХП.1945.
С. 280 . У девочки прелестные глаза… – АКП (Box 4, Folder 109), с датой 24.VII.1946.
С. 280 . Опавший лист, скамью сырую… – АКП (Box 7, Folder 121), с датой 28.VIII.1947.
С. 280 . Как весело он бьет мячом… – АКП (Box 4, Folder 108), с датой 13.I.1950.
С. 281 . Пан Юрий. – АКП (Box 8, Folder 150). В черновике дата 25.VII.1955. Юрий (Ежи) Мнишек (ок. 1548-1613) – сандомирский воевода, отец Марины Мнишек. Поездка его с Мариной в Москву относится к 1606
году.
С. 283 . Подснежником белым и клочьями снега… – АКП (Box 8, Folder 150). Как и другие стихотворения о Самозванце и Марине Мнишек, видимо, написано во второй половине 1950-х годов. В рукописи незачеркнутые варианты:
с. 4:
Привычно бранят короля.
с. 17-19:
Для женского сердца, для рыцарской славы
Дороги у нас широки,
Недаром штурмуют предместья Варшавы
Александр Корвин-Гонсевский (конец XVI в. – 1639) – польский вельможа, комендант московского Кремля в 1610-12 годах. Лев (Леон) Сапега (1557 – 1633) – дипломат Речи Посполитой, выступал против авантюры Самозванца, однако принял в ней участие.
С. 284 . Астронавт. – АКП (Box 4, Folder 108), с датой 3.VIII.1955.
С. 285 . Когда-то мельница стучала… – АКП (Box 7, Folder 121), с датой 4.II.1956.
С. 286 . Я, засыпая, плащ дорожный… – АКП (Box 7, Folder 137), с датой 4.III.1956. Там же более обширный вариант с той же датой и с разночтениями:
перед с. 1:
Географическая сетка, —
Но каждый параллельный круг —
Ступень иль четкая заметка
В движеньи с севера на юг.
между с. 4 и 5:
Так плотно к сердцу присосалась,
Таким наростом приросла, —
В такие омуты бросалась —
И не могла, и не могла —
с. 7:
Безмолвный крейсер из Кронштадта
с. 16:
В огромный расправляет день.
Там же вариант без даты:
Что делать мне в великолепьи
Чужих дворцов и площадей?
Мои надменные отрепья
Пугают каменных людей.
Железные решетки сада
Полощутся в ночной волне,
Высокий крейсер из Кронштадта
Подходит медленно ко мне.
Под ветром бьется вымпел косо,
Морская пена брызжет в лоб, —
Неторопливые матросы
Мой легкий подымают гроб.
Воды и времени теченье,
Шаги и вздохи на мосту, —
Возврат, большое возвращенье
В разлуку, в молодость, в мечту.
В АКП (Box 3, Folder 100) этот вариант помечен датой 9.V.1958 и помещен среди материалов к поэме Ночная прогулка. Все эти тексты связаны с ключевым для поэта стихотворением Для последнего парада… и, по-видимому, представляют собой его ранние редакции.
С. 287 . Я сердце опустил в сосуд… – АКП (Box 7, Folder 137), с датой 6.XII.1956.
С. 287 . На холмике под свежей елью… – П, с. 59, первое в разделе Стихи о России.
С. 288 . Мы едем на рыбную ловлю с утра… – АКП (Box 8, Folder 147). К рукописи приложено письмо [Роману Гулю]:
...
Дорогой Роман!
Я не уверен в качестве этого стиха. Решай сам, и в случае чего – без сожаления отправь его в корзину.
Владимир
АКП (Box 3, Folder 94) – дата 1.VI.1961 и пометка «Los Angeles».
С. 288 . Мятеж. – АКП (Box 8, Folder 145), с несколькими не зачеркнутыми вариантами и пометкой «14/ III62 L. Angeles».
С. 289 . Горами отраженный звук… – АКП (Box 8, Folder 145), среди стихотворений 1962-63 годов.
С. 290 . Вот ласточка с оторванным крылом… – АКП (Box 8, Folder 145), с датой 3.III.1963.
С. 290 . Безумец, ересью прельщенный… – АКП (Box 4, Folder 108), без даты.
С. 291 . Усталость. – АКП (Box 4, Folder 108), без даты.
С. 292 . Он тебя одарил дорогими каменьями… – АКП (Box 4, Folder 109), без даты. Текст рукой Нины Корвин-Пиотровской, почти без пунктуации.
С. 292 . Бьет полночь колокол соборный… – АКП (Box 4, Folder 109), без даты.
С. 293 . Лорелея. – АКП (Box 4, Folder 109), без даты.
С. 293 . Я ночью площадь городскую… – АКП (Box 4, Folder 109), без даты. В с. 7 речь идет о берлинской статуе Победы в парке Тиргартен.
С. 294 . Романс (Дверь на ключ, от глаз нескромных…). – АКП (Box 7, Folder 121), без даты. Возможно, пропущена строка.
С. 294 . Двенадцать пробило, соседи уснули… – АКП (Box 7, Folder 121), без даты, почти без знаков препинания. В конце строка «На горле жгутом простыня» – возможно, завершение текста.
С. 295 . Уже не странные стеченья… – АКП (Box 7, Folder 121), без даты.
С. 296 . Каким огромным напряженьем… – АКП (Box 7, Folder 121), без даты.
С. 296 . Закат, закат. Мой тихий сад… – АКП (Box 7, Folder 121), без даты.
С. 297 . Сегодня море не шумит… – АКП (Box 7, Folder 122), без даты. Незачеркнутый вариант с. 2:
Над молом пена не стекает
С. 297 . Надышал звезду живую… – АКП (Box 7, Folder 122), без даты.
С. 298 . Если вечер в доме, если… – АКП (Box 7, Folder 122), без даты. Слова «заметней» и «подкрашенного» в с. 17-18 восстановлены по черновику.
С. 299 . Акапулько. – АКП (Box 7, Folder 122), без даты. Акапулько – город-курорт в Мексике, на берегу Тихого океана,
С. 299 . День разгорался над туманами… – АКП (Box 7, Folder 122), без даты. Слова «рдяными» в с. 3 и«древле»вс. 11 восстанавливаются по черновику.
С. 300 . Леди. – АКП (Box 7, Folder 122), без даты.
С. 301 . Зимняя прогулка. – АКП (Box 7, Folder 129), без даты.
С. 301 . Знать не хочу – ни рифмы, ни размера… – АКП (Box 7, Folder 131), без даты. Публикуется по машинописи, слово «домашним» восстановлено по черновику. Тема стихотворения – евангельская история о воскрешении Лазаря.
С. 301 . Эпитафия. – АКП (Box 7, Folder 137), без даты, с пометкой рукой Нины Корвин-Пиотровской: «Это написано, по-видимому, в Париже».
II. Поэмы
Четыре поэмы – Золотой песок, Поражение, Ночная прогулка, Возвращение – писались в 1950-е годы в Париже (Поражение, видимо, начато еще в Берлине). Корвин-Пиотровский вложил в них много труда: в его тетрадях (АКП, Box 3, Folder 99, 100; Box 4, Folder 102, 106, 107; Box 7, Folder 143) сохранилось множество черновых вариантов и отброшенных строф. От поэм, видимо, «отпочковались» некоторые лирические стихотворения – и наоборот, некоторые стихотворения были включены в поэмы. Здесь тексты публикуются по окончательной редакции, зафиксированной в ПГ 2.
С. 305 . Золотой песок. – Новый журнал, 1956, № 46, с. 25-34, с разночтениями:
I, с. 23:
Но важен был походный шаг
II, с. 13:
Иль сонный крик на переправе, —
III, с. 10:
Блистательный пейзаж находит
IV, с. 19:
Тверь выбрана совсем некстати с. 24:
Но Кук мне выберет билет —
VII, с. 25, 27, 28
[нет курсива]
VIII, с. 28:
Или вступленье к монологу,
X, с. 22:
Иль просто облако без цели
– П, с. 7-19, с теми же разночтениями и еще двумя:
X, с. 19:
Волнисто пробегают ели
X, с. 21:
Платок или воздушный змей,
– ПГ 2, с. 9-18.I, с. 1: Кирик – имеется в виду Виктор Якерин (см. предисловие). IV, с. 24: Кук – известное западное агентство путешествий. IX, с. 1: Александр Гингер (1897-1965) – эмигрантский поэт, муж Анны Присмановой, знакомый Корвин-Пиотровского; с. 5: Роман Гуль (1896-1986) – эмигрантский писатель, друг Корвин-Пиотровского; с. 6: Марк Слоним (1894-1976) – эмигрантский писатель. X, с. 16: Под небом европейской ночи… – вероятно, отсылка к знаменитому циклу В. Ходасевича «Европейская ночь».
С. 315 . Поражение. – Новый журнал, 1958, № 53, с. 12-21, без части «Вместо вступления» и главки 10 («Шумит гражданская гроза. . .»), с опечаткой в главке 7 (вместо с. 12 повторена с. 11), в остальном без разночтений. «Вместо вступления» опубликовано под названием Русалка как второе стихотворение цикла Из ненаписанного дневника – Новый журнал, 1955, № 40, с. 93-94, с делением на четверостишия, с разночтениями:
с. 5:
Что за примерная война!
с. 12:
Уныло обвисают шпоры —
– П, с. 20-33. – ПГ 2, с. 19-31. АКП (Box 3, Folder 98) – черновик «Вместо вступления», без названия, с пометкой «37. Berlin». В черновике вариант заглавия Ротмистр.
С. 326 . Ночная прогулка. – П, с. 34-42. – ПГ 2, с. 32-39.
С. 333 . Возвращение. – П, с. 43-55. – ПГ 2, с. 40-50. В черновиках имело несколько вариантов заглавия: Молчание; Возвращение (поэма о Хаиме). Беспечный свист и смех развязный… – В тексте ПГ явная опечатка: продажный вм. развязный. К тому же неточная рифма не характерна для позднего творчества В. К.-П).
III. Драматические поэмы
С. 345 . Беатриче. – Частично, под заглавием Беатриче: Отрывок из драматической поэмы: Руль, 1929, 17 марта (№ 2526), с. 2-3. Полный текст – Б, с. 5-112, с датами «8 ноября 1926 г. – 3 ноября 1928 г.». Драма была основательно переработана автором под конец жизни, см. рукописи в АКП (Box 3, Folder 89, 90; Box 8, Folder 147) и авторский экземпляр Б (Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, GEN MSS 56). Здесь печатается по переработанному варианту: ПГ 2, с. 53-137. Первый печатный вариант, имеющий определенное историко-литературное значение, публикуется в Дополнениях.
С. 424 . Король. – Руль, 1928,20 мая (№2273), с. 2-3; 22 мая (№ 2274), с. 2; 27 мая (№ 2279), с. 2-4; 3 июня (№ 2284), с. 2 , с подзаголовком «Драматическая поэма», без посвящения. – Б, с. 113-158. Печатается по переработанному варианту: ПГ 2, с. 139-172. Юрий Офросимое (1894-1967) – эмигрантский писатель, близкий друг Корвин-Пиотровского.
С. 456 . Смерть Дон Жуана. – Руль, 1928, 22 янв. (№2175), с. 2-4; 24 янв. (№ 2176), с. 2-3, с подзаголовком «Драматическая поэма», без посвящения. – Б, с. 159-186. Печатается по переработанному варианту: ПГ 2, с. 173-194.
С. 476 . Ночь. – Руль, 1928, 10 июня (№ 2290), с. 4 , под заглавием Перед дуэлью, с подзаголовком «29 января 1837 г.». – Б, под заглавием Перед дуэлью, с. 187-194. Печатается по сильно переработанному варианту: ПГ 2, с. 195-200. Рукописи – АКП (Box 3, Folder 97; Box 7, Folder 143).
С. 482 . Бродяга Глюк. – Новый журнал, 1953, № 32, с. 117-125. – ПГ 2, с. 201-215. Черновая рукопись – АКП (Box 7, Folder 143). Машинопись с исправлениями – АКП (Box 4, Folder 105), с пометкой: «1934-1947, Берлин-Париж».
IV. Дополнения
С. 499 . Беатриче. – Печатается по изданию 1929 г.
С. 579 . [Шуточная пьеса]. – АКП (Box 8, Folder 148), с пометкой «Написано в San Jose». Дата – вероятно, 1962 или 1963. К тексту приложена копия письма с пометкой «Дукельскому»:
...
Дорогой Владимир Александрович,
Во-первых, сердечно благодарю Вас за Вертера, который молодеет не по дням, а по часам, чего и Вам желаю.
Памятуя о Ваших именинах, от души поздравляю Вам [sic] и прошу передать такое же искреннее поздравление Владимиру Федоровичу, который мне упорно не пишет.
Исполняя свое обещание, прилагаю здесь копию с неопубликованной сцены (несомненно из Бориса Годунова, хотя имя царя и не указано, но ни царь Никита, ни царь Салтан сюда не подходят, ибо в сцене фигурирует историческое лицо, именно – князь Шуйский). Надеюсь, что эта моя находка обогатит Пушкиниану и (заодно) обессмертит (наконец) мое имя. Прошу читать с подобающим уважением.
Дукельский Владимир Александрович (1903-1969) – русско-американский композитор и поэт, автор популярных музыкальных комедий, писавший под псевдонимом Вернон Дюк (Vernon Duke); знакомый Корвин-Пиотровского. Речь в письме идет о его книге стихов Страдания немолодого Вертера (1962). Владимир Федорович Марков (р. 1920) – русско-американский славист и поэт, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе; опубликовал «Трактат об одностроке» (1963) и сам писал одностроки (моностихи). Юрий Константинович Терапиано (1892-1980) – эмигрантский поэт, литературный оппонент Корвин-Пиотровского и Дукельского. Вагнер, Дерюгин, Вячеслав Хрущев (Хрущов), Сергей Кожин, Илларион Воронцов-Дашков – знакомые и друзья семьи Корвин-Пиотровских в Лос-Анджелесе. Владислав Валентинович Эллис (1913-1975) – поэт-эмигрант второй волны, живший в Калифорнии.
С. 583 . Казак. – Набоков В. В., Стихотворения (СПб.: Академический проект, 2002), с. 512 («Новая Библиотека поэта»). Шуточное палиндромическое стихотворение, сочиненное, видимо, коллективно Корвин-Пиотровским и Набоковым. Нами внесено очевидное уточнение в третьей строке.
Примечания
1
В «Каменном госте» Пушкин (до него и другие) привел дон-Жуана перед его гибелью к вдове (донна-Анна).
Рассуждая отвлеченно, дон-Жуан мог бы погибнуть и в другом положении, напр. у Лауры (там ведь тоже произошла дуэль). Почему же именно вдова оказалась последним увлечением дон-Жуана? Не потому ли, что Пушкин (скажем просто поэт) чувствовал, что из всех женщин, в плане метафизическом, вдова является существом особым? Что она уже в себе самой носит отраженный свет смерти?
Т. е. раз речь идет о каком-то трагическом столкновении двух миров («двух бездн»), то вдова как бы является живой связью между этими мирами, живой носительницей того начала, которое оба эти мира проникает. Потому (для дон-Жуана) особая и «влекущая сила» с особой полнотой воплощена именно во вдове. Я уверен, что Пушкин не думал об этом, но также уверен, что образ донны-Анны-вдовы – не случаен в творчестве. Тут было что-то «подсознательное».
Я сначала написал стихи, а потом уже вспомнил о Пушкине, но, думается мне, Пушкин подтверждает правильность моей «установки».
Из письма В. Л. Корвин-Пиотровского жене.
2
В тексте сборника явная опечатка: Гвидо.
3
Обширные литературные связи Корвин-Пиотровского отражены в его архиве (Vladimir Korvin-Piotrovskii Papers, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, GEN MSS 598; далее – АКП). Среди его корреспондентов – Г. Адамович, Л. Алексеева, В. Андреев, Н. Андреев, А. Бахрах, Н. Берберова, Р. Блох,
A. Гефтер, А. Гингер, М. Горлин, Р. Гуль, В. Дукельский (Вернон Дюк), Б. Зайцев, Л. Зуров, Г. Иванов, Ю. Иваск, А. Ладинский, С. Маковский, В. Мамченко, B. Марков, Н. Набоков, Н. Оцуп, С. Прегель, А. Присманова, С. Рафальский, О. Савич, Г. Струве, Ю. Терапиано, Тэффи, В. Ходасевич, М. Цетлин, С. Шаршун и др.
4
Владимир Корвин-Пиотровский, Поздний гость, т. I – II (Вашингтон: Victor Kamkin, Inc., 1968-69).
5
Татьяна Фесенко. «Памяти большого поэта», Новое русское слово, 15 апреля 1966 (перепеч.: Поздний гость, II, 232-234); К. Померанцев, «Вл. Корвин-Пиотровский и его поэзия», Русская мысль, 9 июня 1966 (Поздний гость, II, 235-240); Глеб Струве, «Памяти В. Л. Корвин-Пиотровского», Русская мысль, 11 июня 1966 (Поздний гость, II, 241-245); Роман Гуль, «В. Л. Корвин-Пиотровский», Новый журнал, 83 (1966), 290-293 (Поздний гость, II, 246-248); Ю. Офросимов, «Памяти поэта», Новый журнал, 84 (1966), 68-90 (Поздний гость, II, 249-270); Вяч. Завалишин, «Переоткрытие поэта», Новое русское слово, 4 августа 1968; Ю. Терапиано, «Новые книги», Русская мысль, 12 сентября 1968; Сергей Рафальский, «Демоны глухонемые», Новое русское слово, 20 апреля 1969; О. Можайская, «Полуночная душа», Возрождение, 207 (1969), 122-125; «\'Позднийгость\', том II», Возрождение, 213 (1969), 125-128; Валерий Перелешин, «Живое творчество распада», Грани, 73 (1969), 201-205; В.В. [рец. на \'Поздний гость\', т. II], Часовой, октябрь 1969; Merril Sparks, «Pozdny gost’», New York Poetry, 1 [1969?], 8-10; AleksisRannit [рец. на \'Поздний гость\', т. I], The Slavic and East European Journal 3 (1970), 361-363; Валерий Перелешин, «Элегия и эпопея», Новое русское слово, 5 марта 1972; Борис Нарциссов, «Поздний гость», Новый журнал, 107 (1972), 277-279; Валерий Блинов, «Поэтическая реальность Вл. Корвин-Пиотровского», Новый журнал, 138 (1980), 42-19.
6
Набоков утвреждал, что Корвин-Пиотровский – «удивительно одаренный поэт». См. Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе, сост., предисл., коммент, подбор иллюстраций Н. Г. Мелникова (Москва: Независимая газета, 2002), 596.
7
См. хотя бы Строфы века (Минск-Москва: Полифакт, 1995), 207-209; «Мы жили тогда на планете другой…»: Антология поэзии русского зарубежья, 1920-1990 (Первая и вторая волна), в 4 т. (Москва: Московский рабочий, 1995), кн. 1, 320-332.
8
Владимир Корвин-Пиотровский, «Смерть Дон Жуана», «Ночь», предисл. иподгот текста Е. Витковского, Современная драматургия, 2 (1990), 214-227.
9
Александр Бахрах, По памяти, по записям: Литературные портреты (Париж: La Presse Libre, 1980), 165.
10
Офросимов, op. cit, 259.
11
Ibid. Г. Адамович в письме к Ю. Иваску от 17 апреля 1960 отмечает: «Пиотровский (с самолюбованием)». См. «Сто писем Георгия Адамовича к Юрию Иваску (1935-1961)», публ. Н. А. Богомолова, Диаспора: Новые материалы, вып. 5 (Париж-Санкт-Петербург: Athenaeum-Феникс, 2003), 536. Ср. неприязненные замечания Иваска, который встретился с Корвин-Пиотровским по совету Адамовича: «Корвин-Пиотровский – громко звучащая фамилия, не настоящая. Маленький, носатый, юркий – из Гомеля, Могилева… Манерный шут […] все суета, еврейско-иронический смешок» (запись 18 июня 1960). Н. А. Богомолов, ред., «Проект Акмеизм\'», Новое литературное обозрение, 58 (2002), 165. О возможном еврейском происхождении поэта см. письма Ю. Терапиано В. Маркову в кн. Минувшее. Т. 24. С.-Петербург: Феникс, 1998. Следует заметить, что еврейские мотивы, хотя и не частые в творчестве Корвин-Пиотровского, присутствуют в его поэме «Возвращение» и ненапечатанном стихотворении «День разгорался над туманами…».
12
К. П.[омеранцев], «Поражение» [рец.] Мосты, 4 (1960), 327.
13
АКП, Box 9, Folder 182.
14
О математических способностях Корвин-Пиотровского см. Офросимов, 254.
15
Частное сообщение сына поэта Андрэ де Корвина (André de Korvin), профессора математики в Хьюстоне (Техас).
16
Офросимов, 251-252.
17
Роман Гуль, op. cit, Поздний гость, II, 246. Матвей Корвин, занимавший престол в 1458-1490, был одним из наиболее выдающихся средневековых властителей Венгрии; в частности, он установил дипломатические отношения с Русским государством.
18
Бахрах, op. cit, 162.
19
Офросимов, 259. Имеются в виду полулегендарный герой IV в. до н. э. Марк Валерий Корв, воевавший с этрусками, самнитами и др., и консул времен Октавиана Августа – Марк Валерий Мессалла Корвин, друг Горация, покровитель Тибулла и Овидия.
20
Ср., напр., Бахрах, 161-162; Юрий Терапиано, Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974) (Париж – Нью Йорк: Альбатрос – Третья волна, 1987), 239.
21
В АКП (Box 1, Folder 7) сохранилась копия письма Корвин-Пиотровского к Бетцендерфер (б. д.), связанного с поисками Якерина.
22
См. упомянутое письмо, а также письмо (б. д.) Корвин-Пиотровского к Роману Гулю (Roman Gul\' papers, Beinecke Rare Book and Manuscript Pibrary, Yale University, GEN MSS 90, Box 8, Folder 173).
23
Вероятно, именно «Кирик» в 1920-е годы сотрудничал в Красной нови и Новом мире: именем Виктора Якерина подписаны не лишенная юмора статья «Об использовании имени Ленина» (Красная новь, 9(1925), 280-281), рецензия на «Донские рассказы» Шолохова (Новый мир, 5 (1926), 187) и др.
24
Вл. Корвин-Пиотровский, «Автобиографическая справка», Поздний гость, II,217; впервые опубликовано в сборнике Содружество (Вашингтон: Victor Karnkin, Inc., 1966), 527.
25
Гуль, 246.
26
Частное сообщение Андрэ де Корвина.
27
«Автобиографическая справка». Это утверждение повторяется в большинстве опубликованных биографий Корвин-Пиотровского.
28
Гуль, 246-247.
29
Биограф Набокова Эндрю Филд говорит, что Набоков считал военные истории Корвин-Пиотровского выдумками. Он же утверждает, что Корвин-Пиотровский мог послужить одним из прототипов Смурова, героя набоковской повести «Соглядатай» (которого, как известно, ловят на «мифотворчестве», связанном с участием в гражданской войне). См. Andrew Field, Nabokov: His Life in Part (New York: The Viking Press, 1977), 166; он же, VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov (New York: Crown Publishers, Inc., 1986), 137. Ср. еще E. Каннак, «Памяти поэта», в ее кн. Верность: Воспоминания, рассказы, очерки (Paris: YMCA-Press, 1992), 244.
30
Копия письма сохранилась в АКП (Box 2, Folder 64).
31
Роман Гуль, Я унес Россию, I (Москва: Б.С.Г.-Пресс, 2001), 115, 172,257; II, 169; Field, Nabokov: His Life in Part, 165-166.
32
Офросимов, 251.
33
Копия письма – в АКП (Box 2, Folder 64). Здесь и в некоторых других письмах нами исправлены мелкие пунктуационные неточности. Ср. Каннак, op. cit, 243-244. Гротескную историю о приключении Корвин-Пиотровского – шофера приводит Набоков в письме к Эдмунду Вильсону (20 января 1945), см. Simon Karlinsky, ed., Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov-Wilson Letters, 1940-1971, rev. and exp. ed. (Berkeley: University of California Press, 1979), 164-165.
34
Гуль, Я унес Россию, I, 182.
35
Офросимов, 262-263.
36
Письмо к сестре Людмиле 29 апреля 1931 (см. сноску 31).
37
Письмо к сестре Людмиле 4 июня 1931 (см. сноску 28).
38
См. Новая русская книга, 1922, 10, 32.
39
Karl Schloegel u. a., Chronik russischen Lebens in Deutschland, 1918-1941 (Berlin: Akademie Verlag, 1999), 96, 131-132, 173, 217-218, 223, 342, 346, 429, 432, 446; Amory Burchard, Klubs der russischen Dichter in Berlin 1920-1941: Institutionen des literarischen Lebens in Exil (München: Otto Sagner, 2001), 231, 234-235, 275.
40
Глеб Струве, «Из моих воспоминаний об одном русском литературном кружке в Берлине», Три юбилея Андрея Седых: Альманах 1982, 189-194; Schloegel, op. cit, 135.
41
Александр Долинин, «Доклады Владимира Набокова в Берлинском литературном кружке», Звезда 4 (1999), 8; Burchard, op. cit., 233-234.
42
«Автобиографическая справка».
43
Ср. Офросимов, 256: Есенина и Клюева Корвин-Пиотровский «в те времена и знать [ … ] не мог уже потому, что очень мало читал, не выходя из своего “круга чтения"». Это утверждение сомнительно. С Есениным поэт был знаком и присутствовал на его берлинском вечере (см. Гуль, Я унес Россию, 206).
44
Офросимов, 261-262.
45
Сборник «Полынь и звезды» рецензировался в Новой русской книге (22 февраля 1922), Новом времени (22 апреля 1923) и др.; «Святогор-скит» в Днях (29 июля 1923); «Каменная любовь» во Времени (17 ноября 1924), Руле (26 ноября 1924), Сегодня (13 декабря 1924) и др.
46
Офросимов, 252.
47
К. Мочульский, «Полынь и звезды», Звено, 9 (1923), 3.
48
Н. Смирнов, «На том берегу», Новый мир, 6(1926), 141. В отзыве эмигранта, подписывавшегося «Ренэ Санс», Корвин-Пиотровский был объявлен «юродствующим во славу III интернационала версификатором» и «рыжим чекистом», при этом живущим в России. См. Ренэ Санс [К. Я. Шумлевич], «Каменная любовь», Новое время (2 ноября 1924).
49
Офросимов, 257-258.
50
Ibid., 256.
51
Глеб Струве, «Памяти В. Л. Корвин-Пиотровского», Поздний гость, II, 242.
52
Ср. ibid.
53
В первом номере «Веретеныша» есть шарж на Пиотровского, сделанный С. А. Залшупиным.
54
В АКП (Box 2, Folder 44) хранится письмо Корвин-Пиотровского к Савичу (2 июля 1927), касающееся получения гонорара из СССР с помощью В. Лидина и Н. Тихонова.
55
См. Энциклопедия фантастики: Кто есть кто, под ред. Вл. Гакова (Минск: Галаксиас, 1995), 260-261.
56
Об этом литературном объединении см.: Е. Каннак, «Берлинский кружок поэтов (1928-1933)», Русская мысль, 25 марта 1971, «Берлинский “Кружок поэтов"» (1928-33)», Русский альманах, 1981, 363-366; Burchard, op. cit., 239-283; Thomas Urban, Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre (Berlin: Nicolai, 2003), 212-225.
57
Согласно биографу, который ссылается на письмо Набокова к матери, Набоков впервые встретил Корвин-Пиотровского в Клубе поэтов в 1928 году после пятилетнего перерыва. Вначале он относился к нему с недоверием, памятуя о его «сменовеховском» прошлом, но вскоре оба писателя сблизились. См. Brian Boyd, Vladimir Nabokov: The Russian Years (Princeton, N. J.: Princeton University Press,1990), 277-278, 564.
58
Каннак, «Берлинский кружок…», Русская мысль, 25 марта 1971; Верность, 216, 244; Field, Nabokov: His Life in Part, 166; VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov, 137-138.
59
Бахрах , 161.
60
АКП (Box 6, Folder 113).
61
Клод Фаррер (1876-1957) – французский прозаик.
62
Об этой трагедии мы знаем только из протокола клуба. Кстати, именно ее, видимо, пародирует «Марта Фабриччио, трагедия» (там же).
63
Офросимов, 252. Ср. ироническое замечание Георгия Иванова в письме 25 января 1956: «Я не Корвин, что[бы] из кожи лезть, чтобы поражать всякими "чеканками"». Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Роман Гуль, Тройственный союз (Переписка 1953-1958 годов), публ., сост., коммент. А. Ю. Арьева и С. Гуаньелли (СПб.: Петрополис, 2010), 318.
64
Бахрах, 163. Андрэ де Корвин утверждает, что его отец ценил Ходасевича весьма высоко. После смерти Ходасевича Корвин-Пиотровский написал о нем доклад, прочитанный на вечере памяти русских поэтов в Париже 20 ноября 1948 года: см. Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни, 1940-1975, Франция, под общей ред. Л. А. Мнухина, т. I (5) (Париж: YMCA-Press, Москва: Русский путь, 2000), 278.
65
Офросимов, 258.
66
Ibid.
67
В. Сирин, «“Беатриче" В. Л. Пиотровского», Россия и славянство (11 октября 1930); перепеч.: Владимир Набоков, Собрание сочинений в пяти томах: Русский период, т. III (Санкт-Петербург: Симпозиум, 2000), 681-684. Ср. также Ю. Офросимов, «Беатриче», Руль, 17 апреля 1929.
68
Ей было также посвящено стихотворение «Тени под мостом» (1928).
69
См. цитированное письмо от 29 апреля 1931.
70
См. Каннак, «Памяти поэта», 246.
71
Ibid.
72
Владислав Ходасевич, Камер-фурьерский журнал (Москва: Эллис Лак, 2002), 327-331. См . также Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни, 1920-1940, Франция, под общей ред. Л. А. Мнухина, т. III (Москва: Эксмо, 1996), 540, 563.
73
Ibid., 328.
74
Русское зарубежье…, т. III, 540. Ср. Валентин Булгаков, Словарь русских зарубежных писателей (New York: Norman Ross, 1993), 112.
75
Ср. письма К. Вильчковского к Корвин-Пиотровскому от 6 и 27 января 1947 (АКП, Box 2, Folder 59).
76
Ср. А. Звеерс, публ., «Письма И. А. Бунина к Г. В. Адамовичу», Новый журнал, 110 (1973), 169.
77
Ирина Одоевцева, На берегах Сены (Paris: La Presse Libre, 1983), 125-133. Воспоминания Одоевцевой, как известно, не слишком точны: достаточно сказать, что отъезд Цветаевой в них отнесен к лету 1938 года.
78
Терапиано, Литературная жизнь…, 133.
79
Офросимов, 265.
80
Ср., в частности: Ренэ Leppa , Они унесли с собой Россию: Русские эмигранты – писатели и художники во_Франции (1920-1970) (Санкт-Петербург: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2003), 307-308.
81
Ср. «Автобиографическаясправка»;Field, Nabokov: His Life in Part, 166. Документы об участии Корвин-Пиотровского в Сопротивлении, его пребывании в тюрьмах, тюремные записки и др. находятся в АКП (Box 9, Folder 182). Ср. еще рассказ об армянине-маляре, которого поэт спас в заключении – Гуль Р., «В. Л. Корвин-Пиотровский», 247.
82
См. также письмо Корвин-Пиотровского к Прегель (копия, б. д.) – АКП, Box 1, Folder 41.
83
Андрэ Фроссар (André Frossard, 1915-1995) – писатель-католик, член Французской Академии с 1987.
84
André Frossard, La maison des otages (Paris: Éditions duLivreFrançais, 1945), 115-116. Беллетристическая природа книги не дает уверенности в реальности всех описываемых событий. Так, Корвин-Пиотровский в ней назван татарским князем, не знающим немецкого языка. Впрочем, здесь нельзя исключить «мифотворчество» поэта, которое могло способствовать его выживанию в нацистской тюрьме.
85
Н. Берберова, Курсив мой: Автобиография, 2 изд., том II (New York: Russica, 1983), 513-514. Ср. Русское зарубежье…, т. I (5), 63.
86
Русское зарубежье…, т. I (5), 64.
87
Ibid., 265.
88
Офросимов, 264-266. В 1946 Корвин-Пиотровский с Романом Гулем собирались создать фильм о Мусоргском «La Chanson Fatale» («Роковая песня»). См. письмо от 30 мая 1946, Roman Gul\' papers, Box 8, Folder 170.
89
См., в частности, Русское зарубежье…, т. I (5), 70, 96, 101, 202, 227. Ср. Андрей Чернышев, ред., «“Этому человеку я верю больше всех на земле": Из переписки И. А. БунинаиМ. А. Алданова», Октябрь 3 (1996), 131.
90
Стихотворение опубликовано: Руль, 15 апреля 1928; перепечатано с изменениями: Советский патриот, 9 июня 1945, и в Поздний гость, I.
91
Ср. Герра , 318.
92
Roman GuP papers, Box 8, Folder 170.
93
Герра, 143-144.
94
Кирилл Померанцев, Сквозь смерть: Воспоминания (London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1986), 86. Ср. Русское зарубежье…, т. I (5), 374.
95
Русское зарубежье…, т. I (5), 66, 152-153, 187, 194, 229, 269, 278, 283, 382, 420, 522; т. II (6), 381, 394.
96
О «Воздушном змее» писали Н. Андреев (П. Тверской, «Полет по "ломаной кривой"», Грани, 12(1951), 168-169, перепеч.: Поздний гость, II, 221-222); Ю.Иваск, «Воздушный змей», Новый журнал, 25 (1951), 303. См. еще К. Вильчковский, «Литературные заметки о поэзии В. Корвин-Пиотровского», Возрождение, 53 (1956), 129-135, перепеч.: Поздний гость, II, 223-231. О «Поражении» писали Г. Адамович, «Стихи Вл. Корвин-Пиотровского», Новое русское слово, 10 апреля 1960, перепеч.: Поздний гость, II, 218-220; Ю. Офросимов, «Против течения», Новый журнал, 61 (1960), 154-159.
97
См., напр., Бахрах, 163.
98
Ср. в этой связи известные стихи Ходасевича «Не ямбом ли четырехстопным…».
99
См. G. S. Smith, „Stanza Rhythm in the Iambic Tetrameter of Three Modern Russian Poets," International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 24 (1981), 135-152.
100
Ср. Вильчковский, op. cit, 226.
101
Юрий Иваск, «Поэзия \'старой\' эмиграции», Русская литература в эмиграции: Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого (Питтсбург: Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского университета, 1972), 61.
102
В АКП сохранились также произведения «легкого жанра» – эпиграммы, наброски шуточной пьесы.
103
В письме к Роману Гулю от 22 апреля 1954 упоминается и о замысле романа (Roman Gul\' papers, Box 8, Folder 170).
104
Письмо от 14 августа 1955 (АКП, box 8, folder 39).
105
Офросимов, 249.
106
Видимо, поэт предполагал написать о них обширный цикл или даже поэму. В АКП (Box 8, Folder 145, Folder 150 и др.) сохранились многочисленные фрагменты, посвященные теме Самозванца. Иногда с этой темой связываются и другие романтические мотивы польской истории. Стихи о Самозванце и Марине хронологически предшествуют переезду Корвин-Пиотровского в США.
107
О последних днях и смерти поэта подробно говорится в письмах его вдовы к Офросимову (АКП, Box 2, Folder 77-78).


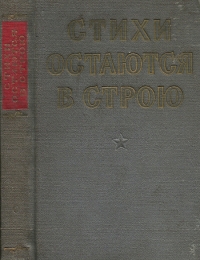


Комментарии к книге «Поздний гость: Стихотворения и поэмы», Владимир Львович Корвин-Пиотровский
Всего 0 комментариев