Глава первая ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Меня обступают друзья и подруги, Без них не сумел бы вести я рассказ О жизни и смерти, любви и разлуке, О трудной эпохе, взлелеявшей нас. В дорогу! Поставлена первая веха, Исчеркан пока только первый листок. Тридцатые годы двадцатого века — Моих «Добровольцев» далекий исток. В Москве ослепительно жаркое лето, Котлами асфальтными полдень дымится, И в небо над городом серого цвета, Меж белым и синим исчезла граница. На новый автобус глазеет Тверская, Сбегая под горку к Охотному ряду Еще без деревьев, еще не такая, Как нынче, — открытая сердцу и взгляду. «Лоскутной гостиницы» старое зданье Стоит на Манежной. Изгибами улиц Сюда пробираемся, как на свиданье, Бодрясь и робея, спеша и волнуясь. Здесь шахты контора. Толпа молодежи У входа гудит. Невтерпеж комсомольцам; Известно друзьям и родителям тоже, Что строить метро ты пришел добровольцем, А тут медицинский осмотр — вот досада! — Встает на пути. Волноваться не надо. Гостиничный номер и узок и душен, И в этом преддверии Метростроя На древний диван из потертого плюша Присели четыре еще не героя. Четыре юнца торопливо разделись Чего вы боитесь, признайтесь, ребята? У самого рослого оспа на теле, Как дождик оставила след рябоватый. Второй худосочен. Цыплячьи ключицы, И плечи сутулые — все как угроза, что он для подземных работ не годится и тело бело как весною береза. А третий могуч. Под пушистою кожей, Как камушки мускулы ходят покато. Сидит он спокойный, немного похожий На тех молодцов, что смеются с плакатов. Четвертым был я. Но не стоит об этом… Одним рождены мы Октябрьским рассветом. Для нашей души настоящая пытка Что мы не успели в амурские дали, Что домну без нас запустила Магнитка И на Днепрострой мы чуть-чуть опоздали. «Давайте знакомиться — Коля Кайтанов», — Назвался высокий. И тут же чуть слышен Худышка поведал как важную тайну Что он парикмахер — Алеша Акишин. А третий назвался Уфимцевым Славой, Высокий, широкий, крутой, неприступный. (До локтя на левой руке и на правой Сердца и Русалки наколоты крупно.) С путевкой Сокольнического райкома Пришел он, воспитанник детского дома. Чего ж пред осмотром ему волноваться? Возьмут непременно. Лишь глянут — и точка! А мы уже знаем, что парню семнадцать, И могут не взять: не хватает годочка. Акишин к врачу отправляется первым. Идет как на казнь, распрощавшись со всеми. И доктору ясно — расшатаны нервы И слабые легкие. Трудное племя! Короткое детство совпало с разрухой, Прошло по дорогам, историей взрытым, Макуху грызя, шелушась золотухой, С большой головой, с кривоногим рахитом. Осталось поставить лишь крест на анкете: Старик отобрать самых крепких обязан. Но, слезы в глазах пациента заметив, Смущается доктор и медлит с отказом. «Послушайте, юноша! Вам не под силу Такая работа. Я просто не вправе… Вернитесь на прежнюю службу, мой милый. Ну кто Вас такого-то в шахту направил?» «Я сам, понимаете, сам! Добровольно! Пустите под землю меня! Я здоровый!» И доктор перо отложил и невольно Задумался над незадачею новой. Он выслушал сотни сердец. Проходили Сквозь руки сухие и быстрые эти Шахтеры с отметами угольной пыли, Бежавшие в город кулацкие дети, Сезонники из Пошехонья и даже Искатели льгот и рабочего стажа. А нынче растрепаны и горласты, Пошли эти самые энтузиасты. «Вот странные люди! Зачем это надо Под землю, на самое трудное дело? С такими ни удержу нету, ни сладу! Жаль мы изучаем не душу, а тело». «Ступайте домой!» — «Не уйду, не просите!» «Ну, ладно, еще пожалеете сами… Я вам разрешаю, я просто вредитель… Теперь берегитесь: мы в сговоре с Вами!» «Спасибо, спасибо!» — И пулею к двери, Туда, где, нагие, на плюше потертом Сидим мы втроем, сомневаясь и веря, Гадая, что сделает доктор с четвертым. Кайтанов пошел на осмотр. Он спокоен, Как перед атакой испытанный воин. Первейший арбатский драчун и задира, Он полон достоинств и даже раздетый. (Мы сразу увидели в нем бригадира, И он, вероятно, почувствовал это.) А доктор все пишет свои заключенья, В старинной манере перо нажимая, Причин учащенного сердцебиенья, Пожалуй, как следует не понимая. Я позже узнал ощущенье полета, Но мы его в праздничный день испытали, Когда проходные открылись ворота И мы наконец-то шахтерами стали. Великое время заборов дощатых, Звезды автогенной и пыли цементной. В брезентовых робах проходят девчата, И наше волненье им слишком заметно. Осыпали смехом, как мелкою дробью, Но Коля на них посмотрел исподлобья — И только одна продолжала смеяться, Противясь какой-то неведомой силе, Опасной, когда тебе лишь 18. Была эта девушка широколица, Со вздернутой маленькой верхней губою, На острую шутку, видать, мастерица, Курноса, румяна, довольна собою. Сквозь этот веселый огонь, как в атаку, Мы шли вчетвером, улыбаясь неловко, Средь ящиков, бочек и рельсов к бараку, Где каждый по списку получит спецовку.Глава вторая МОСКОВСКИЕ ШАХТЕРЫ
Отчаянный первый набор комсомольский — Пока за душою одна лишь отвага. Спускаясь под землю по лестнице скользкой, Акишин чуть-чуть не сорвался, бедняга. Мгновенье одно — непременно бы рухнул! Он вскрикнул, и голос рассыпался звонко. Но вдруг он почувствовал жесткую руку, Его подхватившую, словно котенка. Никто из товарищей виду не подал, Что крик его слышал иль робость заметил. Вступив сапогами в подземную воду, Мы начали шлепать по лужам, как дети. Нас Коля Кайтанов повел за собою Как будто с рожденья знакомой дорогой. Когда мы уже подходили к забою, Столкнулся он с девушкой важной и строгой. Постой, не она ли над нами смеялась На шахтном дворе в окруженьи подружек? Отчаянно из под платка выбивались Кудряшки ее наподобие стружек. Кто мог бы подумать: она звеньевая И мы у нее в подчинении будем! Спокойно, как будто бы не узнавая, Как будто впервые увиденным людям, Она нам сказала: «Беритесь ребятки, Довольно гуляли, пора и за дело. Сначала используем вас на откатке». И нас это слово обидой задело: Ведь мы добровольцы, бойцы пятилетки! Нам горы ворочать — и этого мало! А тут полюбуйтесь — толкать вагонетки Насмешница эта нам всем приказала. Как будто уже изготовившись к драке, Уфимцев пошел ей навстречу по-бычьи. Но Коля Кайтанов в мерцающем мраке Стоял неподвижно — само безразличье, Начальнице бросив ехидное слово: «Мы, детка, на всякое дело готовы!» В ответ звеньевая, горда своей властью, Прикрикнула весело: «Хлопцы, дружнее!» На чье-нибудь горе, на чье-нибудь счастье На узкой дорожке мы встретились с нею. Всю смену мы так вагонетки катали Уфимцев со мною, Кайтанов с Алешей И легким нам труд показался вначале, И тяжесть породы — пуховою ношей. Где шахта расширена, около клети, Нас встретил один человек низкорослый. Держался он так, будто в шахте лишь дети, А он здесь, представьте, единственный взрослый. Приветливо щуря горячие глазки, Он буркнул: — «Орлы!» — и проследовал дальше. Но юность в такой не нуждается ласке, Легко отличая душевность от фальши. В ту ночь заместитель начальника шахты Запомнился новым шахтерам едва ли. По доскам настеленным, мокрым и шатким, Мы так до утра вагонетки катали — Туда и обратно, к стволу и забою. Кто первым нагрузит? Кто первым вернется? Не знал я, что небо видать голубое Со звездами ночью и днем из колодца. Там возле ствола, как при вечном рассвете, Наверх подавая звонки то и дело, Сидела сигнальщица в красном берете, Принцесса подземного царства сидела. В тяжелом резиновом комбинезоне, Она оставалась и тонкой и хрупкой И гладила, словно собаку, ладонью Большой телефон с неуклюжею трубкой. Таинственны эти наивные брови, Опасны ресниц осторожные взлеты… Напарник мой Слава стал сразу суровей, Как будто от новой внезапной заботы. И мы по причинам особого рода, Друг другу о них не промолвив ни слова, Спешили катить вагонетку с породой, Чтоб с этою девушкой встретиться снова. И смена у нас не прошла — пролетела. Но, выйдя опять вчетвером на поверхность, Мы все ощутили, как бродит по телу Усталость. Но так и должно быть, наверно. Однако она, как прибой, нарастала И шумом глухим наливалась нам в уши, И так нам тепло, так уютно нам стало В пропахшем сосновою свежестью душе! Мы в струи воды погружались, как в дрему, На миг удивившись потерянной силе, И, словно ко дну опускаясь морскому, В потоках вились, колыхались и плыли. На цыпочках, боком вошли в раздевалку. Где в шкафчиках нас ожидала одежда, И вышли на площадь, шагая вразвалку: Рабочие люди — народа надежда! Стоял у подъезда гостиницы старой И вслед нам смотрел сквозь очки роговые В квадратных штанах иностранец с сигарой, Москву посетивший, должно быть, впервые. Платком он протер окуляры от пыли. «Зачем при невежестве и бедноте их Весь город строительством разворотили? Что выйдет из их большевистской затеи?» А мы улыбались спокойно и гордо. Неся по Москве свое званье «рабочий» Не после победы, не после рекорда — Лишь после одной метростроевской ночи. Казалось нам, встречный любой и прохожий Узнает строителей с первого взгляда: Наверное, мы на героев похожи — Не просто четыре юнца, а бригада. Конечно, нам только мерещилось это, Однако прищуренным глазом за нами Следил из окна своего кабинета Тот карлик, что в шахте назвал нас орлами, Товарищ Оглотков. Еще и теперь я Понять не могу — говорю вам по чести, — Откуда в нем столько взялось недоверья, Прикрытого тонкою пленкою лести. Он думал: «Какие счастливые лица! А может они из враждебного класса? Хотят в пролетарском котле провариться? Но нет! Их не скроет рабочая масса». А мы уходили по улицам узким, Усталые, сонные, тихо шагали. Нам встретилась девушка в ситцевой блузке, И мы ее даже сперва не узнали. Такая прозрачность в чертах ее тонких — Огнем опалит или вьюгой закружит? И женщины строгость и робость девчонки, И что-то мальчишеское к тому же! Принцесса подземного царства! И Слава Зашел осторожным движением справа. «Куда вы спешите?» — «Иду за подружкой, Ее вы, наверное, знаете, Лелю?» «Позвольте, пожалуйста, взять вас под ручку!» «Какие вы быстрые! Ой, не позволю!» Сказала она, что зовут ее Машей И скучно одной ей в компании нашей. Конечно, гурьбою за Лелей зашли мы, Жила она рядом — на старой Волхонке. И долго бродили мы, смехом счастливым Звеня в нашей милой арбатской сторонке.Глава третья УДАРНАЯ БРИГАДА
Всю тяжесть работы не сразу узнали, — Такими мы были тогда молодыми, — Но руки и ноги чугунными стали, И, кажется, пуха с земли не подымешь. Но каждый не мог себе даже представить, Что в жизни дороги и легче бывают. Мрачнели Уфимцев, и я, и Кайтанов, Спецовки гремучие надевая. И только Акишин смеялся нескладно, Заметно храбрясь, суетился без толку. А Слава сказал: «Порезвился — и ладно. С весельем таким и заплакать недолго». Рабочая ночь бесконечной казалась, Как будто зимуем мы в Арктике где-то. Над нами, не зная про нашу усталость, Цвело и шумело московское лето. И мы удивлялись тому, что девчата, Как прежде смешливы, бодры и задорны. И, вытерев пот на щеках рябоватых, Кайтанов толкал вагонетку проворно. А рядом Акишин влачился по шпалам, Таким оказался настойчивым малым! Мы сразу привыкли в труде торопиться, Как бы возводя бастион перед боем, Как будто должны перегнать заграницу Сейчас же, вот здесь, где мы дышим и строим. И дни проносились, звенели, летели, Тягучей усталости не потакая, Сперва пятидневной рабочей неделей, Потом шестидневкой — была и такая. По-прежнему в шахте мы с Лелей и Машей Словесным турниром друг друга встречали: Еще не настала для юности нашей Пора беспокойной и светлой печали. Кайтанов мечтал о бригаде ударной, О славе рекордов, о громе победы. С ним часто донбасские крепкие парни Вели снисходительные беседы. Он слушал их, не замечая насмешек, И спрашивал, спрашивал, спрашивал снова. Видать, по зубам ему крепкий орешек, Насмешкой не сбить с панталыку такого! Уфимцев под землю спускался иначе: Играючи удалью, веря удаче, Казался он бронзовым рядом с Алешей, Сгибавшимся под непосильною ношей. А я выходил…. Но не будем об этом. Таким вдохновеньем дышали забои, Что должен был стать непременно поэтом Один из ребят под московской землею! Кайтанов на шахте стал общим любимцем, Когда комсомольскую создал бригаду. Его ревновали и я, и Уфимцев К улыбке парторга, к девичьему взгляду. Ходил он размашисто. Эту походку В толпе и сейчас отличу и узнаю. С откатки он нас перевел на проходку — Врубайся в породу, бригада сквозная! Мы пики стальные вонзали с размаха В девонскую глину. На досках учета, Где только недавно ползла черепаха, Взлетал высоко силуэт самолета, И каждая смена друзьям приносила Особую новость, открытье большое. Цвела наша юность и полнилась силой — С распахнутой курткой, с открытой душою. Теперь, те далекие дни вспоминая, Уйдя с головой в стихотворные строки, Признаться по чести, я так и не знаю, Что может быть в жизни чудеснее стройки, Где сутки делились не ночью и ранью, А первою сменой и сменой второю, Где шахта была для друзей как дыханье И даже важней, чем дыханье, порою. На век неразлучных нас было четыре, И столько нам счастья страна подарила, И столько нам горя готовилось в мире!.. Давненько, в тридцатых годах это было. Неслышно вползала в наш праздник весенний, Меняя окраску змея подозрений: Товарищ Оглотков в своем кабинете Ходил и ходил, потирая ладони. «Уж очень ретивы ударнички эти, Такие в момент обойдут и обгонят!» А мы пировали в ударной столовке Заметьте: столовке, никак не столовой. «Фартовый», «малина», «буза», и «шамовка» — Казалось чудесным нам сорное слово. При входе вручались нам вилка и ложка, При выходе мы отдавали их снова. Картошка с селедкой, селедка с картошкой — В то время мы блюда не знали другого. Но на небе утреннем нашем ни тучки. Как все замечательно, ясно, красиво! Хрустим мы червонцами первой получки И пьем жигулевское светлое пиво. Кайтанов подвыпивши, стал неуемным: «Айда покупать друг для друга подарки!» Детекторный тут же был куплен приемник. И галстук. Один. Неказистый и жаркий. (А галстуки были в то время не в моде, В конфликте с юнгштурмовкой полувоенной. Казались носители галстука вроде… Кого? Ну хотя б самого Чемберлена.) К себе в общежитье вернулись мы поздно, Но все ж натянули антенну на крышу. В прохладном бараке на Третьей Извозной Всю землю ребята хотели услышать.Глава четвертая ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
О дружбе писать я подробно не буду. Кайтанов с Уфимцевым, я и Акишин — Всегда вчетвером появляясь повсюду. Никто не унижен, никто не возвышен. В бараке своем за Москвою-рекою Друг с другом никто никогда не ругался. Но как-то под вечер случилось такое: Кайтанов надел наш единственный галстук. И зная, что сердце товарищей ранит, Нарушив порядок в сложившемся быте, Сказал нам: «Ребята, сегодня я занят». «А как же кино?» «Мой билет продадите!» Тут наш бригадир побелел как бумага. (Насколько я помню, краснеть не умел он.) Мы розно не делали раньше ни шага, Не первый ли шаг без товарищей сделан? И вот он уходит, боясь оглянуться. Походкой, что кажется легче полета. И песни у нас без него не поются, И нам ни о чем говорить неохота. А вечер чудесен. Застыла природа, Полна равновесья, покоя и меры, И только с химического завода Опять дуновение с привкусом серы. Но это ведь, может быть, горечь иная? Не знаю, не знаю… А с тихой Волхонки к Охотному ряду В вечерних лучах поднимаются двое. Торжественно, тихо идут они рядом Вдоль новых заборов, разрытой Москвою. На Леле короткое белое платье, Стянул ее волосы красный платочек. Обязан особо его описать я, Ему уделяя хоть несколько строчек. Он был подороже уборов богатых, Приметой эпохи, лоскут кумачовый, Короной рабфаковок и делегаток И маленьким знаменем женщины новой. А Коля шагает в отцовской кожанке Из старой потертой рассохшейся кожи. Ему, вероятно, в ней тесно и жарко, Но в том никому он признаться не может. Добавим наш галстук, повязанный крепко, И запонку, в шею вонзившую жало, И новую, с хлястиком кепку — И будет портрет дорисован, пожалуй. Свиданье! Конечно, то было свиданье! Но встреча влюбленных в тридцатые годы Немного боялась такого названья, В нем видя явленье дворянской природы. Идут они рядом дорогой знакомой. Охотный гремит в неустанной работе — Вот строится здание Совнаркома И корпус гостиницы новой напротив. А вот и копер — комсомольская шахта. Не здесь ли с рассветом придется обоим Спускаться под землю по лестницам шатким И хлюпкой дорогой шагать по забоям? Стоит на копре человек из фанеры В спецовке широкой и шляпе огромной, Исполненный кем-то в кубистской манере, Неровно окрашенный краскою темной. И двое глаза опустили стыдливо, Как будто фанерная эта фигура На них, оторвавшихся от коллектива, Глядит с высоты подозрительно — хмуро. «Кайтанов, поедем в Сокольники, что ли?» «Пожалуй, немножечко далековато…» «Поедем!» Глаза загорелись у Лели. Трамвай № 6 атакуют ребята. Не втиснуться — страшная давка в вагоне. Кондукторша дергает дважды веревку. Но эти прицепятся, эти догонят, Для них не придется продлять остановку. Тяжелою гроздью висят пассажиры, И Коля почти обнимает подругу. Ее закружило, она положила На руку его свою твердую руку. Когда б этот миг задержался навеки, Она бы летела, летела, летела, Стыдливо смежая счастливые веки, К могучим плечам приникая несмело. Летит наша Леля, душой замирая, И так ей спокойно, и так ей тревожно! Одна остановка, за нею вторая, И жаль, что в вагон им протиснуться можно. Сейчас он ей скажет то самое слово, То слово, которое ново и вечно. Но Коля Кайтанов, насупясь сурово, Глядит на трамвай переполненный встречный. Вагон, задыхаясь, проносится мимо, И он говорит, наклоняясь над нею: «Метро обязательно, необходимо Построить в Москве, и как можно скорее». Наверное, час продолжалась дорога. Вокзалы их встретили шумом и звоном. Вдоль старых домишек, мерцавших убого, Они подъезжали к Сокольникам сонным. И вот наконец они вышли на круге. Кайтанов басил, наклоняясь к подруге. В ответ лишь кивала счастливая Леля, Казалось волшебным ей слово любое. Меж ними возникло магнитное поле, Как током весь мир, заряжая любовью. Они проходили по узким аллеям, Над озером черным стояли на склоне, И он ее жесткую руку лелеял В гранитной своей ладони. Они заблудились меж просек оленьих, Под сенью берез и весенних созвездий… Влюбленные завтрашнего поколенья, Как просто вам будет в Сокольники ездить! И новая юность поверит едва ли, Что папы и мамы здесь тоже бывали. Им долго обратно шагать предстояло Был Коля задумчив, и Леля устала. Рассвет их настиг на безлюдной Мясницкой. Прохлада, и небо совсем голубое, И Леля призналась «Кайтанов, мне снится, Что так вот всю жизнь мы шагаем с тобою…» Ну что он подругу молчанием дразнит? И вдруг, словно ливня веселые струи, Как майская буря, как солнечный праздник, Ее закружили его поцелуи. Зеркальные стекла соседней витрины Влюбленным устроили тут же смотрины, И вслед улыбались им все постовые, Хотя и милиция — люди живые. И Леля шептала: «Не надо, не надо!..» — Пока они шли до Охотного ряда.Глава пятая ПЕРВАЯ СБОЙКА
Как выхлопы гоночного мотоцикла, Стучат молотки среди света и мрака. Вдруг стихла атака. В туннеле возникла Сперва потасовка, а дальше и драка. Какая-то странная, дикая сцена — С Уфимцевым борется дюжий проходчик. Забой не дает предыдущая смена — Свои молотки уступить нам не хочет. Зажмурясь, бросается в битву Акишин И Леля пошла в рукопашную яро. Она тяжело и прерывисто дышит. И Коля усердствует: «Дайте им жару!» Но сам не воюет и не разнимает, А лишь наблюдает двух смен столкновенье. Ведь он бригадир, а бригада сквозная, Вся эта ватага в его подчиненьи. Печально бы кончилось это, быть может, В опасный момент появился однако, Парторг, или попросту дядя Сережа. «Эй, черти подземные, что тут за драка?» Он бросился в самую свалку и вынес Оттуда под мышкою Лелю, как куклу, Потом перед Славой Уфимцевым вырос: «Я тоже умею! Уж стукну, так стукну!» Уфимцев вздохнул и уставился косо На темный кулак, возле самого носа. Ребята смутились, и, сделавшись строже, Парторг бригадира берет в переделку: «Тебе за баталию крепко наложим, Планируешь плохо и плаваешь мелко! Понятно, что в сбойке участвовать хочет Бригада ударная в полном составе. Придется подумать, расставить рабочих, Две смены зараз до рассвета оставить. Юнцы все равно не уйдут ни в какую: Они ж добровольцы, пускай атакуют!» Бригада притихла, прерывисто дышит, Не в силах умерить волненье. Сквозь стенку забоя неясно услышав Далекое сердцебиенье. Товарищ, ужель мы дошли До самого сердца земли? Сегодня сойдутся глубокие штольни, Охотный на площадь Дзержинского выйдет. У дяди Сережи, от радости, что ли, Очки запотели, сквозь них он не видит. Для старого штейгера из Криворожья Заманчиво ново туннельное дело. Во френче старинном наш дядя Сережа. В котором еще воевал против белых. У штейгера уголь в морщинах и порах Как память о службе шахтерской синеет. (Вот так и у нынешних юношей порох На раненых лицах проступит позднее.) Тепла, жарка такая ночь Аж куртки с плеч и шляпы прочь, Сверкают спины мокрые. Под пиками кипит земля, То сыпля брызги, то пыля То сепией, то охрою. Прижавши рукоять к груди, Идет Кайтанов впереди, А Леля, чуть не падая, Сгребает землю дочиста Рывком с железного листа Совковою лопатою. В забое шум и толкотня. Уфимцев топором звеня, Установил крепления. А за стеною тихий стук, Как будто там томится друг, Как будто ждет спасения. Утих отбойный молоток, И чистый воздуха поток Ударил в лица потные. В дыру просунута ладонь, Вся в глине скользкой и седой, Могучая и плотная. (Потом, пробившись в Сталинград, Мы вспомним радость двух бригад, Объятья метростроевцев. И так же будет с Волгой Дон Когда-нибудь соединен Как нынче штольни сходятся.) Откуда ни возьмись — цветы! «А кто принес их? Маша, ты?» «Ой, нет, не я! От сырости, Предвидя праздничные дни, Здесь, прямо под землей они Сумели сами вырасти. А ты не замечал, что тут Цветы всегда у нас цветут, Как лампочки на линии?» Подруга к Славе подошла Ему охапкой отдала Все ирисы и лилии. Она веселый слышит смех И говорит: «Букет для всех, Бригаде принесла его! Цветы, для тех, кто впереди! Пилот, понюхай, но — гляди — Букета не присваивай» (У Славы прозвище «Пилот», Его вся шахта так зовет За увлеченье страстное: В аэроклубе по утрам, На страх врагам на радость нам, Штурмует небо ясное.) Все расширяется забой. И митинг вспыхнул сам собой. И в звонких криках митинга Слышны Кайтанова слова: «Не подкачали мы, братва, И „сбились“ изумительно». Вдруг расступился первый ряд. Оглотков! Мрачен гневный взгляд, И губы перекошены. Он речь Кайтанова прервал: «Кто в сквере клумбу оборвал, Товарищи хорошие? Не пощажу я никого И в пыль сотру за воровство, Герои уголовные!» На Машу посмотрели все, Потом на лилии в росе, На ирисы лиловые. Став белым от ярости дядя Сережа, Оглоткову медленно вышел навстречу. «Я эти цветочки сорвал. Ну и что же? Казнить собираетесь? Ладно, отвечу. Чего вы волнуетесь из-за букета? Цветы нам нужны обязательно, ибо Сегодня у хлопцев большая победа. Пришли их поздравить? За это спасибо». Оглотков состроил кривую улыбку: «Ты все митингуешь? Хорошее дело!» Он понял, что нужно исправить ошибку, И начал искать отступленье несмело. Но праздник испорчен в бригаде ударной, Во встречной бригаде невесело тоже. А Маша и Слава глядят благодарно На дядю Сережу.Глава шестая БУРЕВЕСТНИК
Великого времени гулкое эхо Звучало в туннелях той юной порою. К товарищу Горькому просят приехать Ударниц московского Метростроя. В парткоме волненье: девчата увидят Его самого и Роллана на даче. Ребята, конечно, немного в обиде, Но Леле и Маше желают удачи. Цветочного ветра прохладная ласка, И щеки пылают в счастливой тревоге. Расхлябанный «газик» — смешная коляска — Несется по старой Смоленской дороге. Летят, как в кино, перелески, пригорки, И Леля бодрится: «Держись, не теряйся!» И вдруг, словно книга ожившая, Горький Стоит на высокой открытой террасе. Он в сером костюме, немного сутулый, Рукою приветливо машет девчатам. Усы они видят, и острые скулы, И чистые искорки глаз грустноватых. Над пепельным ежиком вьются несмело Табачного дыма прозрачные нити: «Приехали! Я оторвал вас от дела? Но вы уж меня, старика, извините!» Тут Леля, как выстрелом, бахнула сразу Еще из Москвы припасенную фразу: «Мы прибыли к вам с комсомольским приветом, Вы наш Буревестник!» Но Горький при этом Такую гримасу состроил, что Леле Пришлось перестраиваться поневоле. А Горький сказал: «Вы живете по планам, И план нашей встречи я так намечаю: Я вас познакомлю с Роменом Ролланом, Потом посудачим немного за чаем, Потом погуляем… Согласны, девицы?» (Но слово «девицы» звучало как «дети».) Тут вышел навстречу старик тонколицый И подал им руку в крахмальной манжете. Хозяин подвинул плетеные кресла, На стол положил он рабочие руки. Расселись, и сразу неловкость исчезла. И Леля, прильнув на мгновенье к подруге, Скороговоркою ей прошептала: «Ой, Маша, Роллана-то я не читала!» А Горький в мундштук заложил папиросу. Как солнце сквозь дым, нашу жизнь осветили Раздумьем пронизанные вопросы: «Как будете жить? Как живете? Как жили?» И девушки стали рассказывать бойко О том, как трудна была первая сбойка, О том, как плывун отжимают в кессоне… И видели ошеломленные гостьи, Что Горький их жизни кладет на ладони И словно сгребает в могучие горсти. «А как у вас дружат, встречаются, любят?» Спросил он у Маши. Но вместо ответа Призналась девчонка, что в аэроклубе Летать она учится целое лето И завтра ей прыгать. Конечно, впервые! Боится ль? «Не очень! Ну, самую малость…» «Да, девушки, вижу, что вы боевые, И много вам счастья на долю досталось!» И Горький задорно взглянул на Роллана, Как будто отец, представляющий дочек, И хмыкнул неловко, достав из кармана Батистовый, в крупную клетку, платочек. Накинув крылатку со львами из меди, Роллан оставался бесстрастен и бледен. Душа, очарованная навеки, Что видел он в образе девушек наших: Аннету Ривьер или новые реки? Не знали об этом ни Леля, ни Маша. Заранее кем-то был хворост подобран И сложен в чащобе старинного парка, И Горький, склонившись с улыбкою доброй, Костер распалил, небольшой и неяркий. Вокруг разместились хозяин и гости, И каждый читал по-особому пламя, Оно то суставы ломало со злостью, То рдело цветочными лепестками. Быть может, Роллану, укрытому тенью Спокойной и чистой печали, Как зримая музыка, эти сплетенья Симфонией нового мира звучали? Что Леля в извивах костра находила? Одно лишь сиянье, одно лишь горенье Открытой души своего бригадира, А с ним и всего поколенья. А Маша?.. Зачем она в пламя смотрела? Не стоило этого делать, быть может… Зеленая ветка в костер залетела И вспыхнула тоже. …И Горький шепнул: «Я решил почему-то, Что вы оробели, смутились вначале, И стал ваш рассказ о прыжке с парашютом Неточным: небось, о любви умолчали?» Откуда он знает? И девушка сразу Поведала Горькому в светлом восторге О Славе Уфимцеве синеглазом, Красавце, проходчике и комсорге. Ах, Слава Уфимцев! Когда бы ты слышал Признания эти! В земные высоты Взлетел бы ты сердцем, наверное, выше Предела, что могут достичь самолеты. Вились над костром золотые извивы, Сливаясь с вечерним сиянием зорьки. И Леля поглядывала ревниво: О чем это шепчутся Маша и Горький? Однако к концу подходила беседа. «Друзья! Расставаться не хочется с вами. На шахту я к вам непременно приеду, Хотя поругаться придется с врачами». А Маше шепнул: «Разговор между нами, Я в этих делах молчаливей могилы». В костре пробежало по веточкам пламя, Темнея, теряя последние силы. Как жаль, что так быстро окончилась сказка!. И лица подружек задумчиво-строги. Расхлябанный «газик» — смешная коляска — Несется в Москву по Смоленской дороге.Глава седьмая ПЕРВАЯ СМЕРТЬ
Зачем это Маша торопит шофера, Кусает какую-то горькую травку? Уже половина девятого скоро, Она подвела синеглазого Славку! На длинной скамейке Тверского бульвара Сидит он, куря ароматные «пушки» А слева — влюбленная пара. А справа задумчивый Пушкин. Она не пришла, не придет — это ясно! Так можно всю жизнь просидеть и напрасно. А завтра мы в Тушино едем. И надо Как следует выспаться. Тут не до шуток: Пройдет испытание наша бригада Не в недрах, а в небе — в прыжках с парашютом. Уфимцев! Такие к тоске не способны, Грустить не умеют, хотя молчаливы. Могучие люди бывают беззлобны И робостью внешней красивы. Он выломал палочку и прилежно Письмо начертил на дорожке песочной: «Мария, люблю» осторожно и нежно На грунте рассыпчатом, грунте непрочном. Поднялся, ушел. И доехав до дома, На койке скрипучей уснул он мгновенно. Его не разбудишь, пожалуй, и громом. (Еще мы громов не слыхали военных.) А Маша примчалась к скамейке заветной Лишь в 9-15. В смятенье, в печали. Но слов никаких на песке не заметно: Другие влюбленные их затоптали. (Когда бы владел я волшебною силой, Я все написал бы и сделал иначе: Привел бы тебя на свидание с милой И всем раздарил бы Любовь и Удачу.) Как мучилась Маша одна до рассвета Томилась на крайней скамейке садовой. Сам Горький, пройди он дорожкою этой, Узнать не сумел бы девчонки бедовой. О чем она думала в час предрассветный, Глаза заслоняя шершавой ладонью? Конечно, не злым подозреньем, не сплетней Терзалось сердечко ее молодое. Ей виделось нашей судьбы продолженье: Война громыхает над краем сожженным И Славка-пилот улетает в сраженье, А ей ожидать, как положено женам. А вдруг на него налетели фашисты?! Их много, а он одинешенек в тучах. Машина пылает. Он прыгать решился Вот прыгнет — и пулю вдогонку получит. «Любимый! Не смей раскрывать парашюта, Пока тебе неба и выдержки хватит! Открой его в долю последней минуты, Не то тебя ветер на крыльях подхватит. Для пули фашистской ты станешь мишенью… Чтоб не было в битве любимому тяжко Пример показать приняла я решенье И утром попробую прыгнуть с затяжкой» И вот оно утро. Мы едем в трамвае. И пригород быстро несется на встречу. В открытые окна вагона врываясь, Зеленые ветви ласкают нам плечи. Навек неразлучных сегодня нас трое. Акишина в нашей компании нету, — Он дома остался, он очень расстроен: Врачебному парень подвергся запрету. Но если бы ты заглянул в мою душу (Не выдай, не выдай, товарищ хороший) То понял бы сразу: я попросту трушу И даже завидовать начал Алеше. Но дышит спокойствие рядом со мною, Твердит, как урок, рассудительный Слава: «Находится слева кольцо вытяжное, Скоба запасная находится справа. Вылазь на крыло! Как в Москву-реку с вышки, Ныряй без раздумий — солдатиком, рыбкой. Об этом еще не написаны книжки, Мы первые будем», — добавил с улыбкой. Нам все начинать выпадало на долю, Недаром недавно звались «пионеры». Эпоха такою была молодою, Что в прошлом нечасто встречались примеры. У края покатого летного поля Пирует с подругами шумная Леля. Консервы лежат на вчерашней газете И скромные ломтики серого хлеба. Вокруг на траве мы расселись, как дети, Близ летного поля у самого неба. Что с Машей? Она опустила ресницы А Слава? Он смотрит в небесные дали Как важно им было бы объясниться! Зачем им друзья в это утро мешали? Товарищи! Небо зовет голубое, Нас ждут самолеты на поле зеленом, И мы в парашютную входим гурьбою, И каждый гордится комбинезоном. Инструктор сверкает вставными зубами. Страшней мне становится с каждой минутой. Заводят У-2, и лиловое пламя При выхлопе рвется из патрубков гнутых. (У-2 не зовется еще «кукурузник», Еще не летит над сожженной травою, Овеянный славою всесоюзной, Всеевропейскою и мировою.) Мне первому прыгать. Проклятый алфавит! До буквы моей никого не нашлось. Пилот преспокойно на взлетную правит, Ангары и люди уносятся вкось, И машет Уфимцев мне рыцарской крагой. Куда-то — не в пятки ль? — уходит душа. Я после скажу, что был полон отвагой, Когда приземлюсь, парашютом шурша. Одна лишь надежда, что красные кольца Кругами спасательными на груди Но ты в эти выси взлетел добровольцем От имени тех, кто всегда впереди. Бесстрашным зовется твое поколенье! У-2 тарахтит и заходит на круг. Что храбрость? Нелегкое преодоленье Животного страха, дрожания рук. Смелей комсомолец! Я все-таки трушу. В лицо ударяет порыв ветровой Пилот меня резко толкает. Я рушусь Из облачка вниз головой. Рывок! И за кратким мучительным громом, Треща, раскрывается шелковый зонт, Я тихо вращаюсь над аэродромом, Как циркуль, где радиусом горизонт. Кому рассказать, что я счастлив по-детски, И небо чудесно, и ветер горяч? Запеть бы! Но песни свои с Дунаевским Еще только пишет Кумач. И вот как плетеные белые вожжи, Тяну на себя парашютные стропы, Чьи длинные тени протянутся позже, Как меридианы на карте Европы. Распалась налитая воздухом чаша. Беспомощный шелк на траве серебрится. Второй — по алфавиту — прыгает Маша, И взглядом ее провожает Уфимцев. Дружочек наш милый! Так быстро взлетела, Товарищам слова сказать не успела… В решеньи своем никому не призналась. Все выше ее голубая дорога. Внизу на земле ее сердце осталось, Бессонная ночь, и печаль и тревога. Мотор выключает, командует летчик: «Пошел!» Кувыркается в небе комочек. Сейчас вытяжной парашютик заблещет, Стремительный шелк за собой увлекая. Комочек несется, мелькая зловеще; Мгновенна как вечность, секунда такая. «Успею! Успею! Не мне это больно — Тому, кто в бою не уйдет от погони. Земля уже близко. Однако довольно…» Но тут ускользнуло кольцо из ладони. И все… Только мчится и воет сиреной Машина. Да белый халат на подножке, И врач на одно опустился колено Над чем-то ужасным на взлетной дорожке. Под пологом шелковым, пологом белым Не ты, наш дружок. То, что было тобою. Не знает никто твоих помыслов смелых, Рожденных в предчувствии первого боя. Еще до Расковой, еще до Гастелло Девчонка, десяток инструкций нарушив, По мирному небу звездой пролетела, Пылающий след прочертив в наших душах. Отставить прыжки! Тишина неживая. Кайтанов безмолвствует, с виду бесстрастный, Но слезы, в рябинках его застревая, На утреннем солнце сверкают и гаснут. Носилки. И Леля с пустыми зрачками, И Слава Уфимцев с лицом словно камень. Он шепчет, пронизанный холодом лютым: «Позвольте мне прыгнуть с ее парашютом…»Глава восьмая АВАРИЯ
Созвездьями смутными ночь засветилась. Безмолвная смена под землю спустилась. Товарищи, где мы? В холодном забое. Как Маша теперь, — глубоко под землею. И мутные воды капризной Неглинки Сочатся в породе, как будто слезинки. У Славы увяла разбойная челка, Лицо — как лоскут парашютного шелка. Как вечность, идет за минутой минута, И шепотом мы говорим почему-то, Молчаньем стараясь утешить друг друга. Вдруг около клети послышалась ругань, Товарищ Оглотков явился в бригаду: «Сегодня в забоях ни сладу, ни ладу! А ну-ка, орлы, поднажмите! В работе, В работе всегда утешенье найдете!..» И дальше помчался по шпалам и лужам… Да разве он может понять, как мы тужим! Мы пики вонзили в девонскую глину, Но, силы лишенные наполовину, Остановились для перекура, Шипение воздуха слушая хмуро. И не заметили, как осторожно Присел с нами рядышком дядя Сережа. «Поплачьте, товарищи, станет вам легче. От горя слеза лучше доктора лечит». Нас горем пришибло. Нам кажется странным, Что жизнь пробивается светом сквозь тьму. Но время умеет залечивать раны, И скажем за это спасибо ему. За сменами дни, а за днями недели, Бегут вагонетки по скользкой тропе, Из штолен вылупливаются туннели, А мы в них — как будто птенцы в скорлупе. Одна за другой вагонетки с породой Бегут и бегут на-гора без конца. Все тверже, все крепче бетонные своды, И жестче становятся крылья птенца. Проходку ведем по далеким столетьям: То речка возникнет, зловеще журча, То мертвый тайник на пути своем встретим, То череп, то цепь, то обломок меча. Глубины московской земли непокорны, Они отступать не желают, грозя Обвалом, и взрывом, и гибелью черной. Крепленья трещат, но сдаваться нельзя. В забое четыре отчаянных друга. Стучат молотки, словно сердце одно. Порода навстречу вдруг выперла туго И хлынула в лица. И стало темно. Холодная жижа нам хлынула в лица, И стало темно, и забой шевелится, И слышно, как дышит подземное дно. На нас навалилась тяжелая полночь. Мы грудью своей зажимаем дыру И слышим сквозь грохот, в холодном жару, Как Леля вопит: «Погибаем! На помощь!» От этого крика страшней почему-то. Откуда здесь Леля, в кромешном аду? Плывун нажимает упрямо и круто, Еще полсекунды — и упаду. Забой наполняется голосами, А наш бригадир, все на свете кляня, Хрипит: «Не волнуйтесь, мы справимся сами!» И падает навзничь, сшибая меня. Очнулись в здравпункте. Как старый знакомый, Термометры ставит нам доктор седой. А мышцы разбиты горячей истомой, И бронхи как будто налиты водой. Наш добрый старик на минуточку вышел. Тут, Славе шепнув: «Я пропал все равно», — Встает, как лунатик, Алеша Акишин И лезет на улицу через окно. Собравши последние силы, он лезет, Спускает ледащие ноги во двор. Он прав! Пуще самых ужасных болезней Я тоже боюсь докторов до сих пор. Вновь доктор зашел, переменой испуган, Термометры вынул и ставит опять. «Не вижу я вашего юного друга, Которого надо бы с шахты списать». Кайтанов глядит на врача хитровато: «Акишин? Он только что вышел куда-то!» К нам шумы доносятся из коридора, Шаги молотками стучатся в висок. Обрывки взволнованного разговора И дяди Сережи охрипший басок. Мы слышим: «Их четверо было в забое». «Все живы остались?» «Как будто бы да». «Поток плывуна заслонили собою. Чуть-чуть не случилась большая беда. Могли бы в Охотном дома обвалиться, У старой земли гниловато нутро». «Доверье бы к нам потеряла столица, И так обыватель боится метро». «А если бы хлынул плывун по туннелю, Все заново рыть бы, наверно, пришлось». «Тогда бы уж стройку не кончить в апреле». «Ну, слава те господи, обошлось!» «Так это ж герои!» «Конечно, герои! А сколько упорства и силы в таких!» «Назавтра в „Ударнике Метростроя“ Должны напечатать заметку о них». «К ним можно пройти?» — «Доктора запретили. Ребятам изрядно помяло бока». «А как там Акишин? Его отходили? Он плох, вероятно?» «Нет, дышит пока». Шаги и слова осторожней и тише, Но мы от сочувствия стали слабей. А вам приходилось когда-нибудь слышать За тонкой стеной разговор о себе? Почувствуешь — сердце забилось и сжалось, И разом нахлынут и гордость и жалость. Но горе тому, кто услышит такое, Что люди в лицо говорить не хотят. И коль это правда, лишишься покоя. Но что тут поделаешь? Сам виноват. …Дощатые стены пропахли карболкой, И дышится трудно, и хочется спать. И доктор ворчит: «Тут одна комсомолка Всю ночь к вам рвалась и стучится опять». «Нельзя! Все начальство сейчас приходило И то не пустили: врачи не велят». «Пустите меня! Я жена бригадира, А тот, что стихи сочиняет, мой брат». Уфимцев ворочается на койке, Он весь удивленье, святая душа: «Ребята, я слышу там возгласы Лельки! Ой, что она мелет? Не верьте ушам». Кайтанов с улыбкою виноватой Мне шепчет, пока сотрясается дверь: «Не знаю, сумеешь ли стать ты ей братом, Но мужем я, кажется, стану теперь». Тут Лелька врывается: «Коленька, милый, Ах, бедный мой, бедный! Спасибо, живой!» И вдруг на колени она опустилась, Зарылась в подушку к нему головой. И, лоб его гладя, смеется и плачет, А мы уже поняли, что это значит. Кайтанов, поднявшись на локте упруго, Еще побледнев, обращается к нам: «Ребята! Знакомьтесь с моею супругой, Прошу уважать! А любить буду сам» Супруга товарища с явным презреньем На койки, на братию нашу глядит И ставит на тумбочку банку с вареньем «Пайковое! Думаю, не повредит». …Неделю мы так в лазарете лежали. (Акишин в бараке спасался один.) И Леля Теплова все ночи, в печали, Следила, как дышит во сне бригадир. Когда ж отправлялась она на работу Иль шла получать нам лекарства и лед, Кайтанов свою излагал нам заботу: «Отцу напишу. Он, конечно, поймет. Но как объясню я в бригаде ребятам, Что вдруг из аварии вышел женатым?»Глава девятая СВАДЕБНЫЙ ПОЕЗД
В бригаде назначена первая свадьба. (Но ждут окончанья строительства дома.) Кто мог о порядке ее рассказать бы? С помолвкой, с венчанием мы незнакомы. Из Горловки пишет отец Николаю, С трудом составляя за фразою фразу: «Присутствовать я самолично желаю, На свадьбе безбожной я не был ни разу». И Лелина мама по первому слуху Примчалась, живет в общежитии нашем. Бабусею все величают старуху, Она ж называться желает мамашей. Мы с ними встречаемся мало и редко, Приходим и валимся разом на койки. Нас радостным вихрем несет пятилетка Ко дню окончания стройки. Все швы зачеканив, чтоб стены не мокли, Мы сделали нашу работу, как надо. И в черных туннелях, как будто в бинокле, «Дзержинскую» видно с «Охотного ряда». И дом подрастает, похожий на ящик. Но нам представляется очень красивым. Чтоб толк понимать в красоте настоящей, Быть надо хоть чуточку меньше счастливым. Дана однокомнатная квартира — Сегодня мы будем женить бригадира! Гостей набежало незваных и званых… Квартира полна. И пошел пир горою. Но где же Акишин? Он заперся в ванной. «Не дергайте дверь, все равно не открою!» Коль выйти ему, засмеют и девчонки, Увидев распухшие красные веки. Пылающим лбом прислонившись к колонке, Он, кажется, плачет, несчастный навеки… Да что с ним? Себе мы и не представляли, Что может с юнцом приключиться такое. Сидит за столом, не скрывая печали, Уфимцев, глаза прикрывая рукою. А в памяти утро и летное поле, Сирена тревоги, минута прощанья. От счастья влюбленных до собственной боли Уж очень короткое расстоянье. Мамаша невесты приносит на блюде Пирог деревенский из серого теста. Эх, горько! Целуйтесь, хорошие люди, Кайтанов и Леля, жених и невеста. Эх, горько! За шахту! За нашу квартиру! Вздымаются рюмки, стаканы и кружки. За то, чтобы в жизни везло бригадиру, За то, чтоб всегда был он ласков к подружке. А Колин папаша и дядя Сережа, Лишь чокаясь, пьют безо всякого тоста. Шахтеры всегда друг на друга похожи, Сойтись и сдружиться легко им и просто. Могучие девушки в платьях из ситца Танцуют в углу, завладев патефоном. Мне грустно, что я не успел влюбиться, — Сегодня так хочется быть влюбленным! Веселье в разгаре. Вдруг в двери стучатся: «Ребята! Ребята! На шахту сейчас же!» «Да нет, не пожар, не авария, что вы! Все в полном порядке. Туннели готовы. До поезда первого час, вероятно. Гостей ожидают… Понятно?» — «Понятно!» Акишин выскакивает из ванной, Никто не заметит, что нынче он странный. Оставлены стулья. Вино недопито. По правде сказать, даже свадьба забыта. Одни пировать будут в комнате новой Кайтанова теща и свекор Тепловой. Их свадьба безбожная ошеломила, И скучно им слушать фокстрот «Танганилла» А мы спешим ночными площадями, Бежим, аж сердце рвется из груди, И Лелина косынка словно знамя, И, как всегда, Кайтанов впереди. Игра теней на улицах весенних, И вот он, наконец, «Охотный ряд». Под нами эскалатора ступени Вдруг двинулись, шумя, как водопад. Торжественно и чисто на платформе. Давно ли здесь стучали молотки!.. Две девушки в путейской новой форме Стоят, держа железные флажки. Гудит туннель. Вот вырвался оттуда Циклопий глаз. Вздыхает левый путь. В зеркальных стеклах, мчащихся, как чудо, Зрачки ребят мелькают, словно ртуть. Упорство наше, мужество и верность Застыли в этих сводах на века, И в первом поезде, в вагоне первом — Смотрите! Все Политбюро Цека. Перрон в приветствиях, в веселом гаме, И мы вступаем в новенький вагон — Как в сказку, невесомыми шагами, И мчит мечта за поездом вдогон. Мы первыми дорогу проложили Здесь, в плывунах, среди кромешной тьмы, И, первые — по праву — пассажиры, Подземною дорогой едем мы. Как будто повторенье детской гаммы, Звучит на новых стыках путь стальной, И станции, похожие на храмы, Встречают нас прохладной тишиной. И мы, захлебываясь от волненья, Стоим и смотрим родине в глаза. На Третьем съезде комсомола Ленин Наш путь необычайный предсказал… Да, это нам учиться и учиться, Чтобы увидеть коммунизм самим Наш первый поезд, первый поезд мчится, Мы в будущее мыслями летим. Какие стройки кто из нас воздвигнет, Кого Героем назовет народ? В каких пучинах кто из нас погибнет И кто до коммунизма доживет? Но это нам покуда неизвестно. Все впереди. Построено метро. В вагоне с членами Политбюро На первом поезде жених с невестой. Вновь, как всегда, Кайтанов и Теплова, Вы первые на свете потому, Что свадебного поезда такого Еще не подавали никому. Наш первый поезд, первый поезд мчится. В его движенье наш двухлетний труд, А наверху, над нами, спит столица, Как дети спят, когда подарка ждут.Глава десятая ОСОБНЯК НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ
Года молодые, куда вы стремитесь? К планетам и звездам! А мы и не знали, Что есть в окончаньи трудов и строительств Не только восторг, но и доля печали. Снесли эстакаду в последнюю смену. В Охотном ряду не увидишь отныне Трамвайных платформ, так похожих на сцену, Где люди сидят на песке, как в пустыне. Разобран копер и фанерный рабочий. Забор превратился в обычные доски. Но жизнь останавливаться не хочет: Поручен нам новый объект — Маяковский. Он станцией станет, поэт наш любимый. Как плыть пароходом товарищу Нетте, Так быть Маяковскому залом глубинным, В стальные колонны и мрамор одетым. У каждого в жизни сейчас перемены: Направлена в Промакадемию Леля; Акишин учиться пойдет непременно: Не всем в академии, можно и в школе! Уфимцев экзамен сдает на пилота, Уже он на «чайке» взвивается в тучи; И новая ждет бригадира работа: Теперь в подчиненье он смену получит. Он ходит вразвалку, веселый и гордый, Чуть-чуть свысока он обходится с нами И носит на лацкане новенький орден — Пусть не Боевое (Трудовое), но Красное Знамя! Почетное звание краснознаменца Нам с детского сада являлось ночами Буденновской лавой под яростным солнцем, Борьбой пограничника с басмачами. И вот этот орден для нас отчеканен, Он лучшему парню вручен по заслугам, Эмаль его можно потрогать руками И рядом стоять с бригадиром и другом. Пускай бригадир погордится! Не важно! Ведь он, как и все мы, вчерашний мальчишка В руках его книжка в обложке бумажной. Моя — понимаете! — первая книжка. И он говорит мне: «Написано бойко, Показана наша подземная стройка. И ясно видна установка комсорга — В стихах исключительно много восторга. Все было, пожалуй, труднее немного. Зачем тут одни лишь веселые лица? Не критик я, чтобы оценивать строго, Но думаю, надо тебе поучиться. Нужны государству и людям поэты — Великие годы еще не воспеты». …Особняк на Тверском бульваре, Юный Горьковский институт. Дверь открыта. Смелей, товарищ! Нас науки и книги ждут. Коротка у меня анкета, Биография коротка. Метростроевца, не поэта Принимают сюда пока. «Познакомиться не хотите ль?» — Трубку толстую закурил С кинофабрики осветитель. «А зовут тебя как?» — «Кирилл. Впрочем, можешь, если захочешь, Костей звать меня, например. Я картавлю, мне трудно очень Выговаривать „л“ и „р“». Вот скандалит парнишка вздорный С разлохмаченной головой, Бывший жулик и беспризорный Из колонии трудовой: «Это верно, я был бродяга, А теперь я рабочий класс! От Макаренко есть бумага. А не примут — зарежусь враз!» И глядит на него сердито — С ней никто еще не знаком — Тонконогая Маргарита С тонким, жалобным голоском. Вот еще пришел — погляди-ка, Это малый не без затей, Двухметровой длины заика, Сочиняющий для детей. Начинающие поэты, Мы священным огнем горим, И тепло нам, хоть мы одеты Легковато для наших зим. Со стихами тонки тетради. Предстоит еще сочинять Песнь о Зое, «Митинг в Канаде», «Дядю Степу» и «Жди меня». В институте нету традиций, И порядка покуда нет. Не приучены мы учиться Дети первых советских лет. Дело тут не в священной лени, А скорее в том, что как раз В первой и во второй ступени Все загибы пришлись на нас: Смесь гимназии с производством, Школьных митингов полоса. Так ломаются у подростков В ранней юности голоса. Есть наука — сплошная скука, Есть предметы и для души. Прокатились мы по наукам, Как по скользанке малыши. Пионерские песни спеты, В институте терзают нас Неуменье вести конспекты И неполных знаний запас. Когда, провалившись на третьем предмете, Я вышел на улицу, гордый и хмурый, За мною пошли (я не сразу заметил) Какие-то две непонятных фигуры. Я начал шаги прибавлять воровато, Потом оглянулся: придется ли драться? Да это ж из нашей бригады ребята — Кайтанов с Уфимцевым! «Здравствуйте, братцы!» «Здорово! — ответил невесело Славка. (Кайтанов молчит, только туча во взоре.) — Печальная нами получена справка, Как ты в институте бригаду позоришь». Тут начал Кайтанов: «Ты ходишь с фасоном, Значок метростроевца носишь в петлице, А сам оказался дешевым пижоном, Который форсит и не хочет учиться. Учти, что богема сегодня не в моде. Уфимцев, скорей отведи мою руку, Иначе я съезжу студенту по морде — Такую, быть может, поймет он науку». Уфимцев не выдержал мрачного тона, Он лапы свои положил мне на плечи. «Поедем к Кайтановым, к нашим влюбленным, В семейном кругу проведем этот вечер». Кайтанов кивнул, не добавив ни слова, И я захлебнулся такой теплотою, Высоким приливом участья такого, Которого я, вероятно, не стою.Глава одиннадцатая В СЕМЕЙНОМ ДОМЕ
Остались за дверью и слякоть и холод, Сегодня мы гости семейного дома. Однако для тех, кто бездомен и холост, Женатый товарищ — отрезанный ломоть. Кайтанов наш стал Колокольчик, Коляша, Кайтанчик, Кайташа, Николенька, Ника. На вышитых воротах русских рубашек Цветут васильки и растет земляника. Как счастлива Леля! В ней новая сила: «Ребята, к апрелю мы ждем человечка». Как счастлива Леля! Она ощутила, Что в ней застучало второе сердечко. «К нам утром Акишин зашел на минуту. О радости я и ему рассказала, А он не поздравил меня почему-то, Стал мрачным, хотя улыбался сначала. Не знаете, что с ним сейчас происходит?» «Да просто, наверное, молодость бродит!» «А он, говорят, уезжает?» — «Слыхали, На Дальний Восток, в беспокойные дали. Туда добровольцами едут девчата, Зовут „хетагуровским“ это движенье. Работы и трудностей край непочатый, Ветров и морозов жестокое жженье. Горячий призыв Хетагуровой Вали Повсюду у нас в комсомоле услышан». Тут Слава сказал: «Мы гадать не гадали, Что вдруг „хетагуровкой“ станет Акишин». Но Коля ему погрозил кулачищем: «Не смейте Акишнна трогать, ребята! Когда мы в товарище слабости ищем, Выходит невесело и подловато». И, вспомнив о роли хозяина дома, Кайтанов за стол приказал нам садиться. «Мы с Лелей сейчас ожидаем знакомых, Немецких товарищей — Гуго и Фрица». (За годы войны, испытаний и странствий Утратилось воспоминанье живое, Забыл рассказать вам я про иностранцев — У нас на строительстве было их двое.) Когда обещали — минута в минуту, Явившись с коробкой конфет из Торгсина, Они комплимент отпустили уюту, Им все показалось у Лели красивым. (Мы пели в те годы о Веддинге песни, Гостей окружив ореолом скитальцев. Нам только казались ненужными перстни У них на лохматых веснушчатых пальцах.) Радушно похлопав друг дружку по спинам. Мы сели за стол, и пошли разговоры О нашем метро, о подземке Берлина, Про ихний Шварцвальд, про Кавказские горы. Немецкие гости в беседе веселой Коверкали слов наших русских немало, И школьное знанье немецких глаголов Немного, а все-таки нам помогало. Немецкое слово и русское слово, Как ветви деревьев, сплетались в тот вечер. Еще неизвестно, где встретимся снова, Какие нам жизнь приготовила встречи. В Германию Гуго пора возвращаться, Три года прошло, и контракт на исходе. Найдет он покой и семейное счастье, Ценимое очень в немецком народе. Теперь у него появились деньжата. Все в полном порядке, и можно жениться. И вынул он карточку с краем зубчатым, На ней улыбалась худая девица. А Фриц беспрерывно курил сигареты. Ему не увидеть любимых и близких. Печальные вести приносят газеты: Заочно зачислен он в смертные списки. Газеты приносят жестокие вести: Германия вся за тюремной решеткой. Однако и Фриц говорит об отъезде В коротких словах, как о деле решенном. Куда он собрался? Вопрос бесполезный. Не жди, все равно не дождешься ответа. В губах его сомкнутых, словно железных, Исходит последним дымком сигарета. На Фрица Уфимцев глядит добродушно, Но строгая смелость во взгляде лучится. Цвет глаз его, кажется, флот наш воздушный Заимствовал, чтобы носить на петлицах. И, может, поэтому видит он что-то, Что нам, не летающим людям, не видно. Он любит небесное званье пилота, Хоть гордость скрывает (а то не солидно!). Мы шутим, смеемся и спорим с запалом, Как добрые гости семейного дома, Но каждому в душу тревога запала. И слышим мы отзвуки дальнего грома.Глава двенадцатая ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
Вот и нету товарища Фрица, Он уехал — не знаю куда. Человек — перелетная птица. И отныне уже навсегда В нашу жизнь равноправно и грубо Входит школа суровых разлук С поцелуем в железные губы И железным пожатием рук. И Алеша Акишин уехал С эшелоном на Дальний Восток. В каждом сердце откликнулся эхом Паровоза протяжный гудок. Словно юности нашей частица Оторвалась, ушла, уплыла, Человек — перелетная птица, Не удержишь, не свяжешь крыла. Чемоданы, набитые туго, На вокзал Белорусский понес Озабоченный, сумрачный Гуго, Бормоча себе что-то под нос: По-немецки — насчет фатерланда И что русские — славный народ. Не грустили, — уехал, и ладно, Без него нам хватает забот. Впрочем, лишнего думать не нужно, Хоть понять было трудно его, Отдавал нам он скучную дружбу И живое свое мастерство. …Наши встречи недолги и редки: Сто нагрузок — нелегкий удел. В суматохе второй пятилетки Слишком много у каждого дел. Но уж так повелось в комсомоле, Что огонь в комитете не гас, Жизнью, правдой, судьбою самою Оставалась бригада для нас. И в студенческое общежитье Вдруг Уфимцев явился ко мне. Он участье в ночном чаепитье Принял с курсом вторым наравне. Мы читали стихи с завываньем, Он внимательно выслушал всех, Похвалил акростих без названья, Вызывавший у девушек смех. Он изрек: «Сочиняйте, творите, Рифму не упускайте с пера. Есть у вас что-нибудь о Мадриде? Там сейчас боевая пора. И дает вам заданье эпоха, Чтоб придумал писучий народ Песню-марш, вроде „Бандера Роха“, — Понимаешь, за сердце берет!» Слава смотрит на книжную полку: Нет ли книжки испанской какой? И новеллы старинные долго Он листает тяжелой рукой, Что-то ищет пытливо и жадно И вздыхает по временам, Рассуждая: «Писали занятно, И красивые есть имена…» По привычке старинного друга Я пошел проводить до угла. Вдоль бульвара последняя вьюга, Словно снежный пропеллер, мела. Сунув шапку в карман, как мальчишка, Он небрежно сказал: «Прощевай, Перечти ту испанскую книжку…» — И вскочил в проходящий трамвай. Что за странное предложенье? Вновь новеллы читать не расчет. По испанскому Возрожденью В декабре еще сдал я зачет. Я и так отстаю по программе, Много лекций пропущено мной. И, как чудо природы, с хвостами Нарисован в газете стенной. Я, под крышу семейного дома Поспешив, как всегда, в выходной, Был там встречен еще незнакомой, Непривычною тишиной. После шумного дня общежитий Словно обухом бьет тишина. «Что случилось, ребята, скажите?» Коля мрачен, и Леля грустна. Краток был их ответ и тревожен: «Говорят, не бывает чудес. Что случилось, ума не приложим, — Дня четыре, как Славка исчез. И четвертую ночь нам не спится, Все мы ждем не дождемся звонка». Человек — перелетная птица. И планета у нас велика.Глава тринадцатая ГОД РОЖДЕНИЯ 37-й
Обещанный мальчик нашелся к апрелю. Он первенец нашего поколенья. Приехав из клиники через неделю, В квартиру он хлопоты внес и волненья. К Кайтановым гости несли поздравленья. Хозяин — уже не мальчишка влюбленный, Какие-то мучают парня сомненья, И веки красны после ночи бессонной. А Леле — худой, изменившейся сразу, С прозрачными розовыми руками — Все мнится: наполнен весь мир до отказа Бациллами всякими и сквозняками. Не сразу освоившись с новою ролью, Она не смогла, не сумела заметить, Что Колино сердце терзается болью, Что трудно ему и тревожно на свете. Вторую декаду туннели в прорыве. Так много трудились, так мало прорыли. Командовать сменой трудней, чем бригадой, — Поди разберись в этом сложном хозяйстве. Вдобавок Оглотков — зачем это надо? — Кайтанова обвиняет в зазнайстве. И всюду вредительство подозревает Трагический блеск в его медленном взгляде, — Он страшные заговоры раскрывает По два раза в день чуть не в каждой бригаде. А нынче придумал про Гуго и Фрица, Что были агенты они капитала. Извольте ответить за связь с заграницей; Дружить комсомольцу с врагом не пристало. Кайтанов отправился к дяде Сереже. Тот грустно промолвил: «Скажу тебе честно, Я верю вам всем, но Оглотков, быть может, Такое узнал, что и нам неизвестно». Не стоит рассказывать Леле об этом: Кормящая мать, ей нельзя волноваться. Эх, были бы рядом Акишин с поэтом И Слава — за правду бы легче подраться. Но нынче зачеты заели поэта, И едет Акишин над синью Байкала, Как принято — в волны швыряет монеты, Ныряет в туннели, пробитые в скалах. О Славе ни слуху ни духу; как прежде, Гадают товарищи, сбитые с толку. Лишь Леля в своей материнской надежде Твердит: «Ничего, человек не иголка». И вправду надежда — великая сила, В ней твердость мужская и девичья тайна, Она и меня для борьбы воскресила, Когда весь народ проходил испытанье. С надеждою и расстояния ближе, И если бы дать ей глаза человечьи, Она бы увидела утро в Париже. Наверное, утро. А может быть, вечер. Быть может, в то утро иль вечер весенний Прохладною набережной Аустерлица Идет человек. Отражаются в Сене Глаза его синие, словно петлицы Советских пилотов. Однако, пожалуй, Такое сравнение неуместно. Идет он вразвалку, размашистый малый, Простой человек, никому не известный. Пиджак на прохожем сидит мешковато, И плечи пошире, чем требует мода, Но это не хитрость портного, не вата, — Таким уж его сотворила природа. Он входит в, метро и с особым вниманьем На кафель глядит, на прожилки в бетоне. Он едет на станцию с гордым названьем «Бастилия»… Странно, что курят в вагоне. Плас-де-ля-Конкорд. Громогласный и гордый, Здесь шел Маяковский могучей походкой. А вот интересно, какие рекорды Французы поставили при проходке? В толпе по лицу его робко скользнуло Живое тепло неслучайного взгляда. Легко долетело средь шума и гула К нему обращенье: «Салют, камарадо!» На юг самолет отправляется скоро. Поедет он с чехом, мадьяром, норвежцем. Они называют его волонтером, Суровые люди с Испанией в сердце. Свобода не частное дело испанцев! Фашизм наступает на мир и народы. Спешат волонтеры в Мадрид, чтоб сражаться За правое дело, под знамя свободы. И только для нас остается загадкой Уфимцев с поступком своим величавым. И Коля, склоняясь над детской кроваткой, Решает: «Мальца назовем Вячеславом!» И теща не против, и Леля согласна, И Слава Кайтанов, единственный в мире, Из кружев своих заявил громогласно, Что он самый главный в их тесной квартире. Отец его стал молчаливым, суровым. Он мысли готовит к тяжелому бою, Пожалуй, пора ко всему быть готовым. Будь мужествен, что б ни случилось с тобою! Но где же наш Славка, красавец проходчик, Отчаянный аэроклубовский летчик? Ответа ищу я в завещанной книге, Страницы листаю в тревоге и жажде. И вдруг замечаю, что «Карлос Родригес» На сотой странице подчеркнуто дважды. Мне к сердцу прихлынула жгучая зависть. И я не страницы, а пламя листаю И вижу, как, в знойное небо врезаясь, Летит истребитель на «юнкерсов» стаю. Настала пора! И мое поколенье За мир и свободу вступает в сраженье.Глава четырнадцатая ВОЛЮНТАРИО
Бомбят Мадрид. Огромный древний город Лежит, раскинув каменные руки. Вой бомб и вой сирен — как голос горя. Дрожит земля в невыносимой муке. Клыкастый «юнкерс» ходит деловито, Выискивая цели, завывая. Беспомощное гуканье зениток, И крики в опрокинутом трамвае. Оцепененье, и толчок удара, И дым пожара, черный дым пожара. И вдруг как будто небо прочеркнули Несущиеся строем крылья «чаек», Полетом звонким бронебойной пули Тяжелое гудение встречая. И закружился бой кольцом Сатурна, Седое небо сделалось ареной. Снующих самолетов блеск латунный Уходит выше, в глубину вселенной. И, выпустив огня короткий росчерк, Кренится на крыло бомбардировщик. А там, внизу, на длинных плоских крышах Толпятся жители и смотрят в небо. Сейчас весь город из убежищ вышел: Сидеть в подвалах для южан нелепо. Смертельной красотой воздушной схватки Взволнован весь Мадрид. Он ждет итога. Вот «юнкерс» заметался в лихорадке И на земле, не в небе ищет бога. Летит, объятый пламенем зловещим, И весь Мадрид победе рукоплещет. …За городом зеленая равнина. На ней сейчас аэродром «курносых». Здесь приземлился и открыл кабину Голубоглазый и русоволосый Пилот республики, сеньор Родригес, Товарищ Карлос… Знаешь, это имя Один мой друг в одной испанской книге Нашел, когда мы были молодыми. Но я об этом вспоминать не вправе. Поговорим о мужестве и славе Родригес «волюнтарио» зовется, — Понятно слово «воля» всем на свете. Одет товарищ Карлос по-пилотски: В короткой куртке замшевой, в берете. Он едет в город на машине старой, На сумасшедшей скорости, с шофером. У них на лицах отблески пожара, И город открывается их взорам. «Ты будешь ждать на улице Кеведо, А я, пожалуй, на метро проеду». Вагон качается, чуть-чуть пружинит. Здесь трасса углубляется покато. В знакомой детской шапочке дружинник На пеструю толпу глядит с плаката: Как странно, перед фразой знак вопроса! «?Эй, парень, не на фронте почему ты?» «Но пасаран!» — начертанное косо, В метро сопровождает все маршруты. Везде, от Вальекаса до Эстречо, Летят плакаты поезду навстречу. На мрачноватой станции «Чамбери» Заметил он, что кто-то добрым взглядом Следит за ним. Когда открылись двери, Попутчик этот оказался рядом. В зеленом френче, в бутсах, смуглолицый, С гранатами, с огромным пистолетом, Не ожидал он здесь столкнуться с Фрицем, К тому же столь воинственно одетым. «Геноссе, здравствуй!» — «Камарадо, ты ли?» И оба в удивлении застыли. Нет, им сегодня не наговориться! Они, как мальчики, друг другу рады. Глядят с благоговением мадридцы: Наверно, эти из Интербригады. Товарищи, солдаты доброй воли, Они винтовки на плечи надели, Хотя не убивать учились в школе И матери им не о смерти пели. Далекие взрастили их долины, Где не растут ни лавры, ни маслины… Сигнал тревоги… Тормоза скрежещут. Движенье оборвалось. Замелькали Фигуры смутные бегущих женщин, И слышен крик младенца в одеяле. Толпятся около плакатов дети, И кто-то плачет, и кого-то ищут. Голубоглазый человек в берете Тяжелые сжимает кулачищи. С поверхности удары бомб он слышит, Как будто ходят в сапогах по крыше. …А может, москвичи, а не мадридцы Бегут, — и не в туннель под Альварадо, — Спеша от бомбы воющей укрыться Между «Дзержинской» и «Охотным рядом». Но для него на свете равно дорог И каждый человек, и каждый город… Перелетая через две ступени, Он рвется наверх, не простившись с Фрицем. «Гони!» — кричит шоферу в исступленье. И, фары погасив, машина мчится. Навстречу запах роз и запах гари. Они проносятся к аэродрому. Прожектор по небу тревожно шарит, Вздымая луч, как меч, навстречу грому. Механик понимает с полуслова: «Конечно, „чайка“ к вылету готова». Он вылетает в черное пространство, Где ходит враг, определив по гуду. Курносый самолет республиканца Появится неведомо откуда. Как вестник справедливости и мести, Летит Родригес на ночную битву. Два добровольца поднялись с ним вместе, И каждый что-то шепчет. Не молитву, А песню, что пленила эскадрилью: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Он ищет, ищет в крестике прицела Свою мишень. Он жадно ищет боя И «фокке-вульфа» клепаное тело В отсветах лунных видит под собою И черный крест с загнутыми краями… Сейчас, воздушным вопреки законам, Он мог бы задушить его руками, Сойдясь, как в сказке, — человек с драконом. Сраженье — на виду у всей вселенной, И, словно мысли, выстрелы мгновенны. И падает противник, как комета… Немного покружившись для порядка, Родригес приземлился до рассвета И входит в командирскую палатку. «Как было дело?» — «Он ходил за тучей, Я вынырнул и по хребту ударил». «А знаешь ли, что это первый случай Ночной победы? Это ж подвиг, парень!» «Не разобрался я в горячке боя, Кто сбил врага. Нас в небе было трое».Глава пятнадцатая ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ
О, если б так с врагом встречаться В открытую, лицом к лицу! Я выдержать почту за счастье Все, что положено бойцу. Но друг воюет в дальней дали И прикрывает нас собой. А мы с Кайтановым попали В невидный и неслышный бой. И поползли по шахте слухи, Стелясь, как ядовитый газ; Они таинственны и глухи И состоят из полуфраз. Что говорят о бригадире? Что он задрал не в меру нос, К нему два немца приходили, А кто они — еще вопрос. Что кое-где известно что-то О кое-чем и кой-кому. Клубок покуда не размотан И сложен — видно по всему. Оглотков словно стал моложе, В игре отыскан тонкий ход: «Он будет тихо изничтожен, Ваш комсомольский Дон-Кихот». «Была авария в туннеле?» «Была. Но года два назад». «А разбирались в этом деле? Ведь был же кто-то виноват? Кайтанов виноват, конечно! Тогда составлен не был акт. Увы, мы подошли беспечно, Но можно вспомнить этот факт!» Ряд неприятностей серьезных Тогда и у меня возник. Так, к близнецам, растущим розно, Болезнь в один приходит миг. Своей дешевой шкуры ради Наплел клевет бездарный плут. Разбередил, разлихорадил Литературный институт. В те дни, воспользовавшись верой, Что мир, как сердце наше, чист, Решительные принял меры Бродящий у границ фашист. Он меж друзьями подозренье, Как нож, просунул, чтобы мы, Следя за собственною тенью, Не опознали тень из тьмы. И стали для врага находкой Такие люди, как Оглотков. Закончив институт в тридцатом, Оглотков бросил свой Донбасс, Рассорился с отцом и братом: «Таланта в жизни нет у вас. Людишки все вокруг ничтожны, Нельзя им доверять на грош. Свою карьеру сделать можно, Лишь если их с пути сметешь». Отнюдь не как герой романов (Но автор в том не виноват) Был друг мой, Николай Кайтанов, Оглотковым с работы снят. А труд для Коли был как воздух, Счет смен важнее счета дней. Безделье — никогда не отдых, Для нас оно тюрьмы темней! Ни слова Леле! Он уходит Как бы на смену, в точный час, По улицам без дела бродит, С чужих копров не сводит глаз. Всего трудней ночная смена: В одиннадцать выходит он И до семи самозабвенно Шагами убивает сон. Он задыхается от жажды, Он каменеет от тоски. На площадь Красную однажды Он вышел от Москвы-реки. Площадь поката. Ведь это она Мира основа. Зримей становится здесь крутизна Шара земного. Молча идет мой ровесник и брат, Сгорблены плечи. Если бы знать ему, в чем виноват, Было бы легче. Перебирают куранты хрусталь, Знамя алеет. В горьком и трудном раздумье он встал Пред Мавзолеем. Будто бы с Лениным он говорит, Ленинец юный: «Стань, мое сердце, таким, как гранит Высшей трибуны!» …Домой пришел он смутной ранью, Когда жена еще спала. На комсомольское собранье Повестка на краю стола, Как бы раскрытая случайно, Небрежно брошена она. А рядом хлеб, горячий чайник. Вставала, стало быть, жена. А в комнате светлели краски В потоке первого луча, И Славик лепетал в коляске, Под марлей ножками суча. Проснулась Леля. «Что ты мрачный?» «Да так. Устал. Не знаю сам». Она его рукой прозрачной Погладила по волосам. Сухие. «Значит, не был в душе. Он все мне врет, хороший мой». Тревога, мучившая душу, Догадкой сделалась прямой. В туннель не лазил. А повестку Зачем по почте было слать, Когда Кайтанов — всем известно — Уходит с шахты только спать? Вздохнула Леля и смолчала, Беда! Горюй ли, не горюй. «Пускай переживет сначала, Я с ним потом поговорю».Глава шестнадцатая ПЕРВЫЕ ПИСЬМА
Мы писем друг другу еще не писали, Поскольку всегда были вместе и рядом, Но жизнь отворила дороги и дали, И дружбу по почте поддерживать надо. Тогда оказалось: Алеша Акишин — Великий мастак сокращать расстоянья. Он детским, размеренным почерком пишет И шлет в треугольных конвертах посланья. Одно у меня сохранилось случайно. Читайте! Я думаю, это не тайна. «Напарник мой по вагонетке, здравствуй! Во первых строках — пламенный привет. Прости, что я пишу не слишком часто, — Порою и поспать минуты нет. Теперь я не откатчик, не проходчик, Бери повыше — я прораб уже. А что мы строим — понимай как хочешь, Мы как-никак живем на рубеже. Соседи злятся, силы собирая, — Они приучены махать мечом. Не все у них, конечно, самураи, Но мы их самураями зовем. Сейчас вот из окна смотрю на сопки, Приобретая зрение бойца: Здесь нас сжигали в паровозной топке И вырывали из груди сердца. Суровый край. Я стал его частицей: Он мне, а я ему необходим. Ну ладно. Что там нового в столице? Когда мы „Маяковскую“ сдадим? Я отвечать на это не неволю, Но, ежели захочешь, напиши: Что наш Кайтанов, очень любит Лелю? Действительно не чает в ней души? Я даже не могу себе представить, Что у нее уже сыночек есть! Скажи, пришла ли о пропавшем Славе Хоть малая какая-нибудь весть? На океанском я живу просторе, Так далеко, как будто на Луне. Скажи: хоть раз, случайно в разговоре, Не вспоминала Леля обо мне? Я обо всех о вас тоскую очень, Жаль, что не слышу ваших голосов. А вы, желая мне спокойной ночи, Поправку делайте на семь часов: У вас там утро, а у нас уж вечер… Передавай привет бригаде всей. Я заболтался. До нескорой встречи. Пожалуйста, пиши мне. Алексей». Письмо от Алеши! В счастливом запале Я бросился к Коле и Леле с известьем. Хотелось, чтоб все поскорей прочитали: Должны пережить эту радость мы вместе. Но дома лишь Леля над детской коляской. А Коля, она говорит, на работе. Лицо ее бледное кажется маской. (Причину, я знаю, вы сами поймете.) И я прочитал ей посланье Алеши. В том месте, где малый о ней вспоминает, Она лишь сказала: «Какой он хороший! Я более скромного парня не знаю». Тут в дверь постучали. Вошел неизвестный Крепыш загорелый с глазами пилота. На замшевой куртке, застегнутой тесно, Два ордена рядом — Звезды и Почета. «Квартира Кайтанова? Вот вам письмишко. Спешу!» — И по лестнице вниз, как мальчишка. «Постойте!» Но поздно, его не догонишь. У Лели шершавый конверт на ладони. И вдруг над бровями разгладились складки. «От Славки письмо! Понимаешь, от Славки!» «Дорогие мои! Я пишу вам впервые, Подвернулась оказия: едет дружок. Извините, коль ставлю не там запятые, — На письмо мне отпущен коротенький срок. Я живу хорошо, в тишине и покое. Объясняя отъезд свой, вам прямо скажу, Что недавно я принял решенье такое — Из проходчиков в летчики перехожу. Это сделать решил я и в память о Маше, И еще потому, что понять мы должны: Предел наступает беспечности нашей, Мы — накануне великой войны. Извините, что лекцию я вам читаю, Только нам не удастся прожить без забот: Итальянцы в Мадриде, японцы в Китае — Так, глядишь, и до нашей границы дойдет. Я смотреть научился немножечко шире. Был в огне. (Перечеркнуто.) Жил в тишине. В том, что наше метро — наилучшее в мире, Посчастливилось удостовериться мне. Как хотел бы я с вами пройти по столице И спуститься под землю в Охотном ряду!.. Да! Я чуть не забыл рассказать вам о Фрице, Так нежданно уехавшем в прошлом году. Он в Испании! Знаю, вы будете рады, Что с фашизмом отважно сражается он, Что в рядах Интернациональной бригады Имя Тельмана носит его батальон. Им труднее, чем нам: их отчизна в позоре, Слово „немец“ звучит как проклятье порой. Помня Фрица, мы можем понять его горе, Ведь товарища этого знал Метрострой! Вот какие дела, дорогие ребята! Чтоб увидеть начало грядущего дня, Невозможно пока обойтись без солдата, Так пускай эта доля падет на меня». Три раза прочли и опять начинаем, И Леля как будто бы преобразилась. В глазах ее вспыхнула радость двойная И крупной слезой по щеке покатилась. Подняв своего малыша из коляски, Она закружилась по комнате вихрем. А он, испугавшись стремительной ласки, Заплакал. Потом они оба притихли. Шептала она: «В нашем доме не плачут. Дай, Славик, губами сотру твою слезку. Героем ты вырастешь, милый мой мальчик, Имея такого чудесного тезку!»Глава семнадцатая КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Комсомольское собранье, Триста душ — одна семья. Это не воспоминанье, А судьба и жизнь моя. Сходятся в дощатом клубе, Соблюдая свой устав. Прямо из подземной глуби, Только что спецовки сняв. Молодые исполины Щурятся на яркий свет. Юрской и девонской глины Под глазами виден след. Сели, руки на колени, Словно гири, положив, И сейчас возникнет пенье — Незатейливый мотив. Устаревшая немножко, Песня вспомнит о былом: «Здравствуй, милая картошка, Низко бьем тебе челом». Но сегодня песни нету, Лишь тревожный шепоток. Кто уставился в газету, Кто — в фанерный потолок, Кто, доставши папиросы, Ускользает в коридор. Персональные вопросы, Невеселый разговор. Коля клуб обводит взглядом Грустным, а вернее — злым: Почему-то место рядом Оказалось вдруг пустым. Неужели нас обманет Вера в наш чудесный мир? Зал и лица, как в тумане, Различает бригадир. Видит он друзей-погодков, Оробевший коллектив. Не пришел сюда Оглотков, Эту кашу заварив… Тихо, ровно и бесстрастно Коля вымолвил: «Друзья! Это дело мне неясно: Чем и в чем виновен я?» Затихают разговоры, Наступает тишина. Комсомолка из конторы Просит слова. Кто она? Машинистка у начальства Перед входом в кабинет. Приходилось слышать часто От нее сухое «нет». А сегодня — поглядите, До чего она мила. «Неужели он вредитель? Влюблена в него была!» Фу-ты, дрянь! А вслед за нею Толстый парень с мокрым ртом, Шепелявя и потея, Длинно говорит о том, Что Кайтанов с заграницей Связан неизвестно как. «Он дружил с пропавшим Фрицем, — А быть может, это враг! И еще — давно, конечно, Но авария была. К ней мы подошли беспечно: Не разобраны дела…» У ребят на лицах тенью И тревога и сомненье. Глупый, как телок комолый, Новичок-молокосос Исключить из комсомола Предложенье тут же внес. Клевета имеет свойство, Исходя от подлеца, Сеять в душах беспокойство, Делать черствыми сердца. Что-то стало с молодежью? Помрачнела молодежь. Что-то с дядею Сережей? На себя он не похож. Обтянулись, пожелтели Скулы в точках синевы. Он заметным еле-еле Поворотом головы Хочет встретиться глазами С бригадиром. Только тот, Как в кулак собравшись, замер, Нападений новых ждет И насупился сурово… Вдруг раздался у дверей Звонкий голос: «Дайте слово, Дайте слово мне скорей!» Появилась Леля. Смело Растолкав ребят плечом, Все собранье оглядела, Стол, накрытый кумачом, И без передышки, с ходу, Взбудоражив весь народ, Как, бывало, с вышки в воду — Бросилась в сердцеворот: «Товарищи, я говорить не умею. Но всем вам известно: Кайтанов — мой муж. Считаю обязанностью своею, Как друг и жена, комсомолка к тому ж, Сказать, что я тронуть его не позволю. Мы, новые люди, сердцами чисты. Мне стыдно за вас и обидно за Колю, За это поветрие клеветы! Тут шел разговор относительно Фрица. Не смейте о людях судить наугад. Товарищем этим мы можем гордиться, Солдатом Интернациональных бригад. Читайте письмо. Я вчера получила, Уфимцев прислал его издалека. Сама вам прочту — наизусть заучила. Увериться можете: Славки рука. Парторг здесь присутствует, дядя Сережа, Всех нас как облупленных с первого дня Он знает. А если не верит нам тоже, Тогда заодно исключайте меня!» Задрожав, как будто в стужу, Слыша тихий, смутный гул, Леля села рядом с мужем, Благо был свободен стул. Он шепнул ей, нежность пряча: «Лелька, ты сошла с ума!» «Как же я могла иначе, Раз такая кутерьма!» Председатель оглашает От Уфимцева письмо, В зал оно перелетает, По рядам идет само. Комсомольское собранье, К правде ты всегда придешь! Я люблю твое молчанье, Обожаю твой галдеж, Понимаю с полуслова Резолюции твои, Верю я в твою суровость, В чистоту твоей любви. Жизни радость, жизни горечь Узнавал я не из книг. Есть в теченье наших сборищ Трудноуловимый миг: Вдруг людей сближает что-то, И бурлящий зал готов К совершенью поворота, К остужению умов. Встал парторг, задев рукою Тонко взвизгнувший графин. Кажется, не беспокоясь, Что останется один, Он сказал: «А мы, ребята, Зря Кайтанова виним. Все мы очень виноваты Перед корешем своим, Перед парнем норовистым, Что мне годен в сыновья. Мне не стыдно, коммунисту: Извиниться должен я. В человеке беззаветном Сомневаться как я мог? Как я смел поверить сплетням? Это мне и всем урок! Про аварию в забое Тут сказал один болтун. Но ведь хлопцы как герои Грудью встретили плывун». Длится, тянется собранье. Сердце! Громко не стучи. «Перейдем к голосованью. Кто за то, чтоб исключить?» На мгновенье тихо стало. Кто поднимет руку «за»? Человек пятнадцать. Мало! «Против» кто? Забушевала Наша светлая гроза. Николай разжал устало Покрасневшие глаза, И увидел в дымке счастья Лица, лица без конца, И услышал, как стучатся Рядом чистые сердца. Строгие родные люди, Как найти для вас слова? В нашем мире правда будет Обязательно права! А жестокий ход собранья? Но штурмующих солдат Иногда на фронте ранит Свой, не вражеский снаряд. Нет, Кайтанов не в обиде, Но остался шрам тоски. Так и на бетоне виден Весь в прожилках след доски.Глава восемнадцатая ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК
И снова Кайтанов на шахте. И снова Тяжелая глина идет на-гора. И вот основанье туннелей готово, И мраморов нежных приходит пора. Теперь не в девоне шахтерские лица, А в тонкой, чуть-чуть розоватой пыли. Все шире подземное царство столицы, Все ближе подходим мы к сердцу земли. Слыхали? В начальстве у нас перемены: Оглотков на днях на учебу ушел. Вновь станет Кайтанов начальником смены, А Леля — участка… Держись, комсомол! Она академию кончила только. Диплом без отличья, но все же диплом. Теперь у нее в подчинении Колька, Как в первые дни, как в далеком былом. И это ему не но нраву. Несмело Ворчит он: «Семейственность очень вредна, Товарищи, я полагаю, не дело, Чтоб вместе работали муж и жена». Но это не главные наши волненья, Другое болит и тревожит сейчас. Таким уж сложилось мое поколенье, Что в сердце весь мир уместился у нас. Испанские сводки все строже и глуше. Везут пароходы безмолвных детей. Кольцовские очерки мучают душу. Пять месяцев нету от Славки вестей. …И мы не знаем, мы не знаем, Что он сегодня в сотый бой Летит над разоренным краем, Над сьеррой серо-голубой! То цвет печали, цвет оливы, Одежда каменных долин. Вокруг снарядные разрывы. Пять «мессеров». А он — один. И завертелась, завертелась Воздушной схватки кутерьма. Он позабыл, где страх, где смелость. Ведь бой с врагом есть жизнь сама, Жизнь, отданная беззаветно Сознанью нашей правоты. А смерть приходит незаметно, Когда в нее не веришь ты. В разгаре боя поперхнулся Последней пулей пулемет. Бензина нет. Мотор без пульса, Соленой кровью полон рот. А стая «мессеров» кружится, Он видит солнце в облаках И перекошенные лица Берлинских демонов в очках. По крыльям «чайки» хлещет пламя, А твой аэродром далек. Как будто ватными руками Сумел он сдвинуть козырек И грузно вывалился боком, Пронизанный воздушным током. Не дергая скобы, он падал. А «мессершмитт» кружился рядом И терпеливо ждал минуты, Когда, открыт со всех сторон, Под шелестящим парашютом Мишенью верной станет он. И, сдерживаясь через силу. Он вспомнил: с ним уж это было. Когда? И с ним ли? Нет, не с ним, Давно, когда он был любим. За этот срок предельно малый Он понял: «Бедный мой дружок, Ведь ты тогда меня спасала, Нарочно затянув прыжок, Как бы предчувствуя, предвидя Прозреньем сердца своего Путь добровольцев, бой в Мадриде, Налет пяти на одного». В ста метрах от земли пилот наш Рукой рванул кольцо наотмашь… Над ним склоняются крестьяне, Дырявый стелют парашют, Прикладывают травы к ране, Виски домашним спиртом трут. Скорей бы начало смеркаться! Они тревожатся о том, Что рядом лагерь марокканцев И вражеский аэродром. Противник видел, как он падал И приземлился на горе. Республиканца спрятать надо От вражьих глаз в монастыре. Его везут на старом муле. То вверх, то вниз идет тропа. Он ощущает тяжесть пули — Боль то остра, то вновь тупа. Вот и конец дорожки узкой. И в монастырской тишине, Бинты срывая, бредит русский В горячем, зыбком полусне. Монахиня, в чепце крахмальном, С лицом, как у святых, овальным, С распятьем в сухонькой руке, Безмолвно слушает впервые, Как он благодарит Марию На непонятном языке. И умиляется, не зная, Что это вовсе не святая, Вплетенная случайно в бред, А метростроевская Маша, Хорошая подружка наша, Разбившаяся в двадцать лет, Летевшая быстрее света, Спасая будущему жизнь, Метеоритом с той планеты, Которой имя — коммунизм. …Испанские сводки все глуше и строже, И стали для нас апельсины горьки. Статьи Эренбурга — морозом по коже. Семь месяцев Славка не шлет ни строки. От этих волнений, от вечной тревоги Одно утешенье — в страде трудовой. И линия новой подземной дороги На северо-запад прошла под Москвой. Недельку она принималась за чудо, Убранством своим вызывала восторг И стала на службу московскому люду, Спешащему в Сокол иль к центру, в Мосторг. И едут теперь как ни в чем не бывало И смотрят на наши дворцы москвичи. И только приезжего, провинциала, Узнаешь здесь сразу: глаза горячи. Но кто этот парень, пытливый, дотошный, Спустившийся утром в подземку Москвы В берете, в ботинках на толстой подошве? Он трогает пальцем на мраморе швы. Ну ехал бы смирно от «Аэропорта». Чего он ворочается, как медведь? К дверям пробиваясь, какого он черта На станции каждой выходит глазеть? И вдруг оглянулся. И вдруг улыбнулся, Пройдя «Маяковской» широкий перрон. «Ребята! Товарищи! Славка вернулся! Узнать нелегко, но, клянусь, это он!»Глава девятнадцатая ФРИЦ И ГУГО
В горах закат холодный пламенеет. Все кончено. Последний сдан редут. Они отходят через Пиренеи. Так тяжело, так медленно идут, Как будто камни родины магнитом Притягивают гвозди их подошв. Идут по скалам, наледью покрытым, И снег над ними переходит в дождь. Ты мачехой им станешь иль сестрою, Земля, где воевала Жанна д'Арк? Они цепочкою идут и строем, На рубеже встречает их жандарм. Урок свободы здесь они получат, Привольно будут жить в своем кругу, За проволокой ржавою колючей, На диком и пустынном берегу. Но кто это среди солдат и женщин Так скорбно завершает этот марш, Не по погоде — в выгоревшем френче, Ступая в грязь лохмотьями гамаш? Неровно и прерывисто дыханье, И краснота у выцветших ресниц… Да это метростроевский механик, Солдат Испании, товарищ Фриц. Живых товарищей он вспомнить хочет И подытожить счет своих потерь… С ним был Уфимцев — летчик и проходчик, Родригес Карлос… Где же он теперь? Или на дне Бискайского залива Тот пароход, что вез его домой? А может, он, веселый и счастливый, Сейчас уже в Москве, в Москве самой? …Сосною пахнут свежие заборы, Цементной пылью дышит ветерок, И метростроевцы полны задора, Разучивают песню, как урок. «Но ведь и я учился в этой школе, Ушел оттуда в европейский мрак. Хозяйку молодую звали Лелей… Ну да, Эллен, Еленой, точно так. А мужа — Колей… Молодые люди, Они не знают настоящих бед. В Москве сейчас, наверно, вечер чуден, Пять красных звезд горят на целый свет… Таят секрет рубиновые грани: Под башнею кремлевской, как ни стань, Заметь — откуда ты на них ни глянешь, К тебе обращена любая грань». «Камрад, не спать!» Чудесное виденье Исчезло. Под ногами скользкий лед. Ущелье прикрывает смутной тенью Республиканской армии исход. И вспомнил Фриц еще страну иную, Что тоже родиной ему была, Сегодня превращенную в пивную, Где он не ищет места у стола. Берлин — угрюмый, серый… Как там Гуго, Ужель врагу отдался целиком? В Москве он был ему пускай не другом, Но сотоварищем и земляком. Конечно, после русского простора Попав в скупой коричневый мирок, Людского униженья и позора Он выдержать, он вынести не мог, И, увлеченный этой общей болью, Он выбрал трудный и опасный путь Свободы, пролетарского подполья, Чтоб немцам честь и родину вернуть; Изгнанникам он путь откроет к дому, И вместе мы о Веддинге споем. Все было, к сожаленью, по-другому, Ошибся Фриц в товарище своем. Вернувшись из кайтановской бригады, Наш скучный Гуго строил автострады. Став у начальства на счету отличном, Решил он, что сбылись его мечты: Пора заняться и устройством личным — Построить домик, посадить цветы… Есть под Берлином двухэтажный Цоссен, Предместье. Там в почете бук и граб, По гравийным дорожкам ходит осень, И листья как следы гусиных лап. Жена, она немножко истеричка. Нужны ей свежий воздух и покой. Почти бесшумно ходит электричка, До центра города подать рукой. К семи он возвращался из Берлина, Калитка отворялась перед ним. Как славно вечерами у камина Молчать, дыша покоем нажитым! Не надо радио! Путем воздушным Оно несет земли тревожный гул. Стал тихий Гуго жадным, равнодушным, В нем человек как будто бы уснул. Газету он смотрел лишь в воскресенье. И как-то раз, средь сонной тишины, Прочел заманчивое объявленье: В Финляндию бетонщики нужны. Сначала Грета слушать не хотела: «Ты не поедешь! Там такой мороз!.. Однако это денежное дело!» И дальше разговор пошел всерьез. Он тронулся с контрактом на полгода И вскоре с перешейка написал, Что тут совсем не страшная погода, Хотя всегда туманны небеса. Он строил замечательные доты Со лбами двухметровой толщины. Был как гранит бетон его работы, Стальные прутья насмерть сплетены. Шли крепости рядами, образуя Непроходимый каменный порог, И узкие прямые амбразуры — Глаза войны — смотрели на восток. Зачем они? Ему какое дело! Так нужно финнам. Не его печаль. Достаточно ли масса затвердела — За это он как мастер отвечал. И лишь однажды, в щелку капонира Увидев смутный северный рассвет, Он вспомнил молодого бригадира И всех, с кем подружился он в Москве. Земля их там, за лесом, недалеко. А вдруг они увидели его? Как ученик, не знающий урока, Не в силах он ответить ничего. Воспоминанье вспыхнуло и сразу Погасло, не задев его души. А перед амбразурой узкоглазой Сухой, как жесть, чертополох шуршит.Глава двадцатая ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
Ребята! Товарищи! Снова мы вместе. В квартире Кайтановых шум и веселье. Споемте московских строителей песню, Как пели отцы — с подголоском, артелью. Попразднуй немножко, мое поколенье, Осталось для праздников времени мало. Уфимцев поет. У него на коленях Наследник Кайтановых двухгодовалый. Он гладит пшеничные волосы тезки Могучею лапищей против прически. «Я кем прихожусь ему? Дядькой, наверно? А если по-старому — крестным примерно. Сказали б, что парень, какого он роста — Привез бы ему кое-что из одежи. Ведь этот костюмчик — сплошное уродство. И эти ботинки — страшилища тоже. Насчет барахла, я скажу вам по чести, От стран заграничных мы очень отстали». «Нам, Славушка, адрес был твой неизвестен, А знали б его, о другом бы писали: Спросили бы про самолеты и танки, Спросили б еще, хороши ли испанки». Но Леля смекнула, что шутка не к месту, Что Славик никак не забудет невесту, И, чтобы уйти от безрадостной темы, Сказала: «Вот премию выдали Коле, Приемник трехламповый новой системы. Давайте послушаем радио, что ли!» В приемнике, будто бы шелест снаряда, Сигналы тревоги я отблеск зарницы: Нарушена мирная жизнь Ленинграда — Снаряд разорвался на финской границе. …На вокзале Ленинградском Ждут отправки поезда, «Здравствуй, Женька!» «Колька, здравствуй!» «Ты куда?» «А ты куда?» «Я туда, куда и ты». «Ты туда, куда и я». Собрались без суеты Неразлучные друзья. Свет на штык снежинки нижет. Комсомольский эскадрон В тесный тамбур вносит лыжи, Занимает свой вагон. Эти палки из бамбука — Замечательная штука, А заплечные мешки Удивительно легки. Леля два часа на кухне Коле жарила гуся. У нее глаза опухли, Извелась, бедняжка, вся. «Знаешь, — говорит мне Коля, — Я по дому дал приказ: Лельке просто не позволил Провожать на поезд нас. Полагаю, при отъезде Ни к чему бойцу слеза, А у ней на мокром месте Ненаглядные глаза». Добровольцы из Москвы, Полушубочки новы. Все в хрустящих, как капуста, Свежих кожаных ремнях. На перроне стало пусто, Стук колес, и путь в огнях… А когда огни погасли, Тень рванулась вслед, неся, Как снаряд в застывшем масле, Тяжеленного гуся. Тень одна стоит, рыдая, Весь в слезах несчастный гусь. Литеров не предъявляя, Увязалась с нами грусть… Мы расстались в Сестрорецке. Я в редакцию был взят. К западу, сквозь ветер резкий, Лыжный двинулся отряд. Край гранитный, край озерный, Предстоит немало мук, Но я верю — пустит корни Воткнутый в сугроб бамбук. Мог бы я вести рассказ О редакции армейской, Что стоит у перелеска, Возле Райволы как раз. Полчаса езды до боя. Грузовик, когда рассвет, Лирика берет с собою Вместе с пачками газет. Но, друзья, в романе этом Речь идет не обо мне. Всем известно, что поэтам Побывать пришлось в огне. Пусть о том другие пишут. Ты служи, мое перо, Жизни выросших мальчишек, Что построили метро. Ночь… В разрывах и ракетах Фронтовые небеса. Мне приказано в газету О разведке написать. Словно балахонов клочья — Облака. И ветер лют. В тыл врага сегодня ночью Десять лыжников пойдут. Им придется разобраться, Что за крепость залегла Перед войском ленинградским, Как бетонная скала. Эта сложная задача Добровольцам по плечу. Старшим кто у них назначен? С ним я встретиться хочу. Я приполз на край передний, Но, к несчастью, опоздал. Только что боец последний Дал фонариком сигнал: Мол, порядок, до свиданья, Ряд траншей прошли уже. Мне осталось ожиданье: Хочешь — грейся в блиндаже. Хочешь — наблюдай отсюда, Спрятавшись за валуны. Мир — серебряное чудо В свете северной луны. Кто в разведке этой старший? Кто ползет через снега, Силой меряется, вставши Перед крепостью врага? Никаких известий нету. Вьюга зализала след. Время близится к рассвету, Меркнет мертвый свет ракет. Край передний виден плохо. Различить во мгле могу Лишь кусты чертополоха Черной жестью на снегу. Только у луны в орбите, В смутном небе января Мерно ходит истребитель, На себя огонь беря. С финской линии зенитки К «чайке», словно для игры, Тянут золотые нитки, Мечут красные шары. Что за «чайка»? Что за летчик В небе ходит без конца? Вьется, вьется, словно хочет На земле прикрыть птенца? Вот и утренние пули Серый воздух рвут, как шелк. Все разведчики вернулись, Только старший не пришел.Глава двадцать первая ВОЗВРАЩЕНИЕ АКИШИНА
Кто ездил хоть раз в транссибирском экспрессе, Огромность страны ощущает особо, И мир для него уже вовсе не тесен — Он как бы коснулся вселенной для пробы. Тайга Забайкалья, сибирские степи И Волга — широкая, словно сказанье. Но самый священный почувствуешь трепет, Когда ты восторженными глазами Увидишь мелькание дачных поселков, Сосновые просеки Зеленоградской. Уже опускается верхняя полка. А вот и Лосинка. Москва моя, здравствуй! Леса Подмосковья летели навстречу То белым, то черным, как перья сороки. Приклеился носом к окну человечек, Построивший крепость на Дальнем Востоке. В тюленьей тужурке, в пимах и калошах, В цигейковой шапке (до пояса уши), — То был мой товарищ, напарник Алеша, Стоял он и сердце дорожное слушал И мысленно транспорт ругал и погоду: Поспеть не пришлось ему к Новому году. Взвалив на плечо чемодан свой фанерный, Он вышел на «Киевской». «Странное дело, Я линией новой ошибся, наверно, Попал не туда», — он подумал несмело. Мой друг не ошибся районом. Однако Не мог он найти на Можайке барака: Дома, возведенные до небосвода, Шеренгой — то красный, то желтый, то серый. И только с химического завода Опять дуновение с привкусом серы. Но это ведь, может быть, горечь иная… Не знаю, не знаю. Повез его к центру троллейбус усатый. В знакомом дворе незнакомые дети Сказали, что шахта была здесь когда-то, Давненько снялись метростроевцы эти. В своем невеселом московском маршруте Не мог он найти ни следа, ни ответа И вспомнил о Горьковском литинституте, — Уж там-то, наверно, разыщут поэта. В двухсветном, подпертом колоннами зале Студенты — совсем молодые ребята — Алеше о друге его рассказали: Да, верно, он здесь обучался когда-то, А нынче на финском, в газете армейской, С Диковским, Сурковым и Левиным вместе. Не став переспрашивать этих фамилий, Акишин ушел. Мы его не спросили, Зачем он не едет к Кайтановым сразу, — Ведь там учредили мы главную базу. Но вот он шагает по лестнице робко, Обратно бы бросился напропалую! Но поздно — нажата звонковая кнопка, И Леля приезжего в щеку целует. Он снял свою куртку и жаркую шапку. И тут появился лопочущий Славик: «Ты с фронта? Ты видел там нашего папку? Зачем ты его на морозе оставил?» Акишин с пылающими ушами Стоял, отвечая неловко и хмуро: «Я, мальчик, не с фронта. Я к папе и маме Всего на минутку заехал с Амура». Но Леля Алешу за стол усадила. «Поешь, и — купаться!» — «Не надо, спасибо…» «Все в комнате точно такое, как было, Чего я дышу, словно донная рыба?» «Ты знаешь, стал Слава Уфимцев героем!» «Он тоже на фронте?» — «Да, все улетели! А мы ничего. Третью очередь строим, До автозавода проводим туннели. Вот плохо одно лишь, что Коля не пишет. Письмо для него — это сущая мука. Ужасный характер у наших мальчишек: Не знают они, как тревожна разлука». Акишин следил за Тепловой украдкой С мучительной болью, и горькой и сладкой. За годы мечта его стала другою, Однако осталось в ней все дорогое. Он чувствовал: сердце вот-вот оборвется… И, голос свой собственный не узнавая, Сказал, что поедет на фронт добровольцем, Поскольку пора подошла боевая. «Я утром к начальнику военкомата Пойду, как ходили все наши ребята». Заметив у Лели в глазах недоверье, — Подумала, видно, возьмут ли такого, — Решил он: «Добьюсь непременно теперь я, Чего бы ни стоило. Честное слово!» Он врал, что поедет к какому-то дяде, Но Леля опять затвердила о ванне, О том, что мы все как родные в бригаде, О том, что постелет ему на диване. Он сдался, притих, разморенный портвейном, Уставший от поисков после дороги. Слабей становился он с каждым мгновеньем, Гудело в висках, и не слушались ноги. Акишин проснулся лишь в полдень, поскольку Он жил еще дальневосточным режимом. Квартира пуста. Он подумал: не Колька, А он, Алексей, мог бы стать здесь любимым. Тут Славик вернулся — он был у соседей, — И стыд примешался к Алешиным мыслям. «Давай поохотимся на медведя!» Минута — и в комнате дым коромыслом. Он стулья использовал как пулеметы, Стрелявшие карандашами цветными. Усталая Леля, вернувшись с работы, Часа полтора убирала за ними. А дядя веселый — какая досада! — Ушел и унес чемодан свой фанерный. А мама сказала: «Не хочет — не надо. Чем здесь ему плохо? Уж очень он нервный». Назавтра ей вниз по стволу передали: «Теплову зовут к телефону в контору». «Акишин звонит ей?» — «Да, вы угадали». «Скажите, нет времени для разговору». Но кличут диспетчеры снова и снова: «Вас ждут, поднимитесь, товарищ Теплова». И голос Алеши со стрункой печали Доносится, словно с далекой планеты: «Ты, Леля? Представь, что на флот меня взяли! Я, видно, окреп! Да откликнись же! Где ты? Направленный в школу военно-морскую, Я всю медицину прошел на „отлично“. Позволь, если очень я там затоскую, Тебе написать. Но секретно и лично».Глава двадцать вторая ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ
На карте штабной не заполнены клетки, О вражеской крепости сведений нет. В своем блиндаже результатов разведки Всю ночь ожидает Военный совет. Ввалились бойцы. На подшлемниках — иней, Изорваны в клочья халаты на них. «Где старший?» «Добравшись до вражеских линий, Гранаты и диски он взял у двоих И всем приказал: „Отправляйтесь обратно! Здесь ночью нельзя разобрать ни черта. Я на день залягу в сугробе. Понятно? Ну, вроде покойника или куста“». Как медленно, как бесконечно тянулся Тот первый, непраздничный день января! «Вернулся разведчик?» «Еще не вернулся, С НП не звонили, точней говоря». Приказано северней пушкам ударить, И послан опять истребитель в полет. «Ну что там?» «Ну как там?» «Вернулся тот парень?» «С НП передали: пока не идет». Но вот наблюдателя голос далекий Звучит в телефоне, и тесно словам: «Приполз. Обморожены руки и щеки, Но требует, чтобы отправили к вам». Его притащили на связанных лыжах, А сам он протиснулся в дверь блиндажа. Халат его в пятнах, багровых и рыжих. Поди разберись, это кровь или ржа. И я узнаю своего бригадира, А он, вероятно, не видит меня. Уставился взглядом в глаза командира, Спокойный и страшный стоит у огня. «Скорее врача!» «Все в порядке, не надо! Докладывать можно?» «Я слушаю вас». «Железобетонная эта преграда По гребню холмов пролегает как раз. Я все там облазил. Район необычный. Вот карта. Я каждый обследовал дот. Построена крепость, признаться, отлично, Бетон исключительный, марки „пятьсот“». И вдруг перед ним затуманились лица, И, сдвинутый воздуха теплой волной, Он медленно-медленно начал валиться На стол, на скамейку, на пол земляной. Читатель! Я знаю, ты мной недоволен: О юности звонкой обещан роман, А что за герои? Тот ранен, тот болен, Тот гибнет, взлетая навстречу громам. Но я ничего переделать не властен, От правды не вправе, не в силах свернуть. Нам выпало самое трудное счастье — Идти впереди и прокладывать путь. Я ночью привез о Кайтанове очерк. Редактор сказал: «Ничего матерьял. Над крепостью вражьей все время летал, Огонь на себя принимая… Не медли — Езжай, разыщи его и опиши. Поменьше про всякие „мертвые петли“, Побольше про дружбу и твердость души». Я снова пускаюсь в маршрут бесприютный Дорогой рокадной, машиной попутной. Ищу по озерам пристанище «чаек». У летчиков корреспонденту дадут Громадную кружку горячего чая И что-нибудь погорячее найдут. Но вот разговор — это трудное дело: Не вытянешь слова из этих ребят. Направят к инструктору политотдела Да буркнут про карту: такой-то квадрат. А подвига нет. Выполнение задачи — И только. Да как их еще я найду? Но вот показались безмолвные дачи И строй самолетов под кручей на льду. Дежурный сказал: «Нелегко добудиться: Семь вылетов за день. Устал лейтенант». Шинель отвернул я. Да это ж Уфимцев?! Хоть бачки такие, что трудно узнать. Поближе фонарик. Товарищ мой, ты ли? И снова ты выполнил дружбы закон. Не дрогнут ресницы его золотые, Быть может, впервые увидел он сон. Мое поведение здесь непонятно: «Не смейте будить его. Дремлет — и пусть. Пока. Я в редакцию еду обратно. Я знаю, как песню, его наизусть. А подвиг сегодняшний видел воочью». И снова карельскою вьюжною ночью Пускаюсь я в снежный маршрут безотрадный Машиной попутной, дорогой рокадной. Безумствует стужа. А молодость рада! Какое тепло я в метели нашел! Ты вместе по-прежнему, наша бригада, Мое поколение, мой комсомол! На лицах от знамени отблеск багровый. С отцами сумели мы стать наравне На этой короткой, на этой суровой, Тяжелой для нас и для финнов войне. Жестокие мучили нас неудачи, Но если б не битва на выборгском льду, Могла бы судьба Ленинграда иначе Решиться потом, в сорок первом году. Ты помнишь прорыв? Исступленье пехоты, Впервые бегущей за гребнем огня, И танк, наползающий прямо на доты, Хоть пушка мертва и пылает броня? Прорвали! Прорвали! Как черная пена, Кипит опаленный разрывами снег. Саперы взрывают форты Хотинена, А Гуго считал, что их строил навек. По полю разбросаны камни и трупы, Фонтаном взлетают бетона куски. Рассеялся дым. Отопления трубы — Как мертвые красные пауки. Торчком арматура. На глыбе бетонной, От края переднего невдалеке, Кайтанов сидит и рукой опаленной Отрывисто пишет на сером листке. Но это не Леле письмо. (К сожаленью, Товарищ мой писем писать не любил.) Я через плечо прочитал: «Заявленье Готов, не жалея ни жизни, ни сил, Служить своей родине. Если достоин, Отныне считать коммунистом прошу. Я, как комсомолец, строитель и воин, Билет нашей партии в сердце ношу». Тряхнул я старинного друга за плечи. И он обернулся. Мы рядом опять. «Ты здесь? Вот и славно. Я ждал этой встречи. За очерк шикарный хотел отругать: В нем Слава и я на себя не похожи… Ну ладно, забудем. Бери карандаш, Скорее пиши заявление тоже, Пусть будет у нас одинаковый стаж». Сказал и задумался. У бригадира, В зрачках затаившего сталь и тепло, Все в жизни естественно так выходило, Как будто иначе и быть не могло. Мы там, где трудней! Вот наш лозунг и выбор. Короткий привал — этот взятый редут. Над нами летят самолеты на Выборг, Вперед под огнем коммунисты идут.Глава двадцать третья ОРДЕНОНОСЦЫ
Снег тополиный — верная примета, Что повстречались года времена, И незаметно переходит в лето Короткая московская весна. Теплынь и тишь. В такой хороший вечер Мир виден, как сквозь призму хрусталя. Прозрачным, легким сумеркам навстречу Счастливцев трое вышло из Кремля. Одна лишь четкость в шаге их нескором Напоминала о военных днях. Обтянутые красным коленкором Коробочки несли они в руках. По Красной площади шагали трое Строителей, питомцев Метростроя. Один был в гимнастерочке короткой С петлицами небесной синевы. На крепкий чуб надвинутой пилоткой Слегка смущал он девушек Москвы И приводил мальчишек в исступленье, Рождая бурю счастья и тревог: «Смотри, смотри! Вот звездочка, и Ленин, И рядом метростроевский значок». Второй товарищ — длинный, рябоватый, Серьезен слишком — видно по всему. Не угадать, что голуби с Арбата — Лишь свистнет — вмиг слетелись бы к нему. Шагает он походкою степенной, Как будто бы идет издалека. Два ордена, гражданский и военный, Оттягивают лацкан пиджака. И мальчики глядят вослед влюбленно И, забежав, шагают впереди. Эмалевые красные знамена, Как сгустки славы, на его груди. А третий? Что рассказывать о третьем? Восторженно глядел он на друзей И видел их в том розоватом свете, Что осужден в поэзии моей. Да, третий самой младшею медалью Был награжден, но все ж гордиться мог Тем, что на ней отсвечивают сталью Скрещенные винтовка и клинок. Найдя приют в кайтановской квартире, Отметили мы этот славный день. Я не решаюсь говорить о пире, Чтоб не набросить на героев тень. Пишу об этом в самом строгом стиле. Пусть думают, что парни из метро, Как ангелы, коль что-нибудь и пили, То, скажем, в крайнем случае — ситро. И вновь и вновь хотелось нам друг другу Рассказывать о впечатленьях дня: Когда Калинин пожимает руку, Пускай твоя большая пятерня Не выражает чувства слишком крепко — Михал Иваныч выдержит едва ль. Таких гостей встречает Кремль нередко, Восторженных, с ладонями как сталь. А Леля только ахала: «О, боже, Какое счастье! Как вам повезло! Когда я героиней стану тоже, Кайтанову на гордость и назло?» Довольно о наградах, критик скажет. Их воспевать не стоило труда. Теперь не носят орденов и даже Прикалывают планки не всегда. Но вы, товарищи, меня поймете: Была такая ранняя пора — Еще у орденов на обороте Трехзначные писались номера. Мы праздновали жизнь, весну, удачу. Хватало яств на Лелином столе. Всем вместе нам, со Славиком в придачу, Едва-едва исполнилось сто лет. Не знаю, это много или мало? Но тут в дверях послышался звонок, Вошел парторг, и всем нам сразу стало Не сто — сто шестьдесят один годок. Ширококостый, в гимнастерке синей, Он трижды крепко обнял сыновей. Да, каждый мог ему считаться сыном По трудовой истории своей. Его, как прежде, дядею Сережей Мы называли, но казалось нам, Что стали старше мы, а он моложе, Коль возраст измерять не по годам. Мы этот вечер в точности опишем. Какая Леля странная была: Она о том, что приезжал Акишин, Хотела рассказать и не могла, — Боялась фразою неосторожной Его любовь задеть иль оскорбить. А скрыть, что приезжал он, невозможно, И все ж она не знала, как тут быть. Спасибо, Славик выручил, поведав, Что к ним хороший дядя приходил, Плескался в ванне, ночевал, обедал, Играл. А папу звал он «бригадир». «Моряк Акишин! Это гениально!» — Кайтанов восторгался и шумел, Не замечая, что жена печальна И у нее другое на уме. И грянул разговор многоголосый, Теперь знакомый каждому из вас, Все эти явно штатские вопросы И бесконечный фронтовой рассказ: Рассказчик начинает про другого, А все ж нет-нет и о себе ввернет, И даже то невиданно и ново, Что всем давно известно наперед. В речах мы упражнялись, как витии, Но кое-как беседа перешла От фраз высоких на дела земные, Вернее — на подземные дела.Глава двадцать четвертая КАК ПРОВАЛИЛСЯ КАЙТАНОВ
Кайтанов и Леля проходят по штольне, Дают указанья своим бригадирам. Вдруг шепчет она: «Ты такой недовольный, Иль я тебе в чем-нибудь не угодила?» Кайтанов глядит на начальницу строго, По лбу пробежала печальная тучка. «Все правильно, только обидно немного, Что ты инженер, а твой муж — недоучка». «Но ты на метро человек знаменитый, Тебе в институты все двери открыты. Экзамены осенью». — «Разве успею?» «Ты должен успеть! Обязательно это!» Ну как описать мне его эпопею, Отнявшую все межвоенное лето? Он бился с науками, книги читая В столовой, в конторе, в вагоне трамвая. А дома газетой накрытая лампа Всю ночь освещает гранитную щеку, Подпертую — тоже гранитною — лапой. Успеть бы, успеть бы к заветному сроку! Когда же вчерашнею станет газета И в окна вольются потоки рассвета, Заснет он, свой письменный стол обнимая. В объятиях Коли пылает планета, Мучительны сны без начала и края: Горят города, умирают заводы, На дно океана идут пароходы… Откуда возникло виденье такое? Не спрятаться, не заслониться рукою. Наверное, сны излучает газета, Которая лампочкой за ночь нагрета? А утром на шахте ты снова ударник, Будь весел и бодр. Все чудесно на свете! «…Вчера англичане оставили Нарвик…» — Случайную фразу услышишь у клети. Спецовки измазаны глиною рыжей, Проходческий щит заливает водою. В забое вдруг скажут: «…А немцы в Париже…» — И близко дохнет неизбежной бедою. За тюбингом тюбинг — чугунные кольца Туннель образуют средь грома и стука. И новеньких надо учить добровольцев Проходке, чеканке и прочим наукам. Не сразу дается бетонная масса — Набьешь синяков, пробираясь по штрекам… А вечером сходимся мы заниматься Далекой порой — девятнадцатым веком. Учебник толкует о жизни бесстрастно, О смелом и нежном — уныло и строго. Я взялся помочь Николаю, но ясно: Не выйдет уже из меня педагога. Сидим — голова к голове — на кушетке, Читаем стихи наших предков могучих. Как чудно звучат средь громов пятилетки Некрасов и Лермонтов, Пушкин и Тютчев! Лишь месяц остался. Декада. Неделя. И Колины нервы на крайнем пределе. Экзамен! Экзамен! Пора! Ни пуха тебе, ни пера! Стоит Николай пред ученым синклитом, Билетик раскрыл и глядит на вопросы. Зачем здесь Оглотков? Вон с краю сидит он, Слюнявя холодный мундштук папиросы. Ах да! Он теперь аспирант института. В комиссии секретарем, вероятно. Увидел Кайтанова, и почему-то Ползут по щекам его бурые пятна. Смущает Кайтанова старый знакомый, И вот уже Коля не помнит бинома, Волнение в горле застряло, как пробка, И что-то бубнит он невнятно и робко. В забоях Москвы и в карельской разведке Он все позабыл, что прошел в семилетке, Денька одного не хватило и часа Программу пройти до десятого класса. Сейчас он провалится с треском и громом! Поскольку со мной это тоже бывало, Вопрос задаю я друзьям и знакомым: Ужели вы прожили жизнь без провалов? Профессор помочь ему хочет, но тщетно. Смелей, бригадир! Что случилось с тобою? Но радость Оглоткова Коле заметна, И память о прошлом — как отзвуки боя. И он возвращает измятый билетик: «Наверное, мне в институте не место, Простейших вещей не могу я ответить, А ждать снисхождения было б нечестно, Приду через год». И решительным шагом Он вышел, стуча каблуками чеканно. Оглотков зашарил рукой по бумагам, В нем вспыхнула зависть, как это ни странно: «Какая таится в Кайтанове сила, Он и провалиться умеет красиво! А мне и в победе отрады не будет, — Таланты мои проявить не давая, Стоят на дороге такие вот люди, Повсюду растут, как преграда живая». И вспомнил он часть этой светлой преграды — Веселых ребят из ударной бригады: «Теплова заделалась важной персоной — Ей дан в управленье участок кессонный. А летчик Уфимцев — не слишком ли скоро Мальчишке присвоили званье майора? Алеша Акишин — сопляк и негодник — Теперь краснофлотец и даже подводник. Еще сочинитель в компании этой. Шагает он весело по неудачам, Его комсомольцы считают поэтом, А критик назвал „оптимистом телячьим“». Бессильно бесился товарищ Оглотков И всех был готов посадить за решетку. Зажать бы людские дороги и судьбы, Своей подчинить отравляющей воле, А самым ретивым — тем шею свернуть бы, Чтоб только не чувствовать собственной боли, Чтоб только не видеть, как неумолимо Горой на тебя наползает эпоха, Где строят, как дышат, где правда любима, Где места не будет для чертополоха. Учение в голову что-то не лезло. На черта сдалась ему аспирантура! А мир наполнялся бряцаньем железным, Далекие выстрелы слушал он хмуро. И время в ускоренном темпе шагало. Два раза одежды меняла природа. Весна сорок первого года настала, Настала весна сорок первого года. Той нежной весной мы встречались не часто, Друзья-метростроевцы. Славик был болен. Кайтанов со смены бежал за лекарством, Над жаркой кроваткою плакала Леля. Не плачь, инженер, что пронизано детство То хрипом простуды, то пятнами кори. Сынок выздоравливать стал наконец-то. Еще впереди наше главное горе. Мы выдержим! Много товарищей рядом! …Но я про Оглоткова речи не кончил. Тревожному времени рад и не рад он: Скрестились в нем качества зайца и гончей.Глава двадцать пятая В ИЮНЕ, НА РАССВЕТЕ
Брюссель безжалостно разграблен, Придушен древний Амстердам, С петлей на шее Копенгаген, И Прага — боевой плацдарм… Как было б тихо все и мило, Когда б не эти времена! Скучает под Берлином вилла, Там Грета бедная одна. А муж, любивший жар каминный, Картишки, тихий разговор? О боже мой! Он ставит мины! Подумать страшно: он сапер. На Гуго каска с эдельвейсом, На пряжке, надпись: «С нами бог». Берлин сквозным проехав рейсом. Домой он забежать не смог. Его в Париже звали «бошем», Но там он очень славно жил, А вот сегодня переброшен Вдруг на восток, в унылый тыл. Зачем? Солдат обязан строго Секретный выполнить приказ. Но вот знакомая дорога, По ней он едет в третий раз. (В Москву он ехал и обратно Когда-то мимо этих нив.) На летний мир смотреть приятно, Глаза ладонью заслонив. И лишь когда на берег Буга Июньской ночью вышел взвод, Догадка осенила Гуго И вызвала холодный пот: «А как же договор с Россией? Ведь это ж подлость и обман!» А вот тебя и не спросили! Над Бугом ежился туман, Мерцали огоньки в долине — Так близко, хоть подать рукой. Пел соловей на Украине, Из Польши отвечал другой. И вдруг ракета в небе сонном, Снаряда первого полет. И Гуго со своим понтоном К чужому берегу плывет, Где пограничники в секрете, Вступив с врагом в неравный бой, Костьми полягут на рассвете, Отчизну заслонив собой. И на душе у Гуго пусто, — Коль у него была душа, — Застыли мысли, сжались чувства. И он плывет, плывет, спеша В края, где он бывал когда-то Как друг. Но он ходил тогда Не в тесном кителе солдата, А в робе, сшитой для труда. Забудь! Забудь! Ты часть машины, Дерзнувшей растоптать весь мир. Как схож шинели цвет мышиный С окраской танков и мортир! Грузовиков тупые морды, Кривые лица егерей… Рванулись в наступленье орды Читавших Ницше дикарей. Ревут моторы на пределе. Итак, недели через две, А может, и через неделю, Придется побывать в Москве. …Москва! И молодой и старый, Мой город ненаглядный спит. Молчат застывшие бульвары, Зеленые, как малахит. Волшебна эта ночь в июне, Кратчайшая из всех ночей. Как тихо… Ветерок не дунет, Не потревожит москвичей. Мир предрассветный чист и хрупок, И озаряет темноту Лишь буква «М» из красных трубок, Вход в Молодость или в Мечту. Там, под землей, в сыром туннеле, Грохочет полуночный труд. Кайтановы о важном деле На рельсах разговор ведут. Им предстоит в июле отпуск — Шахтком вручил путевки в Крым. «Позволь, отец, а как же отпрыск?» «Пусть бабушка побудет с ним». Нет! Без него не может Леля Пробыть и дня. Он так болел! «Возьмем его с собою, что ли? Подправить парня врач велел». Идет бетон тяжелым валом В тот предрассветный час, когда Рванулась по карельским скалам И по карпатским перевалам Вослед за орудийным шквалом На нашу родину беда. …Заря несмело замерцала На самом верхнем этаже. Я отложил перо устало, Пора бы и прилечь уже. Взглянул в окно. Бульвар и площадь Слегка увлажнены росой. И солнца первый луч на ощупь Скользит по линии косой. И сквозь сиреневую дымку, Сквозь тополиный теплый снег С несмелой девушкой в обнимку Идет военный человек. Да это ж Слава, право слово! Он не один! Вот это ново! Кто эта девушка? Не знаю, Но вижу, как она, горда Тем, что влюбилась навсегда. Ее рука, почти сквозная, Еще не ведала труда. Она — другое поколенье, Что подросло за нашим вслед. Но Слава ищет повторенья Неповторимых юных лет. И иногда бывает страшен Его печальный долгий взгляд: Вдруг назовет не Таней — Машей. И вспыхнет, словно виноват, И повторяет: «Таня, Таня…» И снова счастлива она. А ты готова к испытанью? А ты готова к расставанью? Сегодня началась война.Глава двадцать шестая ТАНЯ
На мирной жизни белые кресты — Полосками заклеенные окна; Столица не лишилась красоты, Но посуровела, чуть-чуть поблекла. Любимая с морщинками у глаз Порой нам прежней юности дороже. У Лели выдался свободный час, А дома Славик снова неухожен. Она пришла и, не жалея рук, Помыла пол, бельишко постирала. Тут в дверь раздался осторожный стук. Гостей сейчас как раз недоставало! В спортивной курточке, лицом светла, Тревожно теребя косички хвостик, Застенчивая девушка вошла. Впервые вижу! Это что за гостья? «Я Таня. Мне рассказывал о вас Уфимцев Слава… Вы уж извините… Я к вам пришла узнать, где он сейчас… Он потерялся в первый день событий…» «Давно ли, Таня, вы знакомы с ним?» «Мы повстречались в мирный день последний». «А почему он вам необходим?.. Зайдите! Что же мы стоим в передней?» И девушка пристроилась бочком На валике дивана неуклюжем И снова стала говорить о том, Как ей хотя бы адрес Славы нужен. И, веря в возникающую связь С девчонкой этой, Леля ей призналась: «Он улетел и с нами не простясь, А впрочем, это с ним уже случалось… Вот мой сынок. Остались мы вдвоем — Муж с третьего июля в ополченье. Давайте, девушка, чайку попьем. У нас, выходит, общее мученье». И Таня, всё не поднимая глаз, Минут за сорок Леле рассказала, Не оставляя правды про запас, Своей любви волшебное начало: «У нас был в школе вечер выпускной. Мы пригласили летчика-героя. Со всеми пел он, танцевал со мной, А после, предрассветною порою, Пошел он провожать меня домой, Хоть я живу с десятилеткой рядом. Мы двинулись дорогой не прямой — Бульварами, потом Нескучным садом. И я позволила себя обнять. И он сказал: „Весна пришла опять…“» «Так, что, не пишет?» «Нету ни строки!» «Вы не волнуйтесь, мой не пишет тоже. Они у нас немного чудаки И друг на друга до чего похожи!» И Тане стало страшно, что она, Стремительно заняв чужое место, Здесь принята как Славина жена, Хотя не называлась и невестой. А вот и Лели очередь пришла, Ей так хотелось рассказать о муже. «Его я задержать в тылу могла, Поскольку он на шахте очень нужен. Нам, метростроевцам, дана броня, А я его начальник по работе. Спросили, как положено, меня. Что мне ответить? Вы меня поймете. „Пускай идет на фронт“, — сказала я, А после ночь белугой проревела. Тут все едино — шахта и семья. Протестовало сердце — и велело». «Я знаю, знаю, что такое долг. Мне прививал понятие о чести Мой папа. Он под Минском принял полк, Три дня сражался и пропал без вести. Глазами я похожа на отца, Так все считают, но не в этом дело. Я, сохранив черты его лица, Характер бы его иметь хотела! Я тоже скоро в армию пойду, Мне через месяц будет восемнадцать. На фронте я Уфимцева найду… Не надо, Леля, надо мной смеяться!» «Не обижайтесь, девочка! Смеюсь По-дружески. У нас такое было. Я вспомнила, чтобы развеять грусть, Как на себе Кайтанова женила. Ой, сын услышит! Расскажу потом: При нем теперь нельзя сказать ни слова…» Осенний сумрак, затемняя дом, Неспешно сделал комнату лиловой. И вдруг прожектор в облаках пророс. Знакомый голос сдержанно и строго В картонном черном диске произнес: «Граждане, воздушная тревога!» Они идут, стараясь не бежать, Почти несут примолкшего мальчишку, Сейчас, пожалуй, Леля — только мать… А Таня, взяв хозяйский плед под мышку, Идет и удивляется сама, Что ворвалась так просто в жизнь чужую. Вокруг пальба. Качаются дома. «Но не страшны мне эти свет и тьма, Когда за ручку Славика держу я!» Летят навстречу улицы Москвы, Родные переулки и бульвары, Как повзрослели, изменились вы, Встречая грудью первые удары! Вот баррикада, в сумраке черна. Но это не Парижская коммуна, Не Пятый год, а наши времена, Колючей нашей юности трибуна. И наконец, метро. Они бегут По переходам мраморным в туннели. Не сосчитать детей и женщин тут. Нашлось для Славки место еле-еле. Укутан пледом, быстро он уснул На раскладушке плотницкой работы. Сюда не долетал ни гром, ни гул, — Отогнаны, быть может, самолеты. А Леля с Таней, став к плечу плечо, Задумавшись о Коле и о Славе, Вздыхали и дышали горячо В большом и тесном человечьем сплаве. Передают, что до пяти утра Сегодня бесполезно ждать отбоя. Сказала Леля: «Мне идти пора, А мальчика оставлю я с тобою. Держи ключи! В квартире, за окном, Найдешь кастрюлю с соевою кашей». Поймала Леля вдруг себя на том, Что с Таней говорит, как будто с Машей. Тревога продолжалась. Мальчик спал Под Таниной надежною охраной. Туннелем, по ступенькам черных шпал, Шла Леля. Ей на шахту нужно рано. Шла Леля, узнавая те места, Где нам открылась жизни красота: Здесь Николая встретила она, Тут мы сдержали натиск плывуна. И сбойка первая была вот тут, Где женщины конца тревоги ждут. А над столицей, над ее судьбой В скрещении мечей голубоватых Крутился и пылал воздушный бой Предвестием победы и расплаты. Но в том бою, как я узнал потом, Майор Уфимцев за турелью не был. Ни в тучах над Москвой, ни на другом Расчерченном в штабах квадрате неба.Глава двадцать седьмая НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНЬЕ
Закончено срочное обученье. По мокрым колосьям несжатой ржи Выходит народное ополченье На подмосковные рубежи. Дождь шелестит по осенним рощам, Суглинок чавкает под ногой. Есть высшая правда в порыве общем, И штатские люди идут в огонь. В очках, неуклюжи, сутуловаты, Обмотки вкривь, и пилотки вкось. Но всей душою они солдаты, Коль в руки оружие взять пришлось. Пустынны, печальны деревни, дачи И пионерские лагеря. Вперед! Не умеем мы жить иначе, — Советские годы прошли не зря. Идут ополченцы по доброй воле. И каждому сердцу близки до слез В столбах электрических линий поле, Да церковь старинная, да совхоз. С двумя орденами на гимнастерке Шагает с ротою политрук. Он виден сейчас вон на том пригорке. Да это ж Кайтанов, мой старый друг! На марше он принял подразделенье. С бойцами еще незнаком почти. На карте осталось одно селенье, А дальше защитникам нет пути, А дальше зигзагом ползут окопы, Отрытые школьницами Москвы, И орды, пришедшие из Европы, Таятся в клочках неживой травы. Там Гуго до ночи расставил мины, В суглинке сыром с головы до ног, Село за бугром превратил в руины, Чтоб русский покоя найти не мог. Сегодня море ему по колено, Стоящему по колено в грязи. На фронте Гуго сто дней бессменно, И чешется тело в этой связи. Скорей бы в Москву, отдохнуть, отмыться! Устал он, давненько не видел снов. Но вышла навстречу врагу столица Тяжелым шагом своих сынов. Может, история и осудит То, что на гибель обречены Были тогда пожилые люди, Такие, что каждому нет цены. Но остается в веках незыблем Подвиг советской большой души… Смело сражались и честно гибли, Не пожелав переждать в тиши. Идут ополченцы в осеннем мраке, Несут круги минометных плит, А где-то накапливается к атаке Сибирских дивизий живой гранит. Идут ополченцы. Глядит Кайтанов В небритые лица своих бойцов. Среди краснопресненских ветеранов, Ученых мужей и худых юнцов Он видит глаза, что не смотрят прямо. Ужели Оглотков? Ну да, он самый! Что привело его в ополченье? Был я, быть может, не прав, когда Растил к нему ненависть и презренье, Давние разворошив года? …Ночь. Ополченцы в окопах дремлют, Вновь по спине озноб пробежал. Первый снежок покрывает землю Возле последнего рубежа. Где ж отступления край и мера? Как удержаться у стен Москвы? Что же осталось нам? Только вера В то, что рубеж не река, не рвы, А мы с тобой, непреклонность наша, Крепкая, как советская власть. До края народных страданий чаша. Решенье одно — победить иль пасть. Хмурое утро. Деревьев шелест. Первые заморозки в октябре. Русской природы седая прелесть Писана чернью на серебре. Глянь, политрук ополченской роты, — Хлынуло зарево за бугром, Враз пулеметы и минометы Перемешали огонь и гром. И началось. По окопам хлещет, Глину меся, разрывной металл, Смерть упражняется в чет и нечет. Вдруг человек над окопом встал И побежал. Не на бруствер вражий — Петлями заячьими назад, Единым махом через овражек, Выронив диски и автомат. Кто это? Что ж он подставил спину Пулям немецким, летящим вслед? Вот кувыркнулся и рухнул в глину, Черным увидев весь белый свет. Может быть, ранен? Убит, пожалуй! Трус погибает — таков закон. Земля окрасилась кровью, — алой, Но не годящейся для знамен. Начал опять пулемет татакать. Но ополченцы стеной стоят. Снова захлебывается атака, Немцы откатываются назад. Падают воины Красной Пресни, Пулей последней разя врага. Коля, не дрогни, держись, ровесник! Жизнь впереди еще так долга, Будет еще не одна канонада, Будет еще не одна тишина. Нам еще столько построить надо В послевоенные времена! …Из штаба дивизии по овражку Связной добрался, живой едва. От комиссара принес бумажку, Где полусмыло дождем слова: «Всем метростроевцам надо срочно Покинуть рубеж и идти в Москву». «Вы, политрук, с Метростроя?» — «Точно. Еще есть один, сейчас позову. Боец Оглотков!» Но нет ответа. «Товарищ Оглотков!..» Молчит окоп. «Ползите в тыл. Хоть опасно это — Обидно в спину, уж лучше в лоб». С таким напутствием невеселым Кайтанов пополз через поле в тыл. На поле себе он казался голым, Добраться б до леса хватило сил! В одну из коротеньких передышек Увидел он рядом труп беглеца. Удар разрывной весь затылок выжег, В черной крови не узнать лица. Но виден знакомый клин подбородка, Надменно стиснутый тонкий рот. Чудес не бывает — это Оглотков, Списанный веком самим в расход. Вздрогнул Кайтанов, и сердце сжалось Хлынувшей памятью давних лет. Что это было? Быть может, жалость? Как объяснить вам? Пожалуй, нет. …В штаб он приполз на исходе ночи. Сказал ему раненый комиссар: «В Москву отправляйтесь. Нужны вы очень. Сам Главковерх приказ подписал. Придется пешком. Да тут недалеко, Машина попутная подберет». Небо в лучах. Самолетный клекот. Коля Кайтанов в Москву идет. Я понимаю его мученье. Шел он, шатаясь, ругаясь зло: Трудно ему оставлять ополченье, Где так отчаянно тяжело.Глава двадцать восьмая 16 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
Кайтанов приехал в Москву на рассвете На стонущей, на санитарной машине И бросился в жадной тревоге к газете, Заиндевевшей в разбитой витрине. Враги прорвались на Центральном участке. Нельзя не признать положенье суровым. Трудней, чем сражаться, читать о несчастье, Коль вышел из боя живым и здоровым. О том, что война подошла к Подмосковью, Стихи говорили на третьей странице, Они послесловие иль предисловие К судьбе нашей родины, нашей столицы? Кайтанов на подпись взглянул: нет, не Женя! О нем уж давненько ни слуху ни духу. Не знал бригадир мой, какое сраженье Окрасило кровью речушку Синюху. Не знал он, что я, не до смерти казненный, Влачусь, задыхаясь, от лога до лога, И серою лентой, как бинт запыленный, За мною разматывается дорога. Кайтанов прислушался к длинному грому, Летевшему с запада тихим раскатом, И шагом неровным направился к дому, Усталый, тяжелый, с лицом виноватым. В подъезде багры он увидел и бочки С тончайшим песком, для бетона негодным. Копаться бы Славику в этом песочке, Увы, не до игр нашим детям сегодня! Квартира пуста, и раскиданы вещи. И тихо. Лишь падают капли из крана. Посуда на кухне мерцает зловеще, И шкаф незакрытый зияет, как рана. Скорее на шахту. В конторе сказали, Что сын и жена на Казанском вокзале, А сам по приказу в четырнадцать тридцать Кайтанов к наркому обязан явиться. Вокзал задыхался от пепла и пыли, Крылами он бил, как огромная птица. Рабочие люди станки проносили — Сгибаются плечи, искривлены лица. Но плечи им гнут не стальные детали, На сердце их тяжесть весомее стали. Их взгляд непреклонный Кайтанова тронул, Но ярость в сознанье прихлынула сразу: Какая-то сволочь бежала к перрону, Прижавши к груди антикварную вазу. Развязанный галстук, дрожащие губы, Одна на другой две хорьковые шубы. Кричали на ближних путях паровозы, И утро мерцало сквозь дождь, как сквозь слезы. Бесшумно пришел, поравнялся с платформой Особый состав, удивительный поезд — Стеклянный, сквозной, обтекаемой формы. Толпа загудела, шеренгами строясь. И Коля вагоны узнал, что ходили У нас под землей с тридцать пятого года, Не знавшие дождика, снега и пыли, Ни разу не видевшие небосвода. Казалось, им все незнакомо и ново И щурятся окна от света дневного. Мой свадебный поезд! Вовек не нарушу Наш первый закон — комсомольскую верность! С той болью, как кровь проступает наружу, Вагоны пришли из метро на поверхность. Впервые их вез паровоз — осторожно, Шипя тормозами, страдая одышкой. Кайтанов среди суматохи тревожной Увидел жену с оробелым сынишкой. Он взял их в охапку, но вышло объятье Каким-то колючим, каким-то холодным. Печалью отмечено, словно печатью, Слилось оно с давкой и горем народным. Детей отправляют куда-то за Каму. «Одних?» — «Нет, с начальницей детского сада». «Ты слушайся тетю, как папу и маму. Платок не развязывай! Плакать не надо…» Посадка объявлена. Найдено место. В вагоне прозрачном и душно и тесно. Тут дети, старухи и ранние вдовы. Темны их одежды, подглазья лиловы. И кажется, громкая речь невозможна В тоске их железной, печали дорожной. И только огромный небритый красавец, Что он композитор, орет без умолку, Узлы перетаскивает, толкаясь, Бранится, отдельную требует полку. Пора провожающим выйти. Отправка. Уехал наш мальчик, наш Славик, наш Славка. «Увидимся скоро. Сынок, до свиданья! Мы знали, что ты молодец настоящий!..» …Глядит изумленно равнина седая На поезд нарядный, к востоку спешащий. Навстречу ему эшелоны с войсками, Теплушки с гармонью и песней лихою, Платформы с орудьями, броневиками И танками, плотно укрытыми хвоей. Кайтанов с трудом уводил от вокзала Подругу свою. А Елена молчала. Лишь выйдя на площадь, Кайтанов заметил, Что робкой походкой идет с ними рядом Какая-то девушка. Взгляд ее светел, И пасмурный день освещен этим взглядом. «Знакомься! Невеста Уфимцева, Таня. В квартире мы с нею живем, как сестрицы». Сквозь дождика детское лепетанье Втроем они шли по военной столице. О сыне — ни слова. В суровой печали О Славике все они вместе молчали. Оставив двух спутниц в простуженном сквере, Где днем отдыхали аэростаты, Кайтанов, привычно заправку проверив, Вошел в кабинет, где бывал он когда-то. Угрюмый нарком метростроевца слушал… Хоть веки усталость намазала клеем, Толчками вливалось спокойствие в душу: «С такими людьми мы врага одолеем». Он тихо сказал: «Ты отозван из роты Для новой, особо серьезной работы. На Волгу сегодня же выехать надо: Опасность и здесь, и на юго-востоке; Ты должен для жителей Сталинграда Убежища вырыть в короткие сроки». Кайтанов вздохнул, распрощался и вышел, Ни Лели, ни Тани он в сквере не встретил. Тревога… Тревога… Зенитки на крышах. Стучат. И летает лохмотьями пепел. И снова вокзал, эшелон и дорога. Налет и бомбежка, отбой и тревога.Глава двадцать девятая НА МОРЕ ЧЕРНОМ
Замкнулось окруженье в Приднепровье, Видна в бинокль противнику Москва. В лесах осенних желчь смешалась с кровью, В полях железной сделалась трава. Родные реки взбухли, словно вены, Побагровело зарево зари. И где-то заключают джентльмены О сроках нашей гибели пари. А летчики сгорают в самолетах, Чтобы в цистерны врезаться внизу, И девушки молчат на эшафотах — Не вырвете признанье и слезу. Кто видел в жизни сразу столько горя? Кто справиться бы мог с такой бедой? Война идет на суше и на море, Война и над землей, и под водой. На море Черном, море непокорном, Потоплен транспорт вражеский вчера. По серым волнам носятся проворно Немецкого конвоя катера. Они бомбят. Они в запале мести. Столбы воды. Столбы огня и гром. Уже известно им, что в этом месте «Малютка» прячется на дне морском. Должно быть, у советской субмарины Все управление повреждено, Коль на поверхность вынесли глубины Большое маслянистое пятно. Но слишком рано о подводной лодке, Чей след соляром черным забурлил, Как о сраженной, в геббельсовской сводке Уже кричит по радио Берлин. Когда бы сквозь заклиненные люки, Сквозь толщу вод проник в отсеки свет, Видны бы были лица в строгой муке, Да, в строгой муке. Но не в страхе, нет. Высокий лоб морщиной перекошен, Краснеют жилки воспаленных глаз. Мне б лучше не узнать тебя, Алеша! И надо ж было, чтобы ты как раз! Давление — как в камере кессонной На дне морском, на черной глубине. Один товарищ совершенно сонный, Другой хрипит, а третий как в огне. И хоть понятно всем: приходит крышка, — А умирать не научились мы. «Друзья, держитесь, — шепчет наш малышка, — Никто не даст нам мужества взаймы». Алеша, милый, как же мы считали, Что мал ты сам и что душа мала. Бывало, недомерком называли И обижали, не желая зла! А вот сегодня в званьи краснофлотца Выносливым ты оказался, брат. Бывает, что струна не скоро рвется И держит тяжесть дольше, чем канат. Он аварийный свет зажег и пишет… Что он там пишет в вахтенный журнал? Опять я узнаю тебя, Акишин, Всю жизнь ты письма длинные писал. Но это вынуждено быть коротким. Ломается, крошится карандаш. Все меньше воздуха в подводной лодке, И в срок такой всего не передашь. В журнале вахтенном маршрут исчислен, И на уже исписанном листе Словами недосказанными мысли Таинственно мерцают в темноте: «Любимая моя! В последний час Тебе пишу всю правду — в первый раз. (Потоплен транспорт в девять тысяч тонн, Но корпус лодки сильно поврежден.) Я чувств своих ничем не выдавал, Я никогда тебя не целовал. (Разбит отсек центрального поста. Матросов душит углекислота.) Ты не жалей меня. Я счастлив был Хотя бы тем, что так тебя любил. (Кончается зарядка батарей.) Я должен все сказать тебе скорей. (Наш командир убит.) Но стану врать, Что будто бы не страшно умирать». Медлительна, безжалостна природа. Живой Акишин смотрит в темноту, Вдыхает он остатки кислорода И выдыхает углекислоту. Вот больше нет ни горечи, ни боли, Но всем законам смерти вопреки Он сверху по странице пишет: «Леле» Квадратными движеньями руки. А толщи волн, колеблясь равномерно, Покоя ищут в черной глубине, Там, где, присяге оставаясь верной, Лежит «малютка» мертвая на дне. Хвостами травы донные лаская, Проходят рыб холодные тела, И, как на обелиск, звезда морская Над капитанским мостиком взошла.Глава тридцатая В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ
Приволжских степей голубое раздолье, До самого Дона равнины в полыни. Вот, кажется, ты уже справился с болью, Но вдруг она снова под горло нахлынет. Здесь люди ни разу не слышали грома И окна еще затемненья не знали. Все в тихой задонской станице знакомо, Хотя необычным казалось вначале. Камыш этих крыш, как свирели, изящный, Дымок горьковатый и запах кизячный. Подходят к садам и колхозной овчарне Просторы учебного аэродрома. Учлеты — безусые крепкие парни — Стучат в домино возле каждого дома. Полеты окончены по расписанью. Обед. Перерыв. А с шестнадцати в классы, На лекции. Завтра предутренней ранью По небу чертить пулеметные трассы. И снова обед, перерыв и занятья, И сон на хозяйской дощатой кровати. А где-то с врагами сражаются братья, И ворог советскую землю кровавит. Опять командиру отряда не спится На хуторе, под одеялом лоскутным. Возьми себя в руки, товарищ Уфимцев, Товарищи тоже по битве тоскуют. Легко возвращать рапорта подчиненным: «Вы здесь на посту! Вы готовите кадры». Но как запретить своим мыслям бессонным Страдать после каждого взгляда на карту, Где линия фронта змеится сурово К востоку от Харькова и от Ростова! Раз десять Уфимцев ходил к генералу. Тот злился: «У вас не в порядочке нервы. От вас еще рапорта недоставало! Лечитесь. Нет дела важней, чем резервы!» И снова он аэроклубовцев учит Фигурам и тактике встречного боя. Курсант Кожедуб поднимается в тучи, И эхо в степях отвечает пальбою. Уфимцев курсантам завидовать начал: «Они, окрылившись, умчатся отсюда, А я перед новыми ставить задачи Опять по программе ускоренной буду». Он зависть хранил, как военную тайну, Как нежность к неузнанной девушке Тане, Как память о той расцветающей ночи, Что так коротка — не бывает короче. И снова и снова он думал о Тане: Что с нею сегодня? А может, забыла? Он писем писать ей, конечно, не станет: Противно писать из глубокого тыла! И в степи один отправляется Слава, В осенних просторах спокойствия ищет. Печально шуршит под ногами отава, Зеленою пылью покрыв голенища… Из штаба бежит вестовой: «Я за вами, Товарищ майор, генерал вызывает!» Стоит генерал под крылом самолета. И тут же, как память о давнем несчастье, Под белой холстиной виднеется что-то На жестких походных носилках санчасти. «Тут к нам обратились… Тяжелые роды… В больницу доставить колхозницу надо. Придется, помощником став у природы, Везти эту женщину до Сталинграда. Вам ясно?» — «Я слушаюсь». — «Взлет разрешаю. Ответственность, видите сами, большая». И вот уже снизу мелькают овраги, Для боя — высотки, для мира — пригорки. «Нашлось наконец примененье отваге», — Уфимцеву в небе подумалось горько. «А может, не прав я?» В кабине учебной, Ремнями спелената, скручена болью, Ждет помощи женщина с грузом волшебным, С неначатой жизнью, зажженной любовью. Все будет! Земля станет юной, веселой, Мы в этой войне защитим Человека. Рождаются дети, которые в школы Пойдут в середине двадцатого века. Все будет! Все ясно и правильно будет! Твое поколенье — у мира в разведке. Нам смертью грозят, но рождаются люди — Герои шестой и седьмой пятилетки. Они по реликвиям и экспонатам, По книгам, рассказам и кинокартинам Представят ли, как было тяжко солдатам, Как их сквозь огонь было трудно нести нам? В руках твоих завтрашней жизни спасенье, Мечта о бессмертье, о нашем народе. Приволжье клубится туманом осенним, И солнце за линию фронта уходит. Ладонь как приварена к сектору газа. Задание срочное — жми до отказа. Плотнеет туман, и сгущается сумрак. И дождь бесконечный висит, как преграда. Ну, где этот самый Гумра́к или Гу́мрак, Окраинный аэродром Сталинграда? И вдруг под машиною мокрые крыши. Бензин на исходе. Потеряна скорость. И ветер отчаянный сделался тише, И стелется поле, травой хорохорясь. Порядок! Рывком открывая кабину, Кричит он бегущим под крылья солдатам: «Скорее носилки, врача и машину!» А ливень струится по крыльям покатым. Носилки тяжелые с грузом нежданным Солдаты в машину кладут осторожно… Согласно прогнозу и метеоданным, Сегодня обратно лететь невозможно. Что делать с собою? Иль в город податься? Как раз отправляется к центру автобус. И едет майор по земле сталинградской, Что осенью дышит, под ливнем коробясь. Он вышел на площади. Все здесь уныло, И мокрые зданья блестят, как в полуде. «Герой — представитель глубокого тыла», — Наверное, думают встречные люди! Тоска! Не избыть этой вечной обузы. Навстречу майору плывут из тумана Вокзал и танцующие карапузы Из гипса вокруг неживого фонтана. На площади в сквере пустом постоял он У братской могилы бойцов за Царицын. И к Волге спустился, шагая устало, — Напиться воды иль отваги напиться. Подумалось летчику: «Где заночую?» — И тут же в какую-то долю момента Он запах земли и железа почуял И тронутый сыростью запах цемента. Пахнуло весной, Метростроем, Москвою, И сделалось сладко, и сделалось больно. И верно — под кручею береговою Заметил он вход в невысокую штольню. Тонюсенький луч выбивался оттуда. Рывком распахнул он дощатую дверцу, И взору открылось подземное чудо, Знакомое с юности глазу и сердцу: Чумазые лампочки вглубь уходили, В край гномов, а может быть, в мир великанов. Навстречу, как в нимбе из света и пыли, Шел — кто бы вы думали? — Колька Кайтанов!Глава тридцать первая НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Комната с железной койкою Неуютна и тесна. Ясно, что у Славы с Колькою Эта ночь пройдет без сна. «Ну, рассказывай, рассказывай, Как Москва?» — «Москва цела». «Что ты делаешь здесь?» — «Разные Чрезвычайные дела Мы должны укрытья выстроить Хоть покуда не бомбят. Темпы требуются быстрые, Но не знает Сталинград, Что на всякий случай загодя Мы копаем у реки И вывозят глину за город По ночам грузовики». «Но до фронта расстояние — Километров восемьсот. Не вмещается в сознание, Что сюда война придет». «Ты пойми, в какой опасности Наш большой советский дом». «Тяжело… Замнем для ясности… Лучше с горя разопьем Жидкость пятисотрублевую Под названием „первач“. Есть и колбаса пайковая, Не угрызть ее, хоть плачь. За пилотов! За строителей! И за то, чтобы на фронт!» Выпили и снова выпили, С маху обжигая рот. Начинает речь не пьяную Слава, став еще мрачней: «Должен выпить за Татьяну я, Но не спрашивай о ней». «Не желаешь — не рассказывай, Скажешь — будет под замком. Впрочем, если кареглазая, Я с ней, кажется, знаком». «Шутишь!» «Не до шуток, где уж там. Разве я не рассказал? Вместе с Лелей эта девушка Приходила на вокзал». «Востроносенькая?» «Правильно!» «Это просто чудеса! Со стыда, что в тыл отправили, Я ей писем не писал». «Ты, Уфимцев, после этого Сукин сын. Но от души, Как товарищу, советую — Ты ей тотчас напиши». …Волга. Ночь. Пора военная. По стране бредет беда. Разговоры откровенные Утешали нас тогда. Невеселые признания — Память довоенных дней — И совместное молчание, Что порою слов сильней. Где метро вагоны синие? Увезли детей куда? Недостроенные линии, Может, залила вода? И сирены звуком режущим О тревоге говорят, И зовут бомбоубежищем Станцию «Охотный ряд». Вам, друзья мои угрюмые, Невдомек, что в этот час Кто-то помнит, кто-то думает, Кто-то очень верит в нас. Мрак в туннеле недостроенном, У насосов на посту Девушки стоят, как воины, Всматриваясь в темноту. Но не слышно стрекотания Боевого молотка В узкой штольне вижу Таню я — Робкий взгляд из-под платка. Ты ли это? Что ты делаешь У водоотливных труб, Неумелая, несмелая, С первой складкой возле губ? Или близости к любимому Ищешь там, где вырос он? Шелестит вода глубинная, Проступая сквозь бетон. По туннелю под Москва-рекой, Где замшел бетонный свод. С электрическим фонариком Кто-то ходит взад-вперед. И лицо, родное издавна, Различить во тьме я рад: Инженер Теплова призвана Охранять подземный клад. Обменялись Таня с Лелею Взглядами понятней слов. Жизнь с одной, похожей долею Их свела под общий кров. И друг друга любят спрашивать, Зная наперед ответ: «Как там наши?» — «Что там с нашими?» «Нет вестей?» — «Покуда нет». Бригадир и летчик! Слышите? Разговор о вас идет. Почему же вы не пишете Тем, кто любит вас и ждет? Вот где встречею недолгою Согреваете сердца: Не на фронте, а над Волгою, Что сейчас темней свинца. Вам на боевую вахту бы, Но пока приказа нет. Мирный, медленный над Ахтубой Проявляется рассвет. В хмуром небе не лучи еще — Световые веера. «Мне пора лететь в училище!» «Мне на свой объект пора!» Обнялись медвежьей хваткою, Разошлись походкой шаткою.Глава тридцать вторая УЗНИКИ
Лежит пластом плененная Европа, И явь ее страшней, чем страшный сон. На всем следы всемирного потопа И запах газа с именем «циклон», Изломанные свастиками флаги, И оккупанты, серые, как вши. …Сынов Германии в режимный лагерь Передало правительство Виши. Вагон был предоставлен коммунистам Такой, чтоб не сумели убежать. Так с родиной, любимой, ненавистной, Товарищ Фриц увиделся опять. Интербригадовца узнать не просто: За годы эти жуткие он стал От худобы как будто выше ростом, С лицом угластым, темным, как металл. Он видит аккуратные бараки И печь, где и тебя сожгут дотла. Худые тени движутся во мраке Вдоль ржавых ограждений в три кола. Натасканы на сладкий запах крови, Немецкие овчарки наготове. Сидит при счетверенном пулемете На черной вышке черный часовой. Ужели здесь гуляли Шиллер с Гете, Шел Вагнер с непокрытой головой? Но ты ведь тоже здесь! Ты их наследник, И неотъемлемы твои права. Сожми в кулак остатки сил последних, — Пока ты жив — Германия жива. Туда-сюда болотные солдаты Таскают бревна скользкие с утра. Их каторжные куртки полосаты, И на согбенных спинах номера. Сегодня в лагерь пригоняют русских. Здесь их сильнее, чем свободы, ждут… Вдруг замешательство в воротах узких, И вот они идут, идут, идут. Наручниками скованы попарно, Наперекор ветрам своей судьбы, Плечом к плечу шагают эти парни — Как бы оживший барельеф борьбы. В провалах глаз — сухой огонь расплаты. Покрыты пылью, плотной и седой, Шинели и матросские бушлаты, Пилотки, шапки с вырванной звездой. Их увидали узники Европы, Похожие на скопище теней. Тогда в толпе возник чуть слышный ропот, Как будто птицы пронеслись над ней. Сравняла арестантская одежда Берлинцев, москвичей и парижан. Но первый свет, но первый луч надежды По изможденным лицам пробежал. И потянулись месяцы неволи, Как звенья цепи, дни — один в один. А по ночам прилив душевной боли: «Германия! Ужели я твой сын?!» Прошла зима, за ней зима вторая. Фриц хода времени не замечал, Пока во тьме зловонного сарая Он русского бойца не повстречал. Кто этот пленник, окруженный строгим, Особым уваженьем земляков? Он очень слаб, едва волочит ноги, И на запястьях шрамы от оков. Его натянутые скулы смуглы, И губы ниточкой, и нос остер. Горячие глаза черны, как угли, Но сед его мальчишеский вихор. (Я видел раньше это непростое Лицо, но в повторенье — и оно Не горем, а девичьей красотою Казалось мне тогда озарено.) По слухам, он еще под Минском ранен. Враги в лесах охотились за ним. Друзья его зовут полковник Танин, Но, вероятно, это псевдоним. И в разговоре очень осторожном Они друг друга стали узнавать. Еще со смертью побороться можно — Двум не бывать, одной не миновать! «Ведь вы солдат Испании? Отлично. Не будем забывать своих забот. Антифашистов, вам известных лично, Пожалуйста, возьмите на учет. В отдельности поговорите с каждым. Проверить надо всех, не торопясь: Кто может справиться с заданьем важным И с Тельманом в тюрьме наладить связь? Товарищи из Франции и Польши Связались с партизанами уже. Не мне учить вас, чем живет подпольщик, Как ни было бы тяжко на душе». Они расстались. Все, как прежде, было: Овчарки, пулеметы, смерть и труд. Но Фриц дышал отныне новой силой, Сраженьем, продолжающимся тут. Стал этот лагерь, спрятанный за лесом, Среди полей сожженных и болот, Необычайным мировым конгрессом: Как там ни тяжело — борьба идет! (В последний час: в районе Орлеана Крушение устроили маки; На берегах Норвегии туманной Склад пороха взорвали рыбаки.) И комендант исходит лютой злобой: «Перестрелять евреев и цыган; Антифашистов — на режим особый, Сковать их по рукам и по ногам! Военнопленных русских — самых прытких Туда же, в карцер. И пускай они Отведают средневековой пытки, Усовершенствованной в наши дни». И вышло так, что в темном каземате, Где нет ни табурета, ни кровати, Среди промозглой сырости и мглы, Спина к спине — полковник Танин с Фрицем. По темным лицам ползают мокрицы… Ручные и ножные кандалы Несчастным не дают пошевелиться. О чем они кровавыми губами Друг другу шепчут? Кажется, о том, Что суждена развязка этой драме, Все в мире переменится потом. Москва в Берлин ворвется не для мести, Хотя жесток и страшен счет обид. Германия разбитая воскреснет, Преодолев отчаянье и стыд. Вернется Гете, возвратится Шиллер, И Вагнер в буре музыки придет. Так будет, будет! Так они решили, Встречая новый сорок третий год. (В последний час: у Волги и у Дона Кольцо замкнулось вкруг фашистских войск. Враг жрет конину. Тает оборона, Как в блиндажах на свечках тает воск. И залпы артиллерии советской По траектории вокруг земли Летят и тюрьмы сотрясают вестью, Что наши в наступленье перешли.) У заключенных времени так много! О прежней жизни, радостях, тревогах Они друг другу шепчут без конца. И слышат только стены одиночки, Что взял себе полковник имя дочки — Ведь это не зазорно для отца. Она в Москве. Она зовется Таней. Теперь уже ей девятнадцать лет. А у товарища воспоминаний Ни о семье, ни об уюте нет. Не делит он ни с кем своих страданий, Любовь — ему неведомый предмет. Он сын борьбы, и муж ее, и может Отцом ей стать и братом на века… Наверное, успеют уничтожить Его и русского большевика. Но если не бессмертны коммунисты, То дело их бессмертно! Вновь и вновь Они сражаются, идут на приступ, И в том их жизнь, их правда, их любовь. И русский вспоминает про метели, Что нынче закипают на Дону. Двадцатого столетья Прометеи, Они, как победители, в плену.Глава тридцать третья «ХОЗЯЙСТВО КАЙТАНОВА»
Поправившись после второго раненья, В песках и снегах, по разбитому следу, Заволжьем, минуя пустые селенья, Опять в Сталинград осажденный я еду. Уже иноземцы в кольце, словно волки, Вся в красных флажках наша карта штабная, Но нашим гвардейцам, притиснутым к Волге, По-прежнему трудно, и я это знаю. Вот берег. И дальше нельзя на машинах: Искромсанный лед, затонувшее судно, И в дымке над кручею — город в руинах. От края до края мертво и безлюдно. Иду к переправе. Опять перестрелка. Дубеет лицо от морозного ветра. У берега столб и фанерная стрелка: «Хозяйство Кайтанова — семьдесят метров». Быть может, ошибка? Не верится даже, Что встречу я здесь своего Николая. Спускаюсь в какой-то невзрачный блиндажик, Где в бочке поленья стреляют, пылая. А друг мой лежит на березовых нарах, Мучительный сон придавил его грузно. Он, в шапке солдатской и в валенках старых, Не сразу товарищем юности узнан. Читатель подумает: нет ли обмана? Поверить ли этому доброму чуду? Как будто нарочно, как пишут в романах, Встречаются эти ребята повсюду. Я тоже смущен совпаденьем немного. Но в нем ни фантазии нету, ни вздора. Ходите не с краю, а главной дорогой — И встретите всех, кто вам близок и дорог! «Проснись, бригадир!» Он припухшие веки Приподнял и мне улыбнулся устало, Как будто мы только что виделись в штреке, А лет этих огненных как не бывало. «Здоров, сочинитель! И ты в Сталинграде? Отлично! Садись. Раздевайся. Обедал? Досталось, однако, всей нашей бригаде. Но здесь нам должна улыбнуться победа». «Ты чем тут командуешь?» — «Строил туннели. А с августа послан держать переправу. Представь, что недавно — на прошлой неделе — Я видел вторично Уфимцева Славу. Он ехал взглянуть на фашистского аса. На сбитого летчика первого класса. Птенцов обучать довелось ему в школе. В глубоком тылу тяжело ему было, Он рвался на фронт, как орел из неволи, Но тут к нам война и сама подступила. Узнать бы еще, где Алеша Акишин! Должно быть, легка она — жизнь краснофлотца! Я спрашивал Лелю: он пишет — не пишет? Молчит, а сама, видно, ждет не дождется!» «Ты что это, вправду? Ревнуешь, быть может?» «Ничуть не ревную. К Алеше тем паче. Тут случай особый, он труден и сложен, Но Леля, как вспомнит Акишина, плачет. Вот Лелины письма, читай, если хочешь, У нас от товарищей нету секретов». Рукой он разгладил измятый листочек, В кармане его гимнастерки согретый: «Коля! Мы как-то неправильно жили. Мало смеялись и скупо дружили. Это в разлуке особенно видно. Не за тебя, за себя мне обидно. Вот и сейчас написать я хотела, Чтобы письмо голубком полетело, А получается как-то коряво… В полном порядке наш маленький Слава: Есть из-за Камы две телеграммы. Что у меня? Лишь тоска да работа. Жмем под землей до десятого пота. Но ничего, потруднее бывало — Стройка не сразу росла-оживала. Сам понимаешь, что сил маловато: Женщины только в метро да девчата. Вдовы, солдатки и брошенки вместе, Жены и дочки пропавших без вести, А из мужчин только дядя Сережа. Все на фронтах, на войне, кто моложе. Рядом со мною В мокром забое Девочки в тапочках — Цыпки на лапочках. Но к январю сорок третьего года Путь дотянули до автозавода. Поезд пустили! Не верили сами В то, что такое построено нами. Милый! Ну как там у вас, в Сталинграде? Чаще пиши мне любви нашей ради! Точка. Спешу. Начинается смена. Крепко целую. Елена». Сложил Николай этот листик заветный, Потершийся сильно на линиях сгиба, И, в печку подбросив хрустящие ветви, Задумчиво вымолвил: «Леле спасибо За веру в победу, которой так щедро Она одарила меня в эту пору». Мы вышли в поток сталинградского ветра, Чертовски мешающего разговору. Опять переправа под беглым обстрелом, А надо идти мне участком опасным, По черному льду, по настилам горелым, Туда, где спасают мечту о прекрасном. Прощаемся так, будто встретимся снова Сегодня иль завтра, — беспечные люди, Когда мы поймем, как разлука сурова И, может случиться, что встречи не будет. «Пока!..» «До свидания!..» Взмах рукавицы, И я ухожу по плотам и понтонам Туда, где разрушенный город дымится, Где нам потрудней, чем врагам окруженным. И в штабе дивизии, что над рекою Врыт в кручу, — над ним, по бугру, оборона, — К стене прислонясь, ощущаю щекою Шершавое прикосновенье бетона. И мне оно — как материнская ласка, Как юности, дружбы и силы примета. Куда ни пойду — всюду столб и указка: «Хозяйство Кайтанова» рядышком где-то.Глава тридцать четвертая ПЕСНЯ ЛЕТЧИКА
За год переломный, за год сорок третий Ни Колю, ни Славу я больше не встретил. На Курской дуге, у днепровских излучин Искал я их жадно, безвестьем измучен. И в сорок четвертом искал их на Буге, Мечтал их увидеть на Варте и Висле. Ну где ж вы воюете, старые други? Разлука рождает жестокие мысли. Весна сорок пятого… Если вы живы, То здесь, под Берлином, сражаться должны вы. …Над местностью горной, равнинной, озерной, В берлинской лазури пред штурмом последним Летает весь день самолет наш дозорный, Серебряный крестик над краем передним. То в облако скроется, то возвратится, Ведомый спокойной горячей рукою. Давно перестал я завидовать птицам, Завидовать летчикам — дело другое. Работа мотора доносится слабо, Кто там барражирует? Может быть, Слава? Под ним расстилается карта живая, Но кажется мне, что увидеть он может Не только всю землю от края до края, Но люди и судьбы видны ему тоже. Вон там, на опушке, землянка сырая, И если все видно насквозь с самолета, Там немец на нарах лежит, умирая, — Дыхания нет, лишь осталась икота. Колючим осколком живот его вспорот, От судорог он изогнулся упруго, И видно еще сквозь расстегнутый ворот — На бляхе овальной написано: «Гуго». Знакомое имя! Забудем навеки. А может, его пожалеем? Но позже! Сомкнулись прозрачные желтые веки… Как все мертвецы друг на друга похожи! Что летчику видно еще? Переправа: Наводят понтоны на речке немецкой. С высот поднебесных сумеет ли Слава В родное лицо командира вглядеться? Спешит командир, выполняя заданье, И так он отлично владеет собою, Что здесь не заметят, какое страданье Ему доставляет движенье любое. Конечно, покинул он госпиталь рано, Боясь опоздать к заключительной схватке. Раскрылась и ноет полтавская рана, И ноги от брестской контузии шатки. Летает, летает наш «Лавочкин-пятый», Как будто качаясь на синих качелях, И видно пилоту, как, сжав автоматы, Эсэсовцы пленных выводят в ущелье. Походкой неровною мимо «газовни», С землею и небом прощаясь навеки, Идет наш знакомый — советский полковник, А следом и Фриц, и французы, и греки. За час до спасенья погибнуть так глупо, Так страшно… Но если уж гибнуть, то с честью. К расстрелу отобрана первая группа. В ней немец и русский, пропавший без вести. Глядят на людей вороненые дула. Бессильно парит самолет в небосводе. Земля под ногами трясется от гула — Советские танки уже на подходе. «Огонь!» И полковник движеньем последним Собой заслоняет немецкого друга. А мир наполняется громом победным — То дизель-моторов могучая фуга. Охранники мечутся, к лесу примяты, Поняв, что уже не уйти от расплаты Но Танин отец не поднимется больше: К себе притянул он последнюю пулю, Ценой его жизни спасенный подпольщик Над ним как в почетном стоит карауле. Но горя не видно, наверное, с неба, Иначе бы летчик не выдержал муки И танкам на помощь бы ринулся смело, Раскинув сверкнувшие крылья, как руки. А он все летает, а он все летает, Как будто бы книгу вселенной читает. Я был в это утро в частях сталинградских, На временном их наблюдательном пункте: Им маршал на сутки велел окопаться. Змеятся окопы в рассыпчатом грунте. Развернута станция наведенья, При ней авиатор из Ставки главкома. Смотри — самолетов мгновенные тени Скользят по лицу, что нам очень знакомо. Антенна бамбуком серебряным вздета, Но нет от дозорного с неба ответа. «Я — „Сокол“. Прием». Узнаю я пилота, О нем написать бы особую повесть: Земля не забыла его перелета — Он с Чкаловым вместе летал через полюс. «Как понял? Прием». Но молчит поднебесье. «„Орел“, отвечайте, я — „Сокол“…» Нежданно Возникла в наушниках легкая песня, Над полем сраженья звучащая странно: «До чего обидно, что я ласков не был И не знал, что завтра улечу на фронт. Мы с тобой сойдемся, как земля и небо, Но не так-то близок общий горизонт». «„Орел“, прекратите! Обследуйте зону. Я петь запрещаю. Прием». Но оттуда, Где солнце несет золотую корону, Доносится песни веселое чудо: «Почему молчали сомкнутые губы? Впрочем, вероятно, ты была права. Мы такие люди, оба однолюбы. Нам даются трудно нежные слова». Взбешен авиатор из Ставки главкома, Грозит он пилоту лишением званий. Но в голосе дальнем во время приема Я слышу мелодию юности ранней: «Легкие размолвки навсегда забыты, Все у нас с тобою будет хорошо. „Орел“ говорит. Справа два „мессершмитта“. Снимаюсь с волны. На сближенье пошел» На бой из-под задранной круто фуражки Так страшно смотреть, аж по телу мурашки! Беззвучная буря крутящихся точек, И выстрелов пушечных нервные вспышки… Опять узнаю я уфимцевский почерк — Вокруг офицеры галдят, как мальчишки. И падает «мессер», крутясь и пылая, Эскадры Рихтгофена слава былая! В зигзагах окопов победу пилота Нестройным «ура» отмечает пехота. По синим лампасам ладонями хлопнув, Старик-авиатор вылазит на бруствер. И видно, что он человек не окопный И кое-что смыслит в воздушном искусстве. «Полковника надо представить к награде, Но пусть он поймет, что в бою не до песен. Придется его, назидания ради, На гауптвахту, да суток на десять». Гремело за Одером выстрелов эхо, Решались в сражении судьбы столетья. Из штаба я к летчикам на ночь поехал С надеждою Славу Уфимцева встретить. Но здесь появленье мое неуместно: В подвале разбитого бомбами зданья Полковник Уфимцев сидит под арестом За то, что он пел, выполняя заданье.Глава тридцать пятая БЕРЛИНСКАЯ ПОДЗЕМКА
По крыше, зеленой от окиси меди, Сжимая древко самодельного флага, Уже смельчаки добирались к победе Под страшным обстрелом на купол рейхстага. А нам с бригадиром пришлось по-иному Дойти до победы, дорогой особой: Мы шли под землей с фонарями, как гномы, Ручные гранаты швыряя со злобой. Был путь наш, пожалуй, не менее трудным, — Строителям вышло ползти, как нарочно, В метро, что зовется у них унтергрундом, Пять суток бессонных во тьме полуночной. С Кайтановым я повстречался случайно. Давно мы не виделись — более года. Фонарики наши скрестились лучами Под мутной капелью бетонного свода. Он звонко и молодо крикнул мне: «Женька! Тебя не хватало! Не лезь без оглядки! Тут можно взорваться, смотри хорошенько, Держись за мои боевые порядки». В квартале одном от позиции нашей В своем бетонированном подземелье Рейхсканцлер и фюрер, страну потерявший, Уже принимал ядовитое зелье. И умер он с Евой своей и собакой Как раз перед нашей последней атакой. В разбитом Берлине в канун Первомая Кончалась вторая воина мировая. Но здесь, под землей, продолжалось сраженье, В туннелях поверхностного заложенья. Мы шли, как проходчики, сжав автоматы, По метру туннель у врага отбивая. Пред нами отборные были солдаты, Грозящая гибелью тьма огневая. Но фюрер безумный последним приказом Призвал на подмогу стихию природы, — И вдруг через шлюзы, открытые разом, В туннели нахлынули черные воды. Из Шпрее и мутного Ландвер-канала, Как кровь из артерий, вода прибывала. Мы слышали хрип захлебнувшихся немцев, Последний отчаянный вопль человечий. Минута — и вот уже некуда деться, Холодные волны по пояс, по плечи… Бушует в туннелях весенняя Шпрее. И Коля зовет на поверхность скорее, И все это, кажется, очень похоже На то, как прорвался плывун под Неглинной… Был с нами Акишин, мы были моложе И не собирались идти до Берлина. Вот здесь перекрытье разрушили бомбы, И виден весеннего неба кусочек. Скорее нам выбраться в этот пролом бы! Вода ледяная кипит и клокочет. Мы вылезли мокрые, злые как черти, Как будто в гостях побывали у смерти. Нас улица встретила странным молчаньем: Рассвет словно в пекле пожаров разварен, И простыни ветер, как флаги, качает Над толпами немцев на грудах развалин. Мы далее поняли сразу, что это И есть долгожданная наша победа. Понять ее силу нам некогда было: Саперы пошли обезвреживать мины, А Коля был вызван к начальнику тыла И выехал срочно в предместье Берлина, Названье предместья как будто бы Цоссен. Весенних деревьев прозрачная просинь. Был штаб расположен в уютненькой вилле, Оставшейся целой в событиях бурных. Вниманье Кайтанова остановили Портреты хозяина в рамках фигурных. «Знакомая личность! Как будто когда-то Мы где-то встречались… Вот странность… А впрочем, Обычнейший немец в пилотке солдата, В мундире врага, не в костюме рабочем». …Штаб тыла загружен был новой работой — Снабженьем берлинцев крупою и мясом. Гигант-интендант, красный, в бисере пота, Орал в телефоны сорвавшимся басом: «Вас жители ждут! Выдвигайте скорее Походные кухни на Франкфурт-аллее!» В день взятья Берлина так странно звучало В поверженном городе жизни начало. Кайтанов представился. «Вот и прекрасно, — Сказал интендант. — Вы строитель?» «Так точно». «Придется заняться работой опасной: Снять мины в подземке приказано срочно. Потом мы дадим вам полгода, пожалуй, И вы восстановите эти туннели». А Колино сердце заныло и сжалось, Все мысли о доме, как порох, сгорели. «Так, значит, наш путь не закончен в Берлине, Придется остаться еще на чужбине!» Он выехал в комендатуру Берлина — Взять планы метро. У массивного входа Берлинцы шеренгою строились длинной. Какого здесь не было только народа! Обман, унижение, хитрость и радость Сплетались в клубок в этом гуле и гаме. Поодаль, у старой чугунной ограды, Стоял человек в полосатой пижаме. С крестом на спине и руками скелета, С бескровным лицом известкового цвета. Он что-то по-русски спросил у гвардейца, И Коля к нему повернулся невольно. Чтоб в эти глаза молодые вглядеться, Кайтанову было секунды довольно. «Так это же Фриц! Это наша бригада!» Чуть-чуть не сшибив проходившую немку, Он бросился к Фрицу: «Тебя мне и надо, Пойдем восстанавливать вашу подземку!»Глава тридцать шестая ПЕЧАЛЬНЫЙ НОЧЛЕГ
Любимые, всегда вы ждать должны. Стихи о скором возвращенье лживы — Не сразу возвращаются с войны Те, что сражались и остались живы. А тех, кто не вернется никогда, Их тоже терпеливо, безнадежно Должны мы ждать. Пускай идут года, Навек расстаться с ними невозможно. К сорок шестому году, к январю В Москву мы возвратиться обещали. Но я пока неточно говорю — Ведь нас закинуло в такие дали! Уфимцев переброшен на восток, Несет патруль над городом Пхеньяном. Война там кончилась в короткий срок, Согласно утвержденным в Ялте планам. А мы в Берлине, Николай и я. Он на строительстве, а я в газете. Вы сами понимаете, друзья, Что мы за целый мир теперь в ответе. Настала напряженная пора — Германия рассечена на зоны, Большой Берлин разбит на сектора, И в каждом жизнь своя, свои законы. Открыл, какую мощь таит уран, Забытый родиной бездомный физик И растревожил жизнь планет и стран, Грядущее отринув иль приблизив. Не потому ли так надменно горд Союзник наш — студентик в белой каске, Сидящий за рулем в машине «форд» Двухцветной сногсшибательной окраски. У них есть бомба. Будет ли у нас? У них есть хлеб. Моя страна в разоре. …В ту пору я уволен был в запас И стал в дорогу собираться вскоре. Метро, где Фриц директором теперь, Работает уже. Так, значит, Коле Сниматься можно. Дня не утерпеть! «Ну, бригадир, поедем вместе, что ли!» До Бреста скорый поезд нас довез, А дальше на попутных мы решили, Обратный путь — дорога вдовьих слез, Улыбок девичьих и снежной пыли. Отечество! При имени твоем Волненье перехватывает горло. Старинным русским словом «окоем» Твой горизонт я величаю гордо. И верно — не измерить, не объять Полей, где шли мы, истекая кровью. Идем к тебе, чтоб жить и побеждать И снова верность доказать сыновью. Нас возле Минска встретила зима, Развалины прикрыла и болота. Как магистраль московская пряма! Крылатым стань — бери разгон для взлета! Наш грузовик испортился опять — Мотор был старый и дурного права. Придется где-нибудь заночевать. Вот Орша — километра три направо. Три километра пройдены давно, Но Орши нет. Иль прошагали мимо? Пустынно здесь, безлюдно и темно, И стелется печальный запах дыма. Но вот пробились тонкие лучи На уровне сапог невесть откуда, И золотая бабочка свечи В окне подвальном мечется, как чудо. То, что чернело глыбами земли, Как город проступило из-под снега. Сказал Кайтанов: «Вот мы и пришли, Но, кажется, здесь не найти ночлега». Приют был все же найден кое-как В подвале — общежитии горкома. Нас обнял незнакомый полумрак, Но мы себя почувствовали дома. Кровати тесно выстроились в ряд, Торчит свеча в коробке папиросной. Калачиком у стенки дети спят, Оставив инстинктивно место взрослым. Бесшумно плачет сыростью стена, На ней распяты куртки и жакеты, И партизанская медаль видна На кофте плисовой, поверх газеты. Любая койка — площадь всей семьи, Но две кровати посреди пустые: То уступают нам места свои Какие-то ребята холостые. Давай уснем, давай скорей уснем, Укроемся шершавым одеялом. Мы дома… Это наш, советский дом, Здесь люди служат высшим идеалам, Здесь черный хлеб по карточкам дают, Он неподкупен — потому и сладок, Что вспоминать стеклянный вилл уют, Пуховиков крахмальный беспорядок! Я тяжело проснулся, весь в огне, Наверное, не отдохнув и часу. Почесываясь, Колька буркнул мне: «Тут от клопов проклятых нету спасу!» Потом влилось рассвета серебро Сквозь щели кровли, как на дно колодца. Картошка мерно падала в ведро: Буль-буль… Она здесь бульбою зовется. И семьи тихий разговор вели, И школьники тетрадки собирали. Мы встали, поклонились и ушли, Чуть горбясь от нахлынувшей печали. А утром здесь еще видней беда: Пожарами обглоданные стены, И лестницы уходят в никуда, И прямо на земле стоят антенны… Летит к родному дому напрямик Отстроенная заново дорога. Опять гремит попутный грузовик, И Николай в пространство смотрит строго. Он говорит: «За столько лет войны Я ничего не видел в жизни горше, И мы запомнить навсегда должны Ночлег в разбитой, разоренной Орше».Глава тридцать седьмая ДОМА
Каждый день друг друга видя, Не заметишь перемен, Но когда разлука выйдет — Вот как с нами, например, — Каждая видна морщина, Каждый проблеск седины. Николай ласкает сына, Гладит волосы жены. А мальчишка рядом с мамой, Как опора и как друг, Весь в отца, крутой, упрямый, От смущенья вспыхнул вдруг. Нет, не ждал он, чтобы папа, Сталинградский ветеран, Щеки в оспенных накрапах Рукавами вытирал. Таня собрала пожитки, И в глазах ее тоска, Голубая ходит жилка У девичьего виска. «Погоди, тебе, дружочек, Убежать мы не дадим, Вот когда приедет летчик, Уходите вместе с ним». …Как спокойно течь рассказу, Если хочешь дать отчет За четыре года сразу, А полсотни дней — не в счет! «Лелька, Лелька! Помнишь Фрица? Чудом гибель одолев, Он теперь, как говорится, На метро в Берлине шеф. Он прошел такие беды, Что не сыщешь на войне! Перед самым днем Победы, Как рассказывал он мне, Их концлагерь в перелески Выводили на расстрел, Но один герой советский Заслонить его успел. Фриц еще сказал, что кличка Танин у него была. Дочь полковника, москвичка, На Каляевской жила». Таня вся затрепетала, Растревожена, бледна. Может быть, отца узнала В этом подвиге она? Или встретилась с легендой, И приметы неверны, И отец исчез бесследно На четвертый день войны? Достоверно неизвестно, Как он путь закончил свой. Но за то, что жил он честно, Я ручаюсь головой! Пусть без черных подозрений Встанут в памяти времен Жертвы первых окружений, Не назвав своих имен. И рассказ уходит дальше, Открывая новый след: «Под Берлином я на даче Видел в рамочке портрет. До чего похож на Гуго, Как две капельки воды! Сердце застучало глухо От совсем чужой беды». За рассказом стынет ужин. Но и Леле невтерпеж Рассказать подробней мужу, Как ее объект хорош. Вот она достроит скоро Новый станционный зал, Коридор из лабрадора, В белом, мраморе портал. Держат свод, светясь, колонны, Их без счета в зале том. И хрустальные пилоны В обрамленьи золотом. Но Кайтанов почему-то С грустью слушает, жену, Иль от ласки и уюта Отучился за войну? «Говоришь, роскошно в зале? — Колька сплюнул горячо. — Видно, в Орше не бывали Архитекторы еще». Леле страшно: «Что с ним стало? Коля разлюбил метро!» Наклонился он устало, И в проборе замерцало Фронтовое серебро. А потом, Алешу вспомнив, Все притихли за столом. Притулился Славик сонный Под отеческим крылом. …Утром Леле в управленье Надо ровно к девяти. Есть у Коли настроенье С ней к товарищам пойти. От приветствий и объятий Закружилась голова. Всем он друг и всем приятель, Так ждала его Москва! Знаменитый архитектор В управлении как раз. Рассмотрение проекта Ожидается сейчас. Вот эскиз и два макета, Видно каждую деталь: Будет станция одета В мрамор, бронзу и хрусталь. Все начальники в восторге, Но, молчавший до сих пор, Мрачный, в старой гимнастерке, Отставной встает майор. Говорит он точно, веско, Мысль его, как штык, пряма: Что от Бреста до Смоленска Лишь руины — не дома, От границ до Сталинграда — Только щебень да зола. Нет, не время для парада, Стройка будет тяжела! Зарождался стиль эпохи В первых линиях у нас. Были станции неплохи, Всюду радовали глаз. А теперь какого черта, Если людям негде жить, Делать стены в виде торта, Позолотой мрамор крыть? «Да, красиво, я не спорю, Но нельзя, сдается мне, Строить с безразличьем к горю, Причиненному стране». Нет, никто не ждал скандала. В первый день сердечных встреч Очень странно прозвучала Эта яростная речь. «Что с Кайтановым случилось?» «Раздражительный субъект!» «Он разнес, скажи на милость, Изумительный проект». «Сами знаем, были беды, Но зато каков итог! Исторической победы Бригадир понять не смог». «Да, с концепцией такою На метро работать как?» «Не вернут на шахту Колю: Слишком резок он, чудак!»Глава тридцать восьмая МИРНЫЕ ДНИ
Полковник Уфимцев приехал в столицу С большим чемоданом, с японскою водкой, С такими рассказами про заграницу, Что зимняя ночь показалась короткой. Как будто не старше он стал, а моложе, Хотя не в одной побывал переделке. И щеки покрыты пушистою кожей, И брови как две золотистые стрелки. Привез кимоно он с драконами Тане, А Леле такое ж, но только с цветами. А Славику — куклу в стеклянном футляре: «Ну как не учел я, что вырос наш парень!» И сделалось Тане по-взрослому страшно От звона его орденов и медалей, От этой повадки его бесшабашной: Наверно, в разлуке не знал он печалей. Но утром не прежний — душа нараспашку, — Задумчивый и совершенно не пьяный, Сказал он, на брови надвинув фуражку: «Нам надо пойти прогуляться с Татьяной». Вот этого Таня как раз и боялась. Ее никогда он не видел зимою, А тут еще шубка совсем истрепалась, И мех на подоле свисает каймою. Губами сухими, как будто от жажды, Хотелось Уфимцеву прямо и честно Сказать, что он видел ее лишь однажды И как будет дальше, еще неизвестно. Но вместо того он сказал ей спокойно, Что в загс они утром отправятся завтра, Что он ее образ пронес через войны, — И это была полуложь-полуправда! А Тане, смущенной, хотелось поведать Ему о прихлынувшем к горлу мученье, Что он для нее был мечтой о Победе, Не Славкой, а Славой — в высоком значеньи. А нынче шумит он, острит грубовато, Дымит папиросой, пьет желтую водку… А может, она перед ним виновата, Что слишком поверила встрече короткой? Хотелось сказать ей: «А может, не надо? Был вечер свиданья и годы разлуки». Но грустно шепнула она: «Как я рада!» — Чтоб только конец положить этой муке. Он вспомнил полячку из города Люблин И девушку из офицерской столовой И громко солгал ей: «Легко, когда любишь, Быть верным возлюбленной в битве суровой». Снежинками их обвенчала столица, И щеки румянцем украсила вьюга, Решили в гостиницу переселиться Они, загрустив, но поверив друг в друга. И если была в том частица обмана, То каждый себя обманул, не другого. …Наутро Уфимцевой стала Татьяна. Все в мире чудесно, красиво и ново. Сомненья ушли, унеслись огорченья, Она дождалась своей радостной доли. Полковник легко получил назначенье, Он будет в Москве испытателем, что ли… Видать, у начальства в чести, На «эмке», машине казенной, Он едет на службу к шести, Оставив любимую сонной. Прикрыл осторожно он дверь, Не то она рано проснется. Пускай отдыхает теперь, Метро без нее обойдется. Не знает жена ничего О службе его, о работе, Все ждет и жалеет его: Не холодно ль там, в самолете? Не скучно ль ему одному, Не страшно ль в пустыне воздушной? Нет, кажется, жарко ему. Нет, кажется, вовсе не скучно! У птицы особенный вид, О ней еще песен не пели. И даже отсутствует винт, Что в детстве мы звали «пропеллер». Машину выводят на старт. Как юный конструктор взволнован! А Славу вздымает азарт Навстречу опасностям новым. Он первый… Он вызвался сам Ракетную птицу освоить. Свой звук отдавая лесам, Турбина могучая воет. Он делает «бочки», пике, И «горки», и «мертвые петли». Приборы послушны руке. Сейчас, как в бою, не запеть ли? Нет, он из машины своей, Пожалуй, не все еще выжал. Не знали таких скоростей, Никто не залетывал выше. Быстрей! Все быстрей! Он поет… Но видит в бинокли начальство, Что там, наверху, самолет Разламывается на части. А летчик? Он падает вниз! Сумеет ли выдержать сердце? В ушах оглушительный визг. Кричи — это лучшее средство. Как долго к земным берегам Плывет парашюта медуза, Так больно рукам и ногам От их невесомого груза. И снег заклубился, как дым. К пилоту бегут санитары, Конструктор склонился над ним, В мгновение сделавшись старым. Но, кровь вытирая со рта, Размазав ее по ладоням, Уфимцев твердит: «Ни черта, Мы звук непременно обгоним!» А ночью звонит он заждавшейся Тане: «Прости, что не смог я приехать к обеду: Погода нелетная, небо в тумане, Не раньше субботы я в город приеду». (И в мыслях сравнил он жену свою с Машей, А сравнивать, может быть, вовсе нельзя их, Поскольку тогда в поколении нашем Еще не водилось домашних хозяек.) И трубку кладет он рукою свинцовой, Согнувшись от невыносимой ломоты. Синяк на скуле набухает, багровый, — Наверное, он не пройдет до субботы!Глава тридцать девятая ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ
Шли в Управленье разговоры: Кайтанов — он такой-сякой, Поспорит и дойдет до ссоры, Не ценит собственный покой. Набрался мудрости на войнах, Разнес проект в один момент. Им инженеры недовольны, Обижен член-корреспондент. Однако он работник дельный, Имеет несколько наград… Пускай на факультет туннельный Учиться едет в Ленинград. А как его семья? Теплову Со стройки отпустить нельзя. Но разлучаться им не ново, Привычно, я б сказал, друзья. Пускай они решают сами, Но вуз ему необходим. А Ленинград не за горами, И все условья создадим. Все ясно, не к чему придраться, И выдан проездной билет. Так стал Кайтанов ленинградцем По крайней мере на пять лет. Я захожу к друзьям старинным, Но Лелю нелегко застать. С кайтановским подросшим сыном Придется посидеть опять. Мальчишка здорово рисует, Про все, как взрослый, говорит, Его Вьетнам интересует И что такое Уолл-стрит. От папы вести слишком кратки, Он пишет: очень трудный год, Да телеграмму: «Все в порядке» — Раз в две недели маме шлет. У дяди Славы перемены: Он приезжал прощаться к нам, Он служит где-то возле Вены, И тетя Таня тоже там. …Мне не собрать друзей далеких, Но буду с ними я везде. Так помнят реки об истоке, Так помнят птицы о гнезде. И выпал мне отъезд нежданный. Экспрессом «Красная стрела», И ночь в пути, и день туманный Сквозь рябь вагонного стекла. В купе сосед, профессор бойкий. Зайти ехидный дал совет В квартиру Пушкина на Мойке, Чтоб знать, как скромно жил поэт. Но, времени имея мало На поучительный досуг, Я сразу бросился с вокзала Туда, где учится мой друг. Как раз звонок по-детски звонок. И странен всем, как в мае снег, Среди мальчишек и девчонок Седоголовый человек. Кайтанов! Лапы мне на плечи Кладет он грузно. «Здравствуй, друг!» Я ощущаю легкость встречи, Родную тяжесть этих рук. «Ну, что там Славик? Как там Леля? Письмо? Давай его сюда! Сегодня с лекции на волю Сбегу, — невелика беда». И мы шагаем с ним проспектом, Как жизнь, широким и прямым, Сто раз поэтами воспетым, С далеким шпилем золотым. Минуем строгие кварталы, Не клеится наш разговор… Но вот навстречу самосвалы, И виден во дворе копер. Для нас нет зрелища дороже, Для нас нет выше красоты: «Смотри! Метро здесь строят тоже, Хотя ужасные грунты». «Ты где живешь?» — «Снимаю угол». «Пойдем к тебе?» — «Не по пути!» Ужели он не хочет друга В свою обитель завести? Мне это показалось странным. Ну что ж, на нет и нет суда. Пахнуло чадом ресторанным. «А может быть, зайдем сюда? Вон в глубине свободный столик, Студент не прочь бы коньячку». В задорных разговорах Коли Улыбка прятала тоску. Но, не назвав ее причины, Он еле совладал с собой. Не любят говорить мужчины О том, что может стать судьбой. Лет через шесть в степях за Доном Услышал я его рассказ, Но, споря с времени законом, Передаю его сейчас. Отличный угол снят был Колькой: Славянским шкафом отделен, Был со столом, с походной койкой Дворец студенческих времен. Хозяйка постояльцу рада: Зимою страшной у нее Всех близких отняла блокада, Оставив горе да жилье. А как зовут ее? Не важно, И разве вам не все равно? На лампе абажур бумажный, И в комнате полутемно. Я знаю поколенье женщин, Которые живут одни, Достойные любви не меньше, Чем те, кто счастлив в наши дни. Заботливы ее вопросы. Все вечера они вдвоем… Она свои тугие косы Завяжет золотым узлом И сядет рядом, пригорюнясь, Сомкнув кольцо округлых рук. Нет, это, кажется, не юность, Вы поздно встретились, мой друг! Не очень громко, безыскусно, Сбиваясь часто, — ну и пусть! — Она стихи поэтов грустных Читает Коле наизусть. Но в этом нету вероломства: Ведь он до рокового дня Из всех поэтов (по знакомству) Читал лишь одного меня. И вспоминает виновато Он свой московский непокой: «Повадка Лели угловата, И нет в ней тайны никакой?.. А наше первое свиданье У лунных просек на виду, И комсомольское собранье Тогда, в тридцать седьмом году, И в сорок первом расставанье, Преодолевшее беду?..» Все тоньше память жизни прежней, И вот уже она — как нить. Любовь ее все безнадежней, И надо что-нибудь решить, Иначе этот взгляд печальный, Где тьма как свет и свет как тьма, Где встреча длится, как прощанье, Сведет с ума, сведет с ума. Но голосом глухим, как эхо, Хозяйке говорит жилец: «Я в общежитье переехал, Прости меня. Всему конец». И зубы стиснуты до боли, Так тяжко на душе. Но он Не зачеркнет второй любовью Все то, во что навек влюблен! Пускай всегда хранится в тайне То, что на берегу донском Мне позже рассказал Кайтанов О подвиге своем мужском. Нет, вовсе не о той победе, Которой хвастают хлюсты, А о рожденном на рассвете Высоком чувстве чистоты.Глава сороковая КОГДА ОДИНОКО
Рассветной звезды молодыми лучами Мы в разные стороны, дальше и дальше Расходимся, шедшие вместе вначале, Сквозь общие радости и неудачи. А нашему утреннему поколенью На опыте жизни пришлось убедиться, Что Мы — это главное местоименье И Я — лишь его небольшая частица. Но что нам поделать, товарищи, если И солнца лучи не встречаются в небе. Бывает, для хора написана песня, А петь одному ее выпадет жребий. Товарищи! Как мне без вас одиноко! Кайтанов, наверно, еще в Ленинграде, А Слава опять улетает далеко, И вся наша дружба в невольном разладе. Портрет на стене — Ильича крутолобость, Шеренгами книги стоят, как солдаты… Морями и странами светится глобус, От света неяркого тени горбаты… Опять над романом сижу до рассвета, И кажется мне временами, что это Веду я стихи, как туннель через скалы, Сквозь жизни глубины, сквозь горы и годы, Песок мелочей и событий обвалы, Сквозь черные и сквозь прозрачные воды. Вдруг кажется, что ничего не выходит, Перо по странице беспомощно бродит… В поэты я выдвинут был бригадиром, На очень высокую, трудную должность: Один на один с окружающим миром Над белым листом остается художник А нам, в коллективе с младенчества росшим, Так нужно повсюду быть с другом хорошим! С таким, чтобы вместе в огонь или в воду, С таким, чтобы рядом в жару или в стужу. Иначе, как жабы в сырую погоду, Пустые обиды вылазят наружу: Тем был я не понят, а этим не признан, Там высмеян больно, туда-то не позван. Ничтожные чувства при социализме Еще нас терзают довольно серьезно. Но есть огорчения и пострашнее, О них умолчать и забыть я не смею: Оглотков! Не помните этой фигуры? Он в подлости жил и погиб как собака. А нынче Оглотков от литературы Воскрес! До чего вы похожи, однако! Он ходит за мной, клеветник и наушник, Статейки кропает он с видом научным, В которых чернит мою чистую веру И автора хает с героями вместе. Зачем? Для того лишь, чтоб сделать карьеру, — Ведь нет у такого ни чувства, ни чести. Молчит телефон… Хоть бы кто по ошибке Мой номер набрал… Я включаю приемник. Взвились и замолкли заморские скрипки. Как тихо… Как пусто в пространствах огромных. Вы не думайте, я не ною, Просто трудно порой ночною, — Не работается, не спится, Без товарищей свет не мил! Но один сейчас за границей, На конгрессе борцов за мир; Спят, устав от трудов, другие; Ну а третьи спят вечным сном, — Наши самые дорогие, За которых мы все живем. Перед светлою их судьбою Как-то даже неловко мне Заниматься самим собою, С мелкой грустью наедине. На позднем рассвете, усталый и сонный, Бегу отвечать на звонок телефонный. «Большая Медведица вас вызывает». Вот глупая шутка иль сна продолженье? А впрочем, чего на земле не бывает! И слышу я голос: «Приветствую, Женя! Кайтанов на проводе. Здравствуй, дружище!» «Откуда ты взялся?» «Я с нового места. Медведицу после на карте отыщешь, Покамест она никому не известна. На новую стройку я послан в разведку, Теперь я сижу на практическом деле: Закончив студенческую пятилетку, В степях для воды пробиваю туннели. Ты должен приехать ко мне непременно, — Учти, для стихов это место бесценно… Еще не забудь моей маленькой просьбы: Зайди к нам домой, если время нашлось бы. Будь другом! Я очень волнуюсь за сына, — Опять про юнцов фельетоны в газетах. В наставники Славику нужен мужчина, Мальчишка нуждается в наших советах». Всегда разговор на большом расстоянье Таит недосказанность в окончанье. …Признаюсь, я начал, тревожась немного, Воспитывать сына приятелей давних. Совсем не по мне эта роль педагога, Какой из меня, извините, наставник! Теплова на шахте. Я радостно встречен Мальчишкой в просторном костюме отцовском. Потом у меня мы сидели весь вечер, Серьезно беседуя о Маяковском. Юнец обо всем говорит нагловато. «Не слишком ли ты задаешься, приятель?» — Спросил я его, позабыв, что когда-то Сам детскую робость за наглостью прятал. А вдруг лобовая атака на доты? Ты первым пойдешь или голову спрячешь Смотрю на него, не скрывая заботы, Мне кажется, мы вырастали иначе. Но это во всех поколеньях, быть может, Имеет свое объясненье простое: Октябрьским гвардейцам казались мы тоже Весьма легкомысленной мелкотою.Глава сорок первая ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Люблю дорогу — самолет, и поезд, И дальнего автобуса пробег. Готов я мчать в пустыню и на полюс — В движенье глубже дышит человек. Для путешествия мне дай лишь повод, Меня в дорогу только позови, И я готов, как телеграфный провод, Быть вестником событий и любви. Мне поручили сочиненье песен Для фильма о военных моряках, И за ночь очутился я в Одессе С одним портфелем да плащом в руках. Фантазия ли в этом виновата, Но иногда, въезжая в города, Вдруг кажется, что здесь бывал когда-то, Хотя и близко не был никогда. Таким явился мне приморский город, Невероятных полный новостей: На улицах кипел горячий говор, След южного смешения страстей; Спускались к морю крыши, как террасы, Открытые для солнца и ветров, Зеленоусым Бульбою Тарасом Шумел платан, и нежен и суров. И я по плитам затвердевшей лавы, Что с древности, наверно, горяча, Спустился к синей колыбели славы, К морским волнам, где тральщиков причал Для фильма нужно видеть жизнь матросов, На корабле я принят был как гость. Немало глупых задавал вопросов, Поскольку раньше плавать не пришлось. Но мне прощали эти разговоры Великие герои без прикрас, Воюющие до сих пор минеры, Что в жизни ошибаются лишь раз. …Еще в начале нашего маршрута В тумане растворились берега, Со всех сторон вздымались волны круто Подобьем бирюзовых баррикад. Чувствительный прибор сработал четко, Его сигналы объяснили мне: В квадрате этом мертвая подлодка, Чья — неизвестно, залегла на дне. Напялив водолазную одежду, Доспехи марсианские свои, На дно морское с фонарем надежным Спустился старшина второй статьи. Над ним качались водяные горы, И тишина вокруг была как гром. Средь зарослей багровой филлофоры, Ракушками обросшую кругом, Он обнаружил мертвую «малютку», Здесь пролежавшую десяток лет, Когда-то искореженную жутко Ударом бомб глубинных и торпед. Таких вестей не удержать в секрете: Когда в Одессу лодку привели, На берегу уже стояли дети И моряки, покинув корабли. Что там, за переборкою двойною, В отсеках, не заполненных водой? Броня уже не кажется стальною, Так обросла багровой бородой. Волшебной палочки прикосновенье, Сиянье автогенного огня — И наступило страшное мгновенье: В отсеки хлынул свет и воздух дня, Там, как живой, матрос, нагнувшись, пишет В тельняшке рваной, как тогда сидел. Меня пронзило памятью: Акишин! Но броситься к нему я не успел. При соприкосновеньи с кислородом Он, как сидел с карандашом в руках, Обмяк и на глазах всего народа Стал рассыпаться, превращаясь в прах. Я задыхался. Так мне стало душно, Как будто весь наличный кислород За десять лет в пространстве безвоздушном Себе теперь мой бедный друг берет. Мне в тот же вечер в штабе рассказали, Что случай удивительный весьма, Но на «малютке» в вахтенном журнале Нашли обрывок личного письма: «Ты не жалей меня. Я счастлив был Хотя бы тем, что так тебя любил». Я объяснил начальнику морскому, Что с этим человеком вместе рос И та, кому писал он, мне знакома, Она не знает, как погиб матрос. Пусть это трудно другу и солдату, Но повелело горе мне само Немедленно доставить адресату Десятилетней давности письмо. Мне выдали страницу из журнала, Истлевшую — едва видны слова, — И на исходе дня меня встречала Обычной суматохою Москва. Но я не представлял себе, как трудно Мне будет Леле рассказать о том, Что тот, кто спал так долго непробудно, К ней нынче обращается с письмом. И все же я отправился на стройку, На шахту, где начальницей она, И в проходной услышал голос бойкий, Как в дальние, былые времена. Шла Леля в шлеме и комбинезоне Навстречу мне по шахтному двору, С прорабом рассуждая о бетоне, Кляня вовсю снабженцев и жару. «А, это ты, писатель! Очень рада! Я о тебе подумала как раз. Почаще заходить на шахту надо, Не отрываться от рабочих масс». Я молча протянул ей лист бумаги, Помятый и истлевший по краям, Где наш Алеша, как слова присяги, Ей написал: «Любимая моя!» Она признанье это прочитала — Как много сказано в одной строке!.. — И, улыбнувшись горько и устало, Спустилась в шахту, сжав письмо в руке. В тот день в подземном станционном зале Каком? Не важно — где-то по кольцу, — Бетон в квадратные опоры клали, И срок работы подходил к концу. Тут появилась инженер Теплова, Прошла не как обычно, а быстрей. И, никому не говоря ни слова, Трубы обрезок взяв у слесарей, Туда письмо Акишина вложила И, зачеканив с двух сторон свинцом, Письмо меж арматуры поместила И отошла с задумчивым лицом. Никто не видел этого. Бетоном Письмо со всех сторон окружено. Пусть будет о моем дружке влюбленном Одним векам рассказывать оно.Глава сорок вторая ПЕРЕД ПОЛЕТОМ НА ЛУНУ
Роман мой подходит к концу понемногу, А жизнь продолжается, полнясь, как прежде, Разлуками, встречами, счастьем, дорогой И грустью непрошенной, близкой к надежде. Я должен еще рассказать вам о Славе, Чтоб не был в обиде товарищ военный. Семейство Уфимцевых в полном составе Недавно в Москву возвратилось из Вены. Конечно, мы сразу поехали к Леле: Традиция — это великое дело. Ну просто смотреть невозможно без боли, Как Леля осунулась и похудела. «Все ездит, мотается мой благоверный, Меня не берет он на стройку донскую… Всю жизнь проживем мы в разлуке, наверно». «Ты очень тоскуешь?» «Немного тоскую». «А мы вот с Татьяной, где б ни были — рядом. Опасно меня оставлять без пригляда!» «Татьяна работает?» «Что вы, куда там! Полковнице это поди неприлично. До вечера не расстается с халатом, Сама себе шьет и готовит отлично». «Вот странное дело! А что будет дальше?» — Елена с тревогой спросила у Славки. «А дальше присвоят ей чин генеральши, А может, и так проживем до отставки». Потупилась Таня под Лелиным взглядом, И Слава взглянул на Теплову с опаской. Им вдруг показалось никчемным нарядом Тафтовое платье с воланом и баской. Товарищ Уфимцев, пилот бесшабашный, Не знал я того, что ты деспот домашний! Напрасно забыл ты, что очень недавно Татьяна твоя с Метростроем дружила. Ты стал в ее жизни событием главным, Душа ее сжалась, как будто пружина. Но ты берегись! Развернется однажды — Тогда устоять ли уютному дому? И, может случиться, полжизни отдашь ты За то, чтобы все начинать по-иному. Но, к счастью для них, тут явился из школы Полковников тезка. Смотрите, как вырос! С зачета как раз, возбужденный, веселый. «Пятерку принес?» «Нет, четверка случилась! И папа хватал в Ленинграде четверки, Хоть был самым старым… Нет, старшим, студентом». Мальчишка глазами прирос к гимнастерке, Где звездочка и разноцветные ленты. Герой оживился: «Послушайте, други, В году, как мне помнится, двадцать девятом Мы у Циолковского были в Калуге С экскурсией, всем пионерским отрядом. Великий ученый спросил про отметки, И мы, представители солнечной эры, Ответили бойко: „У нас в семилетке, Конечно, отличники все пионеры“. Старик опечалился: „Бедные дети! И Пушкин, и я — мы учились неважно“. Потом он рассказывал нам о ракете, О том, что когда-нибудь горстка отважных Взлетит в голубые просторы вселенной — На Марс, на Луну, на любую планету. А нынче могу вам сказать, как военный, Что в этом особой фантастики нету». Меня отведя в глубину коридора, Чтоб Таня не слышала, начал Уфимцев Шептать мне, что сам собирается скоро В одно мировейшее дело включиться: Уже астронавты при аэроклубе Всерьез занялись подготовкой полета В ракетном снаряде в небесные глуби. Вот это задача! Вот это работа! Подумай! Отсюда Луна недалеко — Известно, что меньше четыреста тысяч Всего километров! Взлетевши высоко, Земли притяжение можно и вычесть — И мчать, межпланетным пространством владея, Наращивать скорости с каждой секундой! «Ты знаешь, отныне без этой идеи Вся жизнь моя летная кажется скудной. Среди астронавтов идут разговоры, — Читал ты, быть может, в статейке газетной? — Что первой ракетой одни лишь приборы Отправятся в этот полет межпланетный. Но это считаю я в корне неверным: Полет человека особенно важен. И я на собрании вызвался первым Лететь на Луну с небольшим экипажем». Все громче его заговорщицкий шепот: «Я думаю, хватит уменья и воли. Все есть у меня: и здоровье и опыт, — Боюсь лишь, что Таня лететь не позволит…» Тут пойманы были мы оба с поличным: Татьяна пришла и сказала сердито, Что гостю вести себя так неприлично, Что женское общество нами забыто. «О чем вы шептались? По взгляду я вижу, Опять ты полет на Луну затеваешь! Лети, если хочешь, куда-нибудь ближе. Ну отговори ты его, как товарищ! Совсем одержим этой лунною сказкой, К своим астронавтам он бегает часто. Уж как я влияла — и плачем, и лаской, — А он все свое: полечу — да и баста». Сражен этой женскою логикой странной, Пилот говорит: «Ты страдаешь напрасно, На базе научных, проверенных данных В ракете лететь на Луну безопасно. Мы лет через пять полетим непременно: Пора начинать освоенье Вселенной. А женщины в этих вопросах не правы, Все ваши тревоги и страхи некстати». Сияют глазищи у младшего Славы, Видать по всему, что он тоже мечтатель. «Возьмете меня, дядя Слава, с собою?» Конечно, туда полетят наши дети! Мне хочется крикнуть: «Возьми нас обоих, Хотя нам не тесно на нашей планете!»Глава сорок третья НЕ ИЩЕМ ПОКОЯ
Проплыл я по новому морю степному, Седому, как пыль, как полынь — голубому. В день пуска канала меж Волгой и Доном По трапу танцующему с теплохода На пристань сошел я в поселке Соленом И влился в Цимлянское море народа. Здесь все ликовало, оркестры звенели, И шло выступленье казачьего хора. Но путь мой был дальше — туда, где туннели, Где праздник победы, наверно, не скоро. Вступило строительство в трудную пору, Об этом мне Леля в Москве рассказала: «Проходят щиты сквозь песчаную гору, За месяц случилось четыре обвала». Я еду на стройку как частный ходатай. Хоть мне не давала заданья столица, Решил я спросить Николая: «Когда ты Сумеешь в московский свой дом возвратиться? Ты все атакуешь, воюешь, а скоро Тебе, мой ровесник, исполнится сорок! О личном подумать уже не пора ли? Ведь ты заслужил хоть частичку покоя». (Но сам не уверен я в этой морали И только для Лели пошел на такое.) Автобус попутчиков полон веселых. Нам ноздри забило пыльцою цветочной. Вот финские домики, новый поселок, Как будто Большая Медведица? Точно! А в центре поселка, высокий, плечистый, Копер Метростроя, мой старый знакомый. Степное тяжелое солнце лучится На тросах лебедки, над верхним балконом. Политы водою, доставленной с Дона, Цветут в палисадниках алые маки. «Скажите, начальник строительства дома?» «Да вот он — в фуражке и выцветшей майке», Мы встретились просто, как будто не годы Прошли с ленинградской студенческой встречи. Для верных друзей сантименты не годны, И с возрастом глубже тепло человечье. Я в Лелиной маленькой комнате зажил. (Недавно она погостить приезжала.) Вся в кратерах, схожая с лунным пейзажем, Из окон виднеется трасса канала. Вон скреперы ходят по руслу сухому, Не сразу привыкнешь к их лязгу и грому. Кайтанов сказал мне: «Гляди, как шагает Гигант-экскаватор по краю лощины. Напрасно в журналах поэтов ругают За то, что они воспевают машины». Вконец оглушенный грохочущей сталью, Решил я не лезть со своею моралью. Пошли мы на шахту. В толпе молодежи, В бахилах и робах на смену шагавшей, Нежданно увидел я дядю Сережу, Парторга, учителя юности нашей. Он стал словно меньше, согнулся и высох, Лицо состоит из морщин и морщинок, Но взгляд его ясен и дерзок, как вызов, Со старостью строгий ведет поединок. Ему проходившие парни кивали, В ответ находил он для каждого слово. Я думал, меня он узнает едва ли, Однако узнал: «Комсомолец, здорово!» В Медведице прожил я дольше педели. Кайтанов все время по горло был занят. Мы с дядей Сережей спускались в туннели, И он мне устраивал строгий экзамен: «Скажи, по придумке иль сердцем ты пишешь? Ответь, с кем воюешь, Как дружишь, чем дышишь?» Как только отцу я мечтал бы ответить, Ему рассказал, чем живу я на свете. Умеет и добрым он быть, и сердитым, Тут все его радует либо тревожит. А кто он — парторг или стал замполитом? Нет, он просто-напросто дядя Сережа. К восьмому десятку на пенсию вышел, Но жить, по привычке, остался на стройке — Учить уму-разуму новых мальчишек, Начальству устраивать головомойки. Одна лишь у дяди Сережи кручина: Проклятая старость — вот это мученье. Такому не надо ни званья, ни чина, Ни выборной должности, ни назначенья. Лишь именем самым высоким и чистым Привыкли его величать — коммунистом. Глядишь на него — и становится стыдно За дни и недели, прошедшие даром. Водить с ним знакомство особо обидно, Наверно, тому, кто был с юности старым. Мы вместе с двадцатым состаримся веком, И это не страшно, — но хочется тоже, Состарясь, остаться таким человеком, Таким коммунистом, как дядя Сережа. Об этом беседую я с Николаем В свободное время — порою ночною, Когда мы вдвоем за поселком гуляем, Любуясь еще не обжитой луною. Луна, совершая свой путь на просторе, Напомнила мне о дерзаниях Славы. «Уфимцев туда собирается вскоре». «Куда?» «На Луну!» «Да, он любит забавы». «Но я говорю совершенно конкретно, Большие событья творятся на свете, Он в первый советский полет межпланетный Решился лететь добровольцем в ракете». «Серьезно? Тогда это дело другое, — Промолвил Кайтанов, махнувши рукою. — А мы, нелетающие человеки, На нашей планете найдем работенку. Польются туннелями новые реки, Они напоят нежилую сторонку. Мы в Сальские степи в ближайшие годы Пропустим сквозь гору цимлянские воды. За то я люблю свою должность кротовью, Что служит она человеческим целям. Я мог бы, пожалуй, с такою любовью Всю землю насквозь пробуравить туннелем! Построенной мною кратчайшей дорогой В Америку съездить я очень хотел бы. Друзей у меня и в Америке много — Встречались на стройках, а после — у Эльбы. Великое счастье — вставать на рассвете, Строительство сделать своею судьбою И знать, что на нашей суровой планете Туннель или город воздвигнут тобою, Что жаркая степь под твоею рукою Становится садом, колышется нивой. Есть люди, которые ищут покоя. Вовек не изведать им жизни счастливой!..» …О личном не смог провести я беседу, Не вышло у нас разговора с моралью. Прости меня, Леля! Коль можешь, не сетуй, Что близость порой измеряется далью.Глава сорок четвертая ДЕЛЕГАТКА
В газете строчек пять, а может, меньше, Но снова перечитываю я, Что делегация советских женщин Отправилась в далекие края. И вижу город на гранитных скалах, Где море светится во всех кварталах И горизонт у каждого окна. И слышу шелест незнакомой речи, И непривычны мне при первой встрече Чужой одежды светлые тона. Вдоль изгородей, хмелем оплетенных, По площадям, где кормят голубей, Три женщины проходят в платьях темных — Три делегатки Родины моей. Мать школьницы, замученной врагами, И самоходчика, сраженного в бою, Идет большими, легкими шагами, Неся по всей земле печаль свою. С ней рядом, разрумянясь, как с мороза, В полусапожках — молодость сама! — Доярка из сибирского колхоза, Со станции с названием Зима. О них рассказ я прерываю, чтобы В другой поэме написать особо. А с ними Леля. С ними наша Леля. Но почему она невесела? Вот пригласили люди доброй воли, И надо было бросить все дела. А дома положение такое: Ей уезжать, а тут на восемь дней Для утвержденья смет примчался Коля, И опоздал, и разминулся с ней. Теперь опять разлука на полгода. Но унывать сегодня не вольна, Ты представитель гордого народа, Ты мир, ты вся Советская страна. Но Славик… Славик так ее тревожит: Совсем ребенком выглядит порой, А все твердит, что опоздать он может В Каховку, в Сталинград, на Ангарстрой. Тревога опускает Леле плечи, И мысли все домой летят, домой… Среди витрин, среди нерусской речи, На пестрой тихой улице прямой, Среди бушующей галантереи, Среди уюта маленьких вещей — Домой, домой ей хочется скорее, В свой неуют, где так просторно ей. …День кончился холодной пляской света. Три делегатки из моей страны На вечере вопросов и ответов Дыханием людей окружены. Цветы друзей, корреспондентов перья, — Щека к щеке — любовь и недоверье… Как мало знают здесь о нас! Как трудно Им будет объяснить, чем мы живем!.. А боль о Славике журчит подспудно Таинственным глубинным ручейком. Их спрашивают жадно, как о чуде: «Зачем в тайгу и в жаркий Казахстан Стремятся ваши молодые люди, Что их влечет к неласковым местам?» И снова Леля думает о сыне… Замечена ее скупая грусть Корреспондентов взглядами косыми. Распишут непременно. Ну и пусть. Еще вопрос: «А правда ли, что часто У русских стройка разлучает тех, Кто мог бы тихо жить домашним счастьем И слушать пенье птиц и детский смех?» И снова Леля думает о муже, Об их разлуке. Но на этот раз Ее печаль не вырвется наружу, Не отведет она усталых глаз. А женщина с такими же глазами Подходит близко к гостье из Москвы, В руке сжимая спицы и вязанье, Вдруг спрашивает: «Счастливы ли вы?» И Леля, чувствуя вниманье зала, Глазами находя глаза друзей, Про двадцать лет замужества сказала. (Так много! Даже страшно стало ей.) Про встречи, огорченья, расставанья, Про то, как Славик у нее растет. Вдруг стали сокращаться расстоянья, Как будто сердце ринулось в полет. Любовь дыхание перехватила. Издалека увидела она, Что тесная московская квартира Товарищами Славика полна. Скрестилась робость с мужеством в ребятах, Родившихся в конце годов тридцатых. Они успеют в жизни больше нас. Европы карта в атласе раскрыта, Над ней они склонились деловито; Так вот где мама Славина сейчас! На карте Скандинавия, как морда Курчавого приветливого пса. На синем фоне завитки фиордов, А по хребту — мохнатые леса. А вот и очертания России, Ее простора взглядом не обнять. И ничего нет на земле красивей, Чем эта воля, широта и стать. Мальчишки перелистывают карты: Тайга поет, клокочет Ангара… Десятый класс. Тесны им стали парты. На путь отцовский выходить пора! И Славик говорит: «Вернется мама, И я ее, быть может, огорчу, Но надо строить — так скажу ей прямо: Быть маленьким я больше не хочу».Глава сорок пятая ОТЦЫ И ДЕТИ
Мечтатели, верю, меня вы поймете: Хотя облетел я полшара земного, Всему удивляюсь при каждом полете, Чудесным и странным все кажется снова. Под звездами неба, над звездами мира, Мерцая крылами, проходит машина. Давай разглядим вон того пассажира: Седой, но как будто не старый мужчина. Он в темной железнодорожной шинели, Немного сужающей плечи в размахе. Тяжелые руки лежат на портфеле, Блестят молоточки на черной папахе. Зачем его вызвали? Может, с отчетом, А может, за новой наградой он едет? Иль завтра к его инженерским заботам Прибавится командировка к соседям? А может, на севере иль на востоке Его ожидает большая работа? Могучего встречного ветра потоки Дают самолету опору для взлета. Откинувшись в кресле, он, кажется, дремлет, Как здесь поступают солидные люди. Нет, смотрит он вниз, наблюдает он землю С мальчишеской чистой мечтою о чуде. Он видит плотин и заводов цепочки, Поселков и шахт симметричные точки. Быть может, вот этим огнистым квадратом Отмечен район, где работает атом? А рядом темнеет виденье другое — Чащоба с русалкой и Бабой Ягою. Порой навевает моторная птица Печальные мысли и трусам и смелым, Что запросто можно упасть и разбиться, А ты ничего еще в жизни не сделал. Пожалуй, товарищ не думал об этом. Он лишь загрустил о жене и о сыне. Но вскоре по еле заметным приметам Москву угадал за преградою синей. Пилот выпускает колеса. Готово! Снижаемся. В уши проникли иголки. Бескрайняя россыпь огня золотого, Высотных домов новогодние елки. Начальника стройки встречает столица, И вот он, сперва осторожно и робко, Потом все сильнее в квартиру стучится, Решив, что сломалась звонковая кнопка. Не видно в почтовую щелочку света. Ногою стучит он — все нету ответа. Друзья мои старые очень упрямы: В Москву вылетая по срочным приказам, Не любят к приезду давать телеграммы. И, кажется, Коля за это наказан. Он вышел, размахивая портфелем, Как будто его уже кто-то обидел. А может, пуститься в объезд по туннелям? Большого кольца он ни разу не видел. Великое имя он встретил при входе, Того, кто открыл нам дорогу к свободе. При нем, при живом, началось наше детство, Мы выросли коммунистической ранью. Ты был метростроевцем, был ты гвардейцем, Но ленинец — самое высшее званье. Ночное метро… Эскалаторов реки… Смущенные пары у каждой колонны. Наверное, с Выставки едут узбеки — Халаты цветисты, и лица калёны. Студенты, ушедшие по уши в книжки, Старухи и в школьных фуражках мальчишки, Чумазые дремлющие подростки, — Видать, укачало вагона движенье. У поручней женщина с хитрой прической, Ловящая в стеклах свое отраженье. Солдаты, в казарму спешащие к сроку, Турист иностранный в плаще и гамашах… И шум бесконечный, подобный потоку, Могучий и нежный, как молодость наша. Туннели, мосты под землей, переходы, Хрустальный простор станционного зала… Мы начали строить в тридцатые годы. Не четверть ли века промчалось с начала? Не просто увидеть в седом человеке, Что бродит по станциям в темной шинели, Того, кто прокладывал первые штреки, Кто вел в плывунах и девоне туннели. Не знает никто, что на станции этой, В фундаменте, в самом ее основаньи, Бессмертного мужества вечной приметой Матроса Алеши таится посланье. …Двенадцатый час так мучительно длился. Кайтанов все ездил туда и обратно, Пока не почувствовал, что заблудился, Но было ему это очень приятно. Ему обдувал пересохшие губы Тот ветер, что все поезда обгоняет, Который, пройдя сквозь туннельные трубы, Теплеет, но свежесть свою сохраняет. Он думал все время о Леле и Славе, В сияющем поезде стоя у двери, И вдруг их увидел во встречном составе, Глазам своим с первых секунд не поверив. Но это они — никакого сомненья! Как вырос мальчишка! Он юноша просто. Рюкзак за плечами — его снаряженье, И плащ прошлогодний — уже не по росту. А милые круглые Лелины щеки Припухли от слез… Ты, моя недотрога, Не сына ли в путь отправляешь далекий? Куда поведет добровольца дорога? Каким Комсомольскам, каким Днепрогэсам Быть созданным этим парнишкой белесым? Лежат перед сыном какие целины, Какие высоты, какие глубины?.. Кайтанов стал дергать за ручку дверную, Но медленно двери расходятся сами. Он через платформу, колонны минуя, Бежит, по граниту скользя сапогами, А двери смыкаются в поезде встречном, Уходят, мелькают, сияют вагоны, Как молодость наша в движении вечном, Ты их не догонишь, ее не догонишь! Но он все бежит по узорам гранита, И поезд сиреной откликнулся где-то, И все впереди, все для жизни открыто, Омыто потоками ветра и света.ПЕСНЯ ИЗ КИНОФИЛЬМА «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
Слова — Е. Долматовский
Музыка — М. Фрадкин
Хорошо над Москвою-рекой Услыхать соловья на рассвете, Только нам по душе непокой, Мы сурового времени дети. Комсомольцы-добровольцы, Мы сильны нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пойдем, если нужно Открывать молодые пути. Комсомольцы-добровольцы, Надо верить, любить беззаветно, Видеть солнце порой предрассветной, Только так можно счастье найти! Поднимайся в небесную высь, Опускайся в глубины земные! Очень вовремя мы родились, Где б мы ни были — с нами Россия! Комсомольцы-добровольцы, Мы сильны нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пойдем, если нужно Открывать молодые пути. Комсомольцы-добровольцы, Надо верить, любить беззаветно, Видеть солнце порой предрассветной, Только так можно счастье найти! Лучше нету дороги такой, Все, что есть, испытаем на свете. Чтобы дома, над нашей рекой, Услыхать соловья на рассвете. Комсомольцы-добровольцы, Мы сильны нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пойдем, если нужно Открывать молодые пути. Комсомольцы-добровольцы, Надо верить, любить беззаветно, Видеть солнце порой предрассветной, Только так можно счастье найти! Комсомольцы-добровольцы, Мы сильны нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пойдем, если нужно Открывать молодые пути. Комсомольцы-добровольцы, Надо верить, любить беззаветно, Видеть солнце порой предрассветной, Только так можно счастье найти!

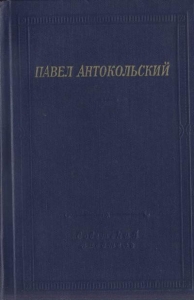


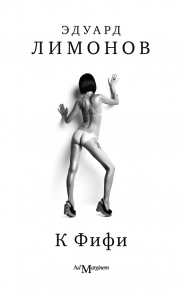
Комментарии к книге «Добровольцы», Евгений Аронович Долматовский
Всего 0 комментариев