Памяти М.П. Данилова
ЗИНОВИЙ КР-СКИЙ
в те годы когда он начал вести свои записки. Фотография любезно предоставлена его другу-редактору бывшей супругой Зиновия
Предисловие редактораЧеловек, который представляет на суд немногочисленных читателей эти разрозненные записи, ни в коей мере не может считать себя их автором по той простой причине, что он их не писал. Часть из них передана ему на хранение его прежним другом-приятелем Зиновием Кр-ским перед тем, как этот скромный и достойный человек совершенно сгинул, исчез и даже неизвестно, обитает ли в единственном нам доступном, столь незначительном по размерам, если верить науке, но столь привычном для нас мире. Вторая часть была передана издателю другом исчезнувшего Зиновия Михаилом Петровичем Даниловым, ныне покойным. Оказавшись владельцем этого непонятно для чего пригодного наследия, Ваш покорный слуга испытал сильнейшую растерянность и даже был вынужден изменить обычной своей пассивности и пренебрежительности, с которой ранее трактовал как свои собственные немногие и весьма скромные произведения, так и произведения друзей: мало ли, мол, что на свете пишут, не все же читать и уж тем более не все печатать для всенародного обозрения. Да и зачем печатать? Эта последняя мысль при всей своей внешней безнадежности сильно поддерживала автора этого вступления в его собственной литературной судьбе.
Однако на сей раз он встал перед рассуждением совершенно иного свойства. Человеческая и сочинительская судьба злосчастного Зиновия К. сложилась настолько уж несоразмерно жалобно, что абсолютно пренебречь этим непонятно с какой целью переданным в мои руки ворохом исписанной бумаги было бы в некотором роде несправедливо или, как говорят люди более нас просвещенные, неэтично. С другой стороны, положение оказалось щекотливым, ибо при всей своей любви к так странно исчезнувшему другу-приятелю автор этих строк, воспитанный на лучших образцах русской литературы, не мог заставить себя признать бумаги, оставленные другом, достойными выйти в свет и как бы встать тем самым в один ряд с творениями столь почитаемой нами русской литературы, ныне учительницы всего света, а раннее – и говорить нечего. Более того, странный жанр этого очень уж, согласитесь, домашнего и доморощенного произведения нуждался в определении, ибо ничто не может быть напечатано без такого определения: повесть – так повесть, эссе – так эссе, дневник – так дневник, максимы – так максимы, иначе получается, как говорил Основоположник, – махизм, поповщина, негативизм всех и всего. Вот в какое затруднительное положение поставило издателя этих бумаг попавшее в его руки наследство, или, выражаясь научно, литературное наследие. Более того, последняя часть этого наследства состояла из каких-то частных писем, которые уж и вовсе литературным произведением считаться не могут.
И все же автор сего предисловия не смог отказать в просьбе, которую как бы обращали к нему эти непутевые страницы, оставленные его неизвестно куда сгинувшим другом Зиновием Кр-ским, человеком невыдающимся, незаметным и как таковой тем более заслуживающим сострадания и компенсации. Ваш покорный слуга предпринял труд и подверг себя риску издания этих записок, которые при всех своих ужасающих низких достоинствах показались ему, однако, очень похожими на их собственного создателя, Зиновия К., маленького человека эпохи больших свершений. Издатель дал возможность читателю (впрочем, легко ли ныне представить себе такового) ознакомиться с текстом, однако не удержался от того, чтобы не оговорить кое-где своего отношения к этим незрелым и сугубо личным записям.
Надо признать, что работа над текстом повлекла за собой для автора этого предисловия и еще более обременительные последствия. Увлекшись прочтением, он стал чаще думать об ушедшем неизвестно куда своем друге, вспоминать некоторые совместные эпизоды их жизни и даже в конце концов (с единственной целью дать полноту и разборчивость этой книге, а кроме того, подкрепить своим хотя и небольшим, а все же существующим уже литературным авторитетом это издание) решился написать в манере нынешней, а не черт знает какой прозы одну часть, посвященную жизни и приключениям Зиновия Кр-ского на поприще искусства и жизни.
Вот теперь, после небольшого объяснения, облегчающего душу Редактору и понимание пружин читателю, можно непосредственно отослать вас к бумагам Зиновия Кр-ского – где он днесь бедняга?
В. Мякушков [1]
Часть перваяГлава 1
Я потому не могу с должною строгостью отнестись к своему внешнему действию и в отношении других людей, что все время как бы почитаю себя за жертву, которой не счастливится и не везет, а если вот – повезло на недолгое мгновение, то это лишь для возмещения той несправедливости, которая мне была сделана, так что я должен в обычном своем существовании принимать все как должное, а не искать в себе слабых мест и порочных действий в отношении ближнего.
Вот хотя бы взять и сегодня – целая неделя болезни, а солнце сияет на улице, и я, кажется, немало наказан, поскольку все дни без работы, тут бы и подумать с серьезностью над тем, в чем я был и грешен и несправедлив и гадок к ближнему, так что отвернулись от меня почти все мои друзья, ставшие ненужными, но я – нет, все думаю о выздоровлении, которое одно принесет мне компенсацию упущенного времени.
И вот что я вам скажу: это все от потаенной мысли, что я себе не принадлежу и что эта вся свободность моя – временная, не сегодня-завтра она кончится и снова будут мной распоряжаться, как захотят, а раз так, то и надо урвать это время с наибольшей приятностью. Не знаю даже, согласитесь ли вы со мной, вполне возможно, что собственная ваша жизнь протекала по другому руслу, но мной – я настаиваю – вся эта свобода воспринимается как случайная, и во сне мне снится одно и то же: говорят, что мы, мол, вас выпустили по ошибке, а теперь извольте снова – и год, и два, и три… И даже самая эта ситуация, в которой довелось побывать, она ясно представляется уже только во сне, а так вспоминаются одни детали, никак не дающие целого. Например, солдатский сортир…
* * *Дело в том, что просыпаешься ты еще до подъема, за несколько минут, от страха, что сейчас будут будить, или от того, что сержанты уже встают и разговаривают громким голосом, потому что все рано будить придется. Но ты все еще лежишь и опасаешься чего-то, а именно громкого крика: «Рота, подъем!» – боишься, что он вот-вот раздастся, и он раздается: «Рота, подъем!» – «Взвод, подъем!» – «Отделение, подъем!» И потом – «Выходи строиться». С этого момента кончается твой подневольный сон и начинается подневольное движение в продолжение целого дня. На улицу ты должен выйти в ночной рубахе, потому что зарядка, но еще до зарядки будет много холода, потому что зима и даже здесь, в теплой Араратской долине, в шесть утра все же морозно. Возле казармы, огромного глинобитного амбара с двухэтажными койками, мы стоим, дожидаясь тех, кто замешкался внутри, потом бежим через плац в дальний конец, где такой же, как наша казарма, глинобитный и длинный солдатский сортир. На улице морозно, так что мы плечом к плечу не спеша мочимся в длинный желоб, устроенный внутри сортира, а сзади, надев на шею ремни, оправляются те, чья нужда обстоятельней, и, если б не эти засранцы, которым с утра приспичило, в сортире была бы вполне клубная обстановка, а так, пожалуй, нет, и, плюнув в их сторону, ты выходишь на холод и глядишь с отвращением на нежно-розовую снеговую вершину двугорбого Арарата. На улице еще почти никого нет, черт его знает, где они все, наверное, еще в сортире, ты ежишься в ночной рубашке х/б, но не двигаешься, потому что двигаться еще заставят, а тебе бы сейчас постоять бы да подремать, прежде чем начнут гонять вокруг всего плаца в тяжелых кирзовых сапогах до тех пор, пока эта двугорбая гора не запляшет у тебя перед глазами в ритм сердцу. Так что, в конце концов, ты поворачиваешь и снова идешь в тепло, в сортир, и снова стоишь, прислоняясь плечом к ближнему, пока не выгонит нас всех из сортира рота связи, у которой та же нужда, – выгонит уже на целый долгий день…
* * *Ну да, конечно, сейчас ты свободный как птица, и вся твоя несвобода как бы придумана, но эта мысль, что тебя еще могут повязать, что всегда могут, – она и делает тебя как будто отпускником в увольнении, да еще без увольнительной записки: не знаешь, какой патруль придерется.
И еще, конечно, вопрос нацпринадлежности. Тебе, может, наплевать на эту принадлежность, потому что тебе-то все равно и, по совести говоря, наверно, всем все равно, и тебя не клюет жареный петух, ты ходишь смело по земле, и если где прижмут сегодня, то главное, не думать об этом, работай дальше – дальше будет лучше и что-нибудь подвернется, и Господь тебя не оставит, как же – вот птица певчая еще меньше твоего имеет, а кормится, ну и ты проживешь. Но вот наступает день, когда кто-нибудь, от своей собственной нужды или неудачи, от слабости или от злобы, говорит тебе вдруг, что ты не такой, не настоящий: в общем, намекает на ущербную твою принадлежность, которая не то чтобы хуже его собственной, а чем-то все же не та, что нужна. И этим он заставляет тебя думать о том, о чем ты думать считал недостойным. Заставляет тебя думать по их образу, по их законам, и тем достигает своей цели, потому что ты уже не свободный странник на земле, а носитель шестиконечной обиды в душе, с принадлежностью к обиженному клану. А тебе ведь противны кланы и противна насильственная к ним принадлежность. Может, это и не всегда и даже совсем редко случается, но оно может случиться, и от того в тебе не умирают разные воспоминания, например, профессорские очки, царствие ему небесное, плохой был человек. Или лошадиная морда редактора, или красное рыло кадровика, и кое-какие милые твои друзья-интеллигенты, которые сходят с круга и у тебя же ищут утешения, чтобы ты подтвердил высокий характер их неудачи: их принадлежность к слабому большинству и твою – к наглому торгующему меньшинству. Мутная обида стоит тогда в твоей душе. Ты не обнимаешь больше человечество невидимым объятьем, не подставляешь ему для поцелуя и для пощечины одутловатую щеку, а мысленно бьешь невинных по красным мордасам, по николаевской бороде, по слепым очкам… За что же вы так себя, и меня, и нас всех, которые могли быть лучше? Взять вот те же очки…
Институт, куда я поступал, был плохонький, трехэтажный [2] , не чета прочим громадинам, куда брали пока всех и без всяких помех, скажем, для механизации торфа. Но в моем институте занимались литературой, изучали ее и учили ее делать, а это, наверное, так прекрасно – ее делать, и разве можно делать ее без института. Оттого мы, школьники, награжденные за свое рвение золотыми и серебряными медалями, пришли сюда на собеседование с пылкою, но пугливой надеждой – выстоять, пройти, поступить.
И вот мы сидели, два десятка худосочных восемнадцатилетних птенцов, чтобы поговорить с толстым профессором в очках, знаменитым профессором, который лучше нас всех знал русского языка, а может, лучше всех в мире, во всяком случае так ему казалось, царствие ему небесное. Нас было два десятка человек, из них двое без принадлежности, а восемнадцать, к сожалению, да. И вот мы сидели, готовя себя к битве интеллектов, мы должны были показать толстому профессору, что мы не просто так, что мы очень много читаем и, конечно, все время пишем, ну, скажем, с третьего класса, так что мы сможем оправдать и что мы выучим русского языка так, как он скажет. И мы были полны рвения выучить все, а потом делать все, как он научит, но мы уже знали в испуганных печенках своих, и в сморщенных от волненья мошонках, мы знали, что его все это может никак не трогать, а может очень интересовать то, что мы не принадлежим, может интересовать наша непринадлежность.
Это было странно, потому что он был не какой-нибудь милиционер, а настоящий профессор, он был сильнее нас, и больше, и толще, и ученей в тысячу раз… Но вот вышли из кабинета те двое, которые были спокойны и уверены в своей полноценности, они вышли с победой и пошли домой, пожелав нам успеха, а мы, восемнадцать прочих, остались со своей непоправимой бедой, несмываемым пятном на теле и репутации. Время шло, половина из наших, неполноценных, уже побывала за профессорской дверью, они выходили как-то странно, как выходит иногда в поликлинике человек из кабинета врача, застегиваясь на ходу с виноватой улыбкой, потому что могут не понять, зачем спускали ему штанишки – чтобы сделать клизму или чтобы взять сок предстательной железы.
Наконец пошел и я, сидел один против профессора в малюсеньком кабинете в этот решительный час своей жизни и очень старался отвечать, и даже быть остроумным, и говорить хорошо, складно, и проявить глубину. И мне на какое-то мгновенье показалось, что он сочувственно сверкнул очками, их толстый профессор, но потом он усмехнулся, покачав головой, – ох уж эти: гони их в дверь, они лезут в окно… Он усмехнулся и начал давить меня всей тяжестью располневшего тела. Он служил своему безжалостному богу, и ученость его была тут ни при чем, а также все его ученые книги и все благородные слова – все было тут ни при чем.
Я еще сопротивлялся, я спорил, как бы пытаясь доказать, что это не знание его, а это его старость так тяжела, что я тоже буду старый когда-нибудь, а пока все же, вот видите, знаю уже так много и понимаю тоже. Но он только как бы подмигивал мне, и это было всего обидней, потому что это была нечестная игра: ему не нужны были мои школьные крохи, ему нужно было просто выполнить то, что велел ему усатый его бог, а дома, пожалуйста, он мог бы даже посетовать, что вот… Впрочем, безопаснее и дома было подивиться, как настырны эти изгои и как мудры установления, их ставящие на место.
Я весь был комочком горя и обиды, я заперт был в этом крохотном кабинете с огромной своей обидой, и трехэтажное это здание не представлялось мне в разных его разрезах, с подвалами, со всеми базисом и надстройкой, в которой сидел усатый бог со своими пигмеями, с первым этажом, где в тот день бродил осатаневший от обиды мой будущий приятель Сашка, тоже изгнанный профессором…
Наверно, поэтому я и не видел, как толстый завхоз с шишкою на внушительном носу вдруг остановил Сашку и сказал ему слезливо:
– Ай-ай-ай, такой приличный молодой человек и такой грустный… У вас есть папа? Позовите завтра папу, и мы попробуем что-нибудь сделать…
И потом за три сотни старыми, то ли новыми, директор института через этого шишковатого завхоза внес поправки в несправедливые веленья судьбы. Директор был шире, чем профессор. Ему скучно было от одной науки и страха перед усатым богом: он любил длинноногих секретарш, вина и наличность. Он был обаятелен, красноречив и лучше всех говорил речи по поводу исторических событий, в которых тогда не было недостатка. Это уже позднее люди, которые не имели вкуса и боялись жить с секретаршами, упрятали его в тюрягу, не понимая, что коррупция только смягчает любое, самое безжалостное ярмо.
Мы кончили институт. Нас научили калечить живую литературу и подтасовывать мертвую. К счастью, немногим из нас досталась эта работа. А те двое, которых приняли без трудов, просто умерли досрочно. Умер и профессор, так что все это не имело бы, может, никакого значения, если бы не мертвый блеск его очков, рождающий обиду и так часто мешающий мне обнять человечество.
Ну иди же ко мне, одураченный недоумок. Дай я пожалею тебя нерасторопного, у которого эти горбоносые из-под носа вытянули работу, очередной заказ на сладкоголосые гимны весне. Ты бы один написал эти гимны, дай тебе время, они были бы и добросовестней, и лучше, потому что ты лучше их знаешь русского языка и понимаешь русского духа. Ты крепче расцеловал бы задницу, от которой они оттерли тебя юрким териленовым плечом…
Приди, мой страдающий брат, объединимся, споем старые гимны…
Нет, он не придет, мой обиженный брат, ущемленная элита равнодушного большинства. Он будет ждать законного разрешения на погром или обзовет меня традиционной кличкой, опять же легально, в рамках дозволенного, потому что он чтит всех, кому положено. Он даже не спросит, почему положено. Он знает, что кому положено, сами знают. И он ждет, чтоб появился тот, кому положено. И если он долго не появляется, мой брат обеспокоится: что-то проглядели, все пошло кувырком, мой брат начинает скулить, вспоминать с тоской волосатую руку Вождя, и, если не положить ему на холку эту сильную руку, не дать ее почувствовать, он, бедняга, сам напишет на себя донос. Откуда я знаю тебя так близко, брат мой, новейший патриот? Да оттого, что я из твоего поколения, я твой, плоть от плоти, того же пуганого семени, целовальник того же зада.
Примечание редактора
Отдавая эти бумаги без поправки на суд случайного читателя, Редактор ощущает все же свой гражданский долг в предупреждении некоторых невольно возникающих мыслей. Первая заключается в том, что Зиновий Кр-ский волею Всевышнего был человек еврейского происхождения, издатель может подтвердить это со всей компетентностью их старой дружбы… Мягкий и уязвимый этот человек со свойственной для него мнительностью придавал слишком большое значение этому расово-этническому факту, тогда как Редактор со всей ответственностью может заявить здесь, что это несущественное национальное различие было в наше цветущее советское время начисто сметено могучим ураганом и расплавлено в горниле классовой борьбы. Примеры тому, как лица этой нередкой национальности выдвигались в первые ряды управленческого аппарата и творческого авангарда, могут быть приведены не только из времени исторических перемен, но даже и из новейшего времени, например, Аркадий Райкин. И если принимались вынужденно какие-нибудь меры для того, чтобы ограничить поток этих лиц, то каждый раз эти меры были вызваны особенностями международного положения, остававшегося напряженным, или требованиями момента. Таким образом, факты, могущие отразиться в записках Зиновия К., хотя и не носят следов недостоверности, но каждый раз окрашены личной эмоцией и непониманием текущего момента, которому он как личность должен был бы сознательно подчиниться. Однако, оставаясь в полном смысле «маленьким человеком», автор этих записок не мог подняться над своими чисто личными, человеческими обидами и проглядел большие исторические победы народов в их движении к национальной независимости в странах Индии и порабощенного Востока (сюда можно включить и Африку).
То же можно будет сказать и в дальнейшем, в отношении армейской службы, которая для всякого молодого человека призывного возраста служит источником славных боевых воспоминаний и закалки на всю жизнь.
Что же касается упомянутого здесь тогдашнего мимолетного националистического движения, то это были некоторые ошибки способных и вполне благонадежных молодых людей, которые идеализировали проклятое прошлое в некоторых достойных критики областях (что и отмечалось прессой в достаточно мягкой и тактичной форме), но зато верили в славное прошлое, наилучшее настоящее и счастливое будущее своей Родины, настоятельно призывая к порядку и твердой воле, а также к очищению нашей литературы от всего прогнившего и либерального, что уже давно не нужно народу. Движение это вовсе не преследовалось, и молодые люди, к нему примкнувшие, занимали самое видное положение в нашем обществе, что само по себе является знаком благополучного положения и должной свободы для разных оттенков мысли, если она не выходит за рамки здорового отношения к своему патриотическому долгу. Что же касается выражения «целовальник зада», то Редактор склонен отнести его всецело к издержкам грубого стиля.
Редактор
Глава 2
Я помню роковые дни, когда он охладел, тот царственный зад, застыла кровь, остановилось сердце, перестало гонять по кишкам и жилам выдержанный «Кинзмараули».
Те, кто этой долгожданной смерти был обязан своим спасением, приходили в особенно горькое отчаянье. Может, человек этот успел внушить нам, что и смерть от его рук – счастье. Скорее же мы просто не знали, что к чему и откуда, чего еще ждать в эту пору зловещего страха, даже вот Он сам не выдержал и умер.
Помню, мы стояли во дворе университета на Моховой и чего-то ждали, молчащие и испуганные. Говорили, что провезут его труп, и мы хотели видеть. Кого, что видеть – я даже не знаю. Может быть, угол рогожей накрытого гроба.
Его так и не провезли, и мы побрели искать конец очереди (о, здесь у нас был величайший опыт), которая приведет нас к нему в Колонный зал. Мы дважды занимали очередь где-то у Покровских ворот, дважды доходили до человеческого котла на Трубной площади, но отступали в скорби. Второй раз это случилось уже глубокой ночью. Тут, впрочем, надо признаться, интересы наши стали рассеиваться. Мы заметили, например, что студенты играли в веселые, шумные игры, пиная чужую галошу, единственно чтобы согреться. Мы отметили мрачный юмор милиции, говорившей, что там, внизу, таких галош две машины. И мы не захотели гибнуть на Трубной, пробиваясь к мощам. Мы вернулись в твой подъезд.
Это был старый добрый подъезд, в котором начиналась вся наша любовь. В подъезде было все же теплей, чем на улице. Шаги сверху давали нам десять, а то и все двадцать секунд на приведение одежды в порядок. Шаги снизу заставляли настораживаться. А в общем, в подъезде чего было не жить? Там было так тепло. Там мы сперва оттаивали, а потом распалялись. Горожане любят друг друга в парках и на кладбищах, в темных кинозалах, на чердаках, пустырях, даже в речных трамваях. Я думаю, что первенство остается за подъездами, и городские психиатры и психоаналитики должны многие беды отнести на счет подъездов. Впрочем, кому мы нужны, бедные психи, кто нас будет анализировать?
…Я, помнится, первым услышал легкие шаги сверху на лестнице и сделал мечтательный вид. Такой вид, словно мы говорили о романе Вадима Кожевникова «Живая вода» – вполне пристойный и бессмысленный вид. Ущербный недомерок в черной шинелишке и каракулевой шапке, проходя мимо, отметил наши неуверенные, провожающие взгляды. Он остановился, приосанился, прочистил горло.
– Вы, собственно, по какой причине тут?
– Мы…
– Да, вот вы?
Мы растерялись, потому что мы были потенциальные враги законов, извечные нарушители установлений, везде и всюду, а тут, в подъезде, особенно, мы были вечные должники порядка и приструнить нас было не только его долгом, но и священной обязанностью, которой он изредка пренебрегал, потому что не до всего доходили руки у перегруженных слуг народа.
– Да еще в такой день! – сказал он, и мы поняли с полслова, мы знали, что да, так и должно быть, особенно в такие дни, когда весь народ, когда вдруг не стало с нами Его, вот в такие дни враги попытаются, и даже если не попытаются, должна быть неимоверно, прямо-таки невероятно усилена бдительность, и тогда они, такие вот тщедушные бобики в черных шинелях и затрапезном искусственном каракуле поползут в подъезды спрашивать с нас документы. И он, конечно, сказал:
– Ваши документы!
Мы ожидали этого требования, оно казалось нам законным, потому что, где бы ни застал тебя закон, он хочет твои документы, прежде чем говорить с тобой лично.
Я помню, как ты рванулась к дверям квартиры за своим паспортом, потому что это был твой дом и ты была здесь прописана. Но тут я слазил в карман дрожащей рукой и достал изобличавший меня паспорт. Он вертел его, и я заметил, что он ничего не видит, но чем-то обеспокоен. То ли, униженная мелочь, он сам был возбужден затеянной им игрой в оскорбителя, то ли он был пьян, даже не знаю наверняка, но только помню, как зернышко бунта вдруг стало рождаться во мне и я вырвал у него свой гордый вид на жительство, вырвал и крикнул, задохнувшись:
– А вы… А ваши документы…
Я еще не был уверен ни в чем и, наверно, смирился бы снова, но он дал маху. Он суетливо полез в карман и помахал каким-то железнодорожным удостоверением. Он дал маху, не сказал простых слов, что ему положено. Положено – и все тут. И вот тут ему уже пришлось отступать, спускаясь по лестнице задом, потому что я наступал сверху, пытаясь пнуть его, или даже ударить, и сам стонал от унижения, от неспособности скинуть его вниз или просто набить ему морду…
Черт его знает, откуда он шел, этот тип, зачем ему все это понадобилось? Может, и его перед этим унизили, выгнали или целый час топтали ногами… Для меня важно было другое. То, что я ждал его и он как бы материализовался из моих ожиданий. Я ждал, что в любую минуту у меня спросят документы, осведомятся, почему я здесь, а не там, почему стою, а не сижу. Спросит тот, кому положено. А кому положено – сами знаете.
Мир этот, как нам известно, сотворен гармонично и уравновешен открытыми наукой симметрическими законами, которые, впрочем, совершенно напрасно иные пытаются использовать в искусстве, потому что ни миры с их антимирами, ни катоды с их анодами не могут питать искусство, движимое душевною потребностью, – тем не менее подобное равновесие существует в мире, и будет только закономерно, если оно найдет отражение в моем правдивом повествовании. Вернемся, например, снова к солдатскому сортиру. И затем только вернемся, чтобы вспомнить, что на противоположной стороне плаца, в удаленном его углу, вполне симметрично описанному уже глиняному прибежищу большой и малой солдатской нужды, стоял сортир офицерский, тоже весьма скромный и глинобитный, вполне доступный для всякого страждущего, однако с меньшим количеством очков и потому создающий некое впечатление уюта. Так вот в дни своего дневальства в казарме, освобожденный по сему случаю от зарядки, но вооруженный ведром и веником, я отправлялся спозаранку в этот сортир, чтобы навести там чистоту и смыть следы некоторых неосторожных действий офицерского состава.
В результате не случайного, а вполне закономерного совпадения в этот самый отрезок времени в сортир, а точнее уже, в туалет, ибо речь идет все же о месте офицерского отправления нужды, заходил на пути в свой служебный кабинет один высокий и весьма нескладный, совсем лишенный боевой выправки армейский капитан, заведовавший в этой энской части обозно-вещевым снабжением. Я в ту пору еще слабо отличал друг от друга лиц, одетых в одинаковую военную форму, но опытный глаз военного капитана метко различил во мне существо, слабо умножающее боевые традиции части. Однажды, когда каждый из нас был занят своим соответствующим месту занятием – боевой офицер мочился, а я уныло возил веником по толчку, высокий капитан вступил со мной в беседу на отвлеченные темы – в том смысле, что темы эти не касались ни туалета, ни воинской славы. По окончании этой краткой и как бы попутной беседы я вернулся к мытью сортира, а капитан ушел, унося в сердце некий добрый замысел, которому суждено вскоре было открыться. Это произошло в очень тяжкий для меня день, когда, вернувшись после ночной работы на кухне, в одежде, пахнущей объедками, я с беспечностью бессилия лег на койку, за что был строго наказан вышестоящим сержантом и тут же отправлен на новые работы, во время которых сильно испуган был другим сержантом и наказан внеочередным нарядом на подобные же работы, теперь уже до конца недели, дотянуть до которого совершенно утратил надежду. И вот в это совершенно отчаянное мгновение в глинобитный амбар казармы вдруг вошел высокий, лишенный боевой выправки капитан и навсегда забрал меня оттуда. Капитан водворил меня рядом с собой в маленькой комнатушке, где я был избавлен от наиболее тяжких испытаний и унижений. Более того, высокий капитан удостоил меня своей дружбы, а в воскресенье взял к себе домой, где заставил съесть огромный обед, а когда я вдруг застеснялся своего неумеренного аппетита, капитан великодушно пошутил, что все равно пищу придется выбрасывать собакам, и эта шутка лишила меня последних остатков стеснительности.
Так в этих, казалось бы, вовсе неблагоприятных обстоятельствах я обрел почву для благожелательности, на которой могло произрастать мое благодушие. И если я не достиг по этой части совершенства, то здесь виной только моя душевная леность, а также моя короткая память.
* * *Я не опасаюсь более, что рассказ наш получится мрачным или грустным, потому что едва стоило мне вспомнить добрые деяния высокого капитана, как чередой потянулись в памяти добрые дела и поступки различных лиц, как наделенных высоким чином, так и вовсе чинов лишенных, и в этом океане добра совершенно исчезли те жалкие укусы людей желчных или судьбой обиженных, которых так мало остается на горизонте, что дивишься только, как вообще удается им уцелеть. Потому что в той же мрачной казарме, похожей на амбар, которым ей никогда не случалось быть, и отчасти на кавалерийскую конюшню, которой она действительно являлась долгое время, потому что с этой целью и была первоначально построена, – даже там, еще до прихода капитана-спасителя, столько мне пришлось услышать Доброго и Прекрасного, что, если бы все это сумел я удержать в памяти, никогда не возникло бы сомнений в разумной доброте нашего мира. Вот хотя бы наш ротный замполит, капитан Паландузян.
Это был очень плотный краснолицый человек, у которого было, согласно его должности, работы совсем не много. Он возился все время где-то в той комнате при казарме, которую называют то Ленинской комнатой, то Красным уголком, то Комнатой отдыха. Капитан украшал эту Ленинскую комнату и из нас помочь ему в этом мог только Генка Голубев из Вязников, потому что Генка умел срисовывать с плакатов Кремлевскую стену, значки и знамена и при этом он был еще неплохой столяр. Так что, запершись в Ленинской комнате, они с капитаном целый день выпиливали деревянные стенды и рамки в виде знамен, пушек и Кремлевской стены. В эти рамки они вставляли красиво переписанные статьи устава внутренней службы, а также «Законы и постановления» про то, что полагается солдату за нарушение устава, за разглашение тайны и за прочие неблаговидные дела. Другими словами, Генка и капитан создавали в этой комнате наилучшую атмосферу отдыха в то время, что мы, салаги, овладевали строевым шагом, строили баню на краю военного городка, ходили на всякие ночные учения, мели и мыли полы, чистили оружие и делали все, что положено делать салагам перед тем, как упасть на койку и уснуть мертвым сном в десять ноль ноль по армянскому времени. И конечно, мне ни за что было бы не узнать, как нежно любит и хранит меня замполит-капитан, если бы в конце ноября счастливый случай не открыл мне на это глаза.
В то утро капитан разбудил меня за целых полчаса до того, как я должен был сам проснуться от страха в ожидании подъема.
– Одевайся, пойди посмотри, – сказал мне капитан.
Сонно спотыкаясь, я побрел за ним в Ленинскую комнату и остановился у двери.
– Вот! – Капитан повел рукой, и я увидел, что в деревянную рамку, изображающую Кремль, вставлены голубые полоски бумаги. Это была стенгазета саперной роты.
– Читай, – сказал капитан.
Я послушно стал читать заметку «Правильно ставить мина!». Дочитав ее до конца, я обнаружил, что она подписана моим другом Юркой Ермаковым. От удивления я начал просыпаться, потому что мне доподлинно было известно, что, во-первых, Юрка никаких заметок не писал, а все время таскал со мной глину, а во-вторых, Юрка был владимирский и ему негде было научиться писать со столь явным армянским акцентом. Дальше все было еще интересней, потому что я увидел заметку нашего друга Лежавы «Крепить воинский дисциплина!». Насколько я понял из этой заметки, Лежава, наш с Юркой лучший друг, разоблачал нашу с Юркой расхлябанность. «Часто забывают про воинский дисциплина», – писал он развязно. Но самый большой сюрприз, который заставил меня окончательно проснуться, таился в ударном материале стенгазеты – в передовой статье «Тридцать лет без Ленина по ленинскому пути». Статья эта была подписана моим именем. Безбожно имитируя армянский акцент, я призывал в этой передовой статье делать все, что положено делать воину, оставшемуся без Ленина, – крепить дисциплина, правильно ставить мина и учить наизусть своя устав.
– Ошибки много делал? – спросил замполит.
Обретя дар речи, я сказал, что не очень много.
– Ну, так, не очень грубый ошибка? – спросил капитан. – Не хотел тебя будить. Зачем будить? Ребята устал, весь день бегал, глина месил, посуда мыл… Думаю, сам все заметка буду писать… Пускай спит…
«Рота, подъем! – пронеслось по нашей конюшне. – Взвод, подъем! Отделение, подъем!»
– Нет, не очень грубый ошибки, – сказал я, заговорив почему-то с армянский акцентом. – Хороший заметка.
Конечно, жизнь длинная, так что я дождался, когда срок службы кончится. И ведь не только в Армении случалось мне ощутить человеческое тепло, но и на родине, и даже за границей.
Так случилось, что целый вечер бродил я однажды по мрачному городу Вроцлаву. Вечер был ноябрьский, дождливый и холодный, и гнала меня по улицам этого города не какая-нибудь настоящая необходимость, а просто охота к познанию чужого города и чужой земли. Охота же, как известно, пуще неволи, да и сама неволя, как выясняется иногда, просто неосознанная необходимость, а тут, совершенно свободный, был я во власти неистовой жажды познания, осознанной мною как необходимость.
Так вот, на мокрой и холодной улице города Вроцлава я уже почти отчаялся увидеть что-либо совершенно невиданное и потому несущее особенно мощный заряд информации, когда вдруг прочел в какой-то подворотне вывеску, а на ней было слово, по-русски очень мерзкое, но по-польски всего-навсего означающее название национальности. Конечно, оно и по-польски тащило за собой века трагедий, и слезы, и смех, много доблести, но еще больше позора. Вывеска сообщала, что во дворе размещается клуб «Стоважишеня жидув польских», клуб культурного еврейского общества. Поскольку заграничный клуб учреждение несколько странное и не похожее на наш Дом культуры с субботними танцами и лекцией по атеизму, я, конечно, полюбопытствовал, вошел во двор, повернул налево, потом направо и попал в тесное помещение клуба. За столиками в большой комнате сидели, как я потом выяснил, артисты самодеятельности, люди из Вроцлава и округи. Они, похоже, знали друг друга, потому что оживленно перебрасывались какими-то непонятными мне фразами, но на меня никто не обратил внимания. Я разглядывал маленьких белокурых девчонок и вспоминал, что бывают и такие вот белокурые разновидности моих соплеменниц. Потом я внимательно изучил программу праздничного концерта, который уже шел в зале по соседству, и убедился, что программа была точь-в-точь такая, какой бывает программа на праздничном концерте самодеятельности в любом московском ЖЭКе: «Хороши весной в саду цветочки» и «Священная война», юмористическая песня «Полюбил я девушку курносую» и даже отрывок из поэмы «Василий Теркин». Внимательней прислушавшись к польским разговорам, я убедился, что, во-первых, концерт в клубе был посвящен «рочнице», то есть очередному юбилею могучего соседа, и что, во-вторых, все здешние евреи как раз и перебрались сюда с могучего нерушимого Востока, ставшего для них заграницей, и что они вдобавок испытывали неодолимую тоску по брошенному раю. К тому времени, как я это выяснил, сидеть одному за столиком мне стало скучно. К тому же холод ноябрьского вечера не уходил из меня, а все люди за столиками пили горячий чай. Мне подумалось, что мне чай не был положен, потому что я еще не успел проявить себя как польский еврей, но все же хотелось… Чай разносила очень полная курносая молодая блондинка, меньше всего на свете напоминавшая еврейку, что, впрочем, еще не дало бы никаких гарантий человеку на сей счет принципиальному.
Женщина передвигалась между столиками с большой сноровкой и ловкостью – собирала пустые стаканы, что-то говорила на ходу и так же на ходу принимала к сведению заказы, просьбы и комплименты. Во время одного из своих маневров она задержала взгляд на моем лице и с профессиональной безошибочностью поставила передо мной стакан прекрасно заваренного сладкого чая, который я стал пить с неприличной поспешностью. Потом я взял свой пустой стакан и пошел разыскивать кухонное помещение, где орудовала эта полная, курносая и до крайности симпатичная молодая женщина, моя благодетельница.
В тесной кухоньке она перемывала в тазу стаканы и ставила их на стол относительно чистыми. На мой вопрос, кому бы я мог заплатить за чай и у кого попросить еще, женщина беспечно махнула рукой и сказал, что чай можно пить за счет «Стоважишеня жидув», так что она сейчас нальет мне еще, вот только покончит с мытьем стаканов. Она мягко отклонила мое вполне фраерское предложение помочь ей в мытье посуды, возможно, она по виду моему догадалась, что я перебью половину стаканов. Тогда со смелостью человека, путешествующего инкогнито, да еще и приехавшего с великого Востока, я спросил, не является ли прекрасная пани еврейкой. Точнее, высказал предложение, что пани не еврейка, и она подтвердила эту мою гениальную догадку. Так кто же? Женщина помялась и не ответила, еще более растравив тем самым мое любопытство. А потом я угадал, и правильно угадал. Она была немка, представительница презираемого вроцлавского меньшинства. Я спросил, случайно ли она поступила в этот клуб, и она снова промолчала. Можно было догадаться о чем-то, и я стал мысленно перебирать все трагедии этого Бреслау-Вроцлава – и польские, и немецкие, и еврейские. Немцев вывезли отсюда жестоко, в спешке, грубо запихнув в эшелоны. Уцелевшие после всех гонений евреи переехали сюда с Востока, чтобы снова стать гонимыми…
– Кого здесь все-таки больше не любят? – спросил я туповато.
– Они любят только себя, – решительно сказала пани Анна. – «Они» – это были бедные поляки, полагавшие, что именно они сейчас на коне. – А вот Юзек… – сказала пани Анна. – Он тоже немец.
Белокурый голубоглазый Юзек напевал в углу у рояля. Я прислушался.
– «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой…» – пел Юзек.
Он выговаривал чужие имена с нежностью. «Каким странным ветром занесло молоденького немца в этот клуб с его ЖЭКовской самодеятельностью?» – подумалось мне.
– Садитесь на место, я принесу вам еще чаю, – сказала пани Анна.
Я думал о наших Сережке с Витькой, которые были уже зарыты в берег Вислы к тому моменту, когда Юзековых родичей запихнули в эшелоны. Сережка с Витькой были тут, вероятно, ни при чем.
Помню, как я прочитал серию статей любимого журналиста Эренбурга, призывавшего к мщению, потому что ничто не забыто, кроме того, про что нам не рекомендуется вспоминать. И дал себе зарок больше не читать никакой журналистики. Потому что если так, то как же стакан чаю, поднесенный мне пани Анной за счет «Стоважишеня», ныне уже прикрытого польскими властями…
* * *Если эта история показалась читателю недостаточно веселой, то это, может, потому только, что читатель не был на концерте вроцлавской самодеятельности и не слышал в ней юмористической песенки «Ох, неприятность!», спетой пожилым здешним евреем с тем же задором, с каким он много лет назад, еще не очень тогда пожилой, пел ее у себя на сахарном заводе под Тернополем на очередную октябрьскую годовщину, чем снискал аплодисменты всех присутствующих и любовь красавицы бухгалтерши, отчего песня эта особенно глубоко врезалась в его память (тем более что бухгалтерша, теперь уже, наверное, не такая соблазнительная, а все-таки, видно, еще ничего, осталась по ту сторону государственной границы, хотя это, конечно, не тридесятое какое-нибудь государство, а всего-навсего Россия). В песне этой говорится, что некий гражданин полюбил курносую девушку, которая, не являясь даже красавицей, проявляет к нему полное пренебрежение. Насколько могу вспомнить, юмористический элемент песни содержится даже не в этой вполне грустной ситуации, а в неуместном употреблении канцелярских слов в тексте…
* * *Я плыл уже добрых пять месяцев на перегонных судах, куда нанялся матросом в том довольно зрелом возрасте, когда сверстники мои уже возглавляли учреждения или почивали, увитые лаврами, на каком-нибудь не очень новом городском кладбище. Я шел на судне самым что ни на есть обыкновенным матросом, существовал довольно безбедно из-за очень доброго и даже нежного отношения лично ко мне в частности и к русской словесности вообще со стороны простых людей, работников морского транспорта. Однако после аварии в Баренцевом море я для дальнейшего путешествия перешел на новое судно, где заслуги мои перед родной словесностью были совершенно неизвестны начальству, а возраст мой оставался незамеченным из-за всеобщей небритости и холода. Моя новая самоходка «Смоленск», буксируемая атомоходом «Ленин» через арктические льды, испытывала на этом участке довольно большие затруднения, а красноярский боцман, человек суровый, держал в большой строгости свою палубную команду, состоявшую, помимо меня, сплошь из восемнадцатилетних мальчишек – курсантов. И вот однажды, холодной и мокрой арктической ночью боцман вызвал меня на шлюпочную палубу и сказал, что хорошо бы сейчас спардек (так для красоты называют эту палубу знатоки) как следует подраить. После этого боцман ушел и оставил меня со шлангом, шваброй и размышлениями о бессмысленности существования. Было так темно, и мерзко, и ветрено, что я не мог подняться на какую-нибудь философскую высоту и потому размышлял не переставая о полной абсурдности своего занятия. И действительно – если взглянуть на это простым, поверхностным взглядом, – кому нужно в мороз, пургу и ветер драить спардек, если его тут же снова испакостит дождем и снегом, да и кто там увидит всю эту мразь на палубе, если на дворе полярная ночь, а главное – в днище судна все время лупят трехметровые льдины и, того гляди, пропорют обшивку. Проклиная тот день и, час, когда, наслушавшись песен, взывавших с совершенно нелепою страстью: «В дорогу, романтик!», а также прислушавшись к голосу крови и темперамента, заимствованного не то у «Вечного Голландца», не то у «Летучего Жида», именуемого также Агаспермом, я нанялся в экспедицию и покинул на время свой нелепый, но вполне укладывающийся в обычные рамки, свой неблагодарный, но все же приятный письменный труд… Проклиная себя в первую очередь, но также и совратившие меня средства массовой коммуникации, я без конца швабрил и драил палубу, развозя по ней грязную жижу, с тем же усердием, с каким в былые годы развозил грязь по цементному полу казармы, сортира и солдатской столовой. Иногда, словно противясь судьбе, я вдруг останавливался, обтирал руки о телогрейку и записывал в блокнот какие-нибудь приходившие мне в голову и достойные внимания потомства ценные мысли. Кажется, я записал тогда, что драить палубу – это мероприятие не санитарно-гигиеническое, а воспитательное, так же как и мытье полов в казарме: может, соображение это избавит от всех тягостных размышлений бедняг, попавших в ту же беду. Впрочем, поверхностность этой мысли показывает, что я не мог тогда подняться до философского осмысления арктической действительности, и оттого физические мои страдания были безмерны. Так шло драгоценное межвахтенное время, которое в этой проклятой Арктике лучше всего посвящать безутешному сну в жарко натопленной каюте. Помнится, я патетически воскликнул на пустой палубе, что эта ночь, наверное, никогда не кончится, и тогда память подсказала мне школьные сведения о том, что арктическая ночь и вправду очень длинная, не в пример обычной.
В этом состоянии полного отчаяния и застал меня суровый боцман. Непонятно, зачем поднялся он на шлюпочную палубу: мысль о том, что он вдруг вспомнил о страдающем матросе, я склонен исключить как фантастическую. Остаются несколько предположений, не вызывающих возражений, но и не поражающих остротой догадки. Могло, например, случиться, что вода, стекавшая со спардека, попала на голову боцману, когда он, напрасно провозивший с гальюнным засовом, решил вопреки корабельным правилам помочиться прямо за борт. И вот теперь, поднявшись на спардек, он вдруг увидел сизифовы усилия напрочь забытого им матроса Может, все было и не так, важней другое. Важнее были те действия, а точнее, даже те слова, которые породило у него зрелище этих моих бессмысленных усилий среди полярной ночи. Над мотивами этих действий или слов следовало бы, верно, задуматься членам Союза писателей и членам Литфонда на всей территории от Черного до Баренцева моря, а также всяким социологам, психологам и другим накопителям фактов действительности. Ибо в этом высказывании, может, как раз и содержалось объяснение нерушимой жизненности народной жизни. Может, здесь и заключено было великое сострадание к меньшому брату, наряду с желанием утереть слезы ребенку. Хотя, конечно, в этом содержалось и обыкновенное пренебрежение служебным долгом, в чем неизменно попрекала служащий люд наша великая литература. Впрочем, что маленькому человеку, которого так любила наша великая литература и который стал по традиции героем этого повествования, подобный упрек… Так или иначе, в этот никем не отмеченный миг арктической ночи атмосфера полярного воздуха наверняка потеплела хоть на полградуса, потому что суровый боцман, находясь один на один с автором этих строк, произнес свои замечательные слова.
– Ладно, кончай, – сказал он. – Х… с ней, с палубой. Беги спать…
Еще сорок секунд спустя я уже был в теплой каюте и почти сразу уснул под угрожающий скрип судовой обшивки.
Глава 3
Когда солнце, и ветер, и неверная наша северная весна с неожиданными обмороками жары все еще силится перейти в лето, когда неистово трепещет на ветру листва молоденьких топольков, жужжит под окном котельная и бьется среди корпусов пластмассовая радиомузыка, тогда почти явственно чувствуешь, как уходят часы, не прожитые тобой на берегу синих озер, да и те, которые сумел прожить на их берегу, уходят тоже, и бессмысленность того, что ты с самого утра собираешься сегодня начать, – бессмысленность эта становится для тебя явной, а потому ты не начинаешь вовсе, но слоняешься из угла в угол, не в силах ни начать дело, ни преодолеть в себе окончательно этот гнусный порыв к делу, хотя давно уже тебе стало ясно, что одно у тебя дело – прожить этот нынешний день без сожаления, тогда снова и снова глядишь ты на суматошный перелив тополевой листвы над грязным асфальтом и видишь в нем намек на утекающее время, попрек человеку, который спешит и не может остановиться, растрачивая в суете своего движения и это, словно бы выигранное спешкой, время. Хотя давно уже пора было бы взять за правило прерывать паузой всякое начатое дело, останавливать мгновение, ломать каждый маршрут, как только появляется в нем цель движенья, потому что какая может быть у движения цель или цель у твоей жизни, кроме нее самой? Однако, энергический человек, ты снова идешь в дорогу, бодро глотаешь километры и в бездумье делаешь бессмысленные круги, лишь поздней начиная сожалеть, что цель достигнута, а было так прекрасно где-то на полпути, и все твои «надо», все веления изобретаемого тобой «долга» – они от внушенного тебе кем-то испуга и навязанного движенья. И вон они, мгновения твоих побед и твердых решений, вон они, точно коллекция черепков и черепов, сваленных в угол памяти, непригодных даже для туземного ожерелья.
Помню, была дорога через лес, вернее, тропинка, где видны были редкие следы ребячьих ног или вдруг собачьих – где же это было? А-а… Вспоминаю – мыза, Вошугово, блокпост…
* * *От блокпоста я шел все лесом и лесом. Стрелочница сказала мне, что там недавно прошли школьники с собакой, так что я на мокрых местах искал их следы и, найдя, спокойно шел дальше. Потом открылось мне поле и в поле сарай. Я подошел к сараю. Там было немного сена, пахло цветами, травой и нагретой уже кровлей. Я прилег на сено и стал думать по эту Боровенку и блокпост и радоваться, что меня занесло в эту глушь. Я читал, что недалеко от Боровенки есть Льнено-озеро, а там где-то мыза «Утешенье», которой владели старики Берсы, тесть и теща Льва Николаевича Толстого, и что сам он приезжал сюда как-то летом, в одна тысяча восемьсот семьдесят девятом году. Не помню, что меня сюда занесло. То ли близость Боровенки ко всем этим прекрасным местам – Окуловке, Заозерью, прочим. Или то, что одна тысяча восемьсот семьдесят девятый. Этим годом датирована толстовская «Исповедь». Жил человек жил, и вот в расцвете этой жизни, когда и здоровье его, и семейное и материальное состояние позволяли радоваться, задумался над неисправностью всего, и собственной жизни в первую очередь. И мне казалось, что оттого, что вот я здесь же пройду, где и дорога-то почти нехоженая, а стало быть, не такая затоптанная, как в Ясной Поляне, может, я и увижу что-нибудь, замечу, пойму, наконец, для просвещения темного своего ума и просветления темной души. Так думал я в душистом сарае, в тени, прогретой солнышком, думал, пока не уснул, а когда проснулся, то увидел, что и проспал-то всего полчаса. Я зашагал дальше бодро и скоро дошел до деревушки Казань. В деревушке этой я пил молоко у какой-то бабушки, в просторной и пустынной ее избе, где обедал внук, а прочие избы показались мне и вовсе пустыми, даже клуб был забит навсегда за ненадобностью. Бабка ворчала то ли для меня, то ли в пустоту что-то хитроумное про нынешнюю погоду, про плохую дорогу, про бессилие колхоза и неверующих людей. Я сказал, что иду к озеру Льнено, туда, где Вошугово, и она сказала, что этот вот ее внучек как раз из Вошугова. Мать его овдовела и там живет одна, отец от рака помер недавно, а внучек здесь, потому что тут блокпост ближе, а им от блокпоста каждый день в школу. Потом я простился и вышел, а бабка бубнила что-то свое, на сей раз про атомы, которые сильно людям портят жизнь.
От края леса мне сразу открылись внизу синее озеро Льнено и две-три серых избушки, а подойдя совсем близко, я увидел лошадь с плугом и четверых людей. Там был старик, один молодой мужичонка и две бабы в ватниках, одна помельче и помоложе, видать, пара тому молодому, а одна крупная, постарше, но тоже, впрочем, моложе моих лет, хотя и за тридцать. Они сажали картошку.
– Бог помощь! – сказал я, потому что они смотрели на меня во все глаза, и я должен был что-нибудь сказать.
– А мы давно думаем, кто ж это к нам может идти, – сказала та, что постарше, и посмотрела далеко вверх по косогору, пустынному до самой опушки.
И я тоже посмотрел вверх и будто увидел, как там движется моя красная яркая рубашка и черная голова, еще невиданные в этих местах.
– Вошугово? – спросил я.
– Совсем мало чего от Вошуговов осталось, – сказал дед и с облегчением присел на край поля. Видно, работа доставалась ему тяжко, а приход чужого человека давал законный передых. Я тоже присел на траву, и остальные расселись мало-помалу, только молодой мужик вроде как недоволен был перерывом и напрасной тратой лошадиного времени.
Деду было лет восемьдесят, и я, конечно, спросил про Берсов. Но он Берсов не помнил, в его времена мызу уже называли между собой Пилкино Утешенье, и владел ею адмирал Пилкин, отличившийся в молодости по части минно-подрывного дела. Дед стал вспоминать, как он полол огород у адмирала и сколько тогда платили за день. Потом он вдруг сказал тоненьким голоском:
– Забигяйте ваших баганов…
Это адмирал так говорил, изловив на своем поле мужицких баранов.
Старик важно погладил себя по пузу, прикрытому выцветшей рубахой, изображая сановного старца-адмирала. Женщины покатились со смеху.
– Дочь-то адмиралова вышла за инженера Гаврилова, корабли строил. Он после революции в Финляндии был, а она тут ждала. Подождала-подождала, что будет, и видит, дело плохое. Обула лапоточки себе и детям, да пошли туда потихонечку, в сторону Финляндии. Неизвестно, теперь где…
Молодой мужик встал, беспокойно посмотрел в нашу сторону. Старик откашлялся и встал тоже. За ними ушла молодуха.
– Ну, счастливо! – сказал я.
– А то оставайтесь, – сказала вполголоса та, что постарше. – Вон и дождик скоро.
Она сняла ватник, стесняясь, обтянула затрапезную кофту, небрежно обнимавшую пространное ее бабское хозяйство.
– Мы так, – сказала она. – По-рабочему…
– Надо мызу искать, – сказал я.
– А то потом приходите, – сказала она. – После.
– После я хотел на Боровеньку выйти, новой дорогой, – сказал я, потому что как гордый путешественник всегда имел свои путевые планы. Махнул рукой всем и пошел. Обернулся от леса и увидел, что эти трое уже не смотрят вслед странному человеку, а взялись за свою картошку, и только та, что постарше, еще глядит, натягивая телогрейку.
Я шел осторожно, потому что знал уже, что и дома Берсов нет, и мызы нет, и сарая, и более поздней школы, а только есть где-то остатки парка и березовой аллеи, про которую написал в дневнике Толстой. Я опасался пройти мимо и все же не прошел, нашел яму от школьного фундамента, а потом и аллею тоже. Была она страшно изъезжена тележными колеями, изломана ходьбой и грязью, да и березы многие обломились. Так что, погрустив с полчаса в этом сыром запустении, я двинул дальше вдоль озера и вскорости заблудился, потому что у самого озера тропки не было, а зайдя в лесную чащобу, я сразу потерял направление. Вышел я почему-то снова в деревню Казань, снова пил молоко у ворчливой бабки с ребенком, а вечером, добравшись до Окуловки, отчаянно искал ночлег, устраивал себе ужин и только, засыпая, вспомнил про ту бабу, что была постарше и просила остаться.
Ворочаясь на скрипучей и жесткой гостиничной койке, я представлял себе сумерки над озером Льнено, избяное тепло, жалостный бабий шепот:
– От рака муж-то мой помер. И что за раки такие к людям теперь привязываются?
Я слышал запах вареной картошки и потертой бабьей кофты. Точно ощущал ласку огрубевшей руки, тепло груди. Я и теперь их вспоминаю, когда чувствую, что чего-то не то сделал, не туда шел, а придя, бестолку торопился, суетился, искал, чего – не знаю сам.
* * *Я верю, что можно воздвигнуть целую стену из неосуществленных намерений, составить библиотеку из ненаписанных книг… Верю в незавершенные и даже неначатые любови, в реальность, и силу, и красоту простого томления, впрочем, и мерзкого тоже – это правда… Но ведь не отречешься от того, что было, – и не скроешь; проклинаешь и все же думаешь с опаской, что все это может исчезнуть, скоро исчезнет. Придет день, когда скажешь с удивлением или с облегчением: было, и это было…
* * *Было это в Будапеште, веселом городе-полуночнике, в ночном баре «Будапешт», пропотевшем, как баня, посещаемом иностранцами, как правило, из «стран демократии», но похожем по разгульности на портовый кабак. Роль мастериц стриптиза тут исполняли толстоватые загнанные «герлс», отягченные идейной нагрузкой. Покрутившись на эстраде в купальничках минут десять и попотев изрядно в целях соблазна, они вдруг выносили из-за кулис серп с молотом или модель советского спутника и убегали, жизнерадостно сверкая ляжками. Вот ведь: простые заграничные бляди, а помнят о задачах идейного воспитания…
Наша туристическая группа гуляла здесь последнюю ночь и пропивала форинты, завалявшиеся в карманах после покупки пуловера и нейлоновых рубашек. За нашим столом были несколько венгров, которых привела с собой очень вальяжная журналистка из Москвы: здесь была не совсем уже юная дама, жена знаменитого венгерского доктора, который в войну спас кого-то от чего-то, был ее совсем юный сын и молоденькая девочка, кажется невеста этого сына. Скоро стало жарко, шумно и даже чуть хмельно. Немолодая жена доктора хотела непременно говорить со мной по-английски и даже порывалась гладить мне руку под столом, что было уже совсем лишним. А ее вошедший в пору зрелости юный сын вожделел нашу толстую журналистку, изобильное чудо из страны изобилия. Мне-то, помнится, приглянулась невеста этого сына, такая недоступная, непонятная, говорящая на своем прекрасном варварском языке что-то свое, наверно, удивительное и экзотическое (что-то вроде гюльдюбюль секешфехервар). У нее было какое-то длинное и оттого совсем уж не наше имя, то ли Анна-Луиза, не то даже Анна-Мария-Луиза, не помню точно…
По выходе из кабака обнаружилось, что кто-то недотратил пуловерные деньги, а жена доктора, воодушевившись, похлопала по ридикюлю, так что мы пошли все вместе в «Фейсек-бар», пустынное кафе артистов, где в три часа ночи все еще одиноко угасал над стаканом пива какой-то бедняга, однако добросовестно горела разноцветными огнями и бутылками стойка бара, позванивая на фоно, вякал что-то в микрофон старик певец, а у стойки в белоснежной манишке гордо стоял двухметровый красавиц – мэтр, бывший солист то ли будапештского балета, то ли парижской оперы, один хер. Пили мы «вюрмеш», приторно сладкий вермут, но все равно приятно были удивлены ночной добросовестностью работников сферы обслуживания.
А потом возвращались по ночной улице – профессорский сынок впереди с нашей дородною журналисткой, я сзади, с его девочкой, а еще дальше, где-то совсем позади, всем кагалом, наши разгульные туристы и мать-профессорша.
Девочка мягко прижималась к моему боку и трогала мою руку, может, у нее тоже было любопытство к нездешнему человеку, она была очень теплая, мягкая, и, главное, она ни единого слова не знала ни по-русски, ни по-английски, ни по-французски, а только что-то полушептала-полувскрикивала на этом своем замечательном угро-финском, то ли убеждая, то ли прося, то ли доказывая. И я, помнится, был с ней наперед во всем совершенно согласен…
Потом шедшие впереди мальчик с журналисткой вдруг свернули в какой-то темный проулок, не оглядываясь и как бы желая от нас отделаться как можно скорее, и тогда мы, переглянувшись, тоже свернули в боковую улочку, только не в ту же, а в следующую, прошли проходным двором, минули еще один переулок и остались совсем одни в темном ночном городе на спящей улочке.
И тогда я обнял ее, а она потянулась мне навстречу и прижалась к моим губам влажным и очень мягким податливым ртом. Очень сладкий был этот рот, лепетавший время от времени какие-то загадочные слова на варварском угро-финском наречии. И вся она была мягкая, податливая и обмирала, прижимаясь ко мне у меня под пальто. Так мы стали продвигаться очень медленно по темному переулку, то расходясь, то сливаясь у меня под пальто, тоскуя по укромному уголку, тоскуя по убежищу и крыше над головой. У нас в Москве мы, наверное, зашли бы в первый же подъезд, но в этом чужом городе все подъезды были заперты на ключ, и у меня не было ключей от них, так что нам оставалось только целоваться на улице, обнимать друг друга, добираясь на ощупь туда, куда не проникала немая наша речь и куда она не смогла бы проникнуть, будь она в тысячу раз красноречивей.
Как и множество раз до того в разных городах, на Севере или на Юге, я томился неосуществленным желанием, и томление это было сладким. И было не важно, что эта Анна-Луиза или Луиза-Мария, теперь уж не помню как ее, ни слова не понимала по-русски, она хотела того же, что я. Где она теперь? Все так же стройна ли? Все так же мягок ее рот? Даже в этом случае она вряд ли помнит ту ночь на улице – подумаешь, роман. Подумаешь, томление и желанье, неосуществленное к тому же. Я все еще верю, что можно воздвигнуть стену из этих вот незавершенных любовей, неосуществленных желаний и намерений, из ненаписанных книг.
Что вообще означает осуществленность намеренья? То, что ты взял да испортил неумелым касанием тонкий план предначертания. Осуществил самую ничтожную малость его, да и то наспех и грубо, получив ложку чечевичной похлебки из волшебного варева судьбы. То, что ты получил надменную сытость взамен бесконечного разнообразия голода. И еще вот этого, самого, наверно, ценного: тонкого привкуса воспоминанья – во рту, на чувствительном небе, в кончиках пальцев. То, чего не воспроизвести никогда и не вспомнить достаточно ясно, даже ежели прыгнешь вдруг в погоне за пережитой радостью в ту же самую постель, выйдешь на тот же озерный берег, прорвешься к тем же словам или стонам. Вспоминай же, друг, тереби сонное хранилище своей памяти, остановись в беге своем и раскрой амбары, куда, как скупой рыцарь, все сносишь и сносишь ощущения, распродавая себя по частям календарю, месяцам, дням, годам и необъятным просторам. Вспоминай горячую истому Востока и северные блеклые ночи, душные комнатки гостиниц и горные ущелья, лыжный накат мартовского умирающего снега. И бревенчатую тоску родной и нежно любимой твоей мачехи, русской деревни.
* * *Помню, я решил на целый день остаться в этой северной деревне, притаившейся у края леса и озера, в переплетенье речных проток, в окружении деревянных почерневших банек, островов сирени и старых курганов. Бросив рюкзачок в чьих-то прохладных сенях, я все утро бродил налегке, переходил вброд через потоки, шел по песчаным отмелям. А потом вдруг увидел двух скучавших на отмели девчонок в городских купальниках – две девочки, крупные, загорелые, русые. Одна читала книжку, другая просто дремала в истоме у самой воды. Мы заговорили с ними сразу, словно продолжали старый и пустой разговор: перекидывались малозначащими словами, лениво шутили, и я глядел на их милые лица, на остров сирени за бугром, на синий бор, на маленьких рыбок, которые стайкой паслись у самой кромки песка. Старшая нравилась мне больше, и я полушутя сказал, чтоб она приходила сюда в полночь, вон к той сирени. Она усмехнулась дружелюбно, и мы простились.
Долго длился солнечный томный день на берегу озера, в бору, на черной протоке, среди водорослей, а потом подошел вечер с мычанием стада на деревенской улице, с неторопливыми разговорами у чьего-то рыбацкого костра. За полночь я вдруг вспомнил о сестрах и дневном уговоре, без особой надежды пошел к густой сирени и там их увидел. Они ждали, поеживаясь от речной прохлады.
– Ну, я пойду, – сразу сказала младшая и ушла.
Мы остались со старшей, сидели над протокой, беседуя неторопливо про эту их деревню и про город Ленинград, где она зимой работала на заводе и жила в общаге. Обняв ее, я понял, что она ждала этого, потому что сразу вдруг сникла, ослабела, привалилась ко мне, а потом легла в цветы, и я испытал волнение и благодарность, так, словно было все опять в первый раз, было неожиданно, как чудо, почти невозможное. Потом стало зябко, и я проводил ее до околицы, а сам вернулся в свою избу задами.
Рано утром пришел пароход, и я уплыл, так и не увидав ее больше, уплыл, словно сбежал или словно мне было зачем плыть дальше. Потом, в сумрачных лесах, на заросших тропках, на случайных ночлегах я вспоминал и эту белую кромку песка, и красный купальник, и загорелое тело, и торопливую ласку. Я так ничего и не узнал о ней, ничего, похоже, не получил и все же был полон благодарности, которой никогда не выскажу до конца. А ведь если и выскажу, она сейчас не услышит. Да и где она сейчас, кто она, и как воссоздать снова все, что так нежданно сложилось – из загорелого тела, белого песка, синей протоки, из истомы летнего дня, из красных бликов от купальника на воде и стаи мальков на отмели…
Примечание редактора
Поскольку в записках Зиновия Кр. и в дальнейшем могут встречаться подобного рода истории, Редактор считает своим долгом оговорить здесь свое отношение к этой несвойственной для нашей литературы тематике, которая конечно же не должна появляться в печати, создавая неправильное впечатление о половой невоздержанности, якобы царящей среди наших простых советских людей. Наша литература всегда была образцом нравственности, что усилилось в последние десятилетия, когда такой кристальной чистоты достиг моральный облик Нового Человека, являющий ныне пример всему цивилизованному миру. И в любом произведении, которое попало бы нам в руки для издания, Редактор не преминул бы сделать соответствующие купюры, указав любому автору, что для нашего нового героя нет места пошлости, цинизму и нетоварищескому отношению к женщине. Однако при издании этих записок Редактор столкнулся с уже указанной выше трудностью: они ведь и не являются в строгом смысле литературой (хотя автору их, злосчастному моему другу Зиновию К., порой и кажется, что да), а потому как бы не подлежат настоящему серьезному редактированию. Их можно было или запереть в долгий ящик, или издать как некий памятник другу, закрыв при этом глаза на некоторую безнравственность, композиционные и идейные промахи, алогизм и слабую стилистику. На этот последний путь и толкнула Редактора верность его дружескому долгу. В то же время самый факт издания этих записок никак не говорит о том, что Редактор – в любом другом случае истинного редактирования – позволил бы себе притупить или ослабить чутье, пойти на поводу или скатиться до ползучего следования материалу. Время всех этих мелкобуржуазных экивоков, вроде «о вкусах не спорят», прошло безвозвратно, литература наша давно уже не служит скучающей героине, а всеми фибрами души, всеми корнями уходит в массовую почву, она должна быть понятна массам и любима последними. Это, конечно, исключает всякую расхлябанность, бессюжетность или пресловутую антигеройность, которыми – чего таить – вполне могли бы грешить записки Зиновия Кр., притязай они хоть сколько-нибудь на то, чтобы стать в ряду произведений нашей боевой литературы. И если читатель будет помнить об этом особом безответственном и непритязательном месте, занимаемом данными записками, то он без особого вреда для себя может продолжить чтение.
* * *Иногда перелистывая записную книжку, я натыкаюсь на тех, кому уже больше нельзя позвонить. Вот ведь совсем недавно записал телефон, думал, позвоню, поговорим: «Звони», «Позвоню обязательно, вот только…» Теперь им позвонить уже нельзя. Наверно, они тоже думали позвонить мне и еще кому-то… На год раньше, на год позже вычеркнут и мой номер. Иногда думаешь, что там могло бы быть хорошо, там много хороших людей, там полузабытая чудесная бабушка, там мама. там есть милые собеседники… Но разве там – это институтский коридор куда мы выходили поболтать в переменку из разных аудиторий? Может, там – это разные миры, где уже никогда не встретиться. Так или иначе не может же быть, чтобы не было там. А тогда странно думать, что там не встретимся. Впрочем, почему ж странно? Даже ученики, исключенные из одной школы, даже солдаты, вышедшие на волю из одной части, и те не всегда встречаются.
Нет уж, не встретиться… Так что если не позвонил, не зашел, это непоправимо, это утрата – как нынешний невесть куда промелькнувший день.
Страшно переходить туда, потому что здешний мир соответствует нашему идеалу прекрасного и мы еще надеемся насладиться здесь этим прекрасным. А может быть, не надо так уж сильно бояться? Может быть, вид охладевшего тела твоих близких напрасно пугает тебя утратой этого материального, телесного благополучия. Может, именно там, освободившись от этих ежечасных забот – то есть надо, то пить, то хочешь женщину, то хочешь писать, то дозарезу хочется писать, то холодно тебе, то чешется, – может, именно там обретем мы небывалую ясность мысли и прозрачность ощущения…
Так представим себе просто, что близкие наши ушли, уехали куда-то, в другой мир, откуда ни написать, ни позвонить. Конечно, можно жалеть себя, что лишен общения с ними, но не следует приходить в отчаянье от того, что они не пользуются благами именно этой, единственной нам знакомой системы…
* * *Помню, я был тоненький, маленький и загорелый, слишком маленький для своих пятнадцати, для предстоявшего мне восьмого класса и для успехов в моей любви к хозяйской дочери, вполне зрелой девице, еще и не принимавшей меня за особь другого пола. В дачном поселке было пусто, особенно пусто днем, когда почти все уезжали на работу в город и я один бродил по участку среди кустов, предоставляя младшей сестре заботиться о самой маленькой, третьей…
За штакетником забора весь день хромал, опираясь на палку, пожилой человек, снимавший дачу по соседству и остававшийся один на весь день. Теперь я, кажется, лучше понимаю, что все это значит – и его хромота, и рука, висящая как плеть после первого взрыва в мозгу, не выдержавшем напора жизни; и его работа за столом в пустом доме, оставленном всеми, кто еще мог уехать. Наедине с книгами, с машинкой, с уколами совести и пугливыми мыслями, с одиночеством вечернего ожидания электрички, когда уже могла бы вернуться, но отчего-то не возвращается из города его очень занятая жена-актриса, вполне еще молодая женщина. Но тогда я ничего этого не понимал и даже не знал, что сосед мой – известный критик, написавший множество книг. Кто-то упоминал, что он пишет что-то литературное, однако фамилия его не была мне известна, хотя мне и предстояло, как я уже догадывался, прославиться в этой самой литературе, потому что даже тогдашние мои стихи, посвященные хозяйской дочке, были куда как прекрасны. Конечно, я много читал в то лето, как и всегда, с тех самых пор как научился читать. С утра я очень внимательно читал газеты, а потом читал книги, детские или взрослые, чаще всего современные книги, по большей части книги о том, как новый, самый совершенный в мире порядок восторжествовал в нашей стране над старым, очень несовершенным и гнусным, поэтому я и не ударил в грязь лицом, когда хромой сосед, уже не раз обращавшийся ко мне с ласковым приветствием через штакетник, в то памятное утро окликнул меня и подозвал к забору, где он стоял, опираясь на свою палку и шелестя листами утренней газеты. Лицо у него было грустное, впрочем, как всегда, когда он глядел на мои ребра, обтянутые загоревшей дочерна кожей. Пожалуй, в тот раз еще более грустное, чем всегда.
– Вы читали? – спросил он, пошевелив зажатой в руке газетой.
– Читал, – сказал я с достоинством.
Конечно же я прочел, рано утром прочел – и про Зощенко, и про Ахматову, и про журналы «Звезда» и «Ленинград» – что за дураки выпускают такие журналы, что за дураки в них пишут, не знающие, как нужно писать и как можно писать и как делать это хорошо.
– Ну и что? – спросил мой сосед. Он, кажется понял по выражению моего смазливого лица, что напечатанное в газете мне здорово нравится, так сказать, наполняет высоким чувством. – Но он ведь хороший писатель Зощенко… – осторожно сказал сосед. И добавил почти умоляюще: – Ведь смешной.
– Вот именно, – подтвердил я со знанием дела. – Вот именно, что смехач. Это голое смехачество и хулиганство… Хулиган.
– Да, конечно, – кивнул сосед и вдруг заковылял прочь от забора. Он доковылял до яблони, остановился, глянул через плечо, потом заковылял дальше.
А я побежал по своим пацанским делам, вдохновенно перебирая в памяти с утра меня обогатившие литературно-критические мысли о том, что так все же нельзя, как ихний Зощенко, потому что это клевета на нашу действительность, про какую-то там обезьяну, хотя я про нее еще не читал, но все же это настоящее хулиганство. Или взять эту Ахматову, которая металась между молельной и будуаром, в то время как надо было метаться где-то еще, вместе со всем народом, хотя про нее было не так понятно, как про этого Зощенко, – шлюха она была, что ли? Настоящая блядь…
Прошло совсем немного времени после этого, и я, все еще очень худенький и очень загорелый, однако уже студент, прочитал в газете про нашего дачного соседа с нелестной фамилией Гурвич – что он и был гнусный космополит и даже признавался кому-то в юности, что его любимым произведением с детства был «Гамлет». Я почти забыл к тому времени наш утренний дачный разговор, почти забыл дрожащую газету в его руке, но вдруг вспомнил все это позднее, когда мне сказали, что бывшего нашего соседа хватил то ли второй, то ли третий удар, так что он и вовсе покинул эту юдоль печали и творческих ошибок, а я подрос немного, хотя все еще был и худенький, и загорелый. В общем, мне вдруг вспомнилось все, и я очень хорошо представил себе, как он ковылял по садовым дорожкам с этой страшной газетой, с предчувствием беды, с неизбежным страхом. Я подумал, что ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими страхами, услышать человеческий голос, но наткнулся он на мой ясный и бессмысленный взгляд… Что ж, правильно. Разве можно так хулиганить, как этот Зощенко? Еще и советский писатель…
Глава 4
Ах, какую чудесную, поистине сказочную я избрал себе сферу деятельности, таинственную и неподвластную теории, как алхимия, соблазняющую, конечно, изрядной долей мошенства, когда хочется показать миру результат исследования (а его нет и быть не может), но зато дающую столько бескорыстной радости от самого бульканья зеленоватой влаги в реторте памяти, от осязания запахов прошлого и ощущения странной тяжеловесной жидкости на ладони – какой не бывало ни у кого раньше, да и не должно было быть по всем расчетам науки… А какая гордыня бессмертия, надежда на оживающий в моих строчках дух, который будет передан другим людям, тем, кто тебя и не знал никогда, позже, конечно, передан – через десять, тридцать, а может, и сто лет. Чем заслужил я удивительную эту возможность – вот так, без посредников получать то, что входит в меня извне, свыше, снизу и еще неизвестно откуда, получать вот в таком, хоть и обедненном, даже извращенном слегка виде, а потом передавать кому-то словом, запечатав в строку, чтобы удержать, сохранить. Пусть даже самую малость сохранить, не стоющую чужого внимания чепуху, мелочь, брошенную кем-то на дороге или, еще меньше, – свою разнеженную слезу от летнего вечера, когда вдруг так странно, от невидимого луча солнца, покраснеет и засветится ствол сосны.
И мне не приходится испрашивать разрешенья писать на самое высокое имя, я сам избираю высочайших адресатов моего письма. Скажем, родина или Бог. И при этом я сам ограждаю их от мошенников, которые тоже хотят быть с Ними накоротке.
Я не признаю ничьих привилегий. Потому что я знаю Тебя лучше. Впрочем, знаем мы лишь настолько, насколько любим. А уж любви-то к Тебе и надежды мне не занимать – всякой, и робкой, и застенчивой, и полной ужаса неизбежности.
Ну а что я успел разглядеть, услыхать? Лепет старушечий, бессмысленный и добрый? Но порой – озверелый тоже… Пьяный в городском сквере, целующий грязь в забытьи праведника? И Малюсенький Человечек, сын Маленького Человека, в лабиринте белых твоих берез?
Если отыщется у меня вина перед Тобой, никто, кроме нас с Тобой, не разглядит ее и не посмеет судить. Вообще, без меня Ты уже неполна, нет Тебя такой, какая Ты есть. Уж тут не до скромности, прости…
Писать ли про то, как любят меня дряхлые старухи и старики в заброшенных твоих деревнях, как благословляют меня на прощанье. Должно ли писать о том, как сливаются для меня с этими бревенчатыми деревнями и штакетник дачного забора, и деревянная развалюха в Москве на Банном близ Мещанки и Переславки? Там, где мы жили два десятка лет – несравненная моя мамочка, отец, младшие сестры, отцовский брат, а после войны и дедушка с бабушкой, все в одной комнате. Всего-то жилплощади было четырнадцать метров, но какой площади. Бесценной, московской…
Конечно, все четырнадцатиметровое пространство было заставлено какой ни то мебелью: квадратный стол, шкаф, две наши с сестрой детские койки, одна большая родительская, двуспальная, а сперва еще и одна сиротская, отцовского младшего брата Нени. Ненина койка стояла под телефоном, в каких-нибудь трех метрах от брачного ложа моих юных родителей, так что, полагаю, бедный Неня был умиленный свидетель моего и сестры зачатия, если только нас не нашли в капусте или не принесли аисты, что редко случалось в бедных еврейских семьях, где детей делали сами.
Поговаривали позднее, что Неня был слегка ненормальным на сексуальной почве. Вероятно, так оно и было, если тем более принимать за эталон нормальности нашу собственную рассеянную гетеросексуальную жизнь. Так или иначе, у Нени были условия для чего угодно, кроме нормальных отношений с женщиной (коль скоро мы примем именно это за образец нормальных человеческих отношений).
В свободное время Неня играл на скрипке. Окружающие были недостаточно начитанны, чтоб называть это сублимацией или вспоминать шопеновскую сексуальную бухгалтерию (одна палка – две мазурки). Попросту говорили, что Неня свихнулся на сексуальной почве. На почве неразделенной любви к женщине с накрашенными губами. Я даже помню эту женщину. Неня привел ее однажды, когда ни родителей, ни нашей домработницы Моти не было дома. Он принес в тот вечер корзиночку с пирожными (чем редко баловал нас наш скудный дом) и предложил мне выбрать себе пирожное по вкусу. Я выбрал наугад так называемую «картошку»… Боже, какие мелочи остаются нам от событий невозвратимой давности. Еще я помню, что они оба ласкали меня по очереди. Оба они ласкали меня, и я находил это естественным – я был прелестным ребенком. Теперь я без труда могу представить, о чем они мечтали тогда оба. О том, чтобы я провалился к чертовой матери и любовь их стала наконец реальной. Но я никуда не ушел. Мне было интересно. Я даже не пошел во двор погулять. Я сидел с ними до самого прихода родителей, и, может быть, этот день вписан первым в толстую книгу моих грехов.
Впрочем, тогда никто в семье и не подумал меня попрекнуть чем-нибудь. Никто не жалел этого мишугинер Неню, ибо кому было до него дело. Мир был занят каким-то великим созиданием, очищением рядов партии… В то великое время, когда все внимание общественности приковано к коллективизации с индустриализацией (Боже, сколько их было еще, этих пахнущих кровью слов!), кому интересен был бездомный поц, не умевший разрешить свои собственные половые проблемы?
Позднее Неня и Дода на двоих снимали комнатку в трущобах на Трифоновской улице. Они так долго жили в этой комнатке, что даже стали претендовать на «площадь» и много лет судились на этот предмет со своей старухой хозяйкой, пожалуй что и до самой войны. Потом старуха померла, они погибли, а трущобу эту снесли…
По воскресеньям Неня и Дода приходили обычно со своей Трифоновки к нам в гости. Похоже, им больше некуда было пойти, хотя родителей чаще всего и не было дома в те дни. Наверное, Неня любил меня, но мне это было тогда безразлично. Теперь мне жалко этой любви, которая рассеялась где-то в напоенном кровью довоенном воздухе. Впрочем, откуда знать – не сидит ли у меня где-то под кожей ласка женственной Нениной руки.
Высказав сожаление, что родителей нет, Неня и Дода забавлялись со мной и часто смеялись до колик. Мы шли на кухню. Там, на русской печке, за ситцевой замасленной занавеской, спала домработница Мотя, двадцатилетняя девка из деревни. Представляю, как они вожделели ее молодых прелестей, бедные Дода с Неней. Они отправляли меня на печку посланцем их томления.
– Зямка, а ну, Зямка, – ржали дядья, – полезай на печку, поищи-ка у Моти бейцэм!
Юмор у них был вполне раблезианский, местечковый. Поздней я пытался усовершенствовать его на службе в армии, в плаванье на перегонных судах, в бесконечных своих скитаниях по России, так что он, похоже, потерял белорусскую местечковую терпкость.
Помнится, я был в подмосковном пионерлагере, когда началась война и отец с тремя братьями ушли в ополчение, понятное дело, добровольцами. Я долгие годы представлял себе эту картину: как москвичи добровольно бегут в военкоматы, в едином порыве, вместе со своей страной. Теперь начинаю выуживать из памяти какие-то подробности. Дед с бабкой говорили мне позднее, что Юда в конце концов мог бы и не пойти: он был инженер, и ему было за сорок. Растил бы своих детей. Неня, тот вообще был больной. Болел бы себе помаленьку. Про Доду они рассказывали подробнее. Он работал нормировщиком на военном заводе. Парторг цеха сказал Доде в минуту искреннего раздражения:
– Никогда-то вы, жиды, не воюете!
И гордая Додина кровь взыграла.
– Запишусь, – сказал он парторгу, – но только вместе с тобой, сволочь!
Ах, эта национальная узость. Отождествление мелкого народного предрассудка с расизмом и подлостью. Но что вы хотите, Дода ведь тоже не учился в парижской Эколь Нормаль (учебном заведении, где теперь так высоко ценят открытия Лейбы Троцкого). Обычная нацменская уязвимость…
В общем, они пошли оба и записались в ополчение, Дода и этот парторг. Парторгу все же легче: он погиб, отстаивая высокие принципы, которые восторжествовали в отвоеванном, лучшем мире. К тому же он оставил кучу маленьких ребятишек для продолжения своего рода. А кто продолжит Доду? Кто может вспомнить его, наконец, если он стерся почти начисто даже из моей памяти патриарха. Помню только, что он был высокий, носатый и добродушный. И что имя его меня смешило – Дода…
Дода, и Неня, и Юда погибли где-то под Вязьмой, одновременно, в такой свалке, что имена их даже не попали в списки убитых, а только пропавших без вести. Впрочем, тем, кто интересуется этим сражением, лучше читать воспоминания генералов. Это правдивые и солидные книги, они выходят большим тиражом и содержат в себе немало героического.
Я так и не стал ничего выяснять про это сражение под Вязьмой. Ну бежала до самой Вязьмы и даже до северной московской окраины армия великого Гуталина. Ну остановились немцы, иссякли, перебив полстраны… Но еще полстраны оставалось…
Гораздо больше занимала мое воображение половая неустроенность моих молодых дядьев, особенно Ненина. В нежную пору молодого разгула, лежа обессиленный где-нибудь на сеновале в Средней России, я от усталости, нежности и сытости шептал в потолок щедрые, бессмысленные слова:
– На, возьми ее себе, Неня… Она хорошая, она милая… Тебе будет с ней хорошо…
Я еще был уверен в ту пору, что все мы должны дополучить то, что нам недодано. Что Нене недостаточно было его ночного подслушиванья, его дневного томления и его скрипки.
Вот вам и судьба героических предков. Ничтожных винтиков в великой машине войны и террора. Именно так определил их скромное место великий Гуталин. Он сказал, что эти людишки держат Его, заоблачного сухорукого коротышку, как основание держит вершину. Если вы помните, мне тоже довелось быть винтиком. Служить в его великой армии совсем простым солдатом, солдатом… В армянском городке Эчмиадзине. До сих пор помню солдатскую жизнь. Но что в ней могло быть интересного, в солдатской? Вот офицерская или хотя бы старшинская. Вспомнить хотя бы второй брак старшины Гамлета…
* * *Старшина Гамлет Мнацаконян был сверхсрочником и ведал складом ГСМ (что в переводе с армейского на русский означает горюче-смазочные матерьялы). Гамлет был молодой, симпатичный и чуток нудноватый армянский мужик. Имя датского принца досталось ему по новой армянской традиции. Впрочем, в паспорте он был записан как Амлет. На нашей окраинной эчмиадзинской Четвертой улице этим никого нельзя было удивить. У сапожника Леона сыновей звали Эдмунд, Радж и Альфред, а дочерей Джульетта, Розамунда и Джемма. Гамлетов же и Амлетов (милицейский вариант Гамлета) в окрестности была добрая дюжина.
Гамлет Мнацаконян давно вступил уже в пору мужской зрелости и томился безбрачием, растравливаемый на службе солдатскими рассказами о веселой ебливой России. Никаких традиций внебрачного сожительства в нашем пристойном Эчмиадзине не было, так что Гамлету предстояло жениться. К тому все шло. Вопросам предстоящей женитьбы посвящены были теперь все досужие разговоры на складе ГСМ. Заметно было, что, хотя Гамлету хочется жениться, его несколько удручает предстоящее ограничение свободы, потому что вместе с женитьбой уйдут обильные возможности, о которых так смачно толкуют солдаты из России. Тем более что Гамлет на самом деле уже один раз женился. Он посватался к учительнице Гале из Паркара, подарил ей золотые часы и даже была свадьба. Хотя мы, солдаты, не были на свадьбе, мы все знали эту историю, потому что вслед за свадьбой на Четвертой улице, примыкавшей к части, разразился шумный скандал: учительница Галя оказалась не девушка. Как уверял нас Гамлет, семья у него была образованная и никто не вывешивал на дувале брачную простыню, однако печальное открытие, сделанное Гамлетом, получило огласку и вскоре последовал разрыв между молодоженами. У меня сложилось впечатление, что разрыв этот не был для Гамлета вовсе не желательным: уж больно часто он жаловался на обман. Создавалось впечатление, что Гамлета пока привлекает не одна конкретная женщина, а женщины вообще. Так или иначе, Галя уехала назад, в Паркар, где вернулась в школу, а разборчивый старшина Гамлет снова стал женихом. Вот тут-то его и настигла большая любовь. Как только он увидел Вальку, новую вольнонаемную секретаршу из хозчасти. Мне лично довелось в первую неделю и еще потом, почти до того дня, как Гамлет запретил ей работать, обучать эту соблазнительную блондинку нехитрой писарской работе, так что Валькина история известна мне из самых первых рук.
Она жила раньше на окраине Ростова и дружила со многими армянскими ребятами из Нахичевани Донской. Лучшая ее подруга Люба исчезла однажды куда-то на все лето, а потом вдруг прислала Вальке восторженное письмо из прекрасного Еревана, города знаменитых армянских коньяков и щедрых черноусых мальчиков. Люба звала Вальку к себе, и Валька уехала в Ереван, где устроилась работать на центральном телеграфе. Там была у них развеселая, хотя и несколько однообразная по характеру развлечений ереванская жизнь, которая способна была разрушить и каменное здоровье. Валька через год этой изнурительной жизни стала задумываться о покое, семье, законном браке и даже деторождении. Она перешла на работу к нам в часть, и тут как раз подоспел Гамлет со своим предложением. Надо сказать, что он просто оторопел, увидев это светловолосое голубоглазое русское чудо, и сразу заговорил о браке.
Однажды, в пору своего ухаживания, Гамлет рассказал Вальке историю своего первого, неудачного брака и привел ее этим рассказом в полнейшую растерянность, потому что воспоминание о собственной утраченной некогда второпях невинности давно уже не смущало ее покой. Валька поделилась своим недоумением с подругой, и Любочка ее успокоила, сказав, что не стоит даже думать о таких пустяках, потому что одна знакомая тетка в Ереване за гроши сделает им эту невинность при помощи красных чернил – пусть, если хотят, вешают эту свою поганую простыню хоть на площади Абовяна…
Вышло так, что опять никто никуда простыню эту не вешал и, сказать по правде, нежданной этой Валькиной невинностью Гамлет был даже несколько озадачен. В общем и целом новая свадьба прошла на высоком уровне, и Валька водворилась в домике с плоской крышей на Четвертой улице Эчмиадзина. В доме хозяйничали три темнолицые старухи в черном, а мужское население было представлено только самим Гамлетом да еще фотографическим портретом солидного мужчины в визитке, который давно уже покинул этот плоский кров для какой-то иной, вероятно, более возвышенной жизни.
Некоторое время Валька продолжала работу у нас в войсковой части 48874. Характер у нее был такой общительный, свойский, что за месяц она перезнакомилась чуть не со всем личным составом. Хотя знакомства эти носили вполне невинный характер, иные из военнослужащих с такой хамской солидарностью улыбались теперь Гамлету, как будто уже имели особый доступ к его брачному ложу. Неудивительно, что взбешенный Гамлет забрал Вальку из части и в дальнейшем пресекал все ее вялые попытки трудоустройства. Для Вальки потянулись нескончаемо долгие и ленивые месяцы замужества – за глиняным дувалом, под плоской крышей дома или под развесистым тутовником в саду.
Гамлет уходил на работу, а Валька оставалась в обществе старух, ни слова не понимавших по-русски. Она томилась от жары и безделья, сонно слонялась по двору, собирала тутовник и абрикосы, жевала лаваш с луком и выпивала перед обедом и после обеда стакан, другой, третий кислого сухого вина. Однажды, в разгар нестерпимой июльской жары, она придумала себе развлечение, взбудоражившее всю Четвертую улицу. Она разделась до трусов и стала обливаться водой под тутовником. Низкий дувал не скрыл от соседей эти невинные игры, и вскоре вся Четвертая улица пришла в неистовое возбуждение. Гамлету об этом донесли, он прибежал из части весь потный, красный, и потом на него жалко было смотреть всю неделю. В домике у них стоял немолчный старушечий визг, но Валька так и не поняла, из-за чего весь этот иноязычный гвалт.
После этого случая вся Четвертая улица окончательно утвердилась в мнении, что у Мнацаконяна жена шлюха. Что касается русских военнослужащих, то у них на этот счет никогда не возникало потребности в подтверждениях.
После инцидента с обливанием Валька продолжала томиться бездельем и, с умилением вспоминая былую ростовскую и даже недавнюю ереванскую жизнь, подвергла ревизии распространенные девичьи представления о законном браке.
Однако в одно жаркое воскресенье в начале августа Вальке выпала нечаянная радость: к ней приехала в гости подруга Люба.
Гамлет в то воскресенье работал – полковому начальству время от времени приходило в голову, что шестидневное ничегонеделание не могло исчерпать наших творческих ресурсов, и тогда воскресенье объявлялось вдруг рабочим днем. А может, причина подобных решений крылась в ином. Может, большинству женатых офицеров самая мысль о том, чтобы в воскресенье остаться дома, была противна? Солдатского мнения на этот счет никто не спрашивал.
В общем Гамлет с утра убежал в часть, а Валька с Любочкой ворковали под тутовником, поверяя друг другу события своей столь по-разному сложившейся жизни. Валька с жадностью расспрашивала о Ереване, об общих знакомых, а Любочка живо интересовалась семейной жизнью и говорила, что ей вся эта суета надоела и что она мечтает выйти за русского солдата по большой любви.
Эчмиадзинский полдень раскалился между тем добела, и даже предметы, сделанные из более стойкого материала, чем мягкая плоть, покрытая светлой кожей, стали выказывать первые признаки плавления.
– Искупаться бы где-нибудь, на Дону, на Зеленом острове… – мечтательно сказала Любочка, и тут Валька вспомнила, что где-то совсем неподалеку от них, за эчмиадзинской резиденцией католикоса, есть древний бассейн, построенный еще Бог знает когда. Перспектива купания показалась подружкам столь желанной, что они не медля отправились на поиски этого знаменитого бассейна. Он и правда лежал неподалеку от их дома, обширный, великолепный бассейн, осененный листвой старых деревьев…
Подружки быстро разделись и с разбегу плюхнулись в воду.
Это было истинное блаженство – нырять, и плескаться, и плавать наперегонки с симпатичными мальчишками-школьниками, и визжать в свое удовольствие…
Казалось, конца этому не будет, так что прошло довольно много времени, прежде чем Валька с Любочкой заметили: на берегу возле их платьев собралась изрядная толпа местных мужчин. Тогда-то до их сознания дошло, что они здесь единственные женщины и что вылезать и подходить к своей одежде в трусах и бюстгальтерах им будет не слишком удобно.
Валька вдобавок поняла, что она опять совершила какой-то промах и что ей снова придется оправдываться. Но она не знала еще, в чем она должна будет оправдываться, да, честно говоря, и не хотела знать. Пока они одевались под крики и улюлюканье, ею все больше овладевало упорное озлобление. В таком настроении, простившись с Любочкой на остановке автобуса, она одна побежала домой, навстречу своей судьбе.
Вскоре прибежал домой и Гамлет. Он уже успел из части сходить к бассейну, не застал их там и теперь прибежал домой, яростный, растерянный и жалкий.
Нужно обладать средствами большого симфонического оркестра, чтобы достойно передать атмосферу, царившую в тот вечер на Четвертой улице в маленьком доме Мнацаконянов. И не только средствами, но и талантом. Вот если бы Булез или Шонберг…
Кончилось тем, что Валька, в чем была, выскочила за калитку сада и побежала прочь из города, за храм Рипсиме, на шоссе, где стала махать рукой всем проходящим машинам, ловя попутку на Ереван… Помню, как Гамлет, совсем потерянный, прибежал в часть после отбоя и полночи плакался дневальному, который мог слушать хоть всю ночь без ущерба для драгоценного сна. Я как раз и был в ту ночь дневальным, так что я выслушал несколько раз подряд историю этого позорного купания и проникся величайшим сочувствием к Гамлету Мнацаконяну, который был в общем-то парень неплохой и угостил меня однажды гранатом.
Я, помнится, горячо сопереживал Гамлету, а потом представил себе без труда, как она честит всех обитателей домика на Четвертой улице, бедная Валька. Как она стоит там одна на темном шоссе возле храма Рипсиме. Убей меня Бог, не помню, что за подвиг совершила эта святая женщина Рипсиме. То ли она не хотела отдаться какому-то иноземному угнетателю, и мерзавец ее зарезал. То ли она героически отдалась мерзавцу, чтобы зарезать его потом, пристроившись поудобнее. Так или иначе, ее патриотический поступок не был забыт потомками…
Глава 5
Помнится, это было со мной на автостопе в Словакии, на темном шоссе под Ружомбероком. Ночью попутки берут неохотно, да и вообще уже добрых полчаса не проходило никаких машин, так что я стоял в полном одиночестве. Невдалеке за шоссе блистал огнями какой-то поселок, и там было отчего-то светло и шумно, как редко бывает в деревнях в такую позднюю пору. Я спросил у ребятишек, пробегавших мимо, в чем дело, и они объяснили, что приехал цирк. Я уже стал подумывать, не пойти ли мне в поселок и не примазаться ли к бродячему цирку. Хорошая деталь для биографии: бродил с цирком. Как Феллини или кто там еще? У нас цирк, впрочем, меньше почитают, чем на Западе. В цирк у нас водят только солдат и малолеток. Меня раз водили в саперной роте. Но нас и в Ереванский оперный возили. Без предупреждения. Видит театральная администрация, что всего пяток билетов продано и даже контрамарки лежат без движения, звонит в армянский полк или в русский полк, и часу не пройдет, как наш грузовик подкатит к театру…
Театр. Музыка играет, кресла мягкие. Сидим, ерзаем, гремим кирзой: какая-никакая, а все ж публика, живые люди… У нас кресло у каждого, а не скамейка. Это тебе не цирк. Русский язык, кстати, отразил эту иерархию ценностей. «Ну цирк!» – говорят у нас по поводу любого нового устройства. Говорят, правда, и «Театр!», но реже. Чаще – «настоящий бардак». Реже – «бордель». Но ностальгических певцов борделя, как Мопассан, родная литература нам не оставила. Хотя небось наши пышки были и пышнее и патриотичнее ихних… В общем, за бродячим цирком я не ушел. В конце концов маленькая красная машина все же притормозила у края шоссе, дождалась меня, водитель помог открыть двери. В машине были молодые родители и двое детишек. Это бывает: родители, у которых в машине дети, смелее и доверчивее, так что подбирают даже ночью. Вероятно, даже самая мрачная фантазия не решается представить себе негодяя, который нападет на машину с детьми. Что это – неистребимая вера в доброту или ограниченность человеческой фантазии? Так или иначе, я поехал дальше в обществе молодого венгра из Рожнявы, его жены и детей. Узнав, что я русский, водитель пришел отчего-то в возбуждение, которое не укрылось ни от меня, ни от его жены. Он все время порывался рассказать мне что-то важное, и в конце концов из его сбивчивых объяснений я понял, что он был в России в плену, но что он на меня не в обиде и что, пожалуй, даже наоборот, он меня любит или нас всех русских любит.
В каком-то маленьком городке, где он должен был съезжать с большой дороги и я должен был вылезать, он остановил машину на углу перед очень красивым старинным домом, рядом с которым, тут же, в проулке, размещался «ноцлегарен», дешевая ночлежка, из тех, что были мне по карману.
– Я вас провожу… – сказал он и поспешно вышел за мной из машины. – Иванов… – вдруг продолжил он, когда мы отошли от машины шагов на двадцать. – Иванов! Девушки! Иванов!
Теперь я понял, о чем шла речь. Он был в плену, в Иванове. «Иванов» – это были война, плен, лагерь, голод, но это была его юность. И там была девушка, которая его пожалела и приласкала. Впрочем, и ее тоже не грех было пожалеть: там и нынче, небось, спрос на таких вот чернявых красавцев, в нашем текстильном Иванове. Теперь все это далеко и нисколечко не страшно. А свежесть того ощущения как вернуть? Есть, конечно, жена, дети, тачка, теплый дом… Домой придешь – там ты сидишь…
Всякий нормальный человек лелеет воспоминания о своей боевой юности. На худой конец боевитой. Те же, кто хает свое прошлое, это уроды, лишенные самоуважения. Я из них числа. Просят: повспоминайте о вашей боевой студенческой юности, вскоре после Войны и Великой Победы. И мне вспоминаются комсомольские собрания…
Они отбирали немало нашего времени. Годами тянулась вереница собраний, посвященных «моральному облику». В каждой группе должны были найтись моральные уроды для битья. Они потребительски относились к своим товарищам, к общественным поручениям, а главное – к изучению общественно-политических дисциплин. Так что каждый коллектив должен был провести у себя серию очистительных собраний и заклеймить «разложенцев». Участвуя в собраниях, члены коллектива отстранялись от морального урода, очищались внутренне и получали устрашающий урок. Мероприятия эти были обязательными, каждая группа и курс должны были отыскать в своей среде факты бытового разложения, угрожающие здоровой морали студенчества. И конечно, отыскать удавалось…
Помню шикарные судилища факультетского масштаба и маленькие, но вполне грозные групповые собрания. Помню, как мой институтский друг, тогдашний групкомсорг, открыл наш скромный групповой трибунал, произнеся ломким голосом, дрожащим от гнева и сознания собственной чистоты [3] :
– Лида, до нас дошли сведения, что ты живешь с Юрой…
Второй вопрос повестки дня был сформулирован мягче:
– Галя, мы хотим разобрать вопрос, почему на нашем групповом вечере ты целовалась с Витей…
Ах, как было страшно! Каждый из нас предавался, хотя бы в мечтах, безнравственным этим занятиям, и каждого могли призвать к ответу. Помню, я что-то выкрикнул в знак протеста на этом собрании и за «попытку сорвать мероприятие» был осужден комсоргом. Но помню, как ничтожно было и мое расстояние до прокурорского места. Еще чуток надавить, допугать…
Господи, да она и нынче в памяти, эта грозная фраза моего друга-комсорга, сидит под кожей, как заноза:
– Лида, до нас дошли сведения…
Неужто все еще боюсь оказаться на затертой скамье подсудимых? Протестующий, вожделеющий, осуждающий разврат и его алчущий, защищающий жертву и одобряющий наказание, либерал и ханжа, прячущий руку, голосующий «за» и «против» в одно и то же время. Это часть моей юности, и я в упор не вижу над ней ореола «лучшего времени». Конечно же была она и нежной, и сладкой. Ухитрялась быть…
* * *Пенсионер, ставший передо мной в очереди к прилавку, доверительно сообщил, что все пораспустились теперь, а раньше был порядок. Он уточнил, что длинноволосым надо обрезать волосы и заставить их строить каналы, девиц обрить наголо и запретить им спать с мужчинами, а писателей, поляков и отчего-то еще чехов надо скрутить в бараний рог, чтоб был международный престиж и страна встала с колен. Потом он обвинял в чем-то Никсона, Киссинджера, соседа-еврея, который якобы художник, но нигде не работает, воспитательницу детского сада, где у него внук, и еще каких-то людей, про которых я не знал, потому что у меня нет телевизора…
Мир представал перед ним в безобразии хаоса, и он один мог бы привести его в порядок, потому что над гнилым морем его ненависти был некий принцип. Я слушал, ощущая невозможность пробиться через непроходимую, непроницаемую стену… Напрасно я вызывал в памяти все свои бесконечные странствия по России, добрые лица милых людей, моих друзей или просто попутчиков… По временам мрак рассеивался, но оставались серые сумерки безнадежности…
* * *Помню, как приехал я однажды в Ростов Ярославский вечернею электричкой и совершенно обалдел, увидев в первый раз белый, подсвеченный в ночи кремль над тинным морем-озером с мерянским названием – Неро. Обойдя раз и два вокруг кремля, я встал под стеной у берега и решил, что вот здесь, на этой вот самой «Толстовской набережной», я хотел бы жить. В конце концов меня и правда пустили на постой в низком домике с окнами, вросшими в землю вала, под самой стеной, над которой возвышались одетые деревянным лемехом купола, башни, кресты, флюгера и дымники кремлевских строений.
Дядя Миша, хозяин домика, где нашлась для меня комнатушка, ушел на пенсию еще в незапамятные времена, до войны, а до того был милиционером. Он трогательно обо мне заботился, часто ставил самовар и звал меня к столу. Я без сожаления бросал перевод нигерийского романа, и мы принимались рассуждать за чаем о различных предметах.
– Полячки, они женщины красивые, но очень хитрые… – убедительно говорил дядя Миша, прислушиваясь вполуха к бормотанию репродуктора. – А лучшее вино, Зяма, знаешь какое? Лучшее вино мальвазия, его монахи пьют.
Иногда я брал его лодку и уплывал на середину озера Неро. Отсюда наш домик был едва виден, он сливался с остатками вала и стены, а над низким берегом, будто почти не касаясь его, маячил в высоте веселый сказочный кремль. На окраинах городка возвышались с одной стороны Спасо-Яковлевский монастырь, а с другой, там, где было некогда Велесово дворище и стоял каменный истукан, побежденный святым Авраамием для нынешнего торжества правильной веры, лежал монастырь Авраамиевский.
Иногда мы рассуждали с дядей Мишей о колхозах, о разных научных достижениях, а также о несовершенствах современного мира. Разговоры эти возбуждали и тревожили старика. Как я теперь понимаю, они томили его мерой их разрешенности – то ли уже можно теперь обо всем беседовать, то ли еще, может быть, все же не стоит. Однажды в ходе нашей беседы о том о сем – о былом производстве овощей и былой красоте ростовских звонов – дядя Миша вдруг рассказал одну довоенную историю.
– Вот так же помню до войны ездил ко мне один молодой парнишка-инженер, приезжал рыбачить… Очень мы с ним подружились, хороший был парнишка. После рыбалки мы с ним, бывало, обязательно выпьем и рассуждаем о разных предметах, про всякое такое. Один раз мы с ним до полночи разговаривали, и он, между прочим, анекдот мне один рассказал про пятилетку. Смешной был, наверно, анекдот, теперь уж не помню какой. Ты его должен знать… Потом он уехал, инженер этот, а я вот тут, на кухне, сижу и думаю, что нехорошо это получается, человек он молодой, всякое может случиться. Адрес у меня его был записан, а также предприятие, на котором он работал. Сидел я тут в кухне один, сидел, потом собрался и поехал в Москву. Нашел я это его предприятие, где он работал, и прямо к начальнику. Так, мол, и так, вот у вас работает такой-то. Работает? Да, работает. Человек он, говорю, молодой, не понимает еще обстановки, напряженная обстановка, кругом враги и всегда может приключиться какая беда, а он вот такую мне вещь рассказывает. Я про анекдот этот. А они мне говорят, спасибо, папаша, не беспокойтесь, мы тоже тут не дураки сидим, уже приняты меры, и этот молодой человек забран как враг народа. Так что вам, папаша, конечно, спасибо, но уже все в порядке и вы даже вроде бы как опоздали. Такие вот бывают истории…
Дядя Миша посмотрел на меня отчего-то с жалостью, и мне стало не по себе. Даже неудобно стало перед сухоньким, совсем старым дядей Мишей, который может из-за меня снова пережить такую вот неприятность. Я стал уверять дядю Мишу, что у меня пока еще все в порядке, да и времена вроде бы нынче другие, но окончательно мне успокоить его не удалось… Так что он еще долго вздыхал за самоваром, когда я уже ушел к себе в комнатку, вросшую в древний вал. А я переводил роман из мрачной нигерийской жизни.
Тоже не позавидуешь. Но может, там у них народ покрепче, в Нигерии…
* * *Дядю Мишу я увидел в последний раз летом, когда совершал большое путешествие по Ярославской области. Был проездом в Ростове, а потом поехал на север области и поселился в северо-западном ее углу, в Пошехонье.
Маленький этот городок Пошехонье-Володарск изрезан речками и речушками, и новое «рукотворное» Рыбинское море, затопившее равнину, подступает к его улицам. Поселился я в Доме крестьянина на берегу Согожи, койка нашлась, но жить пришлось в одном номере с приезжими прокурорами из Ярославля, которые днем судили кого-то в Пошехонье, а вечером удили рыбу на бережку, отдыхая от дел правосудия.
Сам же я то плавал вверх по Согоже на речном трамвайчике, то ходил на рыбацкой пэтээске «Дельфин» по морю, то бродил пешком по немыслимым этим дорогам, забираясь в самые глухие пошехонские углы. Потом надумал уехать еще дальше на запад – в Дарвинский заповедник, что лежит на самой границе Калининской области, на бывшей реке Мологе, затопленной морем. Под вечер я собрал рюкзачок и простился с прокурорами, отдыхавшими на гостиничных койках.
– Счастливо оставаться, – сказал я, – судите, карайте и будьте милосердны…
Прокуроры оказались не вовсе чужды юмора. Впрочем, старший из них поправил меня с большой серьезностью:
– Какое ж тут может быть милосердие, если они нарушители социалистической законности…
На том и простились.
Я поселился на главной усадьбе Дарвинского заповедника, в Борке, где царили тишь и диковатая красота берега, подмытого разгульным «рукотворным» Рыбинским морем, вышедшим уже из-под власти человека, в недобрую минуту его создавшего. Море и ветер валили сосны на берегу, переворачивали лодки. Всплывали со дна торфяные острова. Разливаясь без удержу, море уносило птичьи гнезда и смывало посевы, затопляло поймы рек и прибрежные луга, оставляя скот без прокорма.
Ученые заповедника, созданного как бы для изучения последствий рукотворной катастрофы, осторожно и даже нехотя отмечали нежданные плоды прославленного «преобразованья природы». Мне они рассказывали об этих своих наблюдениях неохотно, ибо в сравнительно еще недавнюю эпоху, когда тысячи людей, не вполне добровольно забросив свои дела, под усиленным конвоем творили здесь это «рукотворное чудо», наука ждала от разлива морей других, вполне даже благотворных сдвигов в хозяйстве, ждала, можно сказать, золотого века и процветания «журавлиного края», так что вот – незадача… Сказать страшно. А мне было уже не страшно, я был молодой, и я про все это вскорости написал, даже и напечатал, нажив кое-какие (уже, впрочем, не смертельные) неприятности. Но это еще год спустя, а пока…
Проведя добрую неделю в уклончивых интервью с чиновными учеными, я решил уехать в какие-нибудь совсем уж нетронутые места, куда-нибудь на труднодоступный кордон. В это время и появился на главной усадьбе угрюмый лесник из Бора Тимонинского. Я разговорился с ним в кабинете здешнего лесничего и напросился к нему в гости. Он кивнул в знак согласия, хотя особой радости не выразил. Обещал довезти на моторке. После обеда мы с ним и отчалили. Рукотворное море безжалостно швыряло и крутило нашу лодку, не раз грозило перевернуть, окатывало нас волной. Подводные ямы расставили нам ловушки, и лодка металась между ними из стороны в сторону. Продрогшие и насквозь вымокшие, добрались мы в конце концов до кордона Бор Тимононский, где я и поселился на чердаке лесникова дома под особой сеткой от комаров. Днем я бродил один по нетроганому здешнему лесу, по болотам, черничникам, по глухим озерам, где стаями носились утки и страшно кричала какая-то незнакомая птица. Вообще, страшноватая была красота у здешнего бора.
На усадьбе лесника, близ которой мокли копны сена, задумчиво бродила с книжкой юная лесникова дочка Валя, которая училась в Калинине на медсестру. Сыновья лесника рыбачили и занимались хозяйством, да и сам он весь день пахал, как лошадь. И глядел при этом только вниз, в землю. А все же я отметил, что он не прочь при случае поговорить с пришлым человеком, а только все недосуг. Его скромный шестидесятирублевый заработок надо было умножать любым тяжким трудом. Мы все же разговорились с ним как-то под вечер, когда я, сидя на приступочке, наблюдал блаженно, как закат золотит солому, старый сарай и какую-то полусгнившую баню. Я и не заметил, когда это он подошел бесшумно и сел рядом. Проследив мой взгляд, он сказал устало:
– Совсем развалилась кузня… Ремонт ей бы надо… Хорошая кузня была.
– Кузня? Отчего кузня? За ней какие-то развалюхи. А что тут вообще было?
– А что и всюду по этим местам, – сказал лесник. – Лагерь тут был. До сорок восьмого мы были в лагере, а уж потом в заповедник вошли…
– И вы тоже тут были?
– Ну да. И я. Стрелком охраны. Конечно, я еще опосля армии на Москве-Волге стрелком работал, а потом уж тут… Тоже стрелком.
– И в кого стрелять?
– Чего?
– Кто тут сидел?
– А-а… Да все больше эти… Убийцы Кирова. Тыщ десять убийц. Большое хозяйство было…
Он долго молчал. Потом спросил:
– Вот я давно хотел узнать… Говорят, что вот книга есть такая – Библия и там все написано, что будет, как самолеты прилетят и конец света и все… Правда это или нет?
После этой душеспасительной беседы прогулки мои вокруг кордона стали мучительны. Люди, которые страдали и умирали в этой местности, населили ее воспоминаньями. Мне всюду чудились следы их окровавленных ног. Я нашел на берегу ржавые кандалы и дырявую железную миску. Берег был забросан отмытыми добела корнями и ветками, в которых чудились мне человечьи кости. Как-то вечером, когда лесник, подойдя снова так же неслышно, сел со мной рядом и закурил, я решился спросить его:
– Что же тут за люди сидели? Хорошие?
– Которые и хорошие, – сказал он равнодушно. – А которые совсем доходяги. Идет, ветром качает. Как смену станешь сдавать, вон туда под берег целую телегу покойников свезем. Особенно эти гибли, нацмены, узбеки разные. – Он оживился и хлопнул себя по колену. – А почему?
– Да. Почему?
– Потому что они до денег жадные. Который свою пайку продаст, а пайка пятнадцать рублей была, или, скажем, на табак ее обменяет, глядишь – к вечеру уже готов. А вот ваша нация… – Он многозначительно взглянул на меня взглядом опытного кадровика из народа (ах, бедные невинные узбеки, принимавшие меня за таджика, сами наивные таджики, почитавшие меня за узбека, бедные армяне, грузины и курды, оспаривавшие мою принадлежность к их племенам, стыдитесь, ибо это здесь, в таежной глуши Бора Тимонинского, взращены были инженеры человеческих душ, крупнейшие специалисты по разрешению национальной проблемы). – Ваша нация очень друг за друга стоит… Всегда своего на баню или на прачечную пристроит…
Подошла его милая дочка Валя с толстым романом под мышкой, лесничиха звала нас ужинать. За ужином я, не удержавшись, снова завел разговор о прошлом.
– На Москве-то-Волге было весело, – сказала лесничиха мечтательно, – там клуб был такой замечательный и снабжение… Народу было много…
– А тут?
– Да и тут люди были, чего же. Молодежи было много. Весело. По воскресеньям молодежь, бывало, разбредется по кустикам…
– Пускали? Друг с другом? Парочки?
– Да нет, с охранниками. Который себе какую возьмет.
Лесничий Витя с главной усадьбы приехал за мной на моторке через неделю под вечер. Лесничиха решила ехать с нами до Борка, чтобы оттуда добраться в Весьегонск, на воскресный базар. В тот день штормило, причаленная лодка билась о берег. Лесниковы сыновья тащили за рога козу. Она упиралась, не хотела уезжать к новой судьбе в Весьегонск. Лесник провожал нас на берегу, и я заметил, что он необычно взволнован.
– Если что, – сказал он жене, – бросай козу и плыви, черт с ней с козой…
– Э-э-э, чего нам бояться! – крикнул лихой Витя. – Кто в море не бывал, тот горя не видал.
– Бог не выдаст – свинья не съест, – сказал я злорадно. Мне странно было, что они так боятся моря, это ведь их море.
Совсем затемно, когда мы, продрогнув до костей и натерпевшись всякого страху, добрались, наконец, до Борка, лесничиха сказала мне, с трудом шевеля губами, побелевшими от холода:
– У меня тут два сына потопло в этом Рыбинском… Один махонький был, семи лет. Смыло у бережка. А другому двадцать шесть, катер ихний на елку напоролся, а они выпивши были… Много тут елок стоит под водой…
* * *Автор этих записей, проходя однажды по главной улице восточного города Душанбе (для недогадливых иностранных читателей можно уточнить, что она называлась улицей Ленина), слышал, как молодой человек говорил каким-то внимательным девушкам:
– А вот в Копенгагене…
Услышав это многообещающее начало фразы, автор понял, что он всю жизнь писал не о том и даже ездил не в ту сторону. Желая хоть сколько-нибудь компенсировать читателю упущенное время, автор намерен рассказать, как он путешествовал за границей на крайнем западе одной вполне западной страны, а точнее говоря, Польши. Из самого западного города этой страны – из Вроцлава, неправильно называемого иногда Бреслау, – автор добирался на попутных машинах в знаменитый религиозный центр Ченстохов. Тоже, конечно, не Копенгаген…
* * *С окраины Вроцлава я двинулся на попутном грузовике и почти сразу понял, что путешествие будет утомительным. Не потому даже, что я не выспался (встал непривычно рано) и что ноябрьский день обещал быть хмурым. И не потому даже, что первые два десятка машин прошли мимо, не желая замечать поднятую руку. Главную трудность я понял позднее, взобравшись в кабину попутного грузовика, где рядом с шофером уже сидел какой-то тип в очках и провинциальной шляпе. Шофер, будто радуясь новому собеседнику, сразу меня спросил:
– Слыхали сегодня радио? Подвышка! Цены выросли. Мясо на двадцать процентов, колбаса – на двадцать, ветчина…
– И сколько теперь стоит ветчина? – спросил я, лицемерно проявляя интерес к чужой ветчине.
– Сто двадцать золотых за килограмм. Езус Мария… Сто двадцать золотых… – Шофер яростно потянул за какую-то рукоятку и заявил: – Все хинчики, пшя кощчь… Все хинчики…
Хинчики – это, по-ихнему, китайцы, и я тщетно напрягал свою память, не изощренную чтением газет, пытаясь понять, какая там нынче связь между польской ветчиной и Китаем. Связи не нащупывалось. Пассажир в очках это тоже отметил.
– Пан з России? – спросил он. – Хинчики – это полбеды. Вот Россия…
Россия не могла не быть виноватой в этих колбасных несчастьях. Это казалось несомненным, хотя у меня и не хватало экономических сведений, чтобы это подтвердить или опровергнуть. Когда попутчик вылез из машины, не предложив шоферу хотя бы для приличия десятизлотувки, шофер обрушил свой гнев на очкарика.
– Бывает же такой цфаняк… А еще в шляпе… Но я тебе расскажу. Дело, друг, вот в чем…
Тут шофер вполне дружелюбно объяснил мне, в чем дело. Есть два лагеря, сказал он. Лагерь социализма и лагерь капитализма. В этом было все дело.
Я так и не усек, какой из двух лагерей съел польскую ветчину. Но, выйдя из машины, решил больше не ломать над этим голову. Меня ждал Ченстохов, где Матерь Божия оплакивала смерть любимого сына и набожные католики склоняли колена перед одной из главных святынь восточноевропейского католического мира.
Впрочем, до Ченстохова было еще далеко. Шофер следующей попутки тоже начал с обсуждения «подвышки». Он сказал, что в «подвышке» виноваты «корейчики», то есть корейцы. Будь у него бомба, именно на них он бы ее сбросил. Объяснить причину своей ненависти он не мог, но я подумал, что такое и не нужно объяснять. Ненависть необъяснима и возвышенна, как любовь, и польская дорога в тот день была залита ненавистью.
Шофер новой моей попутки, владелец частной мастерской по вулканизации камер, сказал, что немец хорош только мертвый. Это из-за немцев дорожает мясо и распространяются раковые заболевания. Вы заметили, что немцы называют Ворцлав не иначе как Бреслау? Это что же, выходит, что Вроцлав – немецкий город? А вот сегодня газета пишет, что в Ополе недавно откопали избу, и это доказывает, что еще Бог знает когда, еще до немцев, тут была изба…Очень старая…
Я вышел из машины во Бжеге. Здесь была почти Россия. На улице переселенцы-львовяки говорили по-русски, а цыган в млечном баре пел про журавлей:
– Здесь под небом чужим я как гость нежеланный…
Млечный бар лежал на млечном пути, на пути в Россию. Насытившись молочным супом, я стал невольно подтягивать цыгану, и тут только понял, что я определенно люблю цыган. И конечно, люблю переселенцев-львовяков. Люблю этих блондинов-шлензаков и даже выселенных отсюда немцев тоже люблю, во всяком случае – жалею… Молочный суп в Бжеге вернул мне утраченный было гуманизм. Можно было двигаться дальше.
Впрочем, первый же послеобеденный шофер все поставил на свои места. Он сказал, что здесь живут ублюдки и выродки человеческого рода и что выносить этого больше нельзя. Здесь живут ублюдки-шлензаки, которые почти немцы, которые хуже немцев. Это из-за них дорожает мясо и ремилитаризируется Западная Германия, получая мощную военную поддержку от Израиля. Шофер хотел еще добавить что-то о евреях, но моя сомнительная чернявость удержала его, и последнее слово правды задержалось в пути. Зато всю правду о жидах рассказал мне следующий шофер. Главную вину он, впрочем, возлагал не на жидов, а на каких-то кашубов, которые живут на севере Польши и тоже нелюди… Последний мой шофер в тот день говорил об украинцах. С ними все ясно. Они служили в гестапо и пытали польских патриотов. В украинцах все зло, но, поскольку их не так уж много, мой последний шофер был настроен оптимистически и верил в приход светлого будущего, надо только избавиться от украинской скверны…
Когда я вышел в Ченстохове, голова у меня была как чугунная. Я был рад, что дальше можно не ехать. Я шел пешком, в одиночестве.
Я присутствовал при открытии черной иконы Матки Боски. Церемония сопровождалась трубными звуками, записанными на магнитную пленку. Это было впечатляюще. Потом я ходил за группой провинциальных паломников, преклонял вместе с ними колена у скульптурных групп, изображающих остановки на пути крестного хода нашего Господа, и повторял вместе со всеми: «Швента Мария, Матка Божа, эмидлуйща над нами гжешными, тераз и в годжине щмерчи нашей. Амен».
Это смиренное занатие отвлекло поляков от мыслей о подвышке цен на мясо, о былом их благодетеле Болеке Беруте, о проклятых кашубах. «Боже, – думалось мне, – неужто и правда нельзя прощать друг другу хотя бы нашу непохожесть… Швента Мария, Матка Божа, прости нам, страдалица, грехи наши и отвлеки наши блудливые мысли от проклятого менса… то бишь мяса».
Дабы задержать в себе подольше это постное настроение, я решил возвращаться в Варшаву не стопом, а на поезде. Монах-паулин повел меня в светлую коптерку и там вслух зачитал, специально для меня зачитал, расписание поездов, висевшее на стене. Он называл меня «браче», я был растроган и по-настоящему ему благодарен. Похоже, подвышка на мясо его нисколько не волновала. Но может, он был вегетарианец. А может, просто они держали своих свиней. Откуда мне было знать.
Часть втораяПредисловие редактора
В этой новой тетради, как и в предыдущей, содержатся некоторые воспоминания Зиновия Кр-ского, написанные от первого лица, но иногда так подаваемые, как будто это лицо не сам Зиновий, а некий лирический герой, что, конечно, вносит известную путаницу, хотя, впрочем, и не имеет большого значения. Надо сказать, что при первом прочтении воспоминаний своего пропавшего друга Редактор с трудом восстановил во всей зримости и цельности образ этого скромного человечка, встречаемого им в прошлом как в быту, так и в коридорах издательства, а затем театрального главка. Редактор вспомнил мало-помалу рассказы Зиновия о многих его странствиях-приключениях и подивился разнообразию его судьбы, объясняемой как неспокойным характером Маленького Человечка эпохи Больших Свершений, так и самим характером эпохи, к сожалению так неполнокровно отраженной в этих воспоминаниях. Редактору казалось порой при чтении, что герой записок забывает о скромном месте, занимаемом им в бурном строительстве, и становится на точку зрения эгоцентризма. Может, этим и объясняется, что иногда скромный Зиновий как бы хочет отмежевать себя от своего героя. Однако многие косвенные признаки подсказывают Редактору довольно личный характер этих, так сказать, реминисценций. Как, наверное, заметил проблематический читатель, воспоминания эти перемежаются путаными рассуждениями, лишенными общего идейного стержня, однако чего иного можно ожидать от Зиновия Кр., человека, не чужого некоторой образованности, но не имеющего компаса в море идей и верного метода. Редактор мог бы без труда, опираясь на единственно правильный метод, развенчать все эти ахинейские рассуждения, будь в том нужда или окажись заблуждения автора единичными. При наличии же нашего снисходительного принципа издания этих бумаг достаточно лишь предупредить читателя и оставить его наедине с новой тетрадью безвременно и неизвестно куда исчезнувшего с нашего горизонта Зиновия Кр-ского.
Глава 1
Потребность в новой шариковой авторучке привела меня в поддень к газетному киоску, отстоявшему в полукилометре от пляжа. Оказалось, что туда собиралось в эту пору чуть не все население курортного городка. Тогда я и обнаружил, что у газетного киоска есть свои клиенты и поклонники, которых мало интересует море, но зато бесконечно волнуют свежие газеты. Они уже добрый час ждали здесь пузатого продавца, который вместе с последним словом печатной истины задержался где-то в пути. Вероятно, этот добродушный грузин с ворохом марких газет остановился где ни то в тенечке и беседует с друзьями, а может, попробует молодое вино у ларька или щиплет кисть черного винограда. А может, он еще дома – гортанно шутит и заливисто хохочет, совершенно не ощущая, какое море ненависти клокочет вокруг его утлого газетного киоска. Между тем читатели газет, неплохо знающие свои права и немало читавшие о казнях, готовили ему мысленно все виды наказаний и репрессий. Они проклинали «проклятых грузин» и мечтали о перемене «грузинских порядков» на некие другие, которые могли бы поддержать социалистическую законность. Большинство даже напоминало тридцатые годы и требовало применения особых мер. Скажем, «стрелять здесь каждого третьего» или даже «каждого второго». Ни один не просил о снисхождении, которое можно было оправдать нестерпимой жарой, национальной традицией и низким уровнем местной зарплаты… По мере ожидания читателям газет начинало казаться, что они прибыли сюда из края идеального миропорядка, который должен быть немедля учрежден и здесь, в ареале газетного киоска. По их мнению, черные и усатые, худые и пузатые местные жители слишком медленно приобщались к совершенному российскому миропорядку, «они» были несовершенны, непостижимы, внутренне враждебны, трудновоспитуемы…
Я оказался в толпе, бурлящей ненавистью, и думал про «них», про «нас», а также про всех, кто не мы и кто другие…
Я только что перевел книгу одного очень милого нигерийского писателя. Работая над переводом, я все больше проникался сочувствием к трагедии своего героя. Он долго-долго выбирал невесту допустимой степени родства, а когда наконец выбрал и заплатил что положено, невеста померла. Герой был совершено непостижимым и, пожалуй, подоночным существом, однако он не замечал этого, потому что у него был другой устав. Говорят, что есть еще и другие уставы.
Устав, вероятно, можно называть и этикой. Но как быть с пророчеством Великого Инквизитора, будто «человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" – вот что напишут на знамени…»
Пророчество сбылось, именно эти слова написаны были на знамени. Тут есть от чего загрустить, так что лучше не думать о грустном, а помечтать о чем-нибудь прекрасном или вспомнить счастливые годы. К примеру, счастливые годы, когда я плавал матросом и мы шли от Дуная до Арктики…
* * *Митя шел на нашем рефрижераторе от Дуная, и сам он был оттуда, измаильский. Он был здоровущий шофер и держался с большим достоинством, противопоставляя себе этой бездомной водоплавающей голи перекатной, которую называл шушерой. Он рассказывал, какой у него большой каменный дом в Измаиле, а во дворе фонтан, прохлада, виноградник – кустов пятьсот – и свое вино в любое время: «Вот приедешь ко мне, Замочка, поглядишь». Не совсем, впрочем, ясно было, зачем при таком достатке пустился он в это рискованное плаванье. Держался он солидно, а капитану заявил, что он человек партийный, только партбилет забыл дома. До его прихода капитан представлял в одиночку партийную прослойку на судне, так же как друг мой радист Димка – всю комсомольскую. Остальные даже в профсоюз не успевали вступить на берегу, так что Митя этой своей партийностью сильно озадачил кэпа: черт знает, чего от него ждать. Звали Митю на судне «молдаван», но говорил он по-русски, хотя, конечно, по-южному:
– Замочка, солнышко, коченька…
Так он меня звал, когда надо было стрельнуть трояк на выпивку. Впрочем, иногда и без трояка, просто так, на всякий случай: такая у него была ласково-блатная манера. Капитан его невзлюбил сразу и заподозрил, что он на самом деле беспартийный, однако проверить не мог и опасался.
В Ростове мы стояли на Дону у самого бульвара, у стенки, но наутро должны были уходить дальше на север, так что в последний вечер вся команда, конечно, сошла на берег. Мы с Димкой-радистом сходили на берег в обед и привели двух милых ростовских курочек, которых впустую уговаривали у себя по каютам. А Мите выпала в тот вечер вахта «Прощай, молодость!» – та, что до полуночи, так что Митя и не мог толком попрощаться с Ростовом. Он вызвал меня из каюты и сообщил, что видел у меня как-то в чемодане чекушку. Это мама, провожая меня в долгое плаванье, купила мне четвертинку и сказала, что водка, наверное, необходима будет на Севере. По ее представлениям, в ней был огромный заряд тепла, в четвертушке: мы ведь никогда не пили водки. До Севера было еще далеко, так что я без споров уступил Мите четвертинку.
Около полуночи в коридоре раздался топот ног, потом истошный визг и ругань. Я выглянул и увидел мыльные следы на полу. Вышел на палубу и увидел на спардеке голую тетку, обляпанную мыльной пеной. Она кричала, что никому не позволит, что у нее муж майор и что она вообще порядочная женщина, так что они у нее все кровью умоются. Митя пытался утащить ее вниз с палубы в каюту, приговаривая:
– Ну, коченька, мать твою, надо же одеть на себя что-нибудь, курва, мать…
Капитан стоял тут же на палубе в праведном гневе.
– А еще коммунист… – сказал он Мите. Потом добавил неуверенно: – Врешь, наверно, что коммунист.
Выяснилось, что Митя зазвал на борт проходившую мимо пьяную шлюху, а когда нагрянул вдруг капитан, загнал ее к себе в каюту. Пока Митя изображал на палубе несение вахты, дама его пошла искать гальюн и ненароком забрела в душ. Она разделась там и даже намылилась, но вода шла только холодная. Тогда-то она и вылезла на палубу, совершенно голая, да еще в мыле…
Позднее, на «мариинке», где были потемневшие от времени деревянные шлюзы, мы с Митей целый день стояли на швартовах. Перед десятым шлюзом, где скопилась огромная очередь судов, пришлось добрых полчаса стоять впритирку с каким-то речным лихтером. Вдоль его борта разгуливала немолодая уже, сильно потрепанная жизнью шкиперша, и Митя ворковал с ней о жизни, пуская в ход весь свой набор ласковых слов – от «солнышко» до «коченьки». Потом он попросил меня пойти к капитану, чтобы тот отпустил его минут на пятнадцать на лихтер по срочному делу любви. Я сказал капитану, что Митя берется за пятнадцать минут соблазнить шкипершу, и капитан разрешил, бормоча что-то себе под нос насчет Митиной партийности. Шкиперша поджидала гостей у борта в новой синей спецовке, и они с Митей удалились в трюмный кубрик. Митя вышел оттуда минут через пятнадцать, как обещал нам с капитаном.
В тот вечер он рассказывал мне особенно много геройских историй из своей жизни.
Вот хотя бы в Ярославле, где мы стояли у пляжа на Стрелке, помнишь, коченька? Так вот, возвращался он из города ночью на судно и видит, что двое, какая-то девочка и студентик, занимаются любовью на берегу. Он, Митя, поправил капитанскую фуражку, которую брал взаймы у старпома, и сказал басом: «А ну, вы что тут творите?» Потом он прогнал испуганного студента, а девочку… Ну, ясно, что с девочкой… Вот такие дела.
Или вот еще посылали его в Измаильский район, на уборку урожая. Жил он у одной учительницы – там ему и кормежка была бесплатная, и стирка, и любовь. Она просто обезумела от счастья, одинокая учительница в глухой деревне. А была у нее пятнадцатилетняя дочка. Так вот Митя однажды, когда матери не было, и дочку эту к делу приспособил. Она привязалась к нему и никак не хотела отвязываться. Тогда Митя увез ее куда-то далеко в степь, а там прогнал. Такие вот были жизненные удачи.
В новую навигацию, через год, опять мы уходили от Измаила, но Мити не было. Во время измаильской стоянки я стал искать его по адресу, который он мне оставил, а только он что-то напутал. Все же в конце концов я нашел его дом, кто-то из местных ребят подсказал…
Во дворе старого двухэтажного дома и правда был фонтан, как он и рассказывал. Но высохший, весь в трещина. Возле фонтана возилась куча сопливых ребятишек. Впрочем, может, они не все были Митины, потому что дом-то был не его, а жактовский и Митина семья занимала в нем одну комнатенку. Конечно, ни сада, ни виноградника там не было, но жена была: грязная замученная женщина лет сорока сказала мне, что его самого дома нет. Потом она про меня забыла, занявшись стиркой, а я сидел на ограде сухого фонтана, и мало-помалу первоначальная моя обида на обманщика Митю таяла в зыбкой теплоте летнего вечера. Такая была кругом нищета…
А что подвиги его были сучьи, я и сам об ту пору был герой-матрос…
* * *Помню, осенью возвращался я домой на Хорошевку от метро в автобусе, сел на заднее сиденье рядом с какой-то девочкой, вынул книгу и начал дочитывать, что не кончил в метро. У остановки автобус дернулся, и девочка как бы ненароком прижала руку к моей руке. Хотя мы были оба в пальто, но если долго давить, то и через ткань начинает ощущаться тепло тела, а она надавила довольно сильно и продолжала давить все больше, делая вид, что ничего такого не происходит. Я, конечно, это очень хорошо чувствовал и терпел, потому что она была хотя и простенькая, но милая, такая полненькая, вполне в моем вкусе. Я тоже, конечно, делал вид, что ничего не происходит, и нам было так приятно обоим, что я даже проехал свою остановку и вышел вместе с ней на следующей. Потом мы посидели немного на скамеечке возле ее дома, и она мне рассказывала всякую ахинею – в каких она бывала компаниях, какие там бывали бардаки и какой там был один знаменитый поэт, совсем седой. Назвала его имя, а я-то думал, он давно помер, я еще на третьем курсе про него курсовую писал. На этих сборищах, как я должен был понять, случались всякие ситуации, но она, если ей верить, всегда говорила, что ой, что вы, и убегала, так что вроде ничего не случалось, хотя вроде бы не могло не случиться, потому что они там все выпивали, вот она и сейчас была в поддаче, и если ей верить, то и сегодня тоже «еле унесла ноги». В общем мы с ней условились на завтра, возле метро, и она, как ни странно, пришла вовремя. На ней были черненькие чулки, я хорошо помню, что ножки у нее были полные, и вообще она была вполне соблазнительная, хотя, конечно, эти черные чулки были вовсе не в жилу к ее пальто. Я повел ее в свою временную холостяцкую квартиру – была у меня тогда, там мы самую малость выпили, ну а потом мы, конечно, разделись, и все было так славно и мирно и по-хорошему, так что я не поверил ее вскрику, и легкому ее стону не придал значения – мало какое бывает кокетство.
Утром ей очень рано нужно было вставать на работу, и я проводил ее до остановки автобуса. Хорошо помню зимний утренний сумрак и ярко освещенный газетный киоск, где продавали «Известия». Я даже не знал, что киоски торгуют в такую рань. Посадил ее на автобус, дал еще пару рублей на такси, и как-то мы с ней ни о чем не договаривались, номер ей свой не написал, а у нее, кажется, и номера не было. Потом я вернулся в теплую квартиру, плюхнулся в постель и проспал до полудня. Только тогда я и обнаружил на своей простыне пятно крови и вспомнил ее вскрик, а потом уж и все эти ее рассказы про то, как она «унесла ноги». Не то чтоб это меняло каким-то образом то, что случилось с нами, но я подумал, что это могло быть для нее серьезно, однако подумал так, мельком, второпях, а к середине дня и думать об этом перестал, потому что придумал себе какое-то новое развлечение.
Однажды я видел ее как-то снова в автобусе, но только она была не одна, с сестренкой, да и я был не один. Никаких особенных переживаний на эту тему у меня не было, хотя случай, конечно, редкий, чтоб девица. Только однажды, сидя в мерзостном настроении где-то на чужой даче, я подумал, что тут делов наберется на целое «Воскресение», однако воскресенья никакого со мной не произошло.
* * *Помню, как-то летом, в середине моего перегонного плаванья, когда мы стояли на Волге близ Горького и конца стоянке что-то не было видно, я отпросился у капитана съездить на недельку в Москву, а там друг Витя повел меня к кому-то на день рождения, Бог знает к кому. Именинница была совсем миниатюрная дамочка, вполне миловидная. Среди прочих гостей был, помнится, ее бывший муж с друзьями – все какая-то мидовско-инязовская шушера, а я тут в матросском отпуску, моряк сошел на берег, этаким себя чувствовал морякухой, настоящим мариманом. Когда я чуток захмелел, мы с именинницей стали танцевать, а потом как-то само собой вышло, что мы стали с ней очень уж обниматься и даже для этого вышли на лестничную площадку. Скоро туда пришла ее мама, чтобы нас унять. Отчего-то мне запомнилась фраза ее старой матушки, которой она увещевала хмельную именинницу:
– Ну кто он тебе? Ты знаешь его?
Надо признать, в ней был кое-какой смысл, в этой фразе. Но только на нас с именинницей это никак не подействовало. Мы с ней не разошлись, а наоборот – плюнули на все это празднество, на ее гостей и спустились во двор. Огромный московский двор, сотни освещенных окон вокруг. И посредине двора была детская площадка: песочница с грибком-навесом и еще какой-то круглый дощатый помостик, закрепленный на столбе, что-то вроде карусели. На этот помост мы и легли, а я почему-то еще и оттолкнулся ногой от земли, когда припал к ее теплой податливости – все поплыло, закружилось, и освещенные окна, и темные, те, в которые, может, нас было видно кому-нибудь, и сам двор, и фонари, и звездное небо…
Назавтра мы еще бродили с ней часа два где-то на окраине, за Октябрьским Полем, отчаянно обнимались и даже обрушили один ветхий заборчик. Она сказала, что скоро возьмет отпуск на работе и прилетит ко мне на Север, туда, куда мы доплывем к этому времени.
И она правда оставила дочурку у матери и прилетела куда-то, кажется, в Вытегру. Я очень беспокоился, когда встречал в аэропорту: всего только два раза ее видел, а у меня плохая память на лица, вдруг не узнаю, но ничего – сразу вспомнил. Ребятам у нас на судне она очень понравилась. Капитан сказал, что она очень пикантная. «Лакомый кусочек», – сказал капитан, а молоденький старпом с ходу в нее влюбился. Ребята уступили нам каюту побольше, и она с нами поплыла к Северу. Я стоял у шлюзов на концах, а потом мы с ней слушали музыку в радиорубке и вместе читали французский роман. Я даже работал иногда, переводил в то время какую-то английскую книжку и писал что-то, а она уходила к мальчику-старпому поболтать, покурить. Из Архангельска капитан нас с ней отпустил на неделю-другую побродить по Северной Двине, потому что стоянка предстояла долгая, ребятам выдали деньги, и на судне начиналась великая пьянка.
Мы поплыли с ней на пассажирском пароходе вверх по Северной Двине. Было чудно. Чернела под синим небом прекрасная река, белели песчаные берега и отмели – пересохшие старицы, по-здешнему, курьи. А по берегу редко раскиданы были селения – Куростров, Курополка, ломоносовские, поморские места. Ночевали мы в огромных двухэтажных бревенчатых избах, потемневших от времени, три дня пережидали дождь в келье какой-то бабушки-староверки, которая уже неделю как ушла за морошкой да, видно, тоже где-нибудь пережидала дождь в лесном скиту. Потом мы поплыли назад.
Пассажирский пароход забрал нас среди ночи, и мы, сэкономив на каюте, всю ночь мерзли на палубе, так что в Архангельск пришли под утро, измученные бессонницей. На судне, стоявшем там же под берегом, уже во всю шла пьянка. Каюта моя была кем-то занята, и меня повел к себе отсыпаться Димка-радист, а нежная спутница, забалдев, осталась за столом. Спать мне пришлось недолго, вскорости разбудили и повели в каюту к капитану. Кэп был уже совсем пьяный, а напротив него сидел его друг, капитан-москвич, тоже вконец одуревший от пьянки.
– Володя, познакомься, это Зяма, – учтиво сказал кэп.
– Женя, иди на х… – ответил москвич очень медленно.
Мне налили в стакан коньяку.
– Володя, познакомься, это Зяма, – снова сказал капитан.
– Женя, иди на х… – отозвался москвич.
Ясно было, что беседа не сдвинется с этой точки.
– Володя, познакомься, это Зяма, – сказал кэп…
Мне рассказывали, что на третий или четвертый день пьянки кэп вдруг берет иногда со стола вилку или нож и втыкает в собеседника, куда придется. Я понял, что уже скоро кэп воткнет вилку, предварительно сняв с нее бычок в маринаде, в друга-москвича. А может, воткнет прямо с бычком. Я ушел не прощаясь, и моего ухода никто не заметил. Уже от двери я слышал, как мой капитан повторяет все с той же учтивостью:
– Володя, познакомься, это Зяма.
Москвич отвечал ему все так же монотонно и ласково:
– Женя, иди на х…
Я встретил потом москвича на Колгуеве: на щеке у него был след от Жениной вилки, но, говорят, случилось это только сутки спустя.
А тогда я вернулся в Димкину каюту. Было часа три пополудни. В коридоре галдели, уснуть я не смог и пошел искать свою верную спутницу. Матрос Митрошкин сказал мне, что он ее водил дважды к кэпу для поддержанья компании и что она теперь в каюте у молодого старпома. Я постучал туда, но никто не отозвался, и я уже хотел уйти, когда пьяный Митрошкин стал барабанить в дверь кулаками.
– Откройте, – кричал он с большим азартом. – Это же Зяма вам стучал.
Я уже не помню, когда она наконец оттуда выбралась, похоже, что под вечер. Мы со старпомом сходили в город и купили ей билет на самолет до Москвы. Молоденький старпом очень меня обхаживал и уверял, что у них с ней ничего не было. Просто ее тошнило от коньяку. Может, так оно и было. Противно, конечно, было, что мы ее искали, что Митрохин так долго орал и стучался во все двери. Ну и шли, конечно, всякие разговоры на судне, куда от них деться. Может, говорили больше, чем было, впрочем, что там могло быть, кроме того, что бывает обычно. Молоденький старпом был влюблен в нее. Она, судя по всему, любила меня. Но может, и старпома она тоже любила… Так или иначе, мы купили ей билет на самолет и проводили ее вдвоем в аэропорт. Вечером мы пошли всей пьяной судовой шарагой в ресторан «Полярный», пили там «рябину на коньяке», а когда наконец вышли из ресторана, поклеили каких-то разбитных архангельских девчонок и пошли «в квадрат»…
Потом мы ушли в Арктику, и старпом настоял, чтобы мы с ним поселились в одной каюте. Он очень хотел дружить со мной, дружить с ней, хотел, чтоб все было по-хорошему. Позднее, в Москве, все еще охваченный этим беспокойством, он женился даже на ее младшей сестренке, точно какой-нибудь Дантес. Но конечно, никто никого не убивал. Впрочем, на Диксоне я получил от нее целую пачку влюбленных и оправдательных писем, которые до сих пор храню, хотя у нас с ней все было кончено.
Одна моя приятельница, чьим мнением я тогда дорожил, объясняла мне, что я не должен был тогда обижаться и что я сам был виноват во всем. Что я сам отправил ее сонную ночевать Бог знает к кому, да и раньше отсылал в каюту к влюбленному в нее мальчику, чтоб спокойно работать в каюте. «К тому же был ли ты сам всегда безупречен?» – настойчиво добивалась она, и тут я честно отвечал, что нет, не был, ни тогда, ни потом, ни тогда даже, когда первая жена хотела, чтоб я потеснился и дал место на семейной койке трудолюбивому киношнику, я не потеснился и потерял своего мальчика, вот и выходит, что сам кругом виноват, а тогда о чем речь?
Глава 2
Так хочется быть хорошим и чтоб тебя любили, чтобы ты всем нравился – и тем, и этим. Главное, чтоб любили таким, каким ты хочешь казаться, да ты, может, такой и есть на самом деле. И конечно, очень обидно, если кто-то тебя не любит и видит в тебе больше дурного, чем есть на самом деле.
Помню первое свое интервью с англичанами, самое первое в английской редакции московского радио – когда мне дали в руки тогдашний норовистый магнитофон-«крупорушку» (его заводили вручную, как патефон), и я отправился на ВДНХ, в один из бараков новой гостиницы «Турист», специально построенной для московского фестиваля молодежи, невиданного до той поры в России сборища молодых иноземцев. Это было в самом начале фестиваля. «Турист» еще не был забит до отказа, и одними из первых приехали английский драматург Джон Осборн и режиссер Тони Ричардсон, так что им и дали самую первую комнату общежития, в ожидании наплыва туристов – одну на двоих, пусть живут вместе, раз прибыли по одному вопросу («Оглянись во гневе»). Комнатка была тесная, две койки, столик, тумбочка, общая для всех ванная в конце коридора, там же туалет.
У нас на московском радио узнали, что приехал европейски знаменитый драматург, из «разгневанных молодых», один из самых молодых и самых разгневанных, вот меня и послали брать интервью.
Когда я добрался до «Туриста», Осборн был не то что во гневе, а просто, можно сказать, в ярости. До филиала МХАТа, в помещении которого репетировали его нашумевшую пьесу, ему было с ВДНХ тащиться час на автобусе, а барак отеля стали мало-помалу заполнять мальчики и девочки в джинсах: крик, визг, уборная вечно занята, а ванная и вовсе неприступна. На лестничных площадках обнимаются и целуются взасос, а то и еще что предпринимают, если в охотку. Известному драматургу с известным режиссером, как я понял, уже пришлось принимать девочек в одном номере. Штаны, рубахи – все было на столе, похоже, они, хоть и разгневанные, отвыкли от таких неудобств. Так что неслыханное московское агитмероприятие, от которого мы, москвичи, были в восторге, нравилось им все меньше и меньше. Промучившись дня три, они решили сбежать, не дожидаясь открытия фестиваля, бежать с самого утра, но все же не раньше, чем подойдет их очередь в ванную и туалет. Вот тут-то и подоспел к ним молодой человек из радио со своим смехотворным магнитофоном-«крупорушкой», извинился на чистейшем (как ему казалось) хе мэджести куинз инглиш и сунул под нос полуголому Осборну русский увесистый микрофон. В Ричардсоне я тогда еще не видел проку, не знал, какой это замечательный режиссер, а вот про Осборна уже был наслышан и хотел знать, как ему нравится наш единственный в подлунном мире всемирный форум, от которого сам я был в полном отпаде: после двух-то лет жизни в глиняной солдатской казарме в Эчмиадзине такое вот неслыханно-дозволенное скопление заморско-заграничных людей, нахлынувшее к нам под железную занавеску. «Вам здесь очень нравится?» – домогался я. И настаивал неистово: «А как вам нравится Москва? А как вам русское мороженое?»
Что-то ему все же понравилось. Но многое казалось подозрительным. Отчего пьяные не валяются под столбами и заборами, как в Глазго. Небось их вывозили грузовиками легавые?
Он сказал, что вообще не любит организованных праздников, не любит организованного веселья и массового энтузиазма, не любит никаких бойскаутов. Я был потрясен: какой сноб и брюзга! Наш уникальный фестиваль! Наша золотая столица!
Он попросил разрешения продолжить переодевание, прерванное моим приходом. «Но вопросы можете задавать», – добавил он, бессовестно сверкнув яйцами. Обнаружилось, что к мужскому стриптизу меня не приучила даже солдатская баня: когда он снял свои белые трусы, я стыдливо отвернулся к окну.
Он сказал, что ему понравился Парк культуры и отдыха. Имени кого-то знаменитого гуляки-писателя. Не Достоевского? «Горького», – сказал я. «Да, да Горького. Он, кажется, тоже написал пьесу. Там нормально развлекаются, в этом парке – танцы, карусели, качели, чертово колес. Обжимаются. Гондонов, впрочем, немного».
– Мы провели субботник, – сказал я гордо.
В редакции признали мою первую неудачу не полной. Шеф велел дать в вечернем эфире кусочек про парк культуры и естественные развлечения. Остальное все вырезать. В том числе, и мою фразу про субботник. У меня в столе долго валялась получасовая запись интервью, которую я потом отдал в «смоточную».
Читая книжку маркиза де Кюстина о России 1839 года, я убедился, что уже тогда иностранца положено было доставать подобным допросом: «Как вам понравился Петергоф? Правда ведь он лучше Версаля?» И уже тогда редко у кого хватало мужество послать собеседника в жопу. У Осборна хватило… Но на меня это произвело тогда неприятное впечатление. Странно. Кем же я хотел предстать перед англичанином? Патриотическим интеллектуалом с микрофоном? Невинным малолеткой на службе контрпропаганды? Обремененным семьей неудачником, зарабатывающим на хлеб в агитпропе? Приятным собеседником, с которым хочется подружиться навек? Светлым пятном на фоне мрачных российских встреч? «Никогда не забуду задушевного молодого битника по имени Зиновий…»
Позднее человек с микрофоном, этот задушевный Зиновий, стал двоиться и даже троиться в моем собственном сознании. С одной стороны, придя на интервью, он рад был, что его приняли и даже обласкали. С другой, он презирал в душе человека, который заискивает перед прессой, жертвует ради эфемерной славы своим временем. Он не уставал удивляться на симпатичного композитора, который, отложив работу, с неизменностью принимал его и читал текст (по бумажке, чаще всего подсунутой ему самим Зиновием) – что-то о «волнительном», об одобрении, об энтузиазме. Однако, получив отказ от интервью и уходя несолоно хлебавши, Зиновий проклинал надменного гордеца, хотя в душе и одобрял проявленную им брезгливую непримиримость.
Силен соблазн, слаб человек в малом. И пуглив. А потом слышит пение петуха и плачет от неизбывной вины, от презрения к своей слабости. Поплачет и отречется снова.
Часть третьяОт издательства
По существу, эта часть книги представляет на суд читателя попавшее в руки Редактора собрание писем злосчастного Зиновия Кр-го, которые в ничуть не меньшей, но, конечно, и не в большей степени, чем его записки, могут притязать на наше внимание.
Письма эти были адресованы нашим героем нескольким разным лицам, чаще всего – трем или четырем. Во-первых, жене, которую Зиновий называет иногда Конкордией, иногда Кокой.
Вторым адресатом являлся, по всей вероятности, некий задушевный друг автора, сам тоже писатель (никому, как, впрочем, и сам Зиновий, в писательском кругу не известный). Известно, что его зовут Яков, но само имя это не помогает нам установить ни его фамилию, ни его национальную принадлежность, ни даже его общеобразовательный уровень. Даже если придерживаться крайне сомнительной и вполне сионистской шутки о том, что еврей – это уже среднее образование, то остается еще неясным, был ли этот Яков евреем.
Третьим корреспондентом нашего героя является тот, кого мы уже условились называть Редактором. То есть влиятельный покровитель нашего героя и отчасти его кормилец, наставник, учитель жизни и критик. По некоторым намекам в переписке можно, впрочем, установить, что само влиятельное лицо это занимало в сфере издательства пост весьма скромный (хотя и наличие поста само по себе уже не так мало для пылкой надежды, питаемой лицом пишущим, которому дай только повод!). Человек этот был скорее Младшим Редактором, чем Старшим или, упаси Боже, Главным, хотя позднее и работал в театральном главке.
Сделав эти небольшие пояснения, мы оставляем вас наедине с эпистолярным наследием героя.
Письмо первое
(Без даты)
Дорогая Конкордия!
Жизнь моя здесь [4] протекает равномерно в трудах и в накоплении сил для оных. Несколько разнообразится она беседами с соседом моим Птищевым, когда мы встречаемся на нейтральной почве нашей общей, можно даже сказать, коммунальной кухни, истинной школы коммунизма – когда же он все-таки наступит, наш долгожданный! Вчера, например, мы рассуждали с Птищевым о смертности всего живущего и приводили друг другу довольно поучительные описания своих болезней. У Птищева получалось, что ничего бессмертного нет, и я доказывал ему обратное на замечательных примерах из прошлого. Разговор наш зашел в очень высокие сферы, где мы стали ссылаться на Шопенгауэра (о нем совсем недавно писали в журнале «Знание – сила»), однако меня отвлекал от нашей тематики процесс приготовления Птищевым котлет. Дело в том, что он, считая себя большим кулинаром, утверждал, что главное в этом деле – не жалеть яиц и масла. Причем в порядке мелкой подробности я заметил, что и яйца, и масло он по рассеянности снимал не со своей полки, а с моей. Не то чтобы мне жалко было этих вполне доступных ныне продуктов питания, но просто мысль моя отвлекалась этим пустяком от вечных вопросов, и я не мог не досадовать на ее слабую способность абстрагироваться от жизни. В итоге немудрящая мысль Птищева сводилась к тому, что все мы там будем и поэтому надо преуспеть здесь и побольше здесь иметь. Я возразил ему, что важнее больше оставить после себя. Он возразил, что тому, кто не имеет здесь ничего, совершенно нечего будет и оставлять. Поразительно, какая заземленность суждений может быть у вполне мыслящего человека и даже литератора.
Сценарий мой подвигается успешно, и я надеюсь, что в скором времени мы сможем получить всю сумму – двести или триста, хотя бы даже частями, – вот тогда уж мы заживем. Я не стал обсуждать с Птищевым, нужно ли купить на эти деньги что-нибудь солидное, стоит ли их весело промотать или, напротив, экономно их расходуя, обрести на время некоторую свободу от заработка, для того чтобы я мог писать новое произведение, свою, так сказать, книгу жизни.
Чувствую, что некоторые из эпизодов сценария получились у меня весьма неплохо – особенно случай с этим смешным стариком пенсионером, а также эпизод про массовые средства коммуникации – пора уже сказать о них во весь голос.
Конечно, я скучаю здесь, дорогая жена, но, взявшись за гуж, следует тянуть его до конца, так что вернусь я только тогда, когда закончу редактуру. Но это как раз я умею делать быстро, ты знаешь.
Остаюсь любящий тебя
Зин.
Письмо второе
12 марта
Дорогой Яков!
Даже не знаю, сможешь ли ты себе представить, какой блистательный сегодня выдался день. Тепло разлито в воздухе, небо синее, а поблекшие было сосны и ели снова стали изумрудными. Сколько таких дней отпущено нам в жизни? И сколькие из них мы успеваем хотя бы заметить? Хотя бы оценить? Даже если сложить их все вместе, как ничтожно коротка окажется жизнь!
Я воистину счастлив, что могу еще замечать красоту окружающего мира, что располагаю временем, чтобы разогнуть спину и глянуть вокруг. Не думай, что я не благодарен за это Тому, кого должно благодарить. Однако жизнь все же осложняется всякими мелочами, которые застят главное – не хочу об этом подробно. Просто знаю, что ты со мной согласишься: как главному я поклоняюсь именно этому мартовскому дню, неожиданно теплому, очень яркому солнцу, странному оживлению талого снега; все поле как будто стронулось, потянулось к солнцу, зашевелилось, стало хрупким, зашуршало, зашелестело льдинками, заблестело каплями, потекло ручейками…
И еще мне снился сон. Люди входили в него, не объясняю причин своего появления, совершали несвойственные им в обычной жизни поступки – и результат был ужасен, я проснулся потрясенный… А проснувшись, увидел это синее-синее небо, березы, точно отбеленные за ночь, – разве это все не предмет искусства? И почему я должен изучать какую-то еще жизнь, которой я и ведать не ведаю: например, преимущество малых звеньев перед большими бригадами в колхозах разукрупненного типа при наличии РТС, своевременно сменивших столь своевременные МТС? Нет, нет, дорогой Яков, не знал никогда и не хотел бы знать эти технические подробности, однако утрешний разговор с редактором навел меня на все эти трепыхания, изгнал жизнь из пресветлого дня – ну не суетливая ли я тля! Прости за аллитерацию, она невольная, от расстройства. Так вот, зачем же я еще должен «изучать жизнь», когда я сам живу, жизнь моя проходит – и разве мало в ней сложностей, чтобы я придумывал еще сложность, возникающую между двумя бригадирами по вине недобросовестной колхозницы? С другой стороны, я сам затеял в своем тексте всю эту склоку на колхозной почве, догадываясь, что именно эта почва может зацепить издательский или студийный интерес, – и эта сколка, и эти бригады, и эти РТС, это не моя и не твоя жизнь. И ведь все это их зацепило, а стало быть, я хитро рассчитал свой посев, да только мало-помалу выяснилось, что не могу я толком ни унавозить эту почву, ни ее вспахать.
Так-то, друг мой, написал тебе, высказался, теперь за труд – «любимый труд», он же постылый. Даже не знаю, когда он мучительней, когда любимый или когда постылый.
Твой З-й
Письмо третье
12 марта
Глубокоуважаемый Валерий Афанасьевич!
Сегодня еще раз перечитал сценарий в свете нашего с Вами последнего разговора и еще раз убедился, как Вы были правы, бесконечно правы. Жизнь идет вперед своим поступательным шагом, тысячи явлений рождаются в ней, старое отмирает, путаясь под ногами, и мы, писатели – кто же еще! – должны отразить это в выпуклой и недвусмысленной форме. А сюжет? Опять Ваша правда. На него, как на стержень, нанизываются острые конфликты, без него все разваливается, подобно карточному домику. И наконец, герой. Никакая дегероизация, тем более пресловутая, не сможет в такой мере отразить блещущую современность, как герой. Настоящий, пышущий и брызжущий силой. Теперь, когда я понял все это, думаю, что смогу с новыми силами сесть за работу и переделать решительно все.
Не скрою, что мне жалко выбрасывать старика пенсионера, именно в нем я хотел отразить некоторые сдвиги назад в сознании отдельных престарелых людей, тем более раз получилось смешно. Что касается средств массовой коммуникации, то это не издевка – но, если даже мысль такая может закрасться, следует это выбросить. Вы тысячу раз правы. Просто я хотел указать дорогу некоторым из средств, которые не смогли еще стать тем холодным, острым и массовым оружием, а просто влачат пошлое существование.
Работаю много и, несмотря на некоторые шалости здоровья, надеюсь сдать работу не позже начала апреля.
Читали ли Вы роман Джеймса Пудинга в «Иностранной литературе» – что за прелесть этот Пудинг! В «Новом мире» опять нечего читать. Вот тебе и хваленый журнал. Полностью опустился. Вы отчасти и здесь правы.
С весенним приветом
Искренне Ваш
З. Кр-ский
Примечание редактораКак видите, понимая всю необходимость переделок и более актуального звучания, мой друг переживает эстетские метания и трудности, хочет оправдать свою творческую безответственность и даже поднимает нечто вроде индивидуалистического бунта, сжимая свой творческий кукиш в кармане. Однако с удовлетворением могу отметить, что, именно следуя моим советам, все подлинное в Зиновии преодолевало эту мещанскую беспомощность и мой друг создал хотя и немногие, но вполне приемлемые страницы, посвященные нашей трудовой реальности, благодаря чему (пусть и ненадолго) вышел на широкую арену печати, экрана и даже театральных подмостков.
В.М.
Письмо четвертое [5]
14 марта
Даже не знаю, кому, кроме тебя, старый мой друг, мог бы признаться я в этом странном и так не соответствующем мое му возрасту и призванию случае, но ты должен меня понять и не осудить – или даже осудить, все равно, но только выслушать…
Не далее как вчера, возвращаясь со станции в часы пик, я попал в страшную давку, но стоял смирно, как и подобает гражданину, сознающему вневременной характер всех временных трудностей и к ним хорошо приученному, когда внимание мое было внезапно отвлечено от давки, от голоса кондуктора, объявляющего остановки, и от мыслей о полном оскудении моего денежного запаса, которое не за горами… Я даже не заметил, в какой момент произошло это отвлечение, но оно случилось, и я стал думать совершенно о другом и ощущать уже не привычную всеобщую давку, а некоторое давление чего-то округлого и задорно вздернутого и хотя недвижного, но вполне живого, готового в любую минуту стронуться, вздрогнуть, оттого что жизнь пульсировала в некоем существе, частью которого было касавшееся меня нечто. Лицо мое ощутило прикосновение длинных распущенных волос, пахнущих ветром, мягкостью, теплым мытьем и здоровьем… Затем в автобусе произошло некоторое перемещение, беззаботная давка входящих и выходящих людей, на всем протяжении которой единственная моя забота была не упустить из виду главное – не утратить столь волнующего меня контакта, но, очевидно, давка не вполне исчезла, а главное – контакт этот, возможно, был не так уж безразличен ей – нет, я вовсе не преувеличиваю своих данных и готов скорее приписать это приятной ткани нового своего тренировочного костюма, – так что контакт наш сохранился и, более того, юное существо повернулось ко мне, и при этом хотя я утратил ощущение вздернутой и живой округлости, зато ощутил вдруг приятно обозначившийся юный живот и увидел премилую юную мордашку – прости, что не найдешь здесь более высокой терминологии, но я хотел бы быть точен – именно мордашку, с веснушчатым вздернутым носиком, маленькими сонными глазками татарского разреза и неопределенно-мягкой, татарской же (столь милой мне в русских) округлостью лица… Дальнейшее следование прошло как в тумане, потому что я услышал на своем лице ее участившееся чистое дыхание и увидел, что глаза ее подернулись поволокой желания.
Мы вышли вместе из автобуса и пошли в боковую тихую улочку, где я и познал впервые поцелуй этих мягких, уже целованных, однако столь еще неопытных губ – поцелуй, сам по себе значивший в тысячу раз меньше, чем непроизвольное и невинное по целям, но искушенное веками, формировавшими тело, касание наших тел в автобусе. Как школьник-мальчишка, я проходил с ней целых два часа на морозе, после чего, совершенно очумевшие от желания и забытья, мы вошли в мою скудную комнатку – какое счастье, что на кухне не было Птищева с его разговорами и котлетами, – и стали раздеваться поспешно, не имея ни общей темы, ни желания для разговоров. Ощущение ее обнаженного тела было мучительно из-за совершенства формы, но удовлетворение, наступившее почти мгновенно конечно же не соответствовало (да и может ли оно вообще когда-нибудь соответствовать?) бесконечной сладости томления.
Я почувствовал усталость и острую перемену в течении мыслей, за которой должна была наступить досада и – я знаю все это наизусть – недовольство собой, желание скорее остаться наедине. Однако всего этого не произошло, потому что юное существо, казавшееся мне столь безыскусно неприхотливым, проявило вдруг признаки неудовлетворенного желания в форме столь зрелой и мудрой, что привело меня в совершенное замешательство. Она стала гладить и разогревать меня с открытой и бесстыдной нежностью, и случилось чудо, которое я приравнял бы к воскрешению из мертвых, потому что тотчас же снова пришло желание, томление наше продолжилось и мы не спешили его прервать или завершить, а когда все завершилось наконец – не знаю когда, потому что все это было бесконечность, и провалы, и небытие, и вновь острое ощущение жизни – в общем, когда все кончилось, я проводил ее на автобус и дорогой не думал ни о чем, кроме звезд, которые словно бы шатались надо мной чуть-чуть вместе с куполом неба. И я не имел ничего, кроме желания сонно мурлыкать ей слова благодарности, кроме чувства этой благодарности и спокойствия, которое некоторое время еще тянулось вослед красным огонькам уходящего автобуса, а потом оно вовсе отвлеклось от девушки и осталось во мне с полною свободой применения. И благодарность моя обратилась на близких, которых я так люблю, а она, пробудившая во мне эту благодарность, была уже далеко и в этом не могла участвовать. Неужели сможет повториться когда-нибудь это безмерное погружение в чувственность уже не с нею, неужели она будет ни при чем и справедливо ли это…
Я вернулся домой, чуть покачиваясь, с приятным опустошением в легком, почти молодом теле и упал на постель, и познал истинную эйфорию, прежде чем погрузился в сон, безмятежный и крепкий.
Но вот теперь, в свете весеннего дня, я, конечно, думаю – как же так, и разве это не нарушение всех правил морали, не голая чувственность, не сдача мимолетному желанию всех нравственных позиций? Я думаю – сколь тяжек этот грех и в какой мере он непростителен? Потом я снова вспоминаю тот вечер, ту ночь, и мириады звезд над головой, и ощущение, что я стал легким, бестелесным, как самая далекая из звезд, почти не человек, а семечко, слетающее с березы на талый снег… Я вспоминаю – и проклятья замирают у меня на устах, а против нее сказать хоть слово – упаси Бог…
Чего, собственно, я жду от тебя и чего могу дождаться, кроме одобрения и легкой зависти к легко добытому слитку чистого наслаждения? Моральный аспект тебя никогда не трогал и не трогает. Но написать об этом Якову я никогда не решусь, еще менее Ей или покровителю…
Прости, старина, за все, что я написал. Как дела, как служба, детишки, новый мотоцикл – или ты уже сменил его на лодку? Увидимся, как всегда, в октябре, а может, ты найдешь время приехать раньше, буду тебе очень рад.
Твой Зин.Письмо пятое
15 марта
Кока милая!
Я тоскую по тебе и нашему малышу, пытаюсь делать все сразу – и повесть, и сценарий для кино, и небольшой очерк о девчатах из общежития. Да, очерк. В конце концов там все вполне пристойно, и даже по сути своей получается некая щемящая вещь: бедные девочки вдали от дома, на этой ужасной стройке, их поиски места на земле, и в то же время такая бесшабашность – помчались на край света, где наша не пропадала.
Валерий Афанасьевич попросил все-таки ввести в сценарий соревнование между звеньями, иначе, по его мнению, не получается острого конфликта и вещь рассыпается. В конце концов он, может быть, прав по-своему, им нужен такой сюжет, им нужен такой конфликт, и, разговаривая с ним, я совершенно лишаюсь всякой уверенности в себе. Выходит, будто он требует смелой критики, а это я развожу розовую водицу. С другой стороны, старичка-пенсионера они все же велели убрать, сказали, что слишком зло, и что эти старички вынесли на своих плечах тяжесть того-сего, и что хотя некоторые среди них, может, и догматики, но все же они – старички, и над старостью смеяться грех… Может, и в этих рассуждениях есть какое-то свое рациональное зерно, но так ужасно жалко было выбрасывать. Кусочком про средства массовой коммуникации я пока не пожертвовал, все-таки очень получилось смешно, но в общем-то приходится учитывать его советы, ты же знаешь, что он хорошо ко мне относится и знает лучше моего, как им нужно, чтобы это стало проходимо, и в конце концов это же я первый заинтересован в том, чтобы вещь моя вышла в свет и мы – даже если как результат этого, а не как единственная цель – мы получили эти триста (конечно, никаких дорогих покупок, свобода от заработка на некоторое время и кое-что для тебя, зубы, в первую очередь – зубы).
Целую
Твой Зин.
Письмо шестое
16 марта
Дорогой Яков!
Если внимательно посмотреть на хрупкую и довольно тонкую уже корочку снега на тропинке, точнее даже будет сказать, на корочку льда, то нетрудно заметить под ней пузырьки воздуха, которые движутся, толкают друг дружку и текут вниз, под овраг… В общем, все ожило, все шевелится – и снег, и вода, и деревья, и, вероятно, тысячи живых организмов и клеток – в снеге, воде, в деревьях. Вероятно, во мне происходит то же самое, и я пока еще очень рад этому – ощущаю себя единым, несколько утомленным и изношенным, но все же единым с окружающей средой организмом.
Я получил список замечаний от благодетеля Валерия Афанасьевича и установил, что все, что было у меня там хорошего или интересного, оказалось, по тем или иным причинам, подлежащим сокращению. Причины самые разные, чаще всего вполне благовидные и пристойные требования формы и жанра, все, так сказать, «по большому счету». Меня, однако, не покидает ощущение, что большинство из этих соображений – цензурные, призванные оградить спокойствие и безопасность главка. То, что соображения эти вылились в некую редакторскую «убежденность», обрели благовидные формы и одежды, лишний раз показывает, дорогой Яков, сколь изобретательны конформизм, инстинкт самосохранения, самоцензура. Истинный конформист в наше время уже и не скажет: «Помилуйте, этого писать нельзя» или: «Мне страшно». Он скажет, что интересы формы требуют переделок. Что это слабо, публицистично или слишком «в лоб».
Теперь, когда я выкидываю старичка-пенсионера и эту ужасно, на мой взгляд, смешную шутку про средства массовой коммуникации, мне вообще становится непонятно, зачем это все написано – так голо, скучно, пресно, уныло… – зачем я это затевал когда-то (ты ведь помнишь, что это уже четвертый вариант). Право же, никогда так не хотелось бросить все и «начать честную жизнь». Я ведь уже знаю, дорогой Яков, как незначителен мой дар («мой дар убог, и голос мой негромок»), сколь ограниченны мои возможности, да и годы мои уже не те, чтобы я мог все надежды переносить на будущее, а все же я еще жду, что впереди главное, что напишу что-то. Страшно подумать, что моя прошлогодняя книга о древних рукописях, которую ты и многие так расхваливали, окажется самым большим, на что я способен. Обнимаю тебя
Твой З-й
Письмо седьмое
(Без даты)
Глубокоуважаемый Валерий Афанасьевич!
Растроган Вашим вниманием и Вашей заботой. Мне даже неудобно, что я столько времени у Вас отнимаю – ведь у Вас и без того дел невпроворот, и я понимаю, как Вам хочется, отбросив всю эту суету, предаться собственному творчеству. (Тем выше я ценю Вашу заботу, что знаю Ваши собственные интересы и надежды.) [6]
И все же (отваживаюсь на это единственно в результате возникшей между нами откровенности) прошу Вас представить себе мое состояние, когда самые любимые из моих персонажей стали один за другим исчезать из драмы, оставляя ее голой и как бы не родной мне более. Вы сами творец и поймете, как это болезненно. Ну да, раз без этого нельзя дать вещи далее никакого движения, я делаю все возможное, чтобы выполнить Ваши указания – а также по возможности прописать и обозначить современный бушующий фон. Это тоже для меня нелегко, не потому, чтобы я не видел этого фона и его бушевания, а потому, что самая драма моя принципиально, по построению своему, выхватывала (для контраста, конечно) совершенно тихую заводь, отвлеченный, вечный участок жизни. Нет, я понимаю, конечно, что покой нам только снится, но как раз это и должна была отразить фигурка старичка, которого нет более, и его внучки (которую я уже заменил внуком), согласно Вашему совету, – кажется, весьма успешно.
Заклинаю Вас не приписывать эти жалобы моему нелегкому характеру, а исключительно тяготам проклятой нашей работы.
Искренне Ваш
З-ий Кр-ский
Письмо восьмое [7]
(Без даты)
Спасибо за весточку, дружок!
Все-таки старое братство кое-что значит. Но напрасно ты так преувеличиваешь роль моего нового окружения. Киноработники – люди, как правило, весьма темные. В этом смысле самую законченную и совершенную среди них категорию представляют ассистенты и администраторы, бойкие, пробивные и ничтожные люди, про все на свете слышавшие, кое-каких объедков с барского стола ухватившие и оттого к прочему неосчастливленному человечеству относящиеся несколько свысока. Режиссеры похожи на них, хотя есть среди них добросовестные трудяги, а иные, из старшего поколения, даже есть и такие, с которыми интересно бывает общаться. Но не надо преувеличивать – это все же весьма и весьма ограниченные люди. Вот что им более доступно из ценимых тобою благ, так это женщины (все эти люди удачливы с женщинами), которые вообще ко всем людям, имеющим отношение к производству пленки с движущимися картинами, изобретенными, как ты помнишь, во Франции досужими братьями, и не подозревавшими об эротических и духовных последствиях придуманной ими забавы, особенно ласковы. Недавно один из весьма маститых мастеров этой категории, заметив во время нашей с ним совместной прогулки, что взгляд мой невольно проводил вздернутую попку какой-то стройной женщины, сказал:
– Поверьте, друг мой (ты бы слышал усталый и разочарованный тон, которым это было сказано)… Поверьте, я тоже некогда верил в попку, вздернутую кверху или оттопыренную назад, и только потом убедился – чисто эмпирическим путем, – что в любви это не дает ровным счетом ничего… Все это очень скучно, даже если у них такая попка. А так как попки, оттопыренной вперед, не бывает, то я попросту прекратил дальнейшие поиски…
Понимаю, друг мой, что нас с тобой это вряд ли в чем убедит: мы ведь еще довольно молоды и можем продолжить поиск. Скажем, искать попку, оттопыренную вбок. Однако искренний и печальный тон, которым это было сказано мэтром, словно бы приоткрыл передо мной на миг завесу будущего. Я ощутил и сожаление, и страх, и готовность… Вряд ли ты разделишь мои чувства, дружок. В тебе столько еще этой жизненной и животной силы, столько энергии и надежды. Что ж, будь счастлив тем, что никакая работа, подобная той, которую я избрал для себя в жизни, не истощит их целиком.
Обнимаю
Зин.
Письмо девятое
(Без даты)
Милая Кока!
Я все чаще ощущаю, какой утлый островок в океане жизни представляет наш с тобой союз – вольно же самодовольным англичанам называть эту хижину на открытом всем ветрам островке домом-крепостью. И все же мне, неутомимому мореплавателю, хочется иногда встать в самом центре этого островка, чтобы волны не докатывались до моих ног, ибо они бестолковы, и сумбурны, и неуправляемы и с каждым годом несут столько сора и дерьма (сама знаешь, сколько отходов сливают в такой водоем, как море жизни).
Вот и вчера, пасхальным вечером, мне пришлось выходить из дому дважды – быть в магазине и на станции, наблюдая здешнюю жизнь. Люди были усталые от пьянства, бледные и – что неприятно поразило меня – раздраженные и злобные до крайности. Они набрасывались друг на друга с бранью у билетной кассы и прилавка, хмель не смягчал их злости, тем более что наступало досрочное похмелье. Женщины бранили мужчин и тащили на руках детей, обмирающих от усталости. Мужчины надеялись, что им еще удастся выпить чуток перед сном, составить новую компанию или вообще спрыгнуть по дороге к постылому дому, где их ждут лишь сон и завтрашний ранний подъем для работы. Женщины как могли оберегали свою семейную ячейку. Но где же наша всему миру известная доброта и солидарное переживание Воскресенья Христова? Старуха соседка сказала мне, что это все из-за того, что раньше люди подолгу ждали праздника, а теперь пьют ежедневно и устают.
Наблюдая эту маету злобы, я думал о том, что утлый мой островок, где в тесной восьмиметровой комнатке ты, милая Кока, окуриваешь меня дымом сигарет до состояния сердечного обморока, что он все же держится пока, противостоит натиску волн. И мне все реже хочется (как было в более юные годы) броситься в бурные волны жизни и плыть. Более того, я с ужасом представляю, как может уйти из-под ног хлипкая опора моего островка, и тогда я с отвращением окажусь в волнах, принужденный плавать снова. Кажется, что ничего не дает мне в данную минуту оснований для подобного страха, но я слишком знаю жизнь, милая Кока, знаю, как изменчиво ее течение, а ты – достаточно ли ты знаешь себя и предначертания своей судьбы?
Целую тебя, драгоценная моя жена
Твой Зин.
Письмо десятое
15 апреля
Дорогой Яков!
Нынче я имел продолжительную беседу с одним пожилым сценаристом, у которого было поставлено без малого два десятка сценариев, что принесло ему много денег, обширную подмосковную дачу и порчу характера в направлении чрезмерной скупости. Я спросил его, может ли он припомнить, чтобы какой-нибудь его сценарий был поставлен в соответствии с его замыслом, намереньем и желанием, а также принес ему творческое удовлетворение. Он сказал, что, положа руку на сердце, такого не бывало у него никогда и что он давно махнул рукой на эту надежду и старается забыть об очередном фильме сразу после просмотра. Я представил себе постыдность такого просмотра, когда люди в темном зале неуместно смеются, а он сидит здесь же как человек, причастный к этому позорищу. С другой стороны, он ведь не полностью ответствен за уродство зачатого им детища, потому что делает-то фильм режиссер, который не может сделать его лучше, чем умеет, а много ли есть режиссеров, которые что-нибудь умеют. То, что этот урод – коллективное детище, некоторым образом снимает или хотя бы перераспределяет ответственность и ее обезличивает. Этой перераспределенной и обезличенной ответственностью можно объяснить бессчетное количество уродов, зачатых и совместно сотворенных людьми вполне приличными. И не только в кинематографе. Уроды из гнусного серого гипса обступают тебя на шоссе и в аллеях парка. Звуковые уроды вырываются на волю из громкоговорителей – постыдные стихи, прикрытие постыдной музыкой, исполняемые постыдным певцом. Но может, сам способ, которым изготовляется вся эта продукция, оказывает действие на ее творцов? Этой проторенной дорогой тщусь пройти и я – отчего и затеял нынче с тобой эту тягостную беседу, честный друг мой Яков, ни разу не отягчивший себя ни гонораром, ни славой.
Твой З-ий
Письмо одиннадцатое
20 мая
Дорогой Яков!
Благодаря хлопотам Покровителя-Редактора мне была вручена путевка, почти что бесплатная (Покровитель объяснил мне, что подобное право есть у члена профсоюза, но я, состоя в этой непонятной организации почти всю свою долгую жизнь, не знал о подобной замечательной привилегии), и вот я на море, водворен в комнату с чистым бельем и двумя вполне приятными мужчинами. Море теплое и в то же время освежающе прохладное, солоноватое на вкус – зачем не жить на его берегу, не трудиться здесь, очищаясь ежедневно вхождением в его воды?
Поскольку это отпуск после утомительной и бесплодной работы последних месяцев, а путевка мне почти ничего не стоила, я решил отдаться полностью приятному ничегонеделанию, так сказать, «дольче-фарниенте». Могу же я почувствовать себя свободным от обязательств, ну хоть не надолго, скажем, на неделю? Или я раб, прикованный к машинке и своим неудачам?
Слышу твой успокаивающий, вполне положительный ответ, милый Яков, и с тем засыпаю.
Твой Зин.
P.S. Вчера не отослал тебе письмо, потому что у меня не было сил ни на какое завершенное и целенаправленное действие. Писание же неотправляемых писем как нельзя более подходит мне в моем странном нынешнем состоянии. Зато я добрался вчера до телефона и позвонил Коке. Ее не было дома. Так как она не имеет обыкновения вставать так рано, значит, она просто не ночевала дома. Это, конечно, ничего не значит, вернее, еще не значит ничего наверняка. Это «проклятая неизвестность», как в том анекдоте с евреем у замочной скважины, когда гаснет свет в комнате, где жена его заперлась с любовником, и – помнишь? – «опять проклятая неизвестность». Дело даже не в какой-то там ревности, а в тягостном ступоре бессилия, в который она одна умеет меня повергать (по сравнению с ним бесчисленные профессиональные неудачи – детский пустяк). Она не умеет дарить мне радость, но зато умеет повергать меня в маразм отчаянья. С другой стороны, она все-таки умеет выводить меня из состояния безразличия, и на том спасибо. За это, может, я и терплю, покуда ей терпится, потому что конечно же это ей первой станет невтерпеж и захочется перемен: я-то просто не способен уже ни на какие решительные перемены.
«А что же море?» – спросишь ты у меня.
Ну да, у меня было вчера острое ощущение счастья, когда я, лежа на спине в море посреди бухты, видел кудрявые зеленые горы и марево нагретого воздуха над шоссе. Сегодня это ощущение если и не ушло совсем, то все же утратило свою остроту. К тому же я знаю теперь из опыта, что в кудрявом лесу жарко и мусорно, что в белом, похожем издали на корабль, корпусе санатория мои соседи стучат костяшками домино или обсуждают случай, описанный во вчерашних «Известиях», – про то, как один грузин что-то продал другому, – обсуждают его в терминах, угрожающих для всех грузин сразу, так что мне поневоле придется встать на защиту грузин, евреев, чеченцев или немцев Поволжья, если дойдет до дела.
Я гляжу с пляжа на ограду асфальтированной танцплощадки, и она пробуждает в памяти вечернее шарканье ботинок и унылый блуд здешних вечеров, которые безбедно уживаются с загадочным перемигиванием светлячков, с заливчатым пеньем соловья и ласковым рокотом моря…
Не принимай мою мизантропию слишком всерьез, мой Яков. Просто я позвонил, и Коки не было дома. Не надо звонить, надо жить в равновесии приглушенной боли и смирения. Господь терпел…
Зин.P.P.S. Здесь не бывает никаких событий. Здесь только длинные, жаркие дни, состоящие из быстротечных отрезков – до обеда, после обеда, до ужина, после ужина. Иногда возникают какие-то скандалы в столовой и на танцплощадке, изредка тлеют разговоры на пляже – я имею в виду те, которые хотя бы можно вспомнить. Например, сегодня поутру зашла речь о мерзостном облике современного зрелого мужчины, у которого единственная тема шуток и разговоров – «литра» или «поллитра», он, так сказать, «спирит-майндид», алкогольномыслящий, и одно упоминание о выпивке приводит его в повышенное состояние духа. Когда ему не на что выпить, он становится жалок, заводит разговор издалека, о другом, но, в сущности, все о том же. Иногда он в открытую клянчит, канючит, унижается, готов на все за бутылку. Вид его мерзок, а моральный уровень бывает довольно невысок, даже когда он встает с колен, чтоб дойти до воды… С такой примерно филиппикой выступил молодой инженер Сеня, человек образованный и сам равнодушный к спиртному. Хотя я не мог не согласиться с большинством из его наблюдений, что-то взбунтовалось во мне – то ли отвращение к чужой нетерпимости, то ли собственная моя нетерпимость. Так или иначе, я сказал инженеру Сене, что этот порок, точнее, эта слабость конечно же мерзка, жалка, плачевна, однако как и другие человеческие слабости, заслуживает прощения. Я обратил его внимание на то, что не менее мерзок непьющий блудник, чье вечно возбужденное внимание является не менее настойчивым и устремленным, чем алкоголическое. Он столь же въедлив, вкрадчив, так же готов на компромисс, так же униженно настойчив, а конечная цель его столь же ничтожна и малоуважаема.
– Посмотрите на все его ужимки и прыжки, – сказал я. – На все эти подходы, отходы, экивоки, на его целеустремленные и дешевые разговорчики, имеющие чисто утилитарную цель, – о погоде, о кино, об искусстве… Вглядитесь – и он вряд ли вызовет у вас большую симпатию, чем мирный полуобразованный пролетарий-пьяница, который изредка с опохмелки вдруг вспомнит некую Клаву из общежития, давшую ему некогда телефон, очумело полезет звонить ей из автомата или из коридора коммуналки в двенадцатом часу ночи, чтобы узнать, что она уже год как замужем и переехала, но все же, довольный своим поступком, сообщает собутыльникам, что вот такая была девка, всем бы хватило, жопа во… Мирный и непрофессиональный уровень его попытки вызовет лишь улыбку у человека умеренно пьющего из числа умелых клейщиков, но согласитесь, милый Сеня, эта неловкость даже вполне трогательна…
Черт бы меня драл с этой моей пылкой речью, потому что отчасти намеренно, отчасти невольно я, кажется, попал в цель: бедный Сеня покраснел как рак и даже что-то уж слишком буквально стал примеривать к себе эту гротескную маску.
– Что ж, может быть, вы и правы, – сказал он, этим своим смирением обесценив это мое нехитрое, право же отчасти невольное, выступление и заставив задуматься об истоках своей горячности.
После этого мне оставались лишь море, и небо, и тихая молитва на спине в лодке посреди залива – лучший вид молитвы, потому что в любую минуту можешь пойти ко дну, вполне подготовленно и законно.
До свиданья, милый мой Яков.
Твой Зин.
Письмо двенадцатое
12 ноября
О, сколько я пережил, дорогой Яков, со времени твоего последнего приезда ко мне и что мне выпало на долю! Она действительно уходит от меня, и я даже не знаю к тому, может, ни к кому, а мне даже трудно понять, в чем вся тяжесть и горечь этой перемены, этого краха наших никогда не бывших слишком уж радостными и радужными отношений. Кажется, главное здесь – моя обида, все время хочется обвинять ее в чем-то и упрекать. Между тем упрекать ее особенно не в чем. Я не мог утвердить себя в семье, не смог сделать себя нужным. Да и в любом случае – даже если она сколько-то любила меня, то ведь вполне могла за все это время и разлюбить. Даже если любила… Вот тут, наверно, главное. Хочется обвинять ее в том, что когда-то она уступила мне не любя, но я-то в конце концов мог видеть, что она просто уступает моей любви и моей настойчивости, каким-то не вполне для меня ясным домашним трудностям, мог видеть и должен был поступать как предвидящий последствия умный и взрослый человек…
В моей нынешней обиде нет смысла, она ничего не объясняет и вовсе уж ничего не может дать на будущее. Наверное, лучше было бы учесть какие-то свои ошибки, разобраться в своей вине. Но и в этом мало смысла, дорогой Яков, потому что вина моя совершенно очевидна – перед ней, перед собой, перед ребенком. Смысл и спасение теперь, наверное, в том, чтобы обрести наконец какие-то устойчивые ценности в этом мире. Ценности, не подверженные тлену, не зависящие от колебания цен, от женского каприза или собственного сердечного недомогания. Ценности внутренние. Это бесспорно. Но как? Я уже понял, что их не дает просвещение. Их обретают в ясности духа, в ровном и незлобивом движении к небытию, в сгорании без непристойного отчаянья и обид.
Вероятно, могла бы спасти в такой час истинная вера, но как ее обрести?
Ежедневная работа все реже спасает, да и работа не может двигаться без душевного спокойствия. А если его нет, искать спасения в работе бесполезно. Не спасают и физические наслаждения, потому что грусть пронзает их насквозь, делает их не сладостными, а надрывными. Горестные мысли приходят в самые неподходящие минуты, а утреннее пробуждение бывает зачастую ужасным. И есть ли кто-нибудь в целом свете, дорогой Яков, кто мог бы мне помочь?
Уже давно ночь, а сна все нет и, наверное, нынче не будет.
Твой Зин.Письмо тринадцатое
18 июля
Дорогой Яков!
Не знаю даже, есть ли у тебя время на чтение моих бесконечных писем. Я словно звоню тебе каждые полчаса по телефону (конечно, письма более милосердная форма принудительного общения – их можно не читать). Звоню – а потом идут длинные и путаные рассуждения о долге мужчины и женщины или о детской психологии.
Сегодня вот я думал о бегстве от себя и от окружающих. Человек был всегда опутан множеством забот – о хлебе насущном, о прокормлении потомства. Но были же монастыри, да пустыни, да малые скиты.
Шпионы из детективных романов сообщают, что прятаться в лесу и в поле – дело безнадежное. Прятаться надо в толпе в часы пик, в перенаселенных трущобах сверхгородов. Ты знаешь мое отвращение к шпионству и к тайнам, дорогой Яков, но как неудержимо наше стремление к тайности своей жизни, ко «второй» или даже «третьей», сокрытой даже от второй… Неужели только в современной трущобе можно обрести освобождение от никчемушных обязанностей и от собственного «я». Неужели именно там возникают упрощенные, ни к чему не обязывающие связи, не задевающие тебя по-настоящему и не касающиеся тебя прежнего. Ты проходишь незамеченным через толпу или валяешься на кушетке, никем не знаемый, брошенный всеми. Время отступает. Отступают твои заботы, связи, обязанности. И какие странные раскрываются при этом кишащие вокруг тебя миры! Какие нелепые люди, согбенные тяжестью своего креста! Загадочные утра и ночи, наполненные шорохами чужой суеты, чужой тщеты. Такова моя нынешняя трущобно-подмосковная деревушка, в которой я нашел себе временный, то многолюдный, то до ужаса безлюдный приют. Целое утро какой-то моложавый мужчина бродит по двору под суетливо-ласковые причитанья супруги. Человек этот давно слепой, с самой войны. Что делает он в этом темном своем мире? Какую фальшь различает в голосах, и прежде всего в этих знакомых ему жениных причитаниях? Чуть не с шести утра по двору бродит крошечный забитый сосед-шофер в серой милицейской рубахе, подаренной старшим сыном. Его рослая жена с уважением сообщает мне о нем, что он уже в половине шестого утра достал выпить. Она то снисходительна к нему, то помыкает им безжалостно, а может, и поколачивает. Она и сама была когда-то шофером самосвала. Чем озабочен с шести утра этот косноязычный, бессловесный, вечно нетрезвый человек?
Дети копошатся в песке. Взрослые смотрят на них с надеждой, напоминая порой, что в этих безвинных малышах и содержится смысл жизни. Но мы-то с тобой, Яков, должны были понять, что значит все это. Иначе как сможем мы об этом писать?
Твой Зин.
Письмо четырнадцатое
(Без даты)
Дорогой Яков!
Какую странную жизнь я веду, Боже, какую странную жизнь! Ставши не нужен семье, я схожу, просто спадаю с орбиты привычных обязанностей, а вместе с тем и с привычных маршрутов. Так, неделю назад, в сильную жару, проезжая в тысячный, наверное, раз мимо привычной станции метро, я вдруг увидел за окном водоем. Это был наполненный водой строительный котлован, в котором купались в жару взрослые и ребятишки. Я вышел из поезда, разделся у воды и просидел здесь почти полдня в какой-то случайной компании – над зеленой, зацветающей водой, почти в центре города, под оградой метро. Я даже вошел разок в эту воду, преодолевая брезгливость, поплавал между автобусной остановкой и станцией метро, потом просыхал у решетки рельсового ограждения и размышлял о странной особенности этих людей, в компании которых оказался. Люди эти не ищут живописных и уединенных мест, предпочитая ближайшее подобие природы и многолюдное общество. Многолюдство они, вероятно, считают вовсе не недостатком этих пляжей, а скорее их преимуществом, еще одним свидетельством того, что это место стоящее. Я замечал такое не раз, видя неравномерное распределение людей на городских и курортных пляжах. Помню, как поражен я был однажды этим свойством простого человека в тихом городке Осташкове, что на берегу озера Селигер. Гуляя по окраине городка (несколько удаленной от озерного берега), я обнаружил, что на берегу крошечного, затянутого мазутом пруда с довольством отдыхают несколько семей, на пожелавших идти к лежавшему за километр отсюда роскошному озеру, – отдыхают всерьез, с выпивкой, провизией, с транзисторами и картами. Ни мазут, местами густо покрывавший пруд, ни торчащие из воды автомобильные скаты, ни свалка железа на берегу словно бы не омрачали безмятежность воскресного отдыха трудящихся и их дружеского пира…
А вчера – удача: я забрел в старинный московский парк на пути к дому и обнаружил в нем укромный, хотя и не вовсе безлюдный мир близ прежних моих городских путей. Рядом с утопающими в зелени старого парка дощатыми бараками я обнаружил заселенный каким-то случайным людом старинный дворец. Доброжелательная и беззубая местная бабка меня заверила, что дворец это нарышкинский и что если к нему подойти с фасада, то увидишь мраморную статую какой-то «дочери Нарышкина». Я обошел дворец и статуй обнаружил великое множество – все какие-то неопознанные дочери Зевса. Статуи белели и по обе стороны аллеи, спускавшейся к Москве-реке. Внизу была лодочная станция. Я взял лодку, плавал дотемна, а потом сдал лодку и вернулся ко дворцу. Теперь здесь было пустынно, и я почувствовал себя одиноким и вконец несчастным в опустевшем Кунцевском парке.
Я пошел прочь по шоссе и вспомнил стихи Огарева, пожалуй что с этим самым парком и связанные:
Мне жалко радости былой,
И даже прежних жаль страданий,
Знакомых мест, любимых мной,
И наших кунцевских скитаний.
Куда только не заводят меня сейчас мои праздные скитания, милый Яков.
Твой Зин.
Письмо пятнадцатое
6 августа
Дорогой Яков!
Мы с тобой вступили в совершенно новую, еще не очень понятную мне сферу отношений. Поверь мне, они есть, эти отношения, иначе бы я не писал тебе в полной уверенности, что письмо мое до тебя дойдет. Я думал об этих непрекращающихся наших отношениях, уже и когда мы везли тебя через весь-весь город, на Востряковское кладбище. Я думал тогда, конечно, и о том, как виноват перед тобой, что не побывал у тебя в больнице и не писал тебе весь долгий период твоей болезни. Но ты ведь знаешь, что я успел пережить за это время… Теперь у меня все как будто забыто (не знаю, впрочем, надолго ли), и Кока ведет себе так, будто между нами ничего такого не случилось, а я вот…
Но тем временем случилось это ужасное и неповторимое с тобой. Какое то время мне казалось, что тебя больше нет. И я был так виноват перед тобой, которого теперь нет. Но вот я решил для себя, что все же ты есть, и теперь я тебе пишу без всякого налета отчаянья – во мне ты живой, и пока я есть сам, ты будешь жить.
Как обычно, расскажу о новостях. Мой редактор Валерий Афанасьевич оказался лицом достаточно влиятельным, чтобы со мной после всех хлопот все же заключили договор на пьесу – о любви агронома к звеньевой, отличнице междурядных посевов. Это очень нужная в этом году тема, и на последнем совещании молодых драматургов было во весь голос сказано, что нам нужен не просто рабочий класс как герой, а рабочий класс в сфере производства со всей его спецификой, равно как и трудовое крестьянство с его особой спецификой. Сам понимаешь, что я ничего не собирался писать про междурядные посевы, и если честно тебе сказать, то и про агрономов тоже, но Валерий Афанасьевич заверил меня, что в моей пьесе все это уже есть. Сам он столько лет работает в издательствах и главках, что, конечно, знает это лучше нас с тобой. Теперь на мою долю выпадает трудная для меня задача – написать эту пьесу или в худшем случае вернуть аванс и утратить всякую надежду на успех. Я часто вспоминаю о времени, когда, нищий и гордый, жил на пустой даче и у меня еще не было ни с кем договора, а только была надежда, вещь несравненно более привлекательная. С аванса мы отдали часть долгов, оба вставили себе зубы, и Кока выбросила наш старый диван. Честно говоря, жаль: у меня столько с ним было связано чудных и горьких моментов, право жаль… К тому же аванс растаял так быстро, словно их и не было, этих четырехсот пятидесяти рублей – почти полтысячи!
Конечно, все это ужасная мура, суета сует и всяческая ерунда, то, о чем я пишу тебе, лежащему в уютной тени берез на Востряковском кладбище, дорогой Яков, лежащему невдалеке от могилы писателя Ф.Сито, куда долетает приглушенный гул кольцевой дороги, и от ограды, где бродят местные жители, крадущие цветы с могил и снова продающие их этим старушкам и молодым евреям, которые так носятся со своими покойными родственниками, как будто лучше их никого не было и нет на свете. Я пишу про это, думая, что все это тебе интересно… Странное дело, эта моя уверенность передалась Коке. Она вошла в комнату, спросила, кому я пишу, а когда я сказал, что тебе, то добавила спокойно: «Передавай привет!» Потом она раз или два заглядывала в мою комнату, но от работы меня не отрывала, а это ведь главное – чтобы не отрывали.
Твой Зин.
Письмо шестнадцатое
20 августа
Милая, любимая жена Кока!
Я совершенно уже обосновался в этой красивой украинской деревне, но мне скорее плохо тут, чем хорошо, потому что я не понимаю, зачем я тут и как мне отдыхать.
Сегодня утром, когда я завтракал, в комнату вошел украинский мальчик и спросил меня, что это нарисовано (по-украински говорят – намалевано) на картине. Картина висела у меня за спиной, оборачиваться мне было неудобно, и я сказал ему, что художник здесь изобразил глубокий обморок сирени. Он ушел, а я, милая Кока, задумался о путях искусства в моей жизни и даже решил написать тебе об этом письмо, учитывая твою жалобу на то, что я пишу тебе только о проблемах «ножа и вилки», совершенно не выходя из сферы бездуховности. Так вот, задумавшись над местом изобразительного искусства в моей жизни, я вспомнил, что мое первое знакомство с мировой живописью произошло еще в детские годы, в деревянной пристройке на северо-восточной окраине Москвы, в селе Алексеевском, где у дедушки и бабушки была собственная клетушка. Сейчас на месте их домика стоит замечательный памятник космической ракете, улетающей ввысь и даже дальше. А в ту докосмическую пору у их соседей по пристройке, у супругов Хаимовичей были две милые грубоватые девочки – Беба и Нюся, с которыми я, будучи ребенком, всю неделю играл в разные городские игры, например в дочки-матери. А вот по воскресеньям сам Хаимович, большой и грубый мужчина, работавший пожарником (это было популярное занятие среди тогдашних лимитчиков, конечно, не столь престижное, как в США или в романтической Франции, но все ж дававшее московскую прописку) и бывший хорошим отцом, нам «показывал картины». Это было для нас большое событие, и хотя в будние дни мы иногда и сами, тайком, без спросу, кое-что в его «альбоме» подглядывали, все же можно с уверенностью сказать, что искусство вошло в мою жизнь вместе с Хаимовичем. В эти минуты неторопливо-торжественного исполнения отцовского долга Хаимович доставал из шкафа собрание бумажных репродукций (кажется, это было дешевое издание Пушкинского музея) знаменитых картин, принадлежавших кисти выдающихся работников зарубежного искусства, осторожно, по одной, вынимал эти картины из папки, а потом, как ученый лектор или искушенный экскурсовод, с неторопливой важностью сообщал нам содержание подписи на обороте. «Эта картина, – говорил Хаимович, – изображает мельницу в деревне, 1886 год, Государственный музей…» Иногда Хаимович от себя добавлял, что мельница – это такое место, где зерно превращается в муку и так далее. При комментировании более сложных сюжетов Хаимович проявлял похвальную сдержанность, и оттого эти сложные сюжеты оставались для нас необъясненными (понятное дело, они-то и толкали нас на будничные тайные экспедиции в бельевой шкаф, где надежно прикрытые могучими кальсонами пожарника таились мировые шедевры). Должен признать, что наши торопливые тайные просмотры тех же «картин» по будним дням, в отсутствие взрослых, все же не доставляли нам того удовольствия, как сеансы, проводимые самим местечковым богатырем Хаимовичем. Никто из нас не умел так торжественно вытягивать репродукции из папки, так искусно сокращать время демонстрации сомнительных сюжетов и так многозначительно крякать при этом в знак восхищения, как останкинский пожарник Хаимович, павший впоследствии смертью рядового винтика на каком-то из фронтов великой войны титанов. На своих тайных просмотрах мы обычно извлекали из заветной папки ту самую картину, которую Хаимович, как правило, поворачивал лицом к стене почти мгновенно, а то и вовсе оставлял ее в папке невынутой, вдруг заявив, что на сегодня хватит. Это была картина «Геркулес и Омфала» (я так и не помню, кто ее создал, но этот пробел в своем художественном образовании списываю на счет просветителя Хаимовича). Картина изображала, упитанную женщину, которая сидела на коленях у здоровущего голого мужчины и при этом, кажется, еще и целовала этого здоровяка Геркулеса. Запретная картина необъяснимо волновала наше незрелое воображение, но насколько я помню, мне было трудно представить, чтобы я смог когда-нибудь усадить на свои тощие коленки обнаженную Бебу или Нюсю, да еще и самому раздеться при этом, хотя бы и до трусов… Прошло с тех пор много лет, и жизнь внесла губительные коррективы в мое нравственное развитие, однако я и сейчас не очень себе представляю, как я стал бы держать на коленях такую толстую и совершенно голую тетеньку. Означает ли это, что я и тогда уже проявлял слабое понимание законов искусства?
Может, просто быстротекущие опыты жизни привели меня к антихудожественной мысли о том, что глаза жаднее брюха. А может, я просто не встретил на жизненном пути свою Омфалу. Тебе судить, милая Кока, тебе видней, я лишь могу изложить тебе несколько фактов из своей биографии, без всякой претензии на анализ, зато с полной откровенностью и честной беспощадностью к самому себе.
Война и эвакуация на время удалили нас, довоенных заморышей, от сферы прекрасного, зато в нашей послевоенной московской школе гуманитарное просвещение занимало весьма почетное место. Нас регулярно водили в Третьяковскую галерею, где передавали в руки ученых искусствоведов. Именно здесь мы раз и навсегда усвоили, что картины отражают различные моменты из жизни прошлого и настоящего. В первом случае картины разоблачают прошлое, во втором – они радостно воспевают нашу действительность. Чем решительней они это делают, тем картины художественнее и реалистичнее. Лучшими творениями мирового искусства считались картины русских художников-передвижников, на которых как живые предстают перед нами быт и нравы различных классов обреченного общества. Когда глядишь на эти картины, то становится совершенно ясно, что весь этот мир с его серебряной посудой и тщательно прописанными ломтиками лимона был обречен на перемены к лучшему, в чем убеждали нас жизнерадостные картины, развешанные в последних залах Третьяковской галереи. Наименее понятную часть экспозиции представляли собой картины на религиозные темы. Экскурсоводы, конечно, объясняли, что все эти сюжеты являлись для художника лишь поводом для того, чтобы реалистически отразить жизнь и нарисовать, где можно, своих близких родственников и знакомых, а может, заодно и разоблачить религию, пользуясь неправдоподобностью ее сюжетов. Так что если все эти Рублевы и шли порой на кое-какие уступки клерикальным предрассудкам, то лишь для того, чтобы можно было изобразить в конце концов вполне полновесно реальные тело и реальную жизнь, отразить мирскую радость жизни. Так ли это, милая Кока? Тебе видней…
Обнимаю тебя и радуюсь, что у меня такая милая и образованная жена-друг, с которой всегда можно поговорить на серьезные темы.
Любящий тебя
Зиновий
Письмо семнадцатое
2 октября
Глубокоуважаемый Валерий Афанасьевич!
Я пишу именно Вам, потому что наша с Вами давняя, ставшая дружеской связь и Ваше ко мне снисхождение дают мне смелость потревожить Вас снова.
Дело в следующем. Главтеатром был прикреплен к моей пьесе дополнительный редактор, который испещрил мой текст пометкам. Каждое слово ему хотелось поправить на другое, лучше ему известное, и, поверьте мне, на самом деле далеко не лучшее, порой более затасканное, чем мое, а главное – просто не мое. Не сочтите это за особую авторскую эгоцентричность, но автору непременно хочется, чтобы в произведении было его, именно его и только его слово – в этом, наверное, одно из условий авторства. Между тем редактор важнейшим условием своего существования и своим долгом считает исправление слов, называемое им редактированием. Это элементарное условие только сейчас предстало передо мной во всей своей ужасающей очевидности, хотя мне и самому доводилось некогда учиться на редакторском факультете полиграф-института. Ныне я с отчетливостью вспоминаю, что нас в качестве будущих редакторов учили воспринимать всякое произведение (за исключением классики, для которой существует текстология) лишь как сырье для создания «оригинала». В произведениях, попадавших нам в руки, неизбежно должны были существовать идейные просчеты, затем композиционные, а потом – и прочие, скажем, стилистические и даже грамматические. Добросовестный редактор должен искать все это и как человек честный непременно найти. Даже признав произведение идейно зрелым, он никогда не упустит случая наставить автора по части стиля. Однако ежели навязать вкус читателя-редактора всем редактируемым авторам, может создаться библиотека одного читателя или одного автора. Даже если это читатель превеликого ума и вкуса, то из мировой литературы что-нибудь уйдет безвозвратно. А ведь в число редакторов попадают люди разного вкуса и уровня, и с годами люди эти приучаются свое слово считать обязательным, потому что испуганные авторы соглашаются и говорят: «Бог с ним, пусть правит, пусть выйдет что-нибудь, не то испортишь отношения – тогда и вовсе конец». Грешен, и у меня самого было сегодня такое вот побуждение, однако внутреннее возмущение и надежда на Вашу помощь побудили меня писать Вам обо всем.
Кстати говоря, образование, подобное тому, что было мной некогда получено, глубоко проникает нынче и издательские круги. Людей с высшим редакторским образованием много стало нынче и среди корректоров, так что теперь и корректоры ту же полученную ими в школе сомнительную ученость норовят вставить в каждую строку и против каждого истинно авторского слова ставят вопрос, а в каждом повторе видят тавтологию и так далее…
Вот и мой новый редактор из главка повелел мне все мои пометки «сказал» заменить на такие слова, как «воскликнул», «вскричал», «скривился», «выпалил», «проговорил», «пробормотал», «захохотал», а еще чаще – «возразил», «спросил», «пошутил».
От этого произошло в тексте большое жеманство, и каждая шутка на корню засохла. То же и с кавычками. Корректоры наши и редакторы более не приемлют простой иронии, если она не обозначена для полного понимания кавычками. А уж когда с кавычками, тогда ясно, что здесь ирония и юмор. Так что иронический способ выражения полностью в России скомпрометирован и отдан на откуп журналу «Крокодил», который шутит таким образом: «Этот, с позволения сказать, "организатор" не организовал своевременный подвоз…» И так далее. Смешно, животики надорвешь!
Простите, дорогой покровитель, что оторвал Вас от работы своими разговорами, но, право, не знаю, что делать, второй день надрываю сердце над пометками редактора из главка и ни на что решиться не могу.
Ваш Зиновий Кр-ский
P.S. Милейший Валерий Афанасьевич! Дело это с редактором оказалось действительно пустячным и разъяснилось в минуту. Было так. Промучившись три дня над замечаниями редактора и не в силах совместить их ни со своим понимание художественных задач, ни с простыми правилами русского письма, пошел я в коллегию в полной готовности ко всему худшему. И там, ожидая приема у самого Главного (чем бы еще кончилось, не знаю, но человек этот, судя по всему, не злой), разговорился я с секретаршей, нестарой еще и милой женщиной, у которой попытался выяснить, что же за человек этот мой Пилипенко, которому отдали меня редактировать в главке. Она сказала, что Пилипенко – человек добродушный, но несчастливый, потому что был он раньше администратором где-то на Украине по театральному делу, но сгорел за какие-то хищения, в которых он как будто и не повинен даже, так что все полны к нему сочувствия и готовы помочь, также и здесь в министерстве. Поэтому, желая его поддержать, дают ему на редактирование пьесы, за что платится менее ста рублей, а все же подспорье в его временных трудностях. Конечно, для него самого это дело хлопотное и непривычное, да он и по-русски-то говорит еще с акцентом, но склочничать не следует, потому что человек в беде. А следует все эти его замечания карандашные стереть, так будто их не было, и сказать, что спасибо, хорошо поработали и нынешний вариант намного приемлемей прежнего. После такого разговора в очереди на прием я больше сидеть не стал, а пошел и купил этой милейшей женщине-секретарше коробку конфет, которую вручить ей все же не решаюсь, так и лежит в шкафу непочатая. Ваш Зиновий Кр-ский
Часть четвертаяПредисловие редактора
Новая порция записей Зиновия К., оставшаяся на мое попечение, представляет собой нечто вроде дневника. Однако в дневнике моего друга Зиновия присутствуют многочисленные отступления от сегодняшнего дня во вчерашний, и Редактор утешает себя лишь той надеждой, что по прошествии времени, когда и сегодняшний день станет отчасти вчерашним, а все мы, выполнив свой долг перед народом и людьми будущего, прекратим свою деятельность, эти, как сказал бы научный работник, анахронизмы перестанут играть заметную роль.
Утешив себя таким образом, Редактор предоставляет на суд своего весьма проблематического и даже гипотетического читателя эту новую тетрадь с дневниками Зиновия.
* * *6 февраля
Сегодня был в Театре Советской армии. Показывал их завлиту свою пьесу про птичек-канареек. Завлит у них солидный, поседелый в литературных, а может, и в прочих боях, не то что в других театрах, где сидят симпатичные девочки – дамочки, энергичные и светские.
Завлит сказал:
– А почему вы не хотите написать для нас об армии?
– Почему это я не хочу? Я хочу… Ах, для вас? – сказал я. – Для вас, может быть, и не хочу.
Он понимающе кивнул: он одобрял мое нежелание посотрудничать с ними… Оно избавляет его от новых забот. А может, он действительно понимает, почему я не хочу написать для них драму о перековке ленивого парня в отличника боевой подготовки. А собственно, почему я не хочу о перековке? Может, потому, что на моих глазах никто ни во что в армии не перековался. Каждый остался самим собой и приспособился как мог для сохранения своего вредного своеобразия в неблагоприятных условиях армейской казармы.
…По вечерам, когда офицеры уходили из части домой, а в казарме гасили свет, мы с писарем строевой части Саней Свечинским через дыру в заборе уходили по Четвертой улице в домик по соседству – пить вино. Мы пропили лишние портянки, припрятанные Саней, мой гонорар за стихи в окружной газете, в общем гроши. Почти у всякого солдата нашей части, на прилегавшей к военному городку Четвертой улице Эчмиадзина было свое прибежище в одной из армянских лачуг с земляным полом. Самовольщик привыкал к хозяевам, которых он будил иногда среди ночи, а разбуженные хозяева привыкали к своему кормильцу-солдату. Это была не предусмотренная ПУРом школа интернационального воспитания трудящихся. Муж нашей с Саней привычной хозяйки был ночной сторож на здешнем винзаводе (откуда и таскал на продажу вино). Добрый сторож уходил с вечера охранять (и попутно расхищать) винопродукты, а хозяйка с детьми рано ложилась спать, так что нам с Саней приходилось иногда подолгу стучать в темное окно. Наконец хозяйка откликалась, я объяснялся с ней по-армянски через запертую дверь, и еще через эту дверь слышал, что нам рады. Накинув заношенное платье, она отворяла нам дверь, зажигала огонь и торжественно ставила на стол литровую банку вина, лаваш, лук, соль. Дождавшись, пока мы выпьем по первому стакану, она шла будить пятиклассницу Виолетту.
– Виолетта, вставай, Зяма пришел.
Виолетта протирала заспанные глазки, вытаскивала из портфеля учебник английского языка и усаживалась за наш стол. Меня удивляло, что она даже рада была уроку: разбудите своих детей среди ночи для занятий языком, то-то они вас отблагодарят. Но у них там и телевизора не было…
Я учил Виолетту произносить какое-нибудь слово по-английски, а она меня учила выговаривать его по-армянски. Хозяйка была счастлива и без конца спрашивала, надо ли еще луку и лавашу. Выпив банку-другую кислого вина, мы с Саней возвращались в часть, и звездное небо Армении качалось над нами. Это были минуты горького счастья. Жалобно пищала зурна где-то невдалеке, может, на чьей-то свадьбе. Иногда и толпа со свадьбы встречалась нам на ночной улице. Тогда нас поили бесплатно. Как правило, свадебное вино было еще хуже того, что крал честный сторож…
Так мы и шли, хмельные, молодые, весело-несчастные – мимо темных спящих домиков с плоскими крышами, мимо глинобитных дувалов. Пахло горелым кизяком, лавашом, пшатом, пылью. Это была Армения моей юности, Армянская ССР. Как написал кто-то из Мурома на письме, адресованном в часть – Армейская ССР…
Мы расхлябанно шли по знакомой Четвертой улице, мимо армейского склада ГСМ, того самого, где мне довелось стоять в карауле в самый первый раз после присяги. Сержанты долго наставляли нас тогда, чтоб мы были бдительными и, крикнув «Стой, кто идет?», стреляли в кого ни попадя. Чтоб не стреляли в воздух для острастки, как бывало, а стреляли прямо в живого человека, согласно новому приказу сурового московского министра. По всякому, кто не ответит на твой грозный окрик. В казарме восторженно рассказывали, что салага подстрелил коварного офицера-проверяющего, не ответившего на крик, и не только не был наказан, а еще и отпуск получил за это. Предупреждал также сержант, чтоб не отходил я ни на шаг от поста и не оправлялся на посту… Помнится, когда я принял пост впервые, сразу захотелось по-маленькому, по-большому, по-всякому… Вот тогда-то, чтоб отвлечься от навязчивых желаний, я и сочинил первые солдатские вирши под стук своих тяжелых кирзовых сапог:
Последний луч на гребне гор погас.
Я на часах стою последний час…
И так дальше – еще такого же, строк двадцать, а то и сорок. Потом вернулся в караулку, а там ни одного свободного лежака, пришлось кемарить за столом. Заодно написал письмо маме и сестрам. И стихи эти записал. Отправил бесплатный солдатский треугольник в Тбилиси, в окружную газету. Тамошний майор подправил их немного – вполне элегантно подправил:
Последний луч погас на гребне гор.
Я на посту, и бдителен мой взор!
Последняя строка была великодушно мне подарена грамотным майором из окружной газеты. Я получил восемь рублей гонорара, и мы с Саней честно пропили их ночью в доме заводского сторожа. И конечно, занимались английским с его доченькой Виолеттой:
– Bread… Хатц…
* * *12 февраля
Вчера мы с Конкордией ехали из кино, и женщина, сидевшая позади нас в троллейбусе, говорила о том, что у нее второй раз за три месяца испортились часы. «Нет, это просто невозможно! – восклицала она. – Просто невозможно!» В ее голосе было отчаянье, истинный накал страсти. А в испанском фильме, который мы смотрели с Конкордией, там было про ихнего судью, который никак не укладывался в оклад жалованья, купил себе телевизор не по средствам и в конце концов отравил всю семью газом. Под впечатлением всех этих трагедий Конкордия вспомнила о своих служебных трудностях и стала перечислять их с визгливым отчаяньем.
Отдаляясь мысленно от этого моря бед и отчаянья, я вспомнил первого в своей жизни графа, с которым я познакомился на автостопе в Словакии. Какой-то никуда не спешивший человек подобрал меня на шоссе в Нижнем Кубине и повез в Лештины, чтоб я поглядел тамошний деревянный костел. В костеле он все мне показал, даже скамью, на которой сидела семья здешнего графа Змешкала.
– Графа небось шлепнули, – сказал я. – Так что скамья свободна.
– Нет, – возразил любезный словак. – Теперь здесь сидит их потомок, граф Легоцкий.
Мы вернулись в Нижний Кубин. В деревне было темно и безлюдно, окна светились только в деревенской харчевне, где мужики играли в карты, да еще на холме, в каком-то длинном приземистом доме, похожем на конюшню.
– Там он и живет, граф Легоцкий, – сказал водитель.
– Никогда не бывал в гостях в графском доме, – сказал я. – Может, заедем?
– Я и сам тоже никогда не бывал у графа, – сказал мой водитель. – Но мы в одной общине. Как бы евангелические братья. Можно попробовать.
Мы поднялись на холм. Два окна светились в длинном приземистом доме, вероятно бывшей людской. Я остался у двери, а водитель пошел объясняться с графом. До меня доносились отдельные слова:
– Из Москвы… Русский… Москва…
Потом загрохотал густой и жизнерадостный голос графа. Водитель появился и сообщил, что граф примет меня немедленно. Мы пошли в большую комнату, от пола до потолка завешанную портретами усатых мужиков. Большую часть одной стены занимало изображение генеалогического древа Змешкалов, поселившихся на Ораве в самом начале XV века. Нынешний граф Легоцкий был обозначен на самой макушке древа, в таком же, как у всех других, аккуратном квадратике. Вне квадратика это был огромный мужик с висячими венгерскими усами. Потом мне были представлены сестра графа и его матушка. Обе поинтересовались моим возрастом, российскими ценами на сливочное масло и прочими деталями живой жизни. Я был зачарован простотой обхождения и неиссякаемым оптимизмом этого былого владельца всей Оравской долины. Теперь он работал учетчиком в одной из бригад колхоза и вместе с матерью, сестрой и генеалогическим древом ютился в двух комнатах бывшей людской. В конце концов я задал вопрос, который меня томил:
– Как вы так – без слуг? Как обойтись?
Граф сказал, что их как евангелистов с детства приучали в семье к домашней работе – убирать за собой и все прочее. Так что он воспринял неприятную перемену в жизни с простотой и естественностью. Позавидуешь этим графьям. Всегда устроются…
* * *13 февраля
…Помню, вернувшись в Ярославль из Рыбинска, где по извечной своей слабости обнимал на ветру сопровождавшую меня обкомовскую красавицу, я испытал нечто вроде раскаянья и написал что-то нехитрое и покаянное:
О Боже мой, о Господи, прости!
Я точно прах земной в Твоей горсти…
Мы плоть от плоти, мы к плечу плечо
Здесь о прощенье молим горячо.
Известно все Тебе в моей судьбе,
В моем бесстыдстве и моей мольбе…
О Господи, о Боже мой, прости,
Я точно прах земной в Твоей горсти…
Тем же летом мне посчастливилось снять недорогое жилье на Рижском взморье. Меня впустили на уютную терраску, увитую плющом, где я жил один как король. Однако я слишком подолгу купался в холодном здешнем море и у меня началась ангина. Хозяйка-латышка приносила мне в комнату чай, горячее молоко, угощала вареньем и медом. У нее были странные, отрешенные глаза. Днем она играла на рояле. Муж ее, в прошлом театральный художник, работал на стройке маляром и приезжал обедать на велосипеде в перемазанной куртке.
Прибирая на терраске, хозяйка с каким-то благоговением смотрела на мою пишущую машинку и разбросанные черновики. Однажды она попросила, чтоб я написал для их церкви молитву в стихах. Я объяснил ей, что не пишу по-латышски, да и вообще не знаю, как пишутся молитвы. Но, словно забывая о моих объяснениях, она снова и снова обращалась ко мне с той же просьбой. Получалось, будто я просто не соглашаюсь выполнить ее маленькую просьбу. В конце концов я вспомнил и записал ту самую коротенькую молитву, которую повторял в Ярославле. Она сказала, что это хорошо, хотя я не понял толком, что там было хорошего. То, что я грешник, или то, что я каюсь в этом. Может, и то и другое ей нравилось. Еще через день она вдруг пригласила меня в столовую и села за рояль. Она заиграла, а потом запела по-русски, нещадно коверкая русские слова:
О Боже мой, о Господи, прости…
Очень нежная была музыка, и мне, конечно, было приятно, что я к пению этому причастен.
– В субботу мы будем это петь в нашей Слокской общине, – сказала она.
В тот же вечер я сидел в маленьком кафе на углу нашей улицы и с отвращением глядел на засохшие пирожные и пивные лужи. Дородная блондинка-официантка принесла мне стакан чаю и вдруг погладила меня по нестриженому затылку.
– Отшень красиво, когда тшорний, – сказала она, дохнув на меня портвейном.
Запив таблетки, я ушел домой, а через час или два, уже около полуночи, после закрытия кафе, блондинка пришла ко мне на терраску. Она сильно поддала перед этим, потому что долго путалась в колготках, а когда наконец забралась в постель, стала выражать одобрение моим скромным усилиям такими криками, что взбудоражила всю улицу. Когда я попытался спасти остатки своей репутации и заткнуть ей рот, она, вырвавшись, стала кричать еще громче:
– Ти как звьер! – кричала она. – Хочешь меня душить…
На рассвете я собрал вещички и, оставив деньги на столе, стыдливо ушел на автостанцию. Мысль о том, чтобы взглянуть в добрые глаза моей хозяйки, казалась мне невыносимой. Я сел в автобус и поехал дальше по Латвии – в Кандаву, Сибелу, Кулдигу, Вентспилс, Лиепаю. Помнится, путь мой отмечен был новыми грехами и омыт новыми слезами раскаянья…
* * *17 февраля
Нынче я снова в сладостном мире – в горах. Благодетель расстарался – я получил командировку в Минводы от журнала, занятого культурным просвещением масс, и, отметив командировку в городе, назавтра с утра удрал в горы.
Солнце жарит сверкающие снега, речка холодно и весело журчит под ледовыми глыбами, размывая их края до тончайшего резного узора. И надо всем – сиятельное небо с его прозрачной, хрустальной, звонкой и упоительной синевой. На дощатом помосте среди поляны – то жара, то вдруг зябкая тень облака, то почти ощутимо льющийся ток прохладного воздуха с гор. Перестук горных лыж, всхлипы магнитофонной пленки где-то в корпусе гостиницы, обрывки разговоров. Что-то про Ташкент… Ташкент… Ташкент…
В Ташкенте, помнится, как и в других союзных мини-столицах, какие-то девушки звонили в гостиницу. Мы только ввалились в номер с фотографом – звонок. Обычный вопрос: «Рустам здесь живет?» Опытный фотограф отвечает, что Рустама здесь нет, но не могут ли его заменить два молодых москвича. Девица сообщает, что она сейчас на площади перед гостиницей, в автомате, так что ее можно увидеть из окна. Я вышел на площадь, и мы двинулись с ней куда-то от центра. Совсем молоденькая, восточного типа, хорошенькая. Не захотела идти ни в ресторан, ни к нам в гостиницу. Она не такая. У нее строгий папа, бухарский еврей, а сама она учится в институте коммунального хозяйства. Зачем же тогда звонила в номер гостиницы? Хотела, чтоб я рассказал ей про поэта Евтушенку. И еще – каких я видел актеров? Но главное – про Евтушенку, Вознесенского и Асадова. Может быть, еще о загранице, если я там был. Интуристовская гостиница «Ташкент» была подобна океанскому лайнеру, случайно восставшему на стоянку в захолустном порту. На борту – «люди интересной профессии», объездившие весь недоступный мир, – матадоры, репортеры, даже кинорежиссеры. Окно в большой мир. Где ж тут устоять девочке из семьи бухарца, читающей газеты. Я стал ей зачем-то объяснять, что вообще-то один хрен где жить – в Москве, Ташкенте или Бердичеве. Кино везде то же, в театрах смотреть нечего, и те же книги доходят до отдаленных уголков земли. Ни в чем не убедил…
Лежа на теплом деревянном помосте, я думал о том, что просветительские журналы могут отбить всякую тягу к просвещению. Зато вот дают командировки…
* * *19 февраля
Рейсовый автобус подбросил меня до Чегета. Мужчины волокли к отелю тяжелые горные лыжи. В отеле выяснилось, что поесть в это время можно только в шашлычной, которая на самом верху. Я купил билет, кресло подъехало мне под зад, и, едва я успел сесть, как меня уже оторвало от земли. А потом я вдруг остался один, в оглушительной тишине, над вершинами сосен и воспарил, полетел – как птица, иногда снижаясь до вершин сосен и нежных сосновых лап, иногда взмывая высоко над землей, – а если обернуться, внизу открывалось ущелье, поросшее лесом, среди которого, в белом ложе снегов, проламывалась среди скал горная река. Снижаясь, я видел рододендроны, и зеленоватые камни, и сетчатый рисунок голых березовых сучьев. Склоны гор по сторонам плавно и неторопливо уходили к небу, и мне думалось, что именно так, может, даже по этим вот самым склонам, отлетают души людей – тех, кто видел это раньше меня и так же, как я, был этим взволнован. А может, и души тех, кто не успел увидеть этого, кто прожил жизнь менее богатую удовольствиями, чем моя, впрочем, при этом возможно и более счастливую. Совершенство этих гор, и долины, и сосен, и снегов принесло мне и грусть, и радость одновременно. Я думал о близких, о милых, о меня покинувших, думал о них отрешенно, как о чем-то, почти не имеющем ко мне отношения. Мне казалось порой, что моя душа скользит в сонме других – сколько их там возносится вверх по склону…
А потом вдруг все кончилось, слишком быстро, я суетливо соскочил с сиденья, которое все же успело стукнуть меня по спине и помчалось дальше. А я вошел в шумный, прокуренный и проджазованный горный кабачок «Ай». Из его окон видна была двуглавая вершина Эльбруса, а за ним разворачивалась панорама гор поменьше. Подвыпившие туристы прыгали, имитируя шейк, на пленке душевно пели не наши бигбитовые мальчики, пахло шашлыком и курортной безмятежностью. Вот так и живи…
Я выпил полстакана вина и слегка забалдел, поймал легкий кайф. Потом вдруг взглянул на медлительный склон горы, проросший соснами. Может, они не возносятся сразу в небесную синь, души умерших, а всползают по склону, как я всползал сегодня. Сколько их уже! И сколько знакомых! Отчего-то вдруг вспомнился старый профессора биологии, что жил в Разбойном приказе – вход с Красной площади…
Издательство послало ему на рецензию мою книжку о путешествиях по Валдаю – вполне инфантильные мои любительские открытия, экологические догадки, очевидные для многих, но пока не вполне дозволенные в печати. Старик написал на мою рукопись вполне благожелательную рецензию и по телефону сказал, что хотел бы зачитать ее мне, прежде чем отослать в издательство. Назначил день и час, позвал к себе…
Он жил во дворе старинного кирпичного дома, что между Красной площадью и площадью Революции, во дворе Музея Ленина. Он объяснил, что старинный дом этот – бывший Разбойный приказ Михаила Романова. Окно его кабинета обнажало чуть не метровой толщины кирпичную кладку, а путь в его кабинет шел через огромную коммунальную кухню, за которой по сторонам длинного коридора шли многочисленные комнаты, в тесноте которых семьи нынешних разбойников пытали друг друга. Впрочем, по коридору нам пришлось идти недолго. Мы почти сразу нырнули в узкую и длинную профессорскую келью, заставленную книгами, и оказались на островке спокойствия. Профессор принес хорошо заваренный чай и мы стали беседовать. Речь у него была медленной, голос тихим, печальным и навевал на меня, такого еще непростительно молодого, бесконечное сострадание к этому, как мне казалось, до времени постаревшему человеку. В часы долгой нашей беседы в кабинет заходила раза два его энергичная молодая жена, миловидная, лет сорока дама, «с докторской диссертацией на подходе», как она выразилась, с какими-то «документами на выезд» и с чем-то еще, а может, и с кем-то еще на подхвате. Хотелось думать, что профессору это безразлично. Казалось, что ему уже многое безразлично. Мы славно поговорили сперва о малоизвестных пьесах Бернарда Шоу, которые он читал по-английски, потом о нашем режиме, у колыбели которого стояли какие-то его малоинтеллигентные еврейские родственники – партийные функционеры или замминистры (от них и уцелел обжитый ими начальственный Разбойный приказ). По мнению профессора, они были аскеты и жили довольно скромно. Я не спорил. Впрочем, и он говорил о них без особой симпатии – аскетизм, не более того. Сам он занимался биологией, защитился во время, и высокому начальству иногда требовалась его научная консультация. Прочитав мою паническую рукопись об истреблении лесов и рыб на Валдае, он сказал, что да, все правда, он видел это изблизи, все было так и в его времена. Он вспомнил, что в каком-то довоенном, межвоенном году в печати был брошен прогрессивный лозунг «каждому бойцу валенки», и тогда он, еще молодой ученый, был вызван на консультацию. Какой-то функционер-зоолог предложил шить валенки из моржовых шкур, и призыв его был услышан. В Арктике уже загремели первые выстрелы по моржам. Профессор предупредил, что моржовая шкура толста для пошива сапог и валенок, но, поскольку власть всегда искала новаторских и революционных предложений, которые разом решили бы все проблемы, нарком предложил нарезать шкуры слоями. Выстрелы еще гремели в Арктике некоторое время, потом отстрел моржей стал менее целеустремленным. Изрезанные шкуры свезли на свалку. Профессор рассказал мне это, прочитав в моей рукописи историю о пробивном профессоре Бурмакине, который предложил отравить военным ядом полихорпиненом все пресные водоемы страны, чтоб потом, когда передохнет вся дореволюционная рыба, запускать в эти водоемы нашу, новую, более жирную. Профессор Бурмакин сделал карьеру и ушел на повышение, шагая по рыбьим костям и чешуе, газеты начисто забыли про шумную эту кампанию, отравленные озера страшно стыли в валдайской тиши, а яды в бочках с черепом и костями бесхозно валялись на всех заброшенных рыбозаводах. Об этом я и написал с ужасом неофита в своей книге, которая так и не вышла.
– Ну да, – сказал мне профессор. – Так всегда было. И есть. И будет…
В лице его было отчаянье, на губах усмешка безнадежности…
Я не согласен был молчать. Я был «шестидесятник», я хотел взволновать соотечественников, но он-то все это считал безнадежным. Но все же ему было забавно видеть, как я горячусь. Вдобавок ему было одиноко.
Я иногда заезжал к нему, но редко, очень редко, и звонил тоже редко – то бегал за девками, то колесил по стране. Иногда, делая пересадку на станции метро Площадь Революции, я думал, что надо будет к нему заехать, зайти или хоть позвонить…
Я сказал как-то нашему общему знакомому профессору Г.Б.Федорову, что собрался навестить старого биолога.
– Да он умер, – сказал Г.Б., – он умер еще в марте. Почему тебя не позвали на похороны? А где тебя было искать, Зяма? Ты редко в Москве. Да я и не знал, что ты такой любитель похорон.
Говорят, и Г.Б. умер где-то далеко, в Англии. И никто меня не позвал на похороны.
* * *22 февраля
Мне разрешили пожить еще дня три-четыре на горнолыжной базе. Помог старший инструктор, загорелый красавец, гроза здешних горнолыжниц. Он охотно рассказывал мне на досуге, как с ними управляться, с лыжницами. Впрочем, это не требует от него особых усилий, была бы охота. Приезжие горожанки хотят познать экзотических победителей гор. Такими представляются им не только красавец инструктор, но и балкарские пацаны на канатке. В большинстве своем поклонницы моего лыжного друга – студентки лет девятнадцати. Здесь им легче бывает расстаться с уже начинающей их тяготить девственностью.
* * *23 февраля
Радио не дает забыть, что сегодня День Советской армии.
Какие-то ветераны вспоминают о боевом пути. А мне вспоминается горестный путь «к месту службы» – восемь суток в телячьих вагонах, с трудом затихающее отчаянье, водка, пьяное пение, страх перед будущим. На стоянках сержанты приносили нам в ведрах странное варево, которое мы еще не способны были принимать всерьез за еду. На стоянках в Азербайджане нас просили отдать, продать или обменять на что-нибудь свою одежду. С приходом южного тепла ребята стали менять свои шмотки на сухое вино. Кто-то обменял штаны на баранью папаху и потом в Эчмиадзине шел в строю от станции в кальсонах и этой папахе. Нас увозили на три года. Казалось, что до конца жизни. Для иных так и случилось…
Нас долго везли по иранской границе, мимо горных селений, безмятежных баранов и безмятежных пастухов. Привезли на армянскую станцию Джерарат, а оттуда, на машинах в военный городок на окраине Эчмиадзина. Там и загнали за высокую стену с колючей проволкой – на два, на три года. Помню, как, выйдя из бани снова обритыми, в х/б защитного цвета, мы не узнали друг друга. Местный фотограф сделал тогда наши фотографии, которые мы безжалостно послали домой: гимнастерки, сбитые под ремнем набок, худые шеи, торчащие из ошейника-воротника, кирзовые сапоги-говнодавы. То-то было дома что обливать слезами.
Помню первый суточный наряд на кухню, когда чуть живой вяло ползал среди объедков под столами. Тогда, помню, старшина-сверхсрочник, разглядев в салаге городскую слабину, потешил себя всеми издевательствами, от века входившими в армейски-пенитенциарную систему. Все помню. Радио не отбило памяти…
Ого, соседи пришли звать на выпивку в честь великого праздника. Куда б их послать?..
* * *27 февраля
Снова полдня пролежал на дощатом помосте перед горной гостиницей. Пригрело солнце, тянуло шашлыком, горьковатым дымом, из памяти не шел милый моему сердцу Таджикистан. На дороге от Гарма к Джиргаталю был такой же вот деревянный помост с чайханой, где-то близ Хаита. Неторопливо беседовали мы за чаем с подобравшим меня шофером, здоровым красивым таджиком лет тридцати. Заметив, что я накарябал что-то в блокноте, он вдруг произнес, почти правильно, немецкую фразу из учебника. Потом не торопясь рассказал, что учился он в Душанбе в институте, а потом решил бросить, потому что пришло время его старшему сыну делать обрезание, Это значило деньги нужны на праздничный той, в общем, деньги надо было зарабатывать…
Мы глядели на странную, точно обрубленную вершину горы и молчали. Я принес еще чайник чаю, налил ему и себе в пиалушки.
– А только он умер, мой старший сын, – сказал шофер. – На электрический провод наступил. Играли мальчишки на улице, а там провод упал. Под током… Меня не было. Я как раз в рейсе был. Новабад знаешь? Вот там, в Новабаде. Лежал на квартире у одной бабы, пьяный. Там меня друзья разыскали, на такси за мной приехали… Я сразу протрезвел…
Он долго молчал, глядя на странную обрубленную гору. Потом спросил:
– Там вот, внизу, знаешь что было? Там внизу кишлак был. Назывался Хаит. Райцентр, большой кишлак. В сорок восьмом вершина от горы оторвалась, немножко пролетела и точно на этот кишлак упала. Все жители погибли, все до одного.
– Землетрясение было?
– Нет, ничего не было. Говорят, грешили много.
Мы оба молча смотрели на обрубленную вершину горы.
* * *28 февраля
Нас долго держали в аэропорту в Минводах. Вылет был отложен. За столиком стоячего буфета разговорился с миловидной, не старой еще женщиной, которая сказала, что летит в Мурманск. Завтра придет его теплоход из рейса, и она хочет сама видеть, кто там его будет встречать у причала. Добрые люди ей написали, но она хочет сама убедиться… Семья моряка.
Мне вспомнилось, как на Севере, во время плаванья, пришел ко мне в каюту стармех Толя Хлистунов и попросил, чтоб я перевел ему на английский контрольную для мореходки. Им задали сочинение на тему «Семья моряка». Требовались простые фразы: «У меня есть жена. У меня один сын…» Но Толя такого накрутил, что я с трудом перевел. В частности, что перед возвращеньем из рейса надо непременно дать телеграмму жене, чтобы она успела вымести чужие окурки…
А еще год спустя мы долго стояли в Измаиле, и молодой капитан повел меня в гости – в дом своего прежнего старпома, который был где-то в загранплавании. Жена старпома встретила нас очень дружелюбно. Там было несколько сильно пьяных женщин, и веселье у них было в разгаре. В этой квартире, истерзанной пьяными оргиями, везде были пустые бутылки, немытые стаканы, блюдца с остатками салата и другие унылые следы разгула. Я вдруг подумал, что, может, в каждой квартире этого измаильского дома царит такой же разор.
У столика аэродромного буфета я подумал о том, что и сам я тоже все время в плаванье. Потом пошел на телеграф и дал Коке телеграмму о своем возвращении. В голове, конечно, вертелась фраза из Толиного сочинения: чтоб успела вымести окурки.
* * *1 марта
Сладостный подмосковный март, ласковое солнце, уже начинающий подтаивать снег таят в себе и горечь увядания, и непонятную угрозу – мартовские иды Цезаря. Я родился в марте и особенно остро именно в марте чувствую угрозу возраста. Вот и сегодня – покривился, глядя на приобретенную женой мерзкую картинку «Функции и графики». Конкордия сказала мне снисходительно:
– Да будь ты современным человеком.
Я согласился, что это печальный знак возраста – не воспринимать современное. Надо внимательнее следить за быстроменяющимися признаками современности, их любить, понимать, принимать. Это и значит быть современным человеком…
Вспомнился учитель Додорджон из каратегинского кишлака Джура, который позвал меня в гости и всю дорогу до дому со вкусом повторял эти слова:
– Я современный человек. У меня современный дом.
Он привел меня, как водится, в гостевую комнату, мехмонхону, минуя семейную и женскую половину дома.
– Вот! – торжествующе сказал Додорджон, когда мы вошли в комнатку с земляным полом, завешанную коврами. – Вот! – Он с силой ударил по сиденью стула. Самого обыкновенного стула. Потертого, с грубо прибитой инвентарной биркой (из школы, наверно), но все-таки стула: больше ни в одном кишлачном доме стульев не было. – Это еще не все! – сказал Додоржон. Он открыл тумбочку и вытащил оттуда бутылку водки. – Я человек современный! – сказал он, и я оценил его жест: в каратегинских кишлаках не пьют вина.
От водки я отказался, и Додоржон с облегчением спрятал бутылку обратно в тумбочку. Нам принесли чай, и Додоржон повторял, что он человек очень современный. Его несло. Он сообщил, что он даже калым не платил за свою жену. Тут он дал маху. Я жил в семейном квартале и давно знал, кто сколько заплатил за жену… К тому же чай нам принес мальчик, а жена Додорджона так и не вышла на люди. Ну и хорошо, что не вышла. Так что я с облегчением подумал, что не такой уж он современный человек, учитель Додорджон.
Оно и лучше. Я сам не дотягиваю до современности.
* * *3 марта
Проезжал сегодня Новодевичий на троллейбусе и вдруг вспомнил…
Мы познакомились с Таней на Селигере, и по приезде в Москву она пригласила меня в гости. Ее родители были в отъезде, а мои нет. Они жили на территории Новодевичьего монастыря, и монастырский корпус то ли раньше был поделен на кельи, то ли разгорожен уже в новые времена, в соответствии со скудной, отнюдь не монашеской, а московской нормой площади. В каждой келье теперь жила целая семья. Впрочем, в ту ночь мы были одни. Иногда, просыпаясь, я видел серый свет за монастырскими окнами. Окна были узкие, а стены – толщиной чуть не в полметра. За окном были могилы – Владимир Соловьев, Поликсена…
Таня рассказывала шепотом, что в конце войны, еще первоклассницей, она стала ходить во вновь открытую церковь. Родители об этом не знали. Это была страшная тайна. В войну, во время воздушной тревоги жители этих корпусов прятались в чьем-то фамильном склепе. Они приносили с собой в склеп самые ценные пожитки и документы. А в одном из корпусов жили цыгане, и цыганка приводила с собой в склеп козу. Конечно, все ругали эту цыганку на чем свет стоит. Но это как раз и было ее самое ценное имущество. Она всем рассказывала, что коза у нее такая добрая и что она не может оставить козу под бомбами. Она плохо говорила по-русски, и все смеялись.
Наша нескромная ночь в монастырской келье настроила мою девочку на матримониальный лад. Она восприняла меня всерьез. А сам я себя всерьез не принимал. Не знаю, жалеть ли об этом.
Недавно, на дне рожденья у друга я услышал за столом слова про какую-то даму по имени Элеонора: «Да с этой Элеонорой только ленивый не спал!» Поежившись, я задумался о том, как много в родном моем городе неленивых. Хоть и не кровная, а все родня. Да и они меня привечают как родственника.
* * *8 марта
Радио, телевиденье, торговая сеть и неутолимая потребность в выпивке сделали этот междунаженский весенний день одним из величайших праздников освобожденного народа.
Я сегодня истратил большую часть своей наличности на подарки и теперь сижу за машинкой, пытаясь об этом массовом празднике забыть. Но телефон беспрерывно звонит, и я слышу, как жена отвечает на поздравления. По ее голосу я без труда определяю, кто звонит – мужчина или женщина. Когда мужчина, голос ее невольно начинает звучать по-другому: некое, вполне непроизвольное изменение тембра, вибрации. Какой могучий, извечный природный механизм! Что могут поделать против него украшения, ничтожные коррективы и ухищрения цивилизации? Ничего. Разве что утончить чувственность, придать ей иные формы. Может, какую-то роль смогли бы сыграть понятия мещанского долга или правила религии, однако вряд ли кто принимает их всерьез.
А чего, собственно, я опасаюсь? За что цепляюсь? За свою слепоту? (Господи, если б она могла со стороны услышать, как вибрирует ее голос в телефонном разговоре с этим засранцем!)
Часть пятая Точнее сказать, отдельная часть, написанная Редактором этого текста, но посвященная все тому же Зиновию Кр.В предисловии Редактора, предваряющем рукопись, уже сказано было, что побудило его дополнить эту книгу связным рассказом об одном (наверно, наиболее блистательном) периоде жизни Зиновия Кр-ского. В дополнение к уже указанным ранее причинам подобного вторжения в чужую книгу Редактор считает своим долгом напомнить, что он был близким и почти что непосредственным участником всех событий этого яркого периода в жизни своего друга-приятеля, то есть не только очевидцем, но и деятелем, и сопереживателем этого жизненного успеха скромного Зиновия, который (имеется в виду успех) на фоне всех неудач и тягот, этим человеком испытанных, горит подобно радуге в облачном небе или ярко освещенному подъезду агитпункта в вечернем мраке какого-нибудь провинциального городка. Итак, история эта началась на шумном перепутье всех московских путей-дорог, на украшении нашей столицы – улице буревестника Горького, и началась она так…
Собственно, началось с того, что мы с Зиновием совершенно случайно встретились у подъезда Центрального телеграфа и, обрадовавшись этой случайной встрече, стали разговаривать о своих делах и о различных событиях культурной и литературной жизни. Попутно, по ходу разговора, мы отмечали рассеянным взглядом проходящих по улице Горького прекрасных девушек, а также иностранных хиппи, дошедших до крайней степени своей экстравагантности и волосатости (только высокий еще курс иновалюты и удерживал городскую милицию от того, чтобы поставить на место этих людей, нарушающих опрятный и миловидный вид нашего дисциплинированного города), пожилых зарубежных туристок, лишенных скромности, к чему их давно могли бы обязывать возраст, состояние здоровья и пребывание в стране социализма, об успехах которой они не могли не слышать, и многих других лиц, как прибывающих в столицу из отделенных и экзотических мест, так и проживающих здесь постоянно.
Я время от времени приветствовал своих знакомых (прожив большую часть последних лет в Москве, я имею их множество, как по работе, так и в быту), как правило, различных работников ведомств, писателей, художников, артистов и простых людей, перед которыми я никогда не кичился своим положением. Они, в свою очередь, тепло приветствовали меня и, видя, что я занят и погружен в разговор, проходили дальше. Впрочем, от представителей богемного мира столицы, которые попадались среди упомянутых мною лиц, порой можно было ожидать и меньшей воспитанности. Так оно и случилось. Режиссер Семен Глопшиц, довольно способный молодой человек вызывающе семитической внешности (должен признать, что такая внешность не обязательно должна быть вызывающей и даже может иногда быть вполне приемлемой, как, скажем, у актрисы Быстрицкой, режиссеров Мотыля и Сегеля, или быть просто скромной, как у милого моего друга Зиновия), не удовольствовавшись кивком и улыбкой, подошел пожать нам руки, и я представил его Зиновию, на что Глопшиц, совершенно не интересуясь, какова была тема нашего предыдущего разговора, сказал моему другу следующее:
– А почему бы вам не взять и не написать для меня пьесу на современную, какую ни то животрепещущую тему? Мало еще, ой, мало пишут у нас аналогичных пьес!
Странно, что такое, в сущности, довольно общеизвестное и тривиальное – ведь это можно на любом совещании услышать, а сколько еще подобных режиссеров и даже гораздо более крупных лиц этим, одним этим знанием держатся, и еще как держатся, – странно, что такое замечание дало толчок для творческой мысли Зиновия. Он записал телефон Глопшица и, проведя летние месяцы в деревне, где насочинял множество своих слабоприемлемых и, как это обычно у него бывало, лежащих в стороне от главных задач, произведений, сумел все же при этом сочинить пьесу, к моему и даже к его собственному изумлению, вполне приемлемую для театра и, хотя, конечно, далеко не лежащую на линии главного удара искусства, но все же вполне современную и злободневную, которую с полным правом можно отнести к тематике нарушения социалистической морали. Глопшиц прочел эту пьесу и загорелся: он сказал, что вот оно и есть то, что нужно, так что от Зиновия больше ничего не требовалось, только ходить и выслушивать от главного режиссера, директора театра и прочих вершителей одни комплименты и мило улыбаться, как положено скромному автору. Я, таким образом, снова (в который уж раз) выступил благодетелем своего безалаберного друга. Впрочем, как говорит один переводчик (острый паренек и тоже, между прочим, лицо не коренной национальности – у меня их, честно сказать, столько за последнее время скопилось в друзьях, что начальник главка называет мой кабинет не иначе как Малый Телевив), ни одно доброе дело не проходит безнаказанным, так что я много еще хватил горя от этого Зиновьева успеха – и в плане морально-бытовой помощи, и в плане идейном, и просто по части хлопот.
Однако, излагая все по порядку, пока еще ничего особого не случилось, шел, как говорится, медовый месяц, и Глопшиц моего Зиновия охаживал, как невесту. Он его водил на премьеры и просто выводил погулять на улицу Горького, где умел сильно повеселить моего отчасти застенчивого друга, так как Глопшиц обладал большой развязностью и способностью к розыгрышам. Ну, например: «Девушка, это не вы потеряли радикуль?» или «Не скопляйтесь, товарищи! Проходите! Кто упал?» и так далее. На театре этот режиссерский эффект сходит за юмор, и Зиновий был без ума от остроумия и интеллигентности Глопшица, хотя не желал подвергнуть эту его интеллигентность суровой проверке на знания.
Позднее начались, но пока еще довольно слабые, подготовительные терзания. Глопшиц стал просить о кое-каких переделках. Он настоятельно предлагал Зиновию «завязать» диалог и действие, а еще настоятельнее предлагал «положить диалог на бытовое действие», «предложить обстоятельства» или «жизнь духа в обстоятельствах». Зиновий неимоверно страдал, так как был убежден, что сам его диалог и какие-то его идеи имеют самостоятельную ценность, как бы и вне бытового действия. Пришлось мне как человеку более опытному на стезе театра помочь Зиновию, выступив в качестве третейского судьи. Это я предложил, чтобы разговор о любви происходил во время мытья пола, когда героиня надвигается на зрителя задом и, обернувшись, показывает залу свое истинное лицо (последний момент у нее, кстати сказать, получался хуже, чем движение задом).
То же предубеждение Зиновия в отношении излишнего значения диалога и произносимых актерами слов мешало ему правильно понять замечание Глопшица о необходимости доводить каждую сцену до тысячеградусного накала температуры, в результате которого следует взрыв. Зиновий думал, что если, к примеру, его герой дает какую-нибудь уничижительную или саркастическую характеристику нежно любимому существу, то это и есть взрыв. Мы с Глопшицем сумели убедить Зиновия, что театр – это в конце концов зрелище и недаром он подчиняется управлению зрелищных предприятий, а не Союзу писателей, так что простая пощечина или ружье, которое и висит, и громко стреляет, куда действеннее всяких там словечек вроде «гомо фабер», «ницшеанец» или даже «агент». В то же время я при малейшей возможности, используя весь свой авторитет, удерживал Глопшица от проявления его мнимой индивидуальности, ибо уже давно заметил, что, как только режиссер вырвет постановку, он только этим проявлением и занимается, хотя раньше, когда выклянчивал у нас эту постановку, обещал и плану помочь, и репертуар выровнять, и отразить, и выявить, и понять идею. Глопшицу когда-то удалось поставить в самодеятельном коллективе довольно милую вещицу, где он почти весь диалог заменил пантомимой (диалог, говорят, там был вообще бросовый); герои в этом спектакле все время перебрасывались какими-то невидимыми предметами, и Глопшиц даже сумел прославиться в Москве этой вещицей, так что естественным было его желание во всех последующих пьесах заставлять героев перебрасываться невидимыми предметами и заменять диалог пантомимой – чего я ему, совместно с худсоветом, совершенно не позволил. Правда, он, как всякий режиссер, одержимый своей индивидуальностью, пытался эту идею протащить другими способами – так, чтобы, например, диалог остался, но был почти не слышен за действием. К примеру, во второй сцене первого акта герои во время идейного спора вдруг начинали у него возиться на ковре, короче говоря, заниматься не идейной, а французской борьбой, от чего реплики вырывались у них сквозь пыхтение, совершенно искаженные, и расслышать было ничего нельзя.
Все это, впрочем, происходило уже в пору приемочных тягот и переделок, а пока шли репетиции, у Глопшица с Зиновием отношения оставались довольно мирными, хотя уже тогда в Глопшице наметилась некоторая уклончивость. Он по-прежнему готов был посидеть с Зиновием в ресторане Дома актера или Дома журналиста, но ни за что не хотел, чтобы Зиновий присутствовал на репетициях, и, чтобы избежать этого, обращался ко всяким уловкам. Я-то хорошо знаю эту черту режиссеров и даже могу по-человечески объяснить существующую здесь причинно-следственную связь. Однако бедному Зиновию это казалось и странным и обидным. Надо сказать, что во время сидения в Доме актера и Доме журналиста Глопшиц проявлял себя как настоящий знаток современной ресторанной кухни и буфета, а Зиновий, непривычный к долгому приему пищи, начинал нервничать. Было при этом со стороны Зиновия несколько попыток обсудить с Глопшицем содержание его пьесы, но эти попытки ни к чему не привели. Глопшиц сказал Зиновию, что он ничего разъяснять не должен, потому что все, что он мог, Зиновий уже объяснил в своей пьесе. Зиновий очень беспокоился, что Глопшиц совсем не понял то, что он, Зиновий, хотел в этой пьесе сказать. С другой стороны, Глопшиц часто говорил Зиновию, что пьеса еще сырая, по существу, она еще даже не написана и что надо еще все написать, прописать, завязать, а так пока – одни разговоры.
Конечно, Зиновий, не будучи человеком театра, никак не мог понять, чего от него хочет Глопшиц. Глопшиц же, не являясь деятелем литературы, не мог объяснить Зиновию понятным русским языком, чего же ему нужно. Потому что если бы Глопшиц умел что-нибудь еще, кроме как вертеть большим носом, матерно ругаться с актерами и энергично размахивать руками, то он был бы уже не Глопшиц, а Станиславский или даже член Союза писателей. Но тогда он вовсе не привлекал бы моего друга к своей работе, а сел и все написал сам. Нечего и говорить, что я старался как мог объяснить моему бедному другу, чего требует театр и чего театр совершенно не выносит. Но Зиновий слишком сосредоточен был на своих диалогах и своих идеях, не понимая, что театр – искусство грубое, что в нем нужно обозначить действие и бац-бац, крутые виражи, повороты, взрывы: каждое действие, более того, каждая картина должна иметь свой взрыв, иначе – тоска и публика бежит вон. Что касается идейных требований, то здесь приходилось работать с Зиновием особо, потому что театр – массовое искусство, и то, что легко можно себе напозволять в трехсотстраничном романе, не может быть вынесено на сцену в переполненном зале, собранном для целей воспитания нового человека. Я объяснял Зиновию, что нам нужен новый театр, достойный тех небывалых, огромных свершений в области науки и техники, освоения космоса и жилищного строительства, которые с таким торжеством демонстрируют наши люди, каждый на своем посту. По этой части нам удалось с ним многое сделать еще до передачи пьесы в главк на утверждение, но вот художественная работа с Глопшицем оказалась для Зиновия испытанием более тяжким.
Во-первых, Зиновий никак не мог попасть на репетиции. Глопшиц не хотел его на них допускать, потому что законно опасался, что неопытный Зиновий, увидев свою пьесу в действии, упадет в обморок, а очнувшись, поднимет шум, как это свойственно всем неопытным авторам. Поэтому Глопшиц скрывал точное время репетиций и вообще всячески уклонялся от подобного посещения. Я полагаю, что это делается частично и оттого, что в процессе репетиций многие литературные пассажи звучат довольно глупо в устах актеров. Даже если это бывает по вине актерской глупости (которую отмечали еще и древние знатоки истории искусства), то все равно случается, что актер или режиссер облегчают душу, восклицая в ходе репетиций с очень искренней эмоцией: «Какой же чудак на букву "м" это все написал?» или даже еще более конкретно: «Ну и понаписал же хреновины наш автор Зиновий, как там его по батюшке, так его перетак». Зная, каким трепетным человеком был Зиновий Кр., и вообще опасаясь за моральное состояние его души, Глопшиц оберегал моего друга от подобных грубых впечатлений. К тому же присутствие автора сковывало бы актеров, мешая им в эмоциональных разрядках с учетом предстоящего банкета, который, как известно, дает автор после премьеры исключительно на свой счет. А лишенные разрядки, актеры обращали бы свое раздражение против режиссера, администрации, политических установлений и всего прочего подобного, создавая атмосферу котла, готового взорваться. О, я отлично знаю все пружины театра и, будь у меня побольше времени, мог бы написать не одну книгу, посвященную теории и практике этого древнего искусства, а также его неповторимым чертам нового. Впрочем, случай, выпавший мне благодаря нынешнему никак не предусмотренному отпуску плюс чувство долга перед ушедшим куда-то другом, предоставляется, как легко понять, крайне редко… Да если бы даже просто собрать все мои ежемесячные отчеты и мои докладные руководству главка, содержащие в себе немало театральной, и даже шире того, критики, получился бы подписной многотомник не хуже Бальзака или так мало знакомого до сих пор на Западе Теодора Драйзера, честный был коммунист.
Итак, вернемся к нашему барану, как любили говорить образованные французы. Хотя Зиновий никак не мог попасть на репетиции, их отзвуки долетали отчасти до театрального коридора, где он стал теперь почетным завсегдатаем. При этом чаще всего ему приходилось слышать сказанную ненароком или со зла отдельную фразу о том, что пьеса, мол, его дрянненькая. Поговаривали даже, что администрация нарочно дала Глопшицу ее поставить, чтобы на этом деле окончательно скомпрометировать его как художника и режиссерскую единицу… Это последнее высказывание приводило Зиновия в особенно тягостное смущение, потому что у него усугублялось сознание вины и ему становилось жалко Глопшица за то, что он так пострадает именно из-за его, Зиновьевой, пьесы и теперь останется без работы. Вообще, по мере знакомства с работой театра Зиновий все больше проникался абстрактным гуманизмом и неуместным, хотя, может, отчасти и оправданным, но совершенно бесплодным сочувствием к работникам театрального искусства. Он даже приходил ко мне однажды советоваться по этому вопросу, но так как никаких конкретных предложений у него не было, то я, как всегда, посоветовал ему просто потверже стоять двумя ногами на почве реальной действительности. Дело в том, что Зиновию, как и многим людям, незнакомым с миром театра, показалось, будто работники театра низко оплачиваются и находятся в постоянном борении за «выработку», то есть свою занятость в спектаклях, другими словами, постоянно борются, так сказать, за свое место в лучах юпитера, тогда как всем прочим людям, наряду с более высокой оплатой их труда, гарантировано полное спокойствие за свое место, как бы плохо они ни справлялись со своею работой. Все это, надо сказать, чистая правда, так же как и несколько изнурительные условия труда, однако человек, который идет в искусство, должен все-таки вполне сознательно принести себя ему в жертву и иметь постоянное возбуждение по поводу своей исключительной судьбы, потому что вряд ли какое-либо материальное урегулирование (даже если бы нам и удалось пробить какие-то повышения через главк) поможет работникам сцены в трудном деле создания истинно художественных образов.
Упомянутое здесь сочувствие моего друга Зиновия к лицам актерской профессии привело позднее ко многим неприятностям, в том числе и любовного (или, как иногда любят выражаться, сексуально-эротического) порядка, а также сильно подорвало его отношения с Глопшицем. Дело в том, что, подготавливая Зиновия к первой для него репетиции, Глопшиц довольно умело играл на его скептических настроениях, с юмором объясняя, какие безграмотные дураки у него на театре актеры и как трудно им будет сыграть образы интеллигентных людей, потому что сами они книгу сроду не брали в руки. Я могу частично подтвердить справедливость этого наблюдения при наличии той большой нагрузки и трудных условий для актера, которые имеют место наряду с элементами пьянства и слишком частого злоупотребления нетоварищеским отношением к женщине, которое еще не изжито за кулисами. Глопшиц заранее хотел, чтобы все несоответствия, которые возникнут между ним и Зиновием, он смог списать на актеров, однако то, что увидел Зиновий, будучи допущен на первую репетицию, было для него слишком большим потрясением, чтобы он продолжал слушать объяснение Глопшица. От этой бури огорчения даже бывалый режиссер Глопшиц растерялся и стал визжать высоким, почти не мужским голосом:
– Да что я у вас изменил? Где я изменил? Вот он, ваш текст, слово в слово! Надо тексты писать хорошие! Драматургию надо изучать! Фриша с Дюрренматтом в конце-то концов…
– Все не то, все не то, – безутешно повторял Зиновий. – Слова те, но они же совершенно лишены смысла… Ну вот здесь – тут же фраза уничижительная, полная сарказма, намеков и насмешки. Отчего же он у вас орет как ошпаренный?
– Ну это уж позвольте нам лучше знать, орать или нет! – желчно полемизировал Глопшиц. – Здесь нужен взрыв. Нужно действие. Таков мелодический рисунок. И потом, я же вам говорил, – здесь Глопшиц переходил не шепот, – они у нас книг не читают. Они даже Ремарку не читали, Эрих Марию. А уж Шницлера какого-нибудь, так и вовсе. – Тут Глопшиц ударял в ладоши, и они снова начинали репетировать. При этом он все еще стоял возле Зиновия, огорченно приговаривая: – Знал, всегда знал, что авторов нельзя подпускать к репетиции…
Дальнейшие репетиции привели к самым плачевным осложнениям. Актриса Зиночка Пригородова (далеко не лучший, но и не худший творческий кадр из контингента Глопшица) должна была сказать по тексту своей роли, что она никогда не страдала комплексом неполноценности и даже, к стыду своему, испытывала нечто вроде неистребимого комплекса полноценности. Давать такие слова Зиночке было все равно что заставить ее вслух читать Канта или Антидюринга. Ну еще про комплекс этот она смогла произнести с должным омерзением, представив себе, наверное, при этом какую-нибудь дурную болезнь, но дальше уж пошла у нее совершенная белиберда, такая, что Зиновий схватился за голову, а Глопшиц стал кричать на Зиночку дурным голосом, в результате чего Зиночка стала рыдать, но так мило, так горько и беззащитно, что нужно было родиться полнейшим варваром, чтобы в этот момент не проникнуться к ней сочувствием. И конечно, добрая душа моего друга Зиновия не выдержала этого зрелища человеческого горя.
– Чтоб из-за какой-то фразы… – повторял он. – Из-за какой-то драмы… Из-за какого бы то ни было театра… Из-за меня…
Он готов был выкинуть фразу, даже целый акт и тут же вслух высказал это довольно-таки самоотверженное предложение, но бедная Зиночка зарыдала пуще прежнего, потому что она вовсе не хотела, чтобы из ее роли что-либо выкидывали, а, наоборот, хотела, чтобы в нее добавляли как можно больше. Если бы Зиновий спросил меня, то я бы его предостерег и объяснил, что всякий актер просит от автора таких прибавлений и даже целой роли. Но Зиновий ничего этого не знал, и он был очень растроган, когда слышал, как Зиночка Пригородова говорит, горько всхлипывая:
– Я все сделаю, в сто раз больше, только объясните мне…
Глопшиц рассердился и стал объяснять ей сверхзадачу, которая заключается в том, что главное в наше время – это по-настоящему любить женщину, потому что и теперь еще, без пяти минут к коммунизму, некоторые этого до конца не понимают. Он сказал, что это и есть главный смысл пьесы. Услышав такие слова, Зиновий окончательно упал духом, хотя мог бы знать эту странную идею Глопшица заранее, так как режиссер уже высказывал ее в интервью «Вечерней Москве». Зиновий стал что-то растерянно бормотать насчет некоммуникабельной реинкарнации поколений и еще что-то в этом роде, я не успел все это записать, так что у меня сохранились лишь какие-то невразумительные заметки с худсовета, к тому же вставленные среди прочих записей и рисунков ( уверен, что, если опубликовать эти мои записи и даже иные отражающие художественную жизнь страны в пятидесятые – семидесятые годы рисунки и фотографии, наука получила бы ценный критико-библиографический материал эпохи). В конце концов Зиновий вызвался помочь Зиночке в понимании того, о чем там идет речь, однако Глопшиц всякими правдами и даже неправдами (хитроумным придумыванием предлогов) пресекал такого рода контакты авторов в обход режиссера. Он сказал, что все объяснит сам, после чего мы с Зиновием покинули зал. Я на многих примерах пытался утешить моего друга, объясняя ему, что автор никогда не бывает доволен, да и не может быть, потому что он – один человек, а режиссер – другой. И теперь должно начаться творчество режиссера. Хорошо, хоть мы не дали ему придумывать новый текст и таким образом старый текст пьесы сможет отчасти уцелеть. На всякий случай я дал понять Зиновию, что это еще черновые варианты постановки, так что все это еще может вылететь, когда спектакль будут серьезно чистить на худсоветах, так что по-глопшицеву тоже не выйдет и он еще придет к нам в главк на поклон, когда его спектакль решат закрыть или коренным образом переделать.
Понятно, что неизбежное столкновение Зиновия с Глопшицем не могло быть исчерпано одной репетицией, оно имело свое бесконечное продолжение, которое меня не могло не тревожить. В первую очередь озаботил меня тот факт, что история с Зиночкой Пригородовой получила свое продолжение, которое может оказаться не менее интересным для читающего мои воспоминания, чем освещение самых насущных творческих вопросов (за столько-то лет работы в искусстве я, слава Богу, смог изучить вкусы зрителя и читателя в равной мере). Дело в том, что Зиночка где-то узнала домашний телефон Зиновия и первая позвонила ему. Она сказала, что только он сможет помочь ей разобраться в роли и это теперь вопрос жизни и смерти. Зиновий, конечно, помчался на встречу с самыми лучшими намерениями и целый вечер – на скамейке сквера и затем в каком-то кафе – пытался вводить ее, как выражается газета «Известия», в «мир интеллигентного человека». Он объяснял Зиночке, что она не просто актриса, а человек, то есть мыслящий тростник (она и правда была в то время совсем тоненькая), что она мыслит – значит, существует (есть переводы этой мысли на латинский и на французский язык, и с ними Зиновий был, конечно, знаком). Лично я вовсе не уверен, что Зиночка поняла что-нибудь из его рассуждений, но уверен, что она честно смотрела ему при этом в глаза и даже в рот. Скорее всего, она играла на этом свидании роль Катьки из пьесы талантливого советского драматурга Сережина «Девчонка с телеграфа». Этот Сережин, при всей его талантливости, имеет типичное для неловкого по любовной части интеллигента представление, что в каждой продавщице и телеграфистке скрыто нетронутое сокровище ума, доброты, истинной интеллигентности (непонятно откуда) и нерастраченной (непонятно все же почему) нежности. Тот факт, что Зиночка, сойдя с подмостков, оказалась такой трогательной, наивной, все понимающей, бескорыстной, удалой и стеснительной в одно и то же время, такой неудачницей в жизни и таким непризнанным талантом на сцене – этот факт потряс добрую и чувствительную душу моего друга до основанья, а затем, как поется в известной песне… А затем пришло чувство. Многие, даже из людей ответственных, даже у нас в главке, видели в этой истории всего лишь пошлый роман драматурга, который, придя в театр, спутался с актрисой, но я-то знал, что Зиновий не таков и что это увлечение моего друга окажется для него поистине губительным. Так что я чувствовал в этот период особенную ответственность за него, потому что это я свел его с театром, я отвечал за него теперь перед соответствующими инстанциями не только как за драматурга, но и как за морально устойчивого человека, каким я его и знал всегда. Вдобавок к этим моим огорчениям и чувству ответственности он еще выбрал меня отчасти в поверенные своего чувства, правильно понимая, что я в театре человек более компетентный, хотя бы даже и в области интимного чувства. Думаю, что, хотя он и не признавал этого в открытую, у него было подозрение, что и в области морали я могу преподать ему не один добрый урок, а я, надо прямо сказать, рассматривал его историю с Зиночкой не как любовное приключение, а как моральную проблему, потому что, как вам известно, Зиновий был женат и даже имел сына.
Впрочем, поначалу, как ни странно, Зиновий обращался ко мне не с этими тяжкими проблемами морального затруднения, а с другими мелкими ежедневными трудностями, возникавшими от его непозволительной, хотя, кому-то может показаться, заманчивой и вполне головокружительной связи с молодой актрисой. Сам я никогда не позволял себе вступать в подобные связи и нисколько об этом не жалею. Не на личном опыте, а путем размышления я пришел к выводу, что актрисы как женщины – даже если у них кожа и не испорчена гримом – не должны сильно отличаться от секретарш, машинисток и других сотрудниц, которые заполняют наши учреждения.
Дело в том, что Зина ставила моего друга в очень трудное положение. Начать с того, что самая жизнь актерского коллектива показалась Зиновию со стороны не только трудной, но и просто непереносимой. Через Зиночку он очень скоро погрузился в целое море интриг, обид, взаимных подсиживаний и даже по временам неприкрытой нищеты. От всего этого ему захотелось прежде всего немедленно (чаще всего именно с моей помощью) спасти Зиночку, к которой, как ему представлялось через образ, данный великим поэтом, «грязь обстановки убогой» не липнет и так далее по тексту. Однажды, когда Зиновий рассказывал мне историю неудавшейся Зининой семейной жизни, я прервал его бестактным вопросом, который он, будучи писателем, должен был бы оценить в полной мере, однако, как мне кажется, не оценил. Он стал мне рассказывать о трагической гибели первого Зинина мужа, молодого летчика-испытателя, однако едва Зиновий перешел к истории второго ее брака, я прервал его рассказ, спросив, не являлся ли второй муж маленькой Зины безумно влюбленным в нее молодым художником и не умер ли он от белокровия.
– Вы и об этом знаете? – печально кивнул Зиновий.
Мне пришлось объяснять, что я ничего об этом не знал и что это всего-навсего моя догадка, основанная на долголетнем изучении…
– Но почему же это? – растерянно спросил Зиновий. – Почему из стольких жизненных вариантов?..
Позднее я спросил, не пропадают ли у Зиночки время от времени профсоюзные взносы или какие-нибудь еще общественные средства. Зиновий ничего не ответил на этот простой вопрос, но заметно было, что он смущен.
Вслед за первым опьяняющим обмороком любви для Зиновия, по всей вероятности, наступили тяжелые будни внебрачного романа. Нужно было встречать Зиночку после театра и вести ее куда-нибудь покормить, а в это время, как известно даже всякому профану, диетические столовые уже закрыты (специально для людей, далеких от искусства, поясню, что автора, получившего деньги от постановки одной пьесы в одном театре, еще нельзя считать человеком состоятельным).
Сомнительная история с летчиком-испытателем и моя догадка о белокровном художнике настолько испугали Зиновия, что мне даже пришлось встать на Зинину сторону и объяснить моему другу, что вульгарная ложь девушки из предместья и богатое творческое воображение актрисы – вещи разные, хотя и вполне сходные. Он согласился со мной, впрочем, как-то вяло, без особого воодушевления. Видно, к этому времени у Зины все-таки раз или два пропадали профсоюзные взносы.
Но потом роман Зиновия с Зиночкой вошел в весьма решительную и даже опасную стадию. Она решила выйти замуж за моего друга, и это показалось ему в такой же мере обременительным, в какой и трогательным.
– Пойми, – говорил он мне, – она меня любит. Она готова на все. Она мила, бескорыстна…
– Не спорю, – отвечал я. – И может быть, при прочих равных условиях тебе и можно было бы (я не говорю – следовало бы – этого я не скажу в данном случае никогда) жениться на ней. Но ведь ты женат. У тебя уже есть жена Конкордия, есть сын, и это кажется мне огромным препятствием к новому браку.
Должен сказать, что, отдавая свои силы поприщу культуры, я никогда не считал себя специалистом в моральной или эротической области, однако Зиновий в этот период времени буквально вынуждал меня на такие дискуссии, а иногда даже приглашал меня куда-нибудь, чтобы посидеть вместе с ними (я понимаю, что рядовую актрису Зиночку вдохновляла наша с ним дружба и то высокое положение в мире искусства, которое я занимал как работник главка), так что я становился невольным свидетелем этого романа.
Раза два, а может быть, даже три мы после спектакля ужинали втроем в ресторане, и я вспоминаю, как при этом Зиночка, выпив немного вина, желала танцевать шейк с нами двумя вместе или по очереди и даже слушать не хотела ни о каком отказе, так что мы с Зиновием двигали неуклюжими деревянными ногами, едва попадая в такт, а Зиночка выделывала нечто очень пластичное и красивое, так что целый ресторан дивился на это чудо – поистине человеческое чудо. У нее даже этот пошлый американский шейк становился красивым, одушевленным, оптимистическим и зазывным, причем не впрямую зазывным, а как-то иронически зазывным: вроде бы вот я шучу, разве можно все эти страсти принимать всерьез, а все-таки получается зазывно. Невольно можно подумать, что раз так может танцевать женщина, то что же она еще может творить прекрасного в другом месте, скажем в будуаре семейного ложа (ошибочная мысль всех дилетантов-богачей, далеких от искусства и падких на художественную гимнастику, классический балет и прочее – я имею в виду по женской линии). Право, когда мы видели, как может легко и непринужденно владеть человек своим телом, всей его грацией, то нам становилось стыдно за свои неуклюжие тела и движения. Нечего и говорить, что у Зиновия вид был в это время самый влюбленный и дурацкий.
Так подошло время, когда первое любовное головокружение у Зиновия, по моим жизненным расчетам, должно было миновать. Я был уверен, что Зиновий к тому времени уже ознакомился с пьесой Сережина «Девчонка с телеграфа», хотя не убежден до сих пор в том, что он осознал полное совпадение или, как говорят ученые, полную идентичность поведения в быту Зиночки Пригородовой и текстов, которые она в этой роли произносила (включая авторские и режиссерские ремарки в вышеупомянутой пьесе). Впрочем, допускаю, что он приписывал эту самую идентичность «органичности» молодой актрисы, во всяком случае, именно так он однажды высказался в моем присутствии. Что до меня, то я просто не мог допустить, чтобы мой высокообразованный друг мог так романтически заблуждаться в отношении простенькой актрисы. Хотя я решительно выступаю против всякого фрейдизма, и на сцене, и в жизни, тут все же могла иметь место, как любит говорить главный бухгалтер нашего театрального управления, «переоценка сексуального объекта». С той, конечно, оговоркой, что у Фрейда любовь все же чаще всего подменяется сексом, а у моего друга Зиновия главное место занимала именно любовь, а не секс. С другой стороны, я не случайно процитировал нашего бухгалтера, потому что мне лично в моем воображении легче представить Зиночку Пригородову именно как сексуальный объект, а не как объект высокого искусства и любви благородного человека.
Надо сказать, что я в этом эпизоде занимал до конца принципиальную позицию и выдерживал ее, смею надеяться, с пользой для своего друга. Первоначально это касалось только наших дискуссий в отношении Зининых художественных и умственных достоинств, которые возникали во время наших деловых или дружеских встреч.
– Она все время говорит о театре, – рассказывал с восторгом Зиновий. – Поразительная преданность искусству! Поразительная целеустремленность!
– Все они так, – соглашался я. – Но вот когда тебе надоест и театр, и разговоры о театре, о чем вы будете говорить?
– Что ж, можно и помолчать, – мрачно соглашался Зиновий, сраженный этим моим неожиданным аргументом.
– Так ведь она же не молчит… Она ведь говорит… Особенно когда выпьет… – Зиновий удрученно умолкал, а я, еще больше подсыпая соль на раны, ковал, пока горячо: – Ладно. Скоро она будет говорить только словами из твоей драмы, из своей роли…
– Я уже давно терпеть не могу эту драму! – восклицал Зиновий.
– Чего уж тут скромничать… Будет говорить, что она никогда не страдала комплексом неполноценности и даже, к стыду своему, испытывала нечто вроде неистребимого комплекса полноценности… От этого вам не уйти.
В общем, роман Зиновия шел своим ходом и, уверен, пришел бы без моей помощи к своему естественному концу, как роман женатого человека с глупенькой актрисой неакадемического театра, если бы, как уже было мной упомянуто выше, Зиночка не вознамерилась выйти замуж за моего друга, человека, вообще довольно мало приспособленного к брачным отношениям. И ведь ставя перед собой эту цель, Зиночка пустила в ход всю свою женскую пехоту и артиллерию, все свои чары, всю свою маленькую стратегию и тактику, в результате которой достигла первого неизбежного результата – Зиновий счел, что при создавшихся обстоятельствах он как честный человек просто обязан на ней жениться. Каковы эти обстоятельства, в чем они заключаются, он так и не смог мне толком объяснить. Все дело в том, что обстоятельства эти все были мнимые, они существовали лишь в его мозгу и были туда внесены стараниями Зиночки Пригородовой. Так же как, скажем, ее беременность с тяжким токсикозом с первых же десяти минут после акта была лишь мнимая, а точнее, сочиненная ей для нагнетания обстановки. Такими же мнимыми были ее попытки самоубийства при отсутствии знаков его внимания в течение одного вечера или ее неожиданные ночные звонки с требованием приехать, потому что она хочет его немедленно. Как я понял из рассказа моего друга, ему самому эта исключительная страстность не доставляла сильного удовольствия: он был привычен к более спокойным и редким домашним ласкам. Однако его изумляла ее чувствительность, то, что она буквально как бы умирала в его объятиях, что она так умела чувствовать и была ему так бесконечно благодарна за его мужские подвиги.
Надо отдать мне должное, в разговорах о самоубийстве я всего, может, раз или два уточнил, что для профессиональной актрисы, начиная с нежного пионерского возраста сыгравшей столько смертей (еще в самодеятельности Ногинского клуба, где она с большим успехом исполняла роль Павлика Морозова, полностью выдавшего народной власти своего родного отца – об этом я прочел в ее заявлении в кассу взаимопомощи), сыграть еще одну смерть не представляло труда.
Наш спор с Зиновием о реальности его нового брака начался с того, что я напомнил ему однажды о наличии у него законной жены Конкордии, о которой он как будто забыл в нашей театральной суете. Зиновий завелся с полоборота и возразил, что он не только не забыл, но думает о ней постоянно и очень мучается. Потом он без всякой логики мне вдруг сообщил, что Конкордия никогда не любила его по-настоящему. Я понял скрытый подтекст или, как говорят у них на театре, сверхзадачу подобного высказывания, и я был возмущен. Я сказал ему, что зато он любил ее в тот момент, когда женился на ней, а она уповала на то, что он ее любит, и таким образом строила всю свою женскую жизнь на этом вполне человеческом расчете. Таким образом, совершить сейчас какой-либо непоправимый поступок лишь в связи с его изменившимся чувством было бы для него еще более преступно, чем в случае, если бы она сама его любила и брак этот был совершен некогда именно к ее наибольшему удовольствию. Уверен, что мои возражения заставили его сильно призадуматься, а может, даже отчасти и привели его в чувство. Впрочем, этим вмешательством, которое, понятно, было моим моральным обязательством, я повредил своему собственному спокойствию, ибо в дальнейшем мне приходилось регулярно вступать в споры с Зиновием, утешать его и даже слегка кое-где воздействовать на Зину, о чем не забуду упомянуть ниже.
Но здесь я вынужден прояснить свою нравственную позицию, как мне не раз приходилось ее прояснять в споре с Зиновием. Позиция эта заключалась в том, что всякий гражданин, и прежде всего мужчина, имеет долг перед тем, кого он избрал себе в качестве спутника жизни. Так было всегда, а в наше время особенно, и если уже буржуазный философ Кант имел свой категорический императив, то мы, люди нового общества, должны быть в этом смысле еще более категоричны.
Что мог возразить мне Зиновий на эту принципиальную, недвусмысленную и прямую позицию? Ничего, кроме эмоциональной, идеалистически-эротической чепухи. Он говорил, что у него, видите ли, на земле один долг – быть счастливым и дать счастье. Что главное якобы не насиловать натуру и быть в результате естественным, честным и, вероятно, счастливым. Не противиться судьбе, которая сама привела его, подтолкнула и так далее. Мне нетрудно было одной фразой опрокинуть этот карточный домик идеализма, но я не хотел оказывать на друга слишком деморализующее воздействие. Я предпочитал задавать вопросы. Я спрашивал, есть ли у него гарантия, что это его сооружение, построенное на песке, сколько-нибудь долговечно и что он действительно может удовлетворить женщину, поглощенную театром и притом владеющую своим телом в таком профессиональном совершенстве? Есть ли у него какое-нибудь противоядие против хорошо известной ему как писателю переменчивости человеческой натуры? Он молчал мне в ответ, сознавая, что не было у него ни такой гарантии, ни противоядия. Но в таком случае, настаивал я, его намерение бросить жену и поставить своего единственного сына перед возможностью психологической травмы могло быть лишь эгоистическим и легкомысленным. Я напоминал ему, что люди зависят друг от друга и уже одно это налагает на них тяжкие обстоятельства долга. И даже если ты рассматриваешь его как тяжкий крест, только в процессе выполнении этого долга человек может обрести самоуважение, дающее ему силы для продолжения жизни. Менять этот долг (а в идейно не близкой нам терминологии – этот крест) человеку не пристало, ибо именно в этой неизменности самая его суть. Зиновий в ответ долго и несколько туманно толковал о некоем убожестве подневольного креста, о свободе выбора, о любви как о бунте и вообще о прекрасной трагичности любви. Однако я трезво возражал при этом, что он берет слишком уж высокую ноту, ибо речь идет всего-навсего о неблаговидной истории с артисткой Пригородовой. Впрочем, тут я старался не пережимать с подробностями, зная, что мои слова и без того производят на него немалое впечатление. Однако я отнюдь не собирался, в целях спасения как его, так и своей доброй репутации, ограничиваться нашими с ним разговорами. Я даже подумывал о том, чтобы вызвать Зиновия в какую-нибудь влиятельную инстанцию, с тем чтоб ему напомнили о моральном долге писателя-некоммуниста. Признаюсь, я вовсе не был полностью уверен в положительном исходе такого мероприятия, зато у меня была в запасе другая мысль, настолько простая, что я предпочел начать свою спецоперацию именно с ее осуществления. Я решил подвергнуть небольшой обработке героиню театрального романа Зиночку Пригородову и, даже не ставя ее на ковер перед высоким начальством, мягко поговорить с ней самому. Разговор этот настолько превзошел все мои ожидания, что Зиновию не пришлось более трепыхаться. Ему оставалось после этого разговора только предаваться своим меланхолическим переживаниям в тиши и одиночестве, что, как известно, очень неплохо отражается на литературном творчестве. Тут надо признать, что Зиночка сама ускорила неизбежное приближение нашего с ней разговора, совершив поступок, на мой взгляд, по меньшей мере безнравственный. Дело в том, что она уже совершала однажды акт самоповешения и притом в присутствии Зиновия, на которого это произвело сильнейшее впечатление. Что до меня, то я, конечно, понимал, что она могла проделать все это очень похоже на жизненную правду, но с большой для себя безопасностью. И вот однажды, как раз в ту минуту, когда Зиновий находился у меня в кабинете, она подозвала его по телефону и сказала, что она не то уже вскрыла, не то еще только собирается вскрыть себе соответствующие вены. Зиновий повесил трубку весь бледный и залепетал что-то несусветное про ее вены, про ее загубленную жизнь, бросился искать свой прорезиненный плащ и при этом даже опрокинул у нас в приемной вешалку.
– Ничего она себе не вскроет, – сказал я, раздраженный происшествием с вешалкой. – Так просто не бывает…
– А как же Мэрилин Монро! – возразил он, путаясь в рукавах гремящего плаща. – Еще как бывает…
Видя, что дело зашло далеко и друг мой вообразил себя Джоном Кеннеди, я снял трубку и сам набрал Зинин номер. Я назвал себя по имени отчеству (остальное ей было известно) и сказал ей очень твердо, что, если она посмеет сделать подобную глупость, я вызову «скорую помощь», ее откачают, но после этого, как ей известно, упекут в сумасшедший дом, откуда она выйдет настолько не в лучшем виде, что о театре ей помышлять более не придется. Она отвечала мне задумчиво и нерешительно. Я просил ее подождать минутку на проводе и вышел в переднюю, где Зиновий пытался собрать по частям упавшую вешалку.
– Можете ехать к ней совершенно спокойно, – сказал я бледному как смерть Зиновию, – ни черта она не сделала и не сделает.
Потом я вернулся к телефону и попросил Зиночку выслушать меня по возможности спокойнее. Тут я ей все и объяснил. Я начал с того, что Зиновий человек в театре случайный. Что эпизод с постановкой его пьесы вряд ли повторится когда-нибудь, да он и сам не только на это не рассчитывает, но и не желает этого, по всей вероятности. Дальше я сказал, что в литературе он прежде всего неудачник и впереди его ждет еще большее число неудач, чем было раньше, потому что с годами он становится не более, а менее жизнерадостным и гибким. «Но это просто так, к слову, – заметил я. – Это почти не имеет отношения к нашему разговору. Просто чтобы вы знали заранее, какая тяжкая жизнь с литератором-бедняком, ипохондриком (любимое слово нашего заглавного) и неудачником ожидает вас в будущем».
С другой стороны, я дал ей понять, что в театре ей предстоят большие неприятности. Выступая в качестве ее защитника и благожелателя, я все же намекнул ей на тупик, в который зайдет теперь, вероятно, ее актерская карьера. Я сказал ей, что Зиновий всего этого пока не может осознать и потому лучше, чтоб этот наш разговор вообще остался между нами…
Результат этого на привычном уровне проведенного мной собеседования превзошел все мои ожидания, и Зиновий действительно ничего о нем не узнал. Он печально сообщил мне, что ему пришлось убедиться в переменчивости человеческой натуры даже раньше, чем я ему предсказывал и чем он сам мог предполагать или опасаться. Если не ошибаюсь, все эти открытия он сделал не позднее чем через три дня.
Между тем репетиции в театре подошли к концу. Теперь настало время Глопшицу нести ответ за все то художественное своеволие и абсурдизм, которым буквально одержимы все режиссеры, независимо от того, считают они себя реалистами или кем-нибудь еще. Глопшиц, конечно, не оставил камня на камне от Зиновьевой пьесы, но последующие худсоветы и приемочные комиссии, надо им отдать должное, не оставили камня на камне от постановки Глопшица. Лично мне, как человеку со стажем, иногда даже начинает казаться, что, может, лучше пустить все это театральное искусство на произвол судьбы. Потому что даже в ахинее этого до мерзости носатого Глопшица все же еще была какая-то единая, хотя и абсурдная, но глопшициальная логика (могу себе представить, что в домашнем кругу этого умученного урода зовут мейерхольдиком), но уж в том, что получилось после обсуждений, урезаний и чисток на совете, в спектакле не оставалось уже решительно ничего – ни от Зиновия, ни от Глопшица, ни от логики, ни от абсурда…
А все же премьера состоялась! И премьера – это всегда праздник.
Театральный подъезд сиял, на аншлаге над входом было написано (хотя и не без ошибок) имя моего бедного друга, и столичная пресса известила о постановке современной драмы, которая на убедительных примерах говорит о новом отношении к женщине в победившем обществе. Зиновий, с какой бы отрицательностью и даже омерзением ни относился он к тому, что сотворил с его пьесой режиссер Глопшиц, все же за время репетиций сумел как-то привыкнуть к своему изуродованному детищу и теперь способен был понять, что должен переживать режиссер или любое другое причастное к постановке лицо, сидя в темном зале и ловя каждый звук из зрительного зала – и дружелюбные хлопки, и смешки. Чувство это знакомо всем творческим людям, болеющим за свой труд. Выяснилось, что Зиновию никогда раньше этого чувства не доводилось испытывать. Теперь он, сам над собою несколько посмеивась, тоже прислушивался к залу. А в зале реакция может быть самая разнообразная, нам, работникам культурного фронта, это хорошо известно. Позднее Зиновий мне рассказывал не без юмора, что его соседка в зрительном зале все время восклицала: «Ну и чепуху же нынче пишут! И какой дурак это все написал?», а в конце спектакля она даже обратилась к сидевшему рядом Зиновию с вопросом: «Он небось кучу денег огреб, этот автор?»
Надо, впрочем, сказать, что большинство зрителей спектаклем остались довольны, потому что во втором акте очень трогательно обозначилась драма женщины, которая была брошена своим возлюбленным. Актрисе Рокотовой удалось довести до слез самых чувствительных зрительниц, так что получилось, можно сказать, совсем неплохо, с хорошей сентиментальностью (лично я считаю, что это всегда неплохо). После конца спектакля некоторые даже подходили и поздравляли Зиновия, а особенно горячо его жену, полагая, что это именно ее вывел Зиновий в образе женщины, которая была брошена своим возлюбленным. В результате актриса Рокотова даже захотела сняться на память с супругой Зиновия Конкордией. Но мы с Зиновием были спокойны на этот счет, потому что у него с Зиной Пригородовой к этому времени все было кончено раз и навсегда после моего с ней телефонного разговора: такова уж женская натура, особенно если женщина хочет добиться хоть какого-нибудь успеха в самостоятельной карьере.
Глопшиц был возбужден и доволен: это была все-таки победа искусства, тем более что худсовет и главк долго не пропускали его постановку, но вот в конце концов все же выпустили. Зиновий рассказывал мне, что Глопшиц к нему подошел и спросил, намерен ли он организовать рецензии в каких-нибудь газетах, но Зиновий даже не слышал, что существует такой порядок. Кроме того, у него вообще было очень сложное чувство в отношении этого спектакля. Глопшиц пожал плечами и сказал, что он уже пригласил прессу и сам кое-что делает в этом направлении. Позднее и правда появились две рецензии, в разных газетах, но совершенно одинаковые – обе про то, как в поисках нового, животрепещущего материала современности и новых драматургических имен режиссер Глопшиц, не щадя себя, наткнулся на пьесу некоего З. Кр. и ужаснулся – так она была плоха (читатель помнит, конечно, что было не совсем так). Дальше рецензент рассказывал, что энтузиаст современной темы режиссер Семен Глопшиц все же поставил эту сырую пьесу, и вот еще одна победа нашего искусства: кое-что удалось, поставлено изящно, и артистка Рокотова сумела создать образ настоящей советской женщины, хотя жаль, что идея нечетко выражена и даже может вызвать те или другие сомнения, да и образы в целом написаны неубедительно, что может быть извинительно для молодого начинающего драматурга, но, конечно, потребовало немалых усилий у театра и режиссера, который и сделал все, что мог, честь ему и хвала, поскольку он смело берется за современную тематику, повествующую о наших тружениках, и за пьесы молодых начинающий драматургов. Ясно было, что все это с пылу с жару надиктовал Глопшиц здесь же в театральном коридоре или в ресторане. K моему облегчению, Зиновий не придал этим довольно обидным рецензиям никакого значения, а только чуть усмехнулся. С другой стороны, я понял по этой усмешке, что Зиновий не хочет продолжать свою в общем-то успешно начавшуюся жизнь на театральных подмостках и готов вернуться к своей неудобопечатаемой прозе, к своим Бог знает на какое издательство рассчитанным рассказам и к своим вообще непонятного жанра полуразмышлениям-полуписьмам. Все это, впрочем, обозначилось чуть позже, а пока… Пока еще длилась суета премьеры: что ни говори, новая литературная звезда восходила на нашем театральном горизонте, а это ведь всегда приятно бывает, даже у нас в главке царит оживление, когда там появляется новое лицо, суля тем самым приток талантов, новые пьесы о нашем рабочем классе, крестьянстве и трудовой интеллигенции. Приятно, что и говорить, приятно появление нового, не избалованного славой, такого скромного, застенчивого поначалу, не говорящего об авансах писателя со своей своеобычной писательской судьбой.
На премьере Зиновий выходил на сцену вместе со всеми исполнителями – кланяться, пожинать всходы славы и аплодисментов, вполне жидких, приятельских. У него не было приличного костюма, он был в не слишком парадной куртке, но публика не осудила его за это. Многие его вообще приняли за художника-декоратора. Кланялись они три раза, и Зиновий сказал, что в первый и последний раз соглашается принимать участие в этом, как он выразился, дурацком занятии. Я посоветовал ему походить на спектакль и покланяться хотя бы первые два-три месяца, пока спектакль считается премьерой и билет продается дороже. Все-таки у публики в такие дни должно создаваться настроение праздничности, и Москва должна увидеть его как автора. Зиновий не захотел.
На самой первой премьере (которая одна, строго говоря, и соответствует значению этого нерусского слова) он все же кланялся, после чего тут же состоялся банкет. Банкет после премьеры является традицией московского театра, его ждут актеры и другие создатели спектакля, одни с большей, другие с меньшей степенью нетерпения, но в общем ждут все, и потом на театре еще долго говорят о том, какую степень скаредности проявил тот или иной автор. Я не осуждаю. Актеры ждут банкета как дети и отказать им в этом долгожданном празднике не очень прилично. Хотя как другу мне жалко было этих Зиновьевых столь редко у него бываемых денег, потому что банкет в ресторане должен был сожрать весь его аванс, то есть четверть гонорара, уплачиваемого театром (остальных четвертей не дождаться). Но Зиновий сказал, что раз такая традиция, то он не может обмануть ожидания, хотя ему и самому это все не нравится. Я не ожидал от него другого решения.
Так что после премьеры мы все в радостном предвкушении собрались в банкетном зале старинного столичного ресторана, подняли тосты за успех премьеры, за пьесу, за «хозяина банкета», как называли в тот вечер Зиновия, за актеров и за великое искусство театра (те, кто не бывал на банкетах, могут не знать, что это главное из искусств).
После закуски и первого бокала тосты стали более пространными, уставшие и оголодавшие гости несколько опьянели, ощутили вдохновение и стали говорить от души. Даже под хмелем не теряя присущей мне наблюдательности, я отметил, что непьющий Зиновий был несколько удивлен и даже ошарашен происходящем. При этом надо признать, что ничего необычного в тот вечер не происходило. Конечно, в тостах содержался некоторый излишек аффектации, свойственный актерской среде. Актеры наперебой говорили о своей готовности отдать всю свою жизнь, всю свою кровь по капле для служения настоящему искусству, Искусству с большой и только «с большой буквы», «по большому счету». Они говорили о «где-то волнительном» событии сегодняшнего дня и «где-то волнительных» свершениях. Они кляли пигмеев и бездарностей, которые могут хоть тысячную долю секунды оставаться равнодушным или хотят на спокойной обывательской машине въехать в храм искусства, туда, где другие приносят в жертву свои жизни, и так далее и тому подобное. Все это говорилось не очень связно, а может быть, даже и не очень грамотно, но с большой серьезностью и подъемом, с большим и хорошим пафосом. Не приходится сомневаться в том, что эти люди верили в свою высокую театрально-художественную миссию, да кроме того, они просто привыкли к подобным излияниям и не знали других слов, так что человек, близкий к театру, делал восьмидесятипроцентную скидку на супергазетный стиль и непомерный пафос, однако Зиновий, никем заранее не предупрежденный (Зинину болтовню «за искусство» он воспринимал как ее милую и смешную, но вполне индивидуальную особенность), никакой скидки, видимо, не готов был делать и оттого совершенно обалдел, слушая эти речи. «Или я сошел с ума, или они», – прошептал он мне через стол, но я сделал ему успокаивающий знак рукой. Как он потом объяснял мне, его поразило прежде всего полное отсутствие юмора во всех этих выступлениях, неистовый накал банального и ходульного пафоса. Увы, я-то давно знал эту маленькую, хоть и слегка утомительную актерскую слабость, относиться к которой следовало более снисходительно, чем отнесся Зиновий, который не имел солидной привычки к театру. Вдобавок несоразмерно поразило его несоответствие между истинными чувствами, испытываемыми участниками банкета в отношении друг друга, и той формой, в которой они выражали эти чувства во время своих бесконечных полуграмотных тостов-речей. Удручающая продолжительность этих непривычных для него речей также была источником его изумления. Дольше всех говорила (а еще толкуют о недостатке демократии в былые годы) старая театральная гардеробщица с гремящим мелочью потрепанным ридикюлем (театр, что́ ни говори, начинается с вешалки). Детям на утренниках (а молодым актерам в первые месяцы работы) рассказывали, что она была любовницей Станиславского. Передавали также байку театрального парторга о том, что она видела Ленина…
Почти все выступавшие за столом открыто признавались в любви к главному режиссеру, к директору театра, а еще чаще к Глопшицу, тому самому Глопшицу, которого им так и не удалось спихнуть. Главный режиссер, он же главный враг Глопшица, очень долго говорил о своей любви к этому такому ершистому, но бесконечно талантливому режиссеру Семену Глопшицу, а Глопшиц время от времени вскакивал с места и порывался расцеловать главного, и, возможно, только соображение о том, что большой нос помешает ему должным образом поцеловать режиссера через стол, удерживало его от этих противоестественных, с точки зрения Зиновия, но вполне естественных для привычного наблюдателя театральной жизни мужских лобзаний. Зиновий и раньше навиделся в театре дружеских поцелуев и объятий, но он приписывал их отчасти чувству взаимного сострадания, которое должно было хоть как-то соединять тружеников этого нелегкого и столь неблагодарного поприща. Теперь же, видя прямую, наигранную и взвинченную фальшь, он стал припоминать и многие другие случаи закулисной фальши, не понятые им ранее. При этом, сдается мне, он получил даже несколько утрированное впечатление об актерской глупости. В конце концов ничего сверхъестественно глупого на этом банкете не говорилось, во всяком случае ничего такого, что бы не говорилось всегда или даже не печаталось в прессе. Что же касается чувства юмора, так это ведь давно известно (и этнографам, и лингвистам, и даже зоологам), что чувство юмора у каждого свое. На театре любят юмор игровой, всякие там розыгрыши, или уж такие реплики, чтоб сразу готовая реприза. А всякий этот языковый юмор, ирония и тонкости театру недоступны, так же, как и отдельным работникам театра. Недаром сами режиссеры говорят, что «театр – искусство грубое», хотя при этом не вовсе отказывают ему в тонкости. Сам я неоднократно указывал на этот момент Зиновию, но он со мною не соглашался. Он говорил, что, напротив, театр очень тонкое искусство, а к грубости зрителя приучает только грубый театр. Я убедительно возражал, что даже самая необходимость говорить громко, чтоб доходило до последних рядов, выводит диалог из сферы всяких недоговорок и тонкостей. Однако Зиновий со мной спорил, и надо признаться, что здесь я допустил просчет, потому что привел ему для контраста пример кино – где можно любой шепот передать и показать шевеленье губ во весь экран. Но, приведя этот пример, я тут же вспомнил, что про кино опытные люда еще чаще говорят, чем про театр, что оно – искусство грубое…
После постановки первой пьесы Зиновий как бы вошел в обойму новых авторов, пишущих для театра, и стал с моей легкой руки посетителем семинаров молодых драматургов (в этом случае молодость понимается обычно как профессиональная молодость, так что народ там обычно не очень молодой и даже чаще – матерый), о чем, конечно, я позаботился – так же, как и по части создания моему другу протекции и реноме на телевидении, радио и в других местах, которые иногда все же подкармливают таких вот талантливых, но неповоротливых людей, наряду с большим количеством, может быть, менее талантливых, но более поворотливых. Надо сказать, что и от этого доброго дела я имел свою долю неприятностей. Достаточно вспомнить ту же дискуссию на телевидении, которую вел один наш вполне известный критик и в которой наряду с актерами принимали участие три драматурга, в том числе и Зиновий. Вопросы Зиновию были там заданы самые пустячные, например, первый вопрос, в котором, можно сказать, содержался уже и ответ, а именно: «Не кажется ли вам, что эпоха таких больших достижений в области прогресса техники требует от нашей драматургии создания произведений, достойных времени?» Любой школьник, особенно старшеклассник, не затруднился бы ответить и не стал мучить себя размышлениями, но Зиновий почему-то замялся и сказал, что ему не кажется. Эффект, конечно, был самый удручающий. А Зиновий еще и захотел пояснить свою мысль, хотя что уж теперь было пояснять. Он сказал им что-то насчет Эврипида, Шекспира и насчет их недостойного времени, а также сказал, что не видит прямой связи. Не помню, что он еще говорил, потому что все это при монтаже вырезали. Ведущий был, конечно, сильно испуган подобным ответом на такой простой вопрос, на который он даже не потребовал заранее письменного текста (за что, кстати, и погорел начальник театрального отдела телевещания, да и я, грешный, получил свое), но человек был уверен, что это детский вопрос. В дальнейшем ходе дискуссии ведущий только один раз еще рискнул обратиться к Зиновию, когда заговорил о новых формах театра, к которым все смелее прибегает наша драматургия, например, вот герои, которые уже умерли, появляются снова на сцене, и наш новый зритель, приученный к таким новым формам, даже не смущается этим. Ведущий спросил Зиновия, не кажется ли ему, что этот прогресс в зрительном восприятии и эти новые формы, отражающие сдвиги, и так далее… На что Зиновий снова сказал довольно угрюмо, что ему нет, не кажется. Он привел в пример не что иное, как папашу Гамлета, который появляется в виде призрака, и упомянул еще какую-то мистическую древность.
На драматургических семинарах дело шло еще хуже. Зиновий ча сто вставал и уходил во время лекций, где видные критики, а также руководители министерства и Всесоюзного театрального общества объясняли, какая нужна драматургия и как она должна быть связана с насущными задачами производства. Я долго не мог уразуметь, откуда у Зиновия, человека общительного и вежливого, эти угрюмые черты нетерпимости, но в конце концов понял, что это последствия его уединенной жизни, лишенной общественности, а также индивидуального характера его труда. Недаром же в первые годы советской власти были сделаны попытки, правда не доведенные до конца, призвать в литературу ударников и общественников и вообще придать этому труду общественный, коллективно-бригадный характер. На примере Зиновия я еще и еще раз убедился в том, что отсутствие трудового коллектива обостряет индивидуализм писателя. Например, я предлагал Зиновию несколько раз провести обсуждение его пьесы со зрителем и, не заметив отклика на это мое предложение, высказал однажды такую догадку в форме вопроса. «Что же, – спросил я, – разве тебе не интересно мнение широких зрительных масс, их пожелания драматургу?» И услышал ответ, подтвердивший худшие мои подозрения: «Нет, не интересно». Я думаю, что уже в этом ответе крылся зародыш гибели Зиновия как художника. Но рассказ об этом не входил в задачу моего скромного повествования о самом процветающем периоде краткого жизненного и литературного успеха моего бедного друга Зиновия Кр-ского.
Часть шестаяВступление редактора
В первой же строке спешу сообщить, что герой этого нашего как бы произведения, уже полюбившийся вам, а более, вероятно, надоевший – Зиновий Кр-ский, – жив и нашелся! Мы никак не могли знать об этом в начале нашего повествования по той простой причине, что сами знали только то, что он исчез окончательно (и казалось, бесповоротно) из поля зрения его друзей. Однако теперь нам не остается ничего другого, как сообщить вам эту добрую весть, ибо он объявился: прислал первое письмо, а вслед за ним еще и другие письма, своему старому другу Владимиру Рубцову, который, собрав их, принес Редактору этой книги, а Редактор, не видя, в чем жанровое различие между этими новым письмами и теми, что были оставлены Зиновием при его первом исчезновении, решил присовокупить их к тексту в качестве приложения и одновременно эпилога, ибо Редактор чувствовал, как двусмысленна книга, в которой судьба героя обрывается неясно и даже туманно. Получалась книга не только без начала, но и без какого бы то ни было достойного конца, без торжества добродетели, без наказания порока, без ясного идейного вывода или четко прослеженной цели. Впрочем, Редактор вполне скромно оценивает и этот несовершенный эпилог, вовсе не возлагая на него больших надежд по части оправдания читательского интереса. Но так или иначе эпилог теперь у нас есть.
Поскольку письма эти, похоже, не предназначались их автором для издания, а просто были написаны в ностальгическом порыве человека, лишенного Родины, то Редактор неплохо, слава Богу, знающий традиции мировой беллетристики и тем более мемуаристики, помещает их в виде приложения или как бы научного аппарата. При этом Редактор не может отделаться от ощущения, что это не простое приложение, а как бы даже логический итог данной жизни, как бы ее развязка и эпилог, достаточно печальный и даже трагический, каким только и мог быть итог столь печальной и неосмысленной (в плане, конечно, общественном) жизни, как жизнь Зиновия Кр-ского, которого в свете совершившихся событий Редактор даже не решается называть другом-приятелем, а держит за некоего знакомца, впутавшего его в эту длинную и небезопасную – при всем понимании мирных свобод, нас тешащих ныне, – историю.
С учетом всего этого, Редактор просто предлагает вниманию читателя (того, кто еще не оставил чтение этой книги) первое же по сроку получения (а может, даже и написания) заграничное письмо Зиновия и другие его письма.
Письмо первое
Альтенсберг
3 ноября
Дорогой Владимир!
Ты, верно, удивишься моему письму, а может, будешь им испуган или расстроен. Я ведь до сих пор не писал, потому что не желал навлекать на тебя заграничным письмом чье-либо (известно чье) неудовольствие, но теперь, поскольку мне показалось, что все несколько улеглось у вас там и у нас здесь, я отважился послать первую весточку. Как ты уже понял по штемпелю, марке, и всему прочему – я за границей, в Альтенсберге, в Германии, и поскольку ты помнишь, что в заграничные командировки никто меня никогда не отправлял, а в вояжи не выпускал, ты без труда поймешь, что я уехал насовсем, навсегда…
Страшное это слово «навсегда», однако оно уместно здесь, и ты, наверное, поверишь, что совсем не легко мне было на это решиться, но я все же решился – под давлением жены, упорно доказывавшей бесперспективность дальнейшего обучения нашего сына дома на Родине (сам знаешь почему), а также под давлением обстоятельств моей жизни и моих неудач (но это все же в последнюю очередь, потому что я и здесь, точно так же, как там, принципиально не верю в отличие удачи от неудачи).
И вот оно началось, это все – сумасшедшее нагромождение нелепиц и неурядиц, путешествие, в котором ничего не видишь и не замечаешь, жизненные перемены – непонятно к чему – не к лучшему и даже не к худшему (хотя мне здесь несравненно хуже), а к чему-то неустойчивому, неустроенному, без конца меняющемуся. Здесь я, человек дома необычайно терпимый, дружеский и подвижный, стал вдруг косным, и необщительным, и неподвижным. Семью нашу сразу разбросало по разным городам, потому что мальчик мой в пансионе, возле Берлина, там и школа, Кока нашла в Берлине работу, а я вот – непонятно отчего, здесь, в Альтенсберге, где ставят пьесу, переделанную из моей старой повести, когда-то переведенной на немецкий язык, – помогаю, или мешаю, им компилировать эту белиберду, но все же вроде бы при деле, впервые со времени приезда при деле и при деньгах – при очень небольших деньгах, впрочем, я здесь вообще, честно говоря, на птичьих правах.
Живу я пока у нашего режиссера. Это хороший, веселый и добрый парень, впрочем, по-своему, не по-нашему хороший и по-своему добрый, так же как он и весел по-своему, не по-нашему, очень странно и непривычно. Вечером они тут подолгу веселятся, что-то говорят, не очень значительное или интересное, но зато долго, за полночь, пьют пиво и жарят на гриле мясо, а я зеваю при этом, не в силах уловить смысл их разговора или разделить их веселье: то ли немецкий мой все еще недостаточно хорош, то ли там и правда нечему веселиться и нечего улавливать. Потом все ложатся вповалку, даже не очень ясно зачем, а у меня – свое постоянное место, у двери, в предбаннике – и как только уляжется последний гость, все начинают ходить в туалет, мимо меня, дальше в коридор и еще дальше – через лестничную площадку, все с тем же огромным ключом от туалетной двери. Женщины проходят в коротеньких, до пупа рубашонках, светя ягодицами, и так всю ночь – розоватые попки мелькают чуть не у самого моего лица: холодная лестница, холодная постель, и эти попки, розоватые от холода или от сна, – Боже, какая странная, призрачная, непонятная жизнь, и что я тут, кто я тут, что мне здесь?
Главное ощущение – это что я все время не понимаю чего-то, не до конца понимаю, не все понимаю и, может, никогда не пойму всего. Не понимаю, что обо мне думают, кто я, хорошо ли я поступил, сказав или сделав то-се, или я обидел кого-нибудь и как оно было воспринято. От этого у меня некая скованность в действиях и какая-то даже оглушенность, словно я летел на самолете весь день и вот никак теперь не могу очухаться.
О чем я только не написал тебе – о туалете, о попках, – просто какой-то сеанс психоанализа, а вот о главном – о том, почему я уехал и почему я один, – не написал. Ну да, может, это не случайно: мне пока и самому не так легко это понять. Может, попробую понять и кое-что объяснить тебе в своем новом письме, а пока до свидания.
Твой Зин.
Письмо второе
Альтенсберг
6 ноября
Дорогой Владимир!
Помнишь, у нас была на факультете девочка-отличница Изольда – хотя бы из-за этого ее дурацкого имени ты должен был ее запомнить. Она была отличница, но потом все пошло не слишком – журналистскую работу она не умела, хорошей редакторской ей не досталось, но все же устроилась в какой-то институт, в какое-то бумажное ведомство по линии санитарного просвещения. Так вот, знаешь, я встретил ее незадолго перед отъездом из Союза, и она сказала мне, что ей в общем-то повезло в жизни, потому что она от своего санпросветведомства ездила в двадцатидневную командировку в Париж, а где бы еще и когда она съездила, да еще в Париж, да еще на казенный счет, да еще на целых двадцать дней – сказка, право, сказка. Она с таким упоением мне рассказывала про Париж, а я слушал так, будто не читал про все это с детства сто тысяч раз. Потом выяснилось, что уже прошло пять лет с тех пор, как она съездила, но она все еще живет этой невероятной удачей и долго будет жить, может, теперь уже до конца жизни. И ясно было, что она немножко жалеет меня, который не ездил в Париж и, наверное, никогда не поедет, жалеет всех нас – имя нам легион.
Я живу сейчас в нескольких часах езды от Парижа, и никаких существенных препятствий для такой поездки у меня нет. Я не еду, потому что у меня там нет никакого срочного дела, потому что я не считаю сейчас такую поездку лучшим отдыхом для себя, да и время не самое благоприятное – в общем, успеется. Однако тот факт, что я живу в нескольких часах (пусть даже будет – днях) езды и могу в любое время поехать, – сам этот факт немаловажен и не следует преуменьшать его значения. Могу поехать, хотя и не еду, – может, даже и не поеду никогда, но могу.
Не знаю, понял ли ты меня, Володя, но я должен кончить на этом, потому что сегодня я (как ни странно) работаю: они просят в театре об одной переделке (хорошо, хоть пока просят, а не делают сами).
Обнимаю.
Твой Зин .
Письмо третье
Альтенсберг
12 ноября
О, ты многим рискуешь, Володя, – такая лавина писем на тебя обрушится теперь от меня, изголодавшегося по общению: нет, нет, я понимаю, что, скорей всего, ты даже не ответишь мне, не сможешь или не пожелаешь ответить, но сам факт, что я разрешил себе написать письмо, сочтя, что «международная разрядка» лишила эту, пусть даже одностороннюю переписку (не знаю, можно ли ее при этом условии безответности назвать «перепиской») какой-либо непосредственной для тебя опасности, – сам этот факт словно приоткрыл клапан, запиравший поток моих чувств. И столько сразу захотелось сказать, рассказать тебе, и страшновато приступать к главному – что же со мной случилось за то время, что мы не виделись, и почему я здесь. А что, собственно, случилось? Все, что должно было случиться, случилось еще раньше – до отъезда, я оставил своему покровителю из главка рукопись, пусть слабый, но все же разборчивый след того, что происходило. Мысленно продолжая идти, можно было предугадать, что будет дальше. Дальше были горести отъезда, различные лишения, точнее, даже не лишения, а лишение – лишение себя чего-то очень дорогого, что разъятое по мелочам даже не производит никакого впечатления, но взятое в целом сливается в нечто томительное, до бесконечности наполненное мучительными деталями. Цветаевская рябина как символ, но ведь за ней улицы, дома, голоса друзей, родных, словечки, целые фразы, которые я никак не могу перевести на немецкий или на английский, ни пустить в обиход, ни получить должный эффект. Ну да, язык, голубчик, главное – язык, Слово не только было вначале, для меня оно – всегда, Слово вместо Дела. Так вот Слово-то у меня только русское, на всех других более или менее знаемых мной языках я косноязычен, ничтожен…Точнее, меня просто нет.
Иногда, в минуту особенной горечи, говоришь себе, все это временное, но ведь и сами мы временные жильцы временного мира, странники и пассажиры, так что почти безразлично, как доедешь последние две-три остановки…
Ты скажешь, что это просто рассуждения не очень молодого человека, упавшего духом, – что ж, таким я, наверно, и стал: и первое справедливо, и второе, и еще многое, дорогой Володя, я ведь и сам замечаю, как изменилась моя реакция на знакомые жизненные ситуации, а многие из них повторяются, так многое уже знакомо. Примеров уйма, самых курьезных, взять ту же ночлежку…
По приезде в Альтенсберг я не знал поначалу, за чей счет я буду жить в городе, где жить и так далее. Не знал, сколько они мне заплатят и заплатят ли вообще, а гостиницы тут, как известно, дороги, так что я решил тряхнуть стариной и поискать какую-нибудь молодежную ночлежку подешевле. Такая нашлась на окраине города в великолепном парке, и я даже был поначалу один в комнате, если не считать странного поляка, который терзал меня ностальгическими воспоминаниями и польским языком. Но однажды к ночи вдруг ввалились два школьника-старшеклассника. Сквозь сон я слышал, как они легли на двухэтажные койки – «вагонки», один в углу, другой почти рядом со мной, над поляком.
А среди ночи вдруг зашуршало что-то в комнате, заметались какие-то белые призраки – я это сквозь сон, но, когда меня по ошибке потянули за ногу, я разглядел эти белые рубахи в полумраке и услышал девчачий шепот: «Томас! Томас!» Потом вспыхнул свет, раздался смех, свет погасили: они нашли наконец своего Томаса, девчонки-школьницы в ночных рубашках, грубоватые, толстые, некрасивые (ну да, не смейся, наши были лучше). Волосатый юный Томас приподнялся на верхней койке, на груди у него был не то коготь, не то клешня на цепочке – и вот, когда свет погас, многопудовая малютка в белом вскарабкалась на второй этаж, к Томасу, повозились чуть-чуть и затихли.
Бедный поляк выбрался с нижней койки, из-под Томаса и спросил, не хочу ли я отправиться в душ. Было три часа ночи. Он сказал, что как раз сейчас хорошо идет горячая вода, так что он, пожалуй, помоется – сказал устало как человек, который привык к мелким неудобствам жизни. Когда он ушел мыться, я пытался уснуть, однако слушал все время, как они шепчутся («ауслендер», «ауслендер», стало быть, «иностранец»), с головой накрывшись одеялом, эти воспитанные немецкие дети, которые даже в этом злосчастном возрасте не хотели слишком уж огорчать пожилого иностранца. Что до самого «ауслендера», ему хотелось, чтоб они уж поскорее все это кончили и успокоились.
И вот что удивляло меня, дорогой Володя, в эту ночь, когда я слушал невольно, как они шепчутся и возятся по соседству, – то, что ситуация, всю жизнь так сильно возбуждавшая меня, более меня не возбуждает. То есть она трогала меня, однако по-иному, совсем по-новому. Со мной и раньше случалось подобное в моих бесчисленных путешествиях – в нашем собственном приволжском Мышкине или, например, в Чешских Татрах (там, наоборот, я спал наверху, а польские студенты всю ночь раскачивали снизу нашу двухэтажную койку под немолчный девичий стон – «О раны Боске!»). Так вот, раньше сердчишко мое обмирало от страха и от желания, мне хотелось прийти на помощь стонущей (пусть даже стонущей от избытка чувств, как в Татрах, или умеренно громко взывающей о помощи, как в Мышкине) женщине. Здесь же, в Альтенсберге, я больше думал о затаенно пыхтящем Томасе, чем о телке: мне было его жаль. Жаль его уходящей силы – той, какую он расходовал сейчас так неразумно, той, которую он раскидает по свету, дожив до моих лет. Толстозадые его подружки почему-то не вызывали во мне жалости, и я ощущал в этом какую-то грустную перемену в себе, разобраться в которой я не умею. Только, упаси Боже, не вообрази ничего гомосексуального. Скорей это связано с моим возрастом и с тем, что я стал отцом мальчика, сына – может, у тех, у кого девочка, у них иная реакция на все, а не только на сомнительную «Лолиту» Набокова.
Не знаю, почему я описал тебе именно этот случай. Может, он тоже расскажет о моей здешней жизни и моем нынешнем состоянии. Другой вопрос – могут ли представить для тебя сейчас интерес любые мои терзания, однако этим вопросом предпочту не задаваться, раз уж сел писать тебе письмо и раз уж так хочется его написать.
Твой Зин.
Письмо четвертое
Альтенсберг
25 ноября
Дорогой Владимир!
Наконец-то была премьера – нет, нет, не воображай себе радость юбиляра, счастливое, праздничное возбуждение по поводу того, что на сцене полупустого театра (режиссер сказал, что это еще не так плохо, больше у него и не бывает) кучка актеров, перевирая русские имена, изображает какую-то чушь несусветную (публика иногда даже смеялась, но, скорей всего, это смеялись в зале профессионалы, которые пришли поддержать коллег-исполнителей, друзья и родственники актеров), и по поводу того, что, выходя на жиденькие аплодисменты публики (еле удалось наскрести их на второй выход!), актеры волокут за собой немолодого иностранца – очкарика в мешковатом костюме, а наиболее осведомленная часть публики (те же родственники), зная, кто этот тип, добавляет в его честь два-три хлопка… Ты, наверное, помнишь, что мне и в Москве все это не доставляло никакого удовольствия, а уж в здешней дыре…
Потом даже был банкет. Конечно, своеобразный, довольно убогий и даже, на наш вкус, смехотворный (то есть без нашего хамского размаха). Для бедного автора он, конечно, имел большие преимущества перед русским банкетным празднеством. Все заинтересованные лица, все родственники, снобы и просто все желающие перешли в подвал, в служебный буфет и встали в очередь. Кто хотел, мог там купить бутылку пива, вина или кока-колы, а кто был голоден – мог купить сосиски. На свои деньги, конечо. Ни в какое сравнение с нашими премьерными банкетами, да что там, даже с нашими школьными вечерами, это не шло, но для меня, повторяю, это убожество было спасительным. Режиссер усадил меня за свой столик, а сам ушел принимать поздравления. Он был героем дня и, надо отдать ему справедливость, по временам делил со мной этот, довольно-таки скудный, поток приветствий и восторгов. В центре внимания собравшихся были какой-то известный драматург из Мюнхена и его жена, красивая сербка, которая даже пыталась говорить со мной по-русски. Сам драматург тоже почтил меня братским вниманием. Он подсел к нам за столик и заговорил на вполне сносном английском. Сказал, что нелегко, конечно, приходится в этом прогнившем обществе капиталистических мещан человеку творчества. «Помните, как у Маркса?» – спросил он, заговорщицки мне улыбнувшись. Я понял, что как человек оттуда я должен все помнить, как, что и где было у Маркса. Я ответил умученной улыбкой, которую при желании он мог понять как улыбку заговорщика, сообщника его детских проказ. Раздухарившись, он разразился длинной, строк на двести, цитатой на тот счет, что капитализм ужасен, а классовая борьба все крепчает и крепчает. «Главное, друг мой, классовая борьба», – сказал он мне в утешение, а потом стал извиняться, что его уже зовут к новому столику. Когда он ушел, хорошенькая блондинка, жена моего режиссера, сжала мне руку под столиком, улыбнулась вполне ободряюще и сказала:
– Это был сам Брст…
Или она сказала Прст. А может, даже Фрст. Я не очень хорошо разбираю на слух то, что они говорят.
– О, сам Фрст… – сказал я уважительно. И пожалел, что она не сообщила ничего более утешительного. Оказалось, что именно это она и намерена была сделать. Она спросила меня почти по-французски, где я ночую, и я машинально перевел это для себя: «Где вы ночеваете?» (Я иногда и свои собственные иноязычные фразы перевожу для себя на ломаный русский.) Я пожал плечами, а она сказала, что я могу пойти к ним, у них здесь комната. И погладила мне руку. Это было приятно. Впрочем, один из актеров сейчас же окликнул ее из-за соседнего столика с упреком:
– Труди!
Она объяснила, что этот актер очень любит ее мужа. Он и будет его любить, а мы ляжем с ней.
– А как же муж? – спросил я ее безъюморно, точно я был комиссар Фурманов.
Она терпеливо объяснила, что продюсер, который сейчас разговаривает с ее мужем, скорей всего, и будет любить ее мужа, так что ее муж нам никак не помешает. Я вежливо объяснил, что я боюсь осрамиться. Что у меня ничего путного не получится в присутствии ее мужа, даже если он прихватит в постель и актера с продюсером. После этого жалкого объяснения мне стало просто безысходно грустно. Боже, прости нам всем…
Сам видишь, дорогой Владимир, какие идейно незрелые мысли приходят мне в голову в этой стране, где атеистическая пропаганда стоит на низком уровне, христианская партия так сильна, а население так язычески бездумно.
Обнимаю.
Твой Зин.
Письмо пятое
Альтенсберг
27 ноября
Дорогой Владимир!
Я не знаю, отсылать ли это очередное письмо, и даже не знаю, писать ли его. Написанное и неотосланное тяготит почти так же, как просто написанное, хотя полезность воздержания в этом случае, казалось бы, очевидна. Феномен этот еще толком не исследован. Это, кстати, связано с вопросом о том, писать или не писать вообще. Пиши, если не можешь не писать («не могу молчать» и прочее). Казалось бы, говорить тут не о чем: человек становится литератором и пишет. Если признать право такой профессии на существование, можно примириться и с тем, что он пишет. Ну а когда написано, он идет дальше, ищет читателя…
Мотивы этого занятия бывают разнообразными, не всегда этичными (скажем, пишущим движут низменные чувства – ревность, злоба или даже корыстолюбие). Но зачастую побудительные мотивы оказываются вторичными, мало кому интересными, а вот сам текст…
Мне казалось, что я пишу тебе оттого только, что я здесь так одинок, что вокруг меня некий вакуум. Потом мне вспомнилось, что вакуум образовался не сейчас, а гораздо раньше, еще на родине. Я вспомнил, как он начал ощущаться мало-помалу, хотя внешне сохранялось впечатление, что я человек общительный, иными даже любимый.
На самом деле я замечал перемены: новые знакомства, хоть и возникали иногда, почти не получали продолжения. Я никогда не встречался с новым знакомцем более одного-двух раз. Что же касается старых друзей, то я утрачивал потребность в общении с ними, и результат был плачевным: они отходили от меня, уходили в собственные заботы и новые связи. Оставалась жена, Конкордия, но и здесь оставалась лишь иллюзия общения: все чаще, протягивая к ней руку, я мог нащупать только пустое место – пустой стул напротив, пустую подушку рядом, пустоту в ее взгляде.
Никогда, конечно, этот вакуум не был столь полным, как здесь, за границей. В ход пошли все, можно сказать, средства достижения одиночества – расстояние, неприкаянность, бездомность, языковой барьер, разлука с сыном, раздельная жизнь с Кокой и наше с ней все более возрастающее непонимание друг друга.
В общем, если тебе угодно будет объяснить этот поток писем, хлынувший на тебя из чужой страны, моим одиночеством, ты не будешь так уж не прав, дорогой Владимир, хотя к этому можно будет прибавить и другие обстоятельства, которые ты как человек, не лишенный воображения, без труда представишь себе. Впрочем, о них в другой раз и, может, наконец из другого места, потому что Альтенсберг надоел мне изрядно. Не уезжаю, кажется, лишь по той причине, что изверился в перемене мест.
Не сочти это баловством и причудой, поверь, что мне и впрямь опостылел древний, прекрасный Альтенсберг с его барочной ратушей, с его ренессансным замком, с узкой улочкой и магазинами (все как есть хорошие и разные, точно русские поэты), с его закопченными окраинами и аккуратным модерном. Ты можешь вспомнить, что я описал все это еще до отъезда. Что ж, я не кривил душой: я предвидел, оказалось, провидел… Конечно, тогда отчасти я себя еще уговаривал, точнее, отговаривал. Сейчас пишу так, потому что мне и на самом деле здесь плохо. А где хорошо? Вот уж этого я точно не знаю. Помнишь старый анекдот про еврея, который долго и безнадежно крутил глобус в кабинете милицейского начальника, разрешившего ему уехать, а потом спросил: «Послушайте, а у вас нет другого глобуса?»
Но другого глобуса и правда нет, с чем надо примириться и дотянуть на этом.
Твой Зиновий
Письмо шестое
Альтенсберг
3 декабря
Сегодня не могу удержаться и не писать тебе, милый Володя, потому что со мной случилась беда. Тяжелый удар постиг меня с той стороны, с которой я почему-то (сам не знаю почему) не ждал его, – Конкордия бросила меня, ушла к другому, она живет с другим. Наверное, этого можно было ждать здесь еще в большей степени, чем дома, а ты ведь помнишь, что она и дома уже металась в поисках самых новых идей, слов, умонастроений, ну и, вероятно, мужчин тоже. Вдобавок она приближается к тому критическому возрасту, когда женщине (как, впрочем, и мужчине) так страшно бывает думать, что все лучшее уже было и больше не пережить – ни успеха, ни торжества своей красоты и силы. Может, именно поэтому так возбужденно и с таким энтузиазмом относилась она к идее нашего отъезда, который сулил возможность новой жизни, где все могло начаться снова. Так вот, вероятно, в отличие от меня, она нашла эту совершенно новую жизнь и новую среду, вполне, впрочем, похожую на ту, в которой она отиралась последние годы в Москве.
Она ушла от меня к здешнему киношнику, продюсеру (он что-то делает, при искусстве). И при деньгах. Они снимают какое-то «мистическое» кино. Во всем, что они делают, есть изрядная доля мошенства, однако надо честно признать, что на женскую душу, склонную к метафизике и тусовкам, вся эта деятельность производит большое впечатление.
Но конечно, прежде всего я хотел бы написать о себе, дорогой Володя: это ведь и является главною задачей моего письма и всех моих писем – облегчить свою измученную душу.
Со мной худо. Первое мое ощущение было: это просто невозможно, такого просто не может быть. Мне казалось, что она уже давно стала частью меня. Что нет меня, а есть мы, я и она, наша семья…
Теперь я мечусь неприкаянно, а в субботу вдруг ринулся в Берлин, где разыскал зачем-то контору этого продюсера. Вход оказался со двора, но вообще какой мог быть вход и куда в субботу. Я отыскал дверь и даже окно, заставленное странной доской. Я присел на какой-то ящик и таращился в это пустое окно, как будто мог что ни то разглядеть или понять в том, что с нею, а главное со мной, творится. Полный бред. Самое странное, что я со временем и правда стал различать что-то на этой доске, которой было заставлено окно. Какие-то пятна и линии. Мало-помалу до меня дошло, что это произведение. Как ни странно, я даже узнал его. Это была знаменитая картина Генриха Бердиччера «Вселенская промежность». Я узнал ее по репродукции, которую видел однажды в популярном журнале. В огромной доске, судя по репродукции и описаниям, прорезана была наискось глубокая черта, а чуть повыше центра (помнится, газеты целую неделю спорили, отчего и насколько смещен был этот «центр вселенского полового средоточия» и что это должно было символизировать) наклеены были волосы, клок волос, вероятно, из настоящей промежности (из одной или нескольких – в этом между искусствоведами не было согласия) – курчавые волосы невнятного цвета и происхождения. Насколько мне помнится, обозреватель престижной газеты писал, что близ картины «почти ощутим запах вселенского зачатия», хотя подозреваю, что это просто образ и что нюхать произведение обозреватель все же побрезговал… Но поверишь, милый Володя, безутешно сидя в чужом дворе на ящике, я вдруг подумал, что там могли быть (среди прочих) волосы из ее, Кокиной промежности. («Из нашей промежности», – думал я патетически.) Она лично знакома была с самим великим Бердиччером и не раз мне рассказывала, как глубоко он верит в какую-то там ауру…
Впрочем, моя мысль чаще возвращалась в тот день к пучку разноцветных волос, чем к ауре… Подумай, что же за унизительный, что за рабский институт брак, если он привязывает тебя к субъекту столь ненадежному, как женщина или как ее органы удовольствия, служащие, однако, и детородными органами. Тебе это может показаться смешным, Володечка, но я действительно думал об этих пустяках («о наших пустяках»), сидя на сомнительном ящике во дворе берлинской конторы киношника. Перебирал воспоминания о тринадцати годах брака…
Твой глупый друг Зиновий
Письмо седьмое
Альтенсберг
15 декабря
Дорогой Володечка!
Не работается, не пишется, не живется. И не читается тоже. Правда, вчера я вдруг нашел текст по душе: «Опрется о дом свой и не устоит; ухватится за него и не удержится». Открыл Книгу Иова и обнаружил, что не только эта фраза, а все в ней – жестокая, трагическая поэзия, и все – по больному, обо мне, обо всех нас: «Нет мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье».
Представил, как пришли бы ко мне мои друзья, не будь расстояния и границы:
«И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико».
Там было страдание, несравнимое с моим страданием. Я читал о нем, и боль отпускала меня.
«Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда; но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх».
Даже мысль о краткости моего земного времени, о преходящести моей, и та утешала меня. «Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?»
А потом этот плач Иова, заклинающего Господа:
«И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет».
Человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалями. «Как цветок, он выходит, и опадает; убегает как тень и не останавливается».
Поверишь, Володя, мои жалобы и мои обиды сникли перед жестким и горестным этим стихом, ибо «что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным?»
Нелегкое чтение. Чем дальше, тем больше проникаешься горем Иова и его болью. «Опротивела душе моей жизнь моя; буду говорить в горести души моей…»
Я роптал вместе со скорбящим Иовом, и смирялся, и соскребал гной черенком… Среди ночи, уже засыпая, услышал тихое обещание: «Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем».
Письмо восьмое
Альтенсберг
22 декабря
У меня из окна виден двор, черный асфальт и черно-серая кайма снега. На снегу, спиной ко мне, широко расставив ноги, стоит женщина в черном. Из-за ее спины видно светлое пальто мужчины и еще видны его ноги. Зажглась спичка, он закурил. Она размахивает руками, склоняется к нему, они разговаривают. Мне кажется, что они стоят очень близко друг к другу, но, вероятно, это из-за того, что я смотрю сверху. Что может быть в их разговоре такого, чего бы я никогда не слыхал? Что там может быть, какая тайна? Отчего так волнует меня этот разговор? Может, оттого, что они не знают обо мне. Оттого, что я – невольный соглядатай. Много месяцев (а может, и лет) продолжался тайный, неслышный мне диалог за моею спиной. И может, кто-то слышал его, кто-то о нем знал. В любой тайне чудится мне теперь тайна предательства…
Вчера вдруг приехал ко мне сын из пансиона. У них начались рождественские каникулы, и он решил сначала приехать ко мне, потом к матери. Тешу себя мыслью, что он соскучился (так приятно было бы питать именно эту иллюзию), но не исключаю соображения, что он решил получить от меня что-нибудь на мелкие расходы, в этом тоже нет ничего дурного.
Погода выдалась солнечная, и мы гуляли по окраине городка, возле замка. Он в курсе наших драм и сразу сказал мне, что это дело обычное – любили, разлюбили, разошлись. Именно так преподнесли ему это. Он сказал, что познакомился с новым мужем Конкордии, это вполне успешный кинематографист, о его последнем фильме пишут газеты, он правильно уловил спрос, потому что «Вселенская промежность» Бердиччера войдет в историю: во всяком случае, о ней уже сейчас упоминает курс истории искусств. Он сказал, что, по его мнению, киношник все-таки не будет долго жить с его матерью: все девчонки спят и видят переспать с ним, чтобы попасть в кинобизнес и сняться, а мать все же немножко старовата, она не поспевает за сексуальной революцией. Он сказал это как взрослый, трезво и слегка озабоченно, но потом снова пустился в рассуждения о том, какое место в истории современного искусства займет «Промежность» Бердиччера, смысл которой так своевременно…
Я, конечно, не возражал и ни словом даже не коснулся его рассуждений: могу ли я вступать в идиотические дискуссии или ссориться с ним в один его столь редкостных визитов? Слишком большая роскошь. Чтобы держаться на плаву, я напевал сквозь зубы что-то из его сегодняшнего монолога:
– Спят и видят переспать… Спят и видят переспать…
Он усмехнулся довольный и сказал, что я смог бы написать на эту тему неплохой мюзикл.
– Однако со слухом у тебя, старик… – Он покачал головой. – С таким слухом, как твой…
В заключение он снова порассуждал немного о сегодняшнем кинорынке и снова о космической сущности этой знаменитой «Промежности». Я понял, что ему было бы лестно, если бы его почаще приглашали на все эти киношные тусовки и в ателье знаменитых художников, где бывает весь Берлин, где такой устойчивый запах табака, красок, марихуаны и человеческой спермы. Я дал ему денег и проводил его до автобуса. Он простился со мной как человек независимый, дружелюбный, но не сочувствующий моим бедам, да и не знающий, чему тут можно сочувствовать. Он занял свое место в автобусе и опустил стекло.
– Тебя больше не укачивает? – спросил я.
Когда он был маленький, он не выносил автомашин и автобусов. Сколько раз мы, бывало, вылезали с ним из автобуса или такси где-нибудь у лужайки, у края леса или в самом центре города на перекрестке: мы прогуливались, а таксист ждал нас в машине. Сынуля становился бледным, беспомощным, жался ко мне – я еще бывал ему нужен в те годы, в его ранние детские годы, когда Кока так охотно предоставляла нас друг другу. И я был нужен. Вероятно, для того и заводят ребенка, маленькое, неприспособленное к жизни существо, чтоб быть кому-нибудь нужным… Но время идет так быстро.
Напоминание о детстве, как всегда, вызвало у него раздражение.
– Квач, – сказал он лихо. – Все квач..
Я подумал, что, останься он в России, у него был бы уже новый тамошний жаргон.
На обратном пути к дому меня вдруг охватило идиотское, паническое чувство страха. Я подумал, что у меня украли сына. Я бросился назад, к остановке и едва успел на последний берлинский автобус. Я не знал, зачем еду. Вероятно, я хотел помешать ему увести и сына, может быть, даже убить этого человека с истасканным бабским лицом… На полдороге я одумался и вернулся.
Прости, дорогой Володя, что я рассказываю тебе все эти истории. Кому же еще их рассказать?
Твой Зиновий
Письмо девятое
Альтенсберг
31 декабря
С Новым годом, Володечка!
Я спокойно пережил в одиночестве ажиотаж здешних рождественских праздников. Переживу в одиночестве и новогодние. Помнишь, как волновали нас эти праздничные дни в юности: всеобщая спешка, взвинченное состояние уличной толпы под вечер, а потом сразу – пустеющие поезда метро и, наконец, полночь: что-то происходило с течением времени в этот миг, что-то происходило в природе и в людском муравейнике. Ах, включите скорее телевизор, чтобы успеть наполнить бокалы, когда кончит свое приветственное слово вождь, только звук, ради Бога, уберите звук его речи. Кончил? Разливайте шампанское. И вот уже – бам-бам – бьют кремлевские куранты, меняются прейскуранты, надо чокаться, надо кричать ура – ура, товарищи, ура! Он наступил!
Я уже много лет тому назад стал различать в глазах пирующих вполне обоснованный страх – что он нам принесет, этот Новый год? И еще неизбежную мысль – не последний ли?
Но не все ли равно? По временам охватывает состояние такого полного безразличия к самому себе, что я становлюсь как бы другим, вторым человеком, который наблюдает за тем, за первым, со стороны, без особого волнения, в полном понимании того, как ничтожно все, что со мной (то бишь с ним, с первым) происходит. В этом состоянии полной нечувствительности есть свое утешение, удается настолько отделиться от своих эмоций и болей, могу по выбору перевоплощаться в то или иное существо, вставать на иную – в другое время совершенно чуждую мне – позицию, могу взглянуть на мир чужими глазами. Например, глазами бывшей жены. Да, да, даже глазами Конкордии! Я понимаю теперь, насколько естественно было для нее влюбиться в этого человека и сколь оправдан был (с ее точки зрения) этот переход от медленного угасания женского ее естества к новой надежде на возрождение, физическое и духовное. Я даже представляю себе, через какие ей пришлось пройти мучения, если чувство собственной неправоты не оставляло ее при этом. И если я прощаю себе столь многое, я тем более должен простить ее. Состояние это способно размягчить меня, хотя она сейчас, вероятно, не нуждается в моем прощении, она его не ищет…
На днях, возвращаясь домой, я нашарил в кармане ключ от почтового ящика и вдруг представил себе, что нахожу в нем извещение о собственной смерти. Я подумал, что время и место были бы вполне уместны и даже выгодны для бесхлопотного моего исчезновения: я никого не подведу, ничтожные мои пожитки пойдут хозяйке в уплату за лишнюю неделю… Помнится, я даже повертел в руках это извещение и хотел спрятать его во внутренний карман пиджака, когда обнаружил, что в руках у меня ключ от почтового ящика и что я еще не открыл ящик.
До свидания, милый мой Володя. С Новым годом!
Твой Зиновий
Письмо десятое
Альтенсберг
10 марта
Дорогой Владимир!
Начал писать тебе в пивной, на салфетке, мучимый потребностью в общении. Ты спросишь, отчего я не общаюсь с теми, кто живет рядом. Трудно сказать почему. Попадаются вполне симпатичные люди, и на элементарный разговор по-немецки у меня хватает слов. Правда, на серьезный разговор не хватает ни слов, ни знания здешней психологии и реалий их жизни, ни общности жизненного опыта, ни даже опыта культуры.
Считается (и вероятно, справедливо), что русские – молодая нация. Так вот у меня ощущение, милый Володя, что мы с тобой старше их всех лет этак на триста. Всех этих людей с их энергичными заботами о сегодняшнем дне, их неистребимой верой в прогресс, их любопытством к политике, их потребностью повышать «качество жизни». Даже в пределах своего поколения я чувствую себя намного старше их всех, хотя внешне выгляжу моложе многих.
На съемочной площадке, где я работал недавно переводчиком, это ощущение было особенно остро. Ты ведь знаешь немножко специфическую киношную публику и атмосферу на съемках. Взаимное равнодушие и разобщенность достигают там своего наивысшего, чистейшего выражения, и меня всегда смешит попытка романтизировать это занятие…
Но сегодня я дремлю в пивной с кружкой пива. Сегодня 10 марта. Ты, может быть, помнишь, Володя, что этот мартовский день был для меня особенным: ее день рождения. С утра я отправлялся по магазинам, покупал вино и закуски, отвечал на телефонные поздравления, изыскивал подарок. Приходили друзья, сперва по большей части ее друзья, а позднее и мои, а также наши общие друзья. Мои друзья относились к ней с годами все лучше: у нее была своеобразная и милая манера размашистой, почти безграничной щедрости. Своеобразие ее доброты заключалось в том, что она распространялась только на людей более или менее чужих – на недавних знакомых, друзей, соседей, реже – на моих родных и близких. Сам я попадал в самую последнюю категорию, и вряд ли кто догадывался, что ко мне она не была добра. Как ни странно, я долго не задумывался о причинах этого. Да и редко обращал на это внимание, особенно по весне, в марте…
Ах, как хороша бывала в Москве и в Подмосковье первая неделя марта! Солнце, снег, синее небо, запахи весны, белотелые лыжники, голые до пояса. Здесь в марте промозглая сырость, в городе холодно, слякотно, дымно…
…Помню, как гости собирались в нашу тесную квартиру под вечер. Позднее у Конкордии появились свои, новые друзья, всякий раз еще новей. Красивый музыкант Сеня, два художника-авангардиста, какие-то новые женщины, с которыми она дружила горячо и недолго. Из числа новых ее гениев, как я теперь понимаю, и были ее любовники. Странно, что только сейчас я начал понимать, что они давно обживали наше скучное брачное ложе, все эти музыканты и художники. Боже, как не любопытны, самоуверенны и слепы бывают мужья! Если ноги женщины до самого лобка покрыты синяками непонятного происхождения, кто, кроме дурака-мужа, поверит, что это следы неловкого хождения между письменными столами «в присутствии»? Особенно коварны эти столы «в присутствии» в недели твоего отсутствия. А позвонив из командировки среди ночи и не застав жену дома, только муж может «ничего не понимать». Значит, ему так удобнее, так спокойнее. Его спокойствие требует веры в непорочность «жены Цезаря». Эта вера делает его надменным. Все такие, а моя не такая. Она не от мира сего, бескорыстная читательница книг, искательница истин – где-то между Тартусской школой, Первой парикмахерской и придворным абортарием имени Клары Цеткин… Но может, так всем было удобно?
Зиновий
Письмо одиннадцатое
Пригород Альтенсберга
10 апреля
Дорогой Владимир!
Вчера весь день хотел написать тебе наконец веселое, даже ликующее письмо: весна, весна… О, конечно, она и сама по себе чудо, весна, но не в этом дело, а в том, что я был вчера в состоянии разглядеть весну. Она была чудесна, как бывала когда-то на нашей милой родине – в России, на Кавказе, в Таджикистане или в Хиве. И вот пришла сюда… Чтобы ее увидеть, нужно было сдвинуться с места, преодолеть оцепенение, неподвижность.
Толкуя о чем-то с редактором в театральном бюро, я рассказал ему, что на родине мне хорошо работалось только за городом. Он сказал, что у него есть маленьких коттедж, ну нет, не какая-то там вилла, а так, пустячок, домик с садиком, но он очень-очень редко туда выбирается, так что, если меня ничто не держит в городе, то он даст мне ключ от хибарки, и ему даже приятно будет знать, что там кто-то живет. Тысячу раз приходилось мне слышать в России о том, что немцы прижимисты, и вот, сколько здесь живу, замечаю обратное. Ну да, другие традиции, меньше мотовства, но и жадности не замечал…
Короче, я оказался, друг, среди садов, огородов, на склоне горы, среди ручьев, по весеннему набухающей земли, едва зазеленевших деревьев. Я был в упоении от этого нового одиночества, впрочем, какого там одиночества, напротив, заполненности. Одиночество было там, в каменной пустыне города, в неутешительном многолюдье пивной, а здесь ты не один живой – птицы, деревья, какие-то букашки. Неудержимо тянуло вверх по холму, выше, еще выше, и в кои то веки потянуло к пишущей машинке. Вот уже несколько дней я живу так и почти не думаю обо всем, что случилось со мной за последнее время.
Обедаю в придорожных харчевнях, ужинаю в домике, у печурки, просыпаюсь от того, что солнце добирается ко мне в лачугу. О, летом она, наверное, выглядит почти шикарно, но сейчас везде зимний хлам, лишние вещи, стекла в домике немытые, шторы пыльные. И холодновато еще, конечно. Вообще, удобства спартанские. Зато, когда приласкает мое крылечко весеннее солнце, все забывается, ловлю кайф на своей уединенной «вилле» у горного склона, грызу сухари, пишу. С благодарностью вспоминаю благодетеля-редактора и всех, кто томится ныне в прокуренных своих конторах и провонявших своих студиях. Смотрю на дерево: вот она жизнь, вот он Божий мир! Таким сотворил его Господь, недаром Он и сам умилился его красоте.
Вспомнился Карамзин, который удрал в подмосковное Кунцево, где были (и еще уцелели отчасти) огромный парк, река, где были нарышкинские деревни и роскошные церкви (в стиле «нарышкинского барокко»), были цветы, луга, коровы, поселянки. Он поселился тогда в пустующем барском доме, бродил, слушал пение крестьянок, пил молоко, собирал цветы и с удивлением вспоминал о хозяине этого дома, который толчется зачем-то в провонявшей бальной зале в каменном Петербурге. И, вспомнив, писал снисходительно: «Мир принадлежит тем, кто им пользуется, и это может примирить нас с бессовестными богачами». Писал в самом начале позапрошлого века, да и мой случайный визит в любимое Кунцево был не вчера.
Вечерами я иногда выбирался до ближайшей улицы окраины, где заприметил телефон-автомат, – чтоб позвонить редактору, сообщить, что у него на «вилле» все в порядке. Больше звонить было некому. Это было странно и горестно – видеть телефон и понимать, что звонить больше некому и незачем. Помнишь, милый Володя, телефон, звонивший без умолку и отрывавший от работы. Часто мы нарочно удирали куда-нибудь за город, где не было телефона… И вот стало некуда звонить, некому звонить. Пораженный этим, я стоя возле телефона-автомата, утешал себя тем, что вот теперь, когда незачем звонить, я сяду и допишу, что хотел… Загорится одинокий огонек среди садов и поля, на склоне горы – и буду писать. Я думал так, но отчего-то не спешил на свой автобус, вспоминал, что от конечной остановки автобуса надо шагать еще с километр по дороге. Солнце зашло, стало свежо. Карамзин, одиночество, молодая зелень деревьев, шорох какой-то живности в траве, зовы набухшей земли – утешали меня все слабее…
Две молоденькие немки подошли к автомату, набрали чей-то номер, заметив меня, пошептались: может, обсуждали – стоит ли звонить кому ни то наобум, когда вон стоит одинокий кадр, стоит скучает…
Я заговорил с ними, они отозвались охотно, и мы вместе пошли прочь от автомата по окраинному району новостроек – здешние Черемушки, здешние Кузьминки, ашхабадский Четвертый, душанбинский Жиркомбинат – целый мир постылых «микромиров».
Немки были совсем молоденькие, лет девятнадцати. Одна высокая, с белыми распущенными волосами до попы, вторая приземистая, грудастая, простенькая, впрочем, вполне аппетитная. Мы погуляли с полчаса, и длинноволосая сказала, что пора расходиться. Я предложил проводить их, но длинноволосая резко повернулась и ушла. Ее подруга взяла меня под руку, мы пошли вдоль шоссе, поймали такси и доехали до моей холодной лачуги, где пили дрянной шнапс и пытались согреться. Потом мы забрались в постель, и она почувствовала необходимость все же оговорить какие-то условия. Я был согласен и знал, что условия бывают самые торжественные. Например, пообещай мне, что мы встречаемся в последний раз. На сей раз все было так же серьезно:
– Только обещай мне, что я сперва докурю сигарету…
Я дал этот зарок тем более обреченно, что давно уже не встречал молоденькой девочки, которая больше любила бы целоваться, чем курить. Как человек некурящий и вдобавок немолодой я терпеливо ждал исполнения ритуала и даже гасил пламя на редакторском одеяле, немало уже настрадавшемся от окурков. Потом я долго разогревал жертву своих желаний, доводил ее до кондиции, пока, наконец, оседлав меня, она не въехала в простенький рай оргазма, да и я тоже получил свой минимум, он же максимум, а потом долго глядел на ее крепенькое тело, на очумелые глаза и разметавшиеся волосы. Она уснула на моем плече, даря ощущение близости.
Обнимаю.
Твой Зиновий
Письмо двенадцатое
Альтенсберг
7 мая
Дорогой Владимир!
Давно не писал тебе. Впрочем, я вообще не знаю, когда ты получил мое последнее письмо. Я болел, находился на излечении. Болел я, заразившись от молоденькой немочки, с которой провел одну-единственную ночь. Страдал от болезни, которую в старину было принято называть «дурной», так словно бывают еще и «добрые» болезни. Название это всегда казалось мне несправедливым, да и стыдливое отношение к этой болезни тоже. Впрочем, болезнь эта столь часто связана с невоздержанностью и неразборчивостью в интимных отношениях, столь часто является наказанием за то, что человек и сам ощущает как проступок, как «дурное дело», что она, может, все-таки и заслужила свое позорящее название. Хотя, конечно, с точки зрения чисто практической, лечебной, легче было бы, если бы люди, обнаружив у себя ее признаки и не тратя время на бесполезные терзания, как можно раньше обращались к врачу. С другой стороны, утратив страх перед этим нередким последствием прелюбодейства, люди, «лишенные устоев», могли бы оказаться на еще более губительной стезе личного поведения…
Легко догадаться, что душевное состояние мое, когда я обнаружил, чем болен, было самое что ни есть удручающее, даже можно сказать, суицидальное, не соразмерное ни моему умеренному физическому страданию, ни возможным последствиям болезни. Заметив симптомы заболевания, я бесконечно кружил по улицам, а наткнувшись на вывеску врача, проходил мимо, возвращался, останавливался и раз, и два… Потом мне пришло в голову, что боязнь огласки не имеет здесь оснований, хотя бы потому, что почти никто не знает меня в этом городе и никому нет до меня дела, да и мне тут все безразличны. Осознав это, я зашел к первому же врачу, чья вывеска мне попалась. Я смотрел на него со страхом и надеждой, с желанием довериться ему целиком, во всем положиться на него, подружиться с ним и даже возлюбить его, как брата. Он был мягок и обходителен. Он заметил, как дрожат мои руки, когда я расстегиваю штаны, и, сжалившись надо мной, сказал, что ничего страшного быть не может, не бывает вообще – ничего страшней войны. Да, он видит, он понимает, так что он постарается сделать анализы еще сегодня, я могу заглянуть вечерком.
И вот я снова на улице, снова во власти своих страхов, сомнений, суицидальных побуждений. Я вспоминал многочисленные рассказы московских друзей о подобных передрягах, лихие фразы друга-поляка о том, что это сущая безделица («мялэм сифа», – сказал он легкомысленно), что через три дня он все забыл… Но эти его три дня еще не прошли, и я метался по чужому городу как зачумленный. Под вечер, в кафе, ко мне пришло успокоение. Я послушал музычку, съел какое-то кофейное желе за три копейки, потом выпил пива. Я подумал, что, если бы врач объявил мне нынче смертный приговор, и тогда не случилось бы ничего слишком страшного: я прожил свое, познал так много из отпущенного нам, а ведь и более достойные, чем я, уходили раньше.
В конце концов врач сказал мне, что предстояла докука лечения, очередное унижение духа и плоти, предстояло жить и мучиться.
Кстати, вечером он встретил меня без прежнего радушия, а я так уповал на него, и мне грустно было, что он угрюм. Он сказал, что да, есть, обнаружены у меня эти гнусные штуки, так что придется… Увидев отчаянье на моем лице, он сказал, что страшного, впрочем, ничего не случилось, что лечение не будет таким уж мучительным, что он может заняться и сам, но все же хотел предоставить мне выбор: у него это довольно дорого, и если это для меня не безразлично… Есть еще одна возможность, и он считает, что так будет даже лучше. Можно лечь на несколько дней в бесплатную клинику, где все сделают обстоятельно, не спеша. Он узнал, что как раз сегодня в клинике освободилось место, и, если я не настаиваю на особой секретности… Я был в нерешительности, и меня успокоил его добрый голос: «Но что, собственно, случилось? Отчего же вы так…»
И ведь правда, чего мне здесь бояться, чего стесняться? Вот если бы там, если бы дома… Врач спросил, могу ли я отправиться в клинику завтра или даже сегодня. Сегодня дежурит его друг доктор Рольф, который меня примет. Я сказал, что пойду сейчас же, поблагодарил его, заплатил за визит, с грустью подумал, что, может быть, никогда больше не увижу этого человека, который сегодня значил для меня больше, чем бывшая жена, чем друзья и родные, оставшиеся по ту сторону границы, мою жизнь разделившей.
Доктор Рольф принял меня с добродушным, с чуть грубоватым, но вполне обезоруживающим юмором, и я на неделю водворился в отделение с пугающим названием – среди таких же, как я, бедолаг. Здесь был на редкость симпатичный молодой рабочий, не очень образованный, но читающий и даже думающий. Здесь была прелестная молодая пара (она то и дело тайком прибегала из женского отделения и совсем свыклась с нами) – молодожены, жившие в нежнейшем согласии, несмотря на сложную психологическую (и гигиеническую) ситуацию, в которую они попали в результате его неверности. Он не переставал казнить себя, хотя она простила его и, как мне подумалось, только сейчас смогла любить по-настоящему. Болезнь и процедуры мучили нас вполне умеренно, мы не стеснялись друг друга и не общались с внешним миром. Большую часть дня я сидел на скамейке в больничном садике и думал о человеческом братстве, которое у нас сложилось. Может быть, братство – слишком сильно сказано, но и словом «коллектив» называть наше общество не захотелось. Впрочем, ладно, пусть коллектив. Главной особенностью его было благожелательное друг к другу отношение, сочувствие, прощение. То, что случилось с нами, помогло нам осознать, с одной стороны, собственное бессилие перед судьбой и обстоятельствами, с другой стороны, необходимость некоей если не выдержанности, то хотя бы настороженности. Душа моя здесь отогревалась. Ты знаешь, что в Москве у меня были друзья, благожелательно настроенные женщины, холодноватая, но близкая духовно жена моя, однако давно уже не было у меня коллектива, а здесь…
Вот подошел краснолицый служащий со своим немолчным радио, и я, всегда люто ненавидевший радионосителей, спросил почти добродушно: «Опять Оффенбах?» И он заржал радостно: «О да, Оффенбах! А хотите послушать Москву?»
Хочу ли я послушать Москву? Услышать фамилии знакомых авторов, сладкие голоса знакомых дикторов, а может, и собственную старую передачу? Нет, право же, не хочу. Я поблагодарил его за предложение, но он, догадавшись, что Оффенбах мне тошен, приглушил свое радио…
Я смотрел на калитку, отделявшую нас от энергичного мира здоровых людей, и, поверишь, мне хотелось, чтобы время замерло. Да, мне было спокойно. Я смотрел на железную калитку затуманенным взглядом и, знаешь, почти не удивился, когда калитка вдруг стала приоткрываться со скрипом, а открывшись окончательно, впустила мою бывшую жену – Конкордию, существо бесконечно знакомое и в то же время далекое и чуждое, пожалуй, даже враждебное. Она подошла, поздоровалась со всеми, потом со мной, спросила, можно ли ей посидеть, и, не дождавшись ответа, села, не брезгливо, а просто осторожно, просто нерешительно, потому что не знала, можно ли. На лице у нее была виноватая улыбка, которая нам, людям, гуляющим по этому садику, так хорошо знакома – почти что опознавательный знак нашего братства.
Краснолицый служащий с транзистором ушел, а за ним мало-помалу тактично разбрелись все остальные, проявляя столь редкую и на этом и на всех других уровнях общества деликатность. Мы остались одни на скамеечке, на солнце, она, кажется, стала успокаиваться, ибо не увидела в моем лице ни боли, ни озлобления, ни страсти. Мне не нужно было расспрашивать ее ни о чем. Она все же сказала, что мальчик здоров, что он часто спрашивает обо мне и даже забрал у нее две мои книжонки, вышедшие по приезде сюда в немецком издательстве. Я и без расспросов понял, что могло произойти у нее с ее продюсером, и подумал, что говорить об этом вообще не стоит. Мы долго молчали, греясь на солнышке, железная калитка нашего мира словно бы отгородила меня, да и ее тоже, от всяческих новых невзгод. В этом молчании переполнявшие нас обиды и горечь, пожалуй, таяли понемногу, и странное чувство стало переполнять мое существо. Оно не имело ничего общего с понятием о любви между мужчиной и женщиной, и тем не менее это, возможно, была любовь. Может, это и была любовь в том смысле, в каком употребляют его люди верующие, которые пишут на стенах молельного дома: «Бог есть любовь». Это было почти полное взаимопонимание и сочувствие – без единого слова и жеста, совершеннейшее душевное общение, легкое и радостное, абсолютно бескорыстное чувство (какая корысть ей во мне, да и мне в ней тоже?). Сочувствие, дававшее неизвестную мне дотоле полноту растворения в другом без страха потерь и без сожаления, безо всякой задней мысли…
Нас позвали на ужин. Она встала, умиленным взглядом проводила молодоженов, спросила, можно ли ей прийти еще завтра, сюда же, в это же время, до работы. Я сказал, что конечно, если только не будет дождя. Она приходила каждый день, пока я был там, но вот вчера меня выписали, я вернулся в свой пустой дом, не знаю, что будет со мной дальше, что будет с ней, ничего не знаю, милый Володечка.
Письмо тринадцатое
14 октября
Дорогой Володя!
Захотелось написать и еще отчего-то проститься с тобой, даже не знаю толком почему. Ну да, конечно, я улетаю на какое-то неопределенное время – неопределенное не потому, что дела зовут меня туда надолго, а потому что не знаю, куда и зачем захочу возвращаться. Улетаю в Африку. Киношники вдруг разыскали меня: режиссер когда-то читал мою африканскую повесть, и вот теперь они хотят, чтобы я на месте, по ходу съемок, помог им переписывать сценарий, в котором все обычные кинобанальности решено перенести на почву каннибальской экзотики, в городок прокаженных. Режиссер не стал, как все люди, строить африканскую деревушку на немецкой студии, а выбил деньги на экспедицию в настоящую африканскую деревню (небось он там еще и прокаженных найдет, с него станется). И вот мы летим в какую-то деревню снимать, дописывать, переписывать, переснимать. Этот мой переезд еще на одно новое место как будто не должен был бы давать особого повода для прощания, и тем не менее мне почему-то захотелось сказать тебе именно сегодня: прощай, прости, прощаю…
В том же немецком пансионате останется мой сын, а в Берлине по-прежнему живет Конкордия (она сотрудничает в каком-то рекламбюро и даже что-то зарабатывает). Если ты получил мое предыдущее письмо, ты знаешь, что мы с ней помирились, однако жить я с ней, как стало ясно, больше не смогу, а может, и не только с ней. Невозможно после того, что случилось со мной, что случилось с ней, точнее, из-за того, что такое вообще случается и что всегда этого можно ждать. Жить в ожидании такого я не могу. Даже не могу сказать, что самое страшное в этом нашем «случается». Вероятно, предательство, ожидание предательства, самая возможность предательства. Можно ли существовать в мире с Иудой, в мире потенциальных Иуд, хотя бы и вполне мирных? Иуды не вешаются больше в мире повседневного предательства, они ассимилировались, они опростились и только в чрезвычайных случаях вдруг просят прощения: «Прости, милый, я тебя предал, но я существо слабое, значит, судьба… Или не судьба». Им прощают все, даже распятие, но жить в этом мире предательства больше не хочется. Что-то вроде того…
Итак, прощай, Володечка. Улетаю в Черную Африку из черного европейского мрака, и душа моя погружена во мрак, из которого вряд ли выведут меня новое путешествие, экзотика джунглей и деревня прокаженных. Вот и захотелось проститься с тобой. Передай привет всем нашим. Ношу в душе огромную нежность ко всем вам, нежность, очищенную расстоянием, разлукой, нереальностью нового свидания, ностальгическим преувеличением всего, что было. Прощайте и дай вам Бог…
Ваш Зиновий
Послесловие редактора
Этот краткий эпилог, точнее, я мог бы даже назвать его некрологом, потому что автор и герой этого повествования Зиновий Кр-ский (теперь уже можно раскрыть, что истинная фамилия его была Красновский) погиб при неизвестных обстоятельствах в пробуждающейся к новой жизни Африке. Его друг Владимир, чей адрес был в свое время найден нами в бумагах покойного, получил это печальное известие из Африки и принес нам его вместе с последними письмами друга. Это тем более печально, ибо Зиновий не успел получить пространного и теплого письма от своего друга Владимира, который намерен был отправить ему также русские книги и газеты, что ранее просил его друг. Зиновий погиб, не получив ни письма, ни газет, но этот поистине печальный конец все-таки можно было предусмотреть заранее, ибо бесславная гибель ожидает всякого, кто даже в мыслях своих решится покинуть гостеприимные сосцы вскормившей его родины-матери. Так что будь ты трижды опытным литератором или журналистом, пожалуй, не скажешь на эту тему лучше, чем сказал братский чешский литератор Плугарж: «Покинешь меня – помрешь». Это в полной мере оправдалось в случае Зиновия Кр. Остались разбросанные по свету его два лишенных родины родственника, сохранились теплые воспоминания его друзей и вот, как вы заметили, – кипа бумаг, которую Зиновий как бы завещал мне, своему старому другу, знакомому и приятелю.
Некоторым из прежних друзей Зиновия, в том числе и пресловутому Владимиру, могло показаться странным, что Зиновий сделал подобный выбор, остановив его на мне. А между тем выбор этот, даже и помимо моей редакторской опытности по части пробивания всяких труднопроходимых опусов, был отнюдь и далеко не случайным, хотя сам я, признаться, никогда не был ни самым близким, ни самым задушевным другом детства для покойного Зиновия. Этот выбор говорит о наличии у него верного психологического чутья. Несмотря на наши коренные идейные расхождения, Зиновий понимал, что человек, который имеет пусть даже противоположные убеждения, все-таки надежнее, чем человек, не имеющий убеждений. Зиновий не зря отдал предпочтение человеку нашего, военного поколения перед теми, пускай даже сочувствующими некоторым из его взглядов молодыми людьми с критическими и, по существу, даже циническими воззрениями, в которых, как он, наверное, заметил своим острым писательским зрением, настолько сильно развито стремление к личным успехам – успехам, достигнутым моими сверстниками лишь в результате их мужества, военных заслуг и возраста, что мне иногда даже становится жаль тех огромных усилий, которые тратят эти молодые люди, потому что количество претендующих все растет, а личные успехи, надо признать, увеличиваются не в такой геометрической прогрессии. Другими словами, просто противно бывает временами видеть, как эти молодые люди при всех своих как бы высоких воззрениях шустрят перед любым начальством, ходят на цырлах и делают все, что нужно, сохраняя при этом в кармане страдальческую позу цинизма (все, мол, нам известно, все понятно, пусть себе дураки тешатся своей принципиальностью). В том, что Зиновий с такой уверенностью в свой последний раз положился на старого приятеля, виден его правильный подход к жизни, которым сам он, к сожалению, страдал весьма редко.
Я надеюсь, что, несмотря на довольно-таки отрицательное содержание, на отчасти безыдейный характер и низкое литературное качество этих непритязательных бумаг, оставленных на мое имя покойным другом, мне все-таки удастся издать их, выполнив таким образом, хотя и косвенно, но недвусмысленно выраженную волю моего бедного товарища. Спи спокойно, дорогой Зиновий!
В.А. Мякушков
Бульвар Сен-Мишель Часть первая Ночь на БульмишеПохоже, что в целом парке их было только двое, нет, вон еще, все же трое – старичок с газетой, огромный черный африканец в белой нейлоновой рубашке таращится на газон и он сам, Русинов, в старой спартаковской маечке (именинный подарок, одна тысяча девятьсот семьдесят пятый год), таращится на аллею и, подобно африканцу, презирает старичка, с головой укрытого газетой. А где же остальные, где они, все прочие парижане, ну хоть те, что не ушли на работу и не заняты домашним хозяйством, – они что, не хотят видеть нежную листву плакучих ив, окрасивших перспективу аллеи в многоцветье зеленого? Видеть цветы? Тонкую рябь на пруду? Лебедей? Они что же – равнодушны к щебету птиц? Ведь парк почти в центре, где же они, парижане? Вах, парижане в Париже. Они в настоящем Париже. Они уже уселись за столики на тротуарах. Они вдыхают бензин и провожают глазами женщин. Они пьют эльзасское пиво, сок, оранжину или просто воду, подкрашенную сиропом. Им до фени эта зелень, и блеск, и роскошь раннего лета…
А старичок впился в газетный лист – он хочет знать, что сказал Жискар, когда узнал, что Барр в ответ на вопрос «Франс-суар» бросил франк в писсуар и отправился в бар, что еще… А то – как отреагировали на это румынский посланник, а также немецкий избранник, похожий на мятный пряник, и что стало известно из высших сфер про то, что русский премьер по поводу срочных мер – о Боже, на какой же хер…
Русинов почувствовал подъем. Может быть, впервые за долгие месяцы, проведенные в прекраснейшем из городов, который пора бы уже и посмотреть, что ли… Как-то недосуг было посмотреть Париж, прекрасный Париж, и прекрасную Францию, а все только потому, что он был здесь не турист, не вояжер, что он пришел навеки поселиться, прибыл на жительство – а стало быть, нужна прописка, работа, что там еще… Нет, нет, дело, конечно, не только в прописке, в префектуре, а вообще – в разных идиотических хлопотах по поводу дальнейшей жизни, неизбежные хлопоты свежего эмигранта по поводу будущего. Черт, прожил ведь долгую жизнь, никогда особенно не печалясь о будущем, и вот…
Вообще, положа руку на сердце, Русинову повезло в Париже. Надолго ли, нет ли, но с площадью у него все устроилось. Причем совершенно случайно. В кафе. Да, в настоящем парижском кафе. На бульваре Сен-Жермен. Кажется, даже в знаменитом «Де маго», где Людка, жена Дашевского, хотела угостить его кофе. Что значит, хотела – она бы и угостила, но выяснилось, что Русинов не пьет кофе. Он сказал: «Пей сама» и понял, что это было с его стороны очень мило. Вот тогда и подошел этот малый. «Старик, – сказал он, – ты бывал на "Мосфильме"?» Русинов уже давно не дорожил этим обращением. Оно противно напоминало о возрасте, а также о журналистском прошлом. Напоминаний о «Мосфильме» он тоже не любил: не такой уж это был приятный хлеб – писать сценарии для «Мосфильма». В общем, сама по себе фраза эта не радовала, но, с другой стороны, такое не каждый день случается на Сен-Жермен. Подошел вот так и спросил, вполне доброжелательный и милый русский. Вот он-то, этот Олег, он и сунул Русинову после недолгого разговора ключи от мансарды на Монпарнасе: «Живи, старик, я там все равно бываю редко».
И надо сказать, в эту минуту Русинов не только разрешил проблему жилплощади с простотой, недоступной для парижанина, но и приобрел жилье, в котором весьма приятно было находиться. В первые годы парижской жизни, ошарашенный бездельем, этот Олег накупил довольно много книг и перетащил их в мансарду. Мебели он не ставил вовсе, окно мансарды выходило в тихий двор старого монастыря, но с фасада был Монпарнас и все в том же роде. Поначалу Олег решил всерьез заняться Русиновым, поскольку заниматься Олегу было нечем. Он был женат на милой, довольно богатой француженке и вел здесь тот образ жизни, который, если верить великим образцам американской литературы, только и подобает вести богатому иностранцу, проживающему в общеевропейском Вавилоне. В первый же вечер Олег потащил Русинова в «Селект», который сильно выдвинулся в парижском мнении за последние годы. Олег сообщил, что и «Де маго» и «Кафе де флер» уже несколько «демоде», а ходить надо в «Селект», – потом, старик, потом мы с тобой посидим в «Ротонде», в «Куполе», в «Клозери де Лила» – там еще неплохая пища, хотя чертовски дорого, это да, и вот еще деталь, там любили сидеть Троцкий и Ленин… Впрочем, до «Клозери де Лила» дело у них не дошло. Олег довольно скоро забросил это русиновское образование, и виноват был здесь, конечно, сам Русинов, точнее, и не Русинов даже, а то злосчастное свойство его натуры, с которым не только что ездить по Парижам, а и дома-то сидеть чаще всего бывает неловко: Русинов был непьющий…
Хотя многие сидели в этом кафе трезвыми, как стеклышко, Русинову как человеку русскому сидеть в кафе трезвому было все-таки неловко (уникальный русский паспорт был сдан им при выезде, и Русинов все чаще забывал, что числился дома по разряду евреев – в порядке уточнения он лишь добавлял, что он не «рюс бланш», а новый, или, как говорили французы, «рюс совьетик»). Неловко до такой степени, что он ощущал ломоту в костях и желание прилечь на диван, а еще лучше уйти домой, как бывало с ним в последние годы после завершения любви в чужой, а не в своей постели.
Впрочем, эти неудобные явления стали очевидны не в самый первый раз, когда они пришли в «Селект», а примерно во второй или даже в третий… В первый раз все происходило как бы в тумане, потому что это был сам Его Величество Монпарнас, кругом кипел-гудел парижский и эмигрантский бомонд, здесь говорили по-английски, а вокруг них были люди с незаурядной биографией. Он же, Русинов, и вовсе был только что оттуда, из страны, подарившей миру Идею, из ледяной страны Гулаг, откуда только что выбрался, так что он был в центре внимания – едва успевал улыбаться в бороду и представляться, и при этом Олег сообщал ему на своем вполне разборчивом московском «дуюспикинглиш»:
– Это из Канады, художник. Он сейчас продал серию гравюр по стихам Вознесенского…
Художник заговорщицки подмигивал Русинову, давая понять, что у них есть общая тайна, а тем временем Олег уже представлял Русинову новую знаменитость, долговязого американца Джонни, который то ли воевал где-то во Вьетнаме, то ли знал о России что-то такое, чего не знал даже сам Солженицын. Были еще две страшные, но очень какие-то интеллигентные и содержательные дамы, раскрыть содержание которых Русинову не захотелось по причинам психофизического свойства; было несколько девочек, которые вырвались из своей захолустной то ли Англо-Голландии, то ли Финно-Германии в настоящий центр культуры; был знаменитый каратист, которого все усердно поили на случай большой потасовки. Все это мельтешило перед глазами, создавая впечатление богемности и праздника, который всегда с тобой, если его все время поддерживать возлияниями…
В тот первый веселый вечер Русинов ушел в мансарду не один, а вместе с девчонкой из ФРГ, которая за всю свою долгую половую жизнь (сексуальная революция застигла ее в шестом классе, а тому уже минуло лет пять) не спала еще ни с одним русским оттуда, так что и ей, и ему предстояло некое приятное открытие, которым они собирались поделиться с потомками (Русинов со своими будущими читателями, буде они когда-нибудь возникнут, а девочка, вероятно, с будущими детьми). Русинову показалось, что сексуальная революция не внесла ничего нового в саму технику секса, тем не менее молочно-розовая белизна маленькой немки, ее неостывающий интерес к любовному занятию и неожиданная мягкая пассивность принесли Русинову в ту ночь продолжительное удовольствие и неприятное сердечное недомогание поутру. Русинов попутно отметил, что мансарда вполне оборудована для веселия, и пожалел, что настроение его, кажется, не вполне соответствовало открывающимся новым возможностям. К этому несоответствию он, впрочем, уже начал привыкать в Москве, после развода с последней женой. И к сердечному недомоганию. И даже к глухому недовольству собой, похожему на раскаяние: на черта было это все затевать? Зачем мы это делали? Так ли уж оно безобидно, это занятие? И неужели для меня это так же соблазнительно и неотвратимо, как для нее, бездумной дурочки с дикого Запада?
Второе посещение кафе «Селект» было уже менее интересным (тогда, вероятно, и появилась привычная ломота в теле). Прислушавшись внимательней к разговорам, Русинов нашел их бессодержательными и, несмотря на скудную выпивку, пьяно-бессвязными, а потому для него, трезвого, унизительными. Он заметил, что для присутствующих здесь, как и для него, важен был самый факт, что они находятся в Париже, на Монпарнасе, в самом что ни на есть модном кафе, среди людей, каждый из которых представляет собой «что-то» (проверить это последнее не представлялось возможным). Русинову вдруг вспомнилось, что в московском баре «Октябрь» на Калининском проспекте, куда загнал его однажды дождь, или в баре Ласло в Ялте царила точно та же атмосфера избранности. Как человек, быстро ко всему привыкающий, Русинов привык к мысли о Париже и Монпарнасе, после чего ему стало нестерпимо скучно. Он понял, что утратил уже остроту этого переживания, и позавидовал английской школьнице, которой канадский интерпретатор Вознесенского демонстрировал в тот вечер «гнездо разврата». Потом он стал наблюдать за Олегом. Олег был «человек оттуда» и сейчас намекал собеседнице на какие-то трудности, на скитания и борьбу…
Желая быть справедливым, Русинов отметил, что, в сущности, Олег живет, как настоящий Хемингуэй – так, как положено жить в Париже. Олег живет, как Хемингуэй, а Хемингуэй жил, как Олег. Правда, Хемингуэй еще и писал. «Дэт мейкс ол диференс» [8] , – буркнул Русинов, и художник-канадец резво обернулся.
– Дэт мейкс э лот эв диференс! [9] – сказал он и многозначительно подмигнул английской школьнице: все шло как надо.
Дороговизна выпивки тоже наводила Русинова на грустные размышления. Газированная вода, которую он пил, стоила почти столько же, сколько вино и пиво – чтоб неповадно было, – так что Русинову совестно было хлебать эту воду, чаще всего за Олегов счет. Олег же пил сам и угощал большую компанию прихлебателей, в том числе одну очень страшную безработную актрису, и это, на взгляд Русинова, свидетельствовало одновременно о доброте Олега, его благородстве и чисто русском его размахе, с одной стороны, а также о весьма нещепетильном расходование жениных денег, которые доставались Шанталь все же трудом… Самому Олегу добывание денег во Франции пока еще не удавалось, отчасти по причине необязательности этого занятия, отчасти вследствие еженощной его нетрезвости, требовавшей дневного перерыва и опохмелки.
Поскольку Русинов не научился быть терпеливым и достойным собутыльником (слово, явно не подходящее к парижским условиям, потому что пили здесь отнюдь не бутылками и даже не стаканами, а мелкими стопками), Олег перестал брать его с собой в кафе. Однако Русинов жил по-прежнему в мансарде, и Олег при встрече всегда напоминал ему, что он здесь – желанный гость.
В последнее время Русинов все больше времени проводил в мансарде на Монпарнасе, и это даже несколько его тревожило: не странно ли, что он не гуляет по городу Парижу, не вступает в приятные, а может, даже и полезные контакты, не волочится за женщинами, не посещает музеи, а вместо всего этого он, который добрался до самого Парижа (не о нем ли от молодых ногтей мечтает всякий русский), валяется в крошечной «студио» на шестом (русском седьмом) этаже, читает, изредка карябает что-то в блокноте и предается пустым мечтам и воспоминаниям. В эти часы оцепенения перед ним проходили, возникшие по какой-нибудь случайной и пустячной ассоциации, воспоминания прежней, еще московской, еще советской жизни, иногда видимые им с большою остротой и отчетливостью, а иногда как-то издали, отстраненно, словно это все не только прошло, но и умерло, не существует больше на белом свете и имеет только одну цель – заполнять его воспоминания, радовать или слегка огорчать его, давать ему пищу для размышлений.
На полках Олеговой мансарды были собраны эмигрантские издания и среди них – журналы новой эмиграции, в которых было много интересных и по временам вполне квалифицированных наблюдений над современною русскою жизнью и немало рассуждений, под которыми Русинов был готов расписаться двумя руками, хотя по временам все это казалось ему запоздавшим и написанным неизвестно для кого. Здесь и теперь все эти верные наблюдения над русской жизнью уже не имели никакого значения. Да, да, правда, все так, но для кого это теперь, кто будет читать. И еще во всех этих писаниях были неизбежные издержки узкого кружка, пусть даже круга: эти люди писали друг о друге, их было немного, они были просто люди, и внимательный читатель очень скоро замечал, что они платят лестью за лесть, похвалою за похвалу, раздувают и преувеличивают значение собственного кружка. Наверное, в этом не было ничего дурного, наверно, некрасовский «Современник» или твардовский «Новый мир» были в свое время такими же вот групповыми, вполне келейными органами, но для тех, кто не знал этих десяти-пятнадцати-двадцати имен, не знал всей механики кружка, это не было заметно, здесь же… А может, и все «общественные движения», которые так усердно изучают в школе, – это всегда дело вот такого же узкого круга, который потом, через годы, вследствие благоприятного развития событий или просто хорошей сохранности изданий, пробивался в люди, в этапы, в события, на страницы школьных учебников. Да, может быть, так было всегда, но Русинов был современником нынешнего кружка пишущих людей, уже определивших свое место в будущих учебниках, и как современник, к тому же соотечественник, еще не мог признать их пророками своего отечества. Он отметил, что, когда они писали мемуары, в которых осмеивали все, что вполне достойно было осмеяния, они почему-то вдруг начинали уважительно пришепетывать, вспоминая о прежнем своем престиже и прежних привилегиях, точно желая сказать: вот кем мы были там, теперь мы здесь, так цените же, что мы тут и беседуем с вами запросто. Он заметил, например, что, высмеивая тогдашнюю литературу и тогдашние конъюнктурные премии, эти люди не забывали упомянуть, что они были удостоены этой самой недостойной премии, и от этого упоминания начинало казаться, что, получи эти люди разрешение оставить книжечку Союза писателей, они носили бы ее в кармане и предъявляли при случае, скажем, в парижском метро, в кинотеатрах и музеях, потому что сердце этих стареющих людей жаждало новых почестей, но не желало расставаться со старыми (это было похоже на по ведение первой жены Русинова, которая после их развода огорчалась, что, получив с новым мужем доступ в Дом ученых, она все же лишилась пропуска в Дом литераторов)…
Чтение эмигрантских журналов имело для Русинова и еще од ну развлекательную сторону: он знал еще по прежним, московским временам почти всех авторов, так что публикации давали ему сведения об их перемещении в пространстве, об их настроениях, их душевном и материальном состоянии. Чаще всего это были сведения неутешительные, так что, перелистав современную мелочь, Русинов углублялся в материалы о лагерях и эпохе больших репрессий – это были свидетельства истинной трагедии. Сказать, что подобное чтение могло его сильно развеселить, было бы, конечно, преувеличением, и потому он рад бывал, когда телефонный звонок вдруг вырывал его из запойного чтения.
Это было очень мило и весьма трогательно со стороны Олега и его жены, что они не оставили Русинова в его нынешнем состоянии духа и тела, потому что не только беспросветная грусть, но и голод уже давал знать о себе, а в эту позднюю пору поесть можно было, пожалуй, только в кафе, чего Русинов уже давно не делал по причине предстоящей скудости средств. Вообще, звонок Олега и Шанталь пришелся под настроение, и Русинов охотно принял их предложение пойти с ними в гости. Русинов понял, что где-то собираются какие-то интеллигентные люди, то ли хозяйка – чилийская еврейка – работает с Шанталь, то ли это Олег сам отыскал какую-то чилийскою еврейку, так или иначе, их пригласи ли в гости, а они взяли с собой русского друга, все будут очень рады, потому что у них там все или почти все – эмигранты со всего света, а больше всего чилийцев, которые, сам понимаешь… им все сочувствуют, но будут еще, кажется, боливийцы, несколько итальянцев и алжирцев… И правда, все были, но главное – была еда, еда была отличная, разнообразная и главное – обильная: шоколадный мусс, а до того еще что-то мясное и салат. Говорили, что субсидировал это обжорство вон тот высокий, красивый американец, который гостит здесь с женой у своих друзей. Разномастные люди заполняли огромную квартиру, гости уже начали пьянеть, говорили все по-английски, и уровень общения был точь-в-точь как в «Селекте»: «Это месье Семен, он только что из России… – О, Гулаг! – А это художник из Боливии, шарман! – Это чилиец, он бежал…»
Все поддавали весьма упорно, и Русинов, подчиняясь общему настроению, пришел в возбужденное состояние, весьма похожее на опьяненье. Он стал походя касаться женщин, которых было много, и они касались его тоже – так что Русинов уже стал серьезно задумываться над тем, кого же он потащит сегодня в мансарду, когда вдруг его внимание привлекли очень ровные и крепкие ноги под белым платьем-балахоном, какие было принято носить в это лето – и ноги, и балахон… У Русинова появилось праздное подозрение, что под балахоном ничего нет, совсем ничего, кроме ног, конечно, и он уже собрался проверить это подозрение, когда к нему подошла итальянка (может, она и была хозяйка), которая сказала, что один талантливый боливиец (да, хрен с ним, с боливийцем, в конце-то концов) очень хочет познакомиться, потому что его, собственно, интересует положение в Чили (ну а я причем?), а главное – его интересует деятельность Нестора Махно, вот уж об этом вы, наверное (раза два видел я этого отрицательного персонажа – а у вас он что, положительный? – в детстве, в кино, называлось кино «Котовский», нет, «Александр Пархоменко»)… Русинов решился.
– Да, – сказал он, поднимаясь и с сожалением глядя на недоеденный мусс, – да. Все это очень интересно, крайне интересно и поучительно, но интересы левого движения…
Он взял за руку крепконогую американку в белоснежном бала хоне (дорогой она зачем-то сообщила ему, что она американская еврейка, и тогда он стал вспоминать, на какую же из знакомых не американских, там, в России, она была мучительно похожа) и по вел ее в соседнюю комнату, но там тоже были люди и тоже, без со мнения, эмигранты из притесненных стран мира – тогда она сама повела его дальше, через площадку, в соседнюю квартиру, и тут уж он смог наконец взгромоздить ее на диван и задрать балахон. Собственно, с главной своей задачей он справился успешно: смог собственноручно убедиться, что под платьем-балахоном ничего не было, точнее, не было никакой одежды, но все остальное было в большом порядке, и дух его возликовал, что немедленно отразилось на физическом состоянии тела, однако в комнате появились какие-то люди, о чем Русинов догадался по взгляду американки, глядевшей через его плечо, и даже каким-то обрывкам диалога, долетавшего из-за спины. Обернувшись, он увидел высокого красивого американца, того самого, что субсидировал вечерушку, – Русинов посмотрел на него долгим взглядом, взывая к его совести, и американец этого взгляда не выдержал, повернулся и ушел, но в комнату немедленно вошли два чилийца и стали беседовать о подлости Пиночета, вот тогда Русинов и решил, что он не может без конца гипнотизировать, да еще через плечо (шею вывернешь) всю эту социально-озабоченную кодлу. И, решив так, оставил возню с балахоном, прикрывающим украинско-американские прелести, встал, поправил брюки, и сходу попал в объятия Олега, уже сильно проспиртовавшегося и как-то вкось, боком начавшего рассказ о том, что вот два боливийца намекнули ему на то, что симпатичный американец обижается из-за того, что, мол, русский гость из страны Гулага лежит с его женой. Русинов оценил ситуацию, и ему стало стыдно перед красивым высоким американцем, но он еще похрабрился чуть-чуть, сказав, что нечего боливийцам путаться с американцами, это не приведет к добру их экономику, однако он стал очень быстро трезветь и решил в наказание себе, а может, и для сохранения себя немедленно уйти, одному, прямым ходом в мансарду, где ждали его книги и воспоминания, в частности, воспоминание об одной украинской еврейке из Москвы, которая когда-то была точь-в-точь такой же, как эта американка, только без белого балахона, без всего…
* * *Домой идти не хотелось, и грусть вернулась к нему на бульваре Распай. Пройдя немного, Русинов повернул к Сен-Жермен, а оттуда на бульвар Сен-Мишель в вечернюю гущу Латинского квартала. Была суббота, на углу узенькой Сен-Северэн и рю де ля Арп толпились студенты и туристы; арабы уже затеяли свои танцы-шманцы возле кафе на площади Сен-Мишель, и полицейский автобус лениво караулил их веселье.
В церкви Сен-Северэн играла музыка. На стене показывали какие-то слайды с произведениями живописи. Русинов опустился на скамью и стал слушать музыку, смывая с души следы недавнего позора и нечаянного веселья. Ему вспомнилась церковь в Ярославле, где он вот так же смывал грехи после вечернего похождения с романтической инструкторшей из обкома. Он написал тогда даже покаянную молитву. Как же там было? «О Господи… О Господи, о Боже мой, прости…» Весьма оригинально.
– Это бесподобно! – сказала юная интеллектуалка на соседнем стуле, и Русинов не понял, к чему он должен отнести ее восторг – к музыке, к слайду руанского собора или к его, Русинова, возвышенному соседству.
– Сэ врэ [10] , – сказал он на всякий случай.
Когда кончилась музыка, они поднялись вместе и вышли на улицу. Латинский квартал затихал, замусоренный гуляющей публикой до невозможного предела. Возле китайского ресторанчика стоял хозяин, с ненавистью глядя на посетителей: ему хотелось домой.
Юная продавщица Доминик заговорила о Китае. Это была страна, где все были равны, не то что здесь. Русинов привычно хмыкал, потому что он уже тысячу раз слышал здесь все это про Китай: бедный Китай был заповедник надежды для этой страны непуганых идиотов, которые не могли ничего узнать о Китае, даже тогда, когда в руки им попадали китайские журналы или творения самого Мао. Людям хотелось равенства, значит, равенство должно было существовать где-то на земле. Если говорить всерьез, никто не знал, каково жить в условиях равенства и что оно означает. Оно входило в джентльменский набор интеллектуальных ценностей (эгалите, фратерните, грязные капиталисты, американские империалисты, война то ли в Камбодже, то ли в Анголе), а продавщица Доминик не хотела оставаться просто курицей, просто женщиной, продавщицей галстуков в универмаге и прислужницей грязных капиталистов. Она хотела быть интеллектуалкой, то есть девушкой с идеями и запросами. А значит, левой, ибо тот, кто не левый, тот не интеллектуал. Русинов начал жалеть, что нынче рано ушел с вечеринки (томил недоеденный шоколадный мусс). Впрочем, еще можно было, наверное, хотя бы отчасти, поправить положение. Просто и скромно он предложил Доминик пойти к нему в мансарду. Там стоит в портативном холодильничке Олегова водка, там есть русские журналы и сухари, вполне интеллектуально. Он будет нежным и разрешит ей до рассвета толковать о Мао. («Скажи, котик, "мяу"», – говорила в той жизни маленькая секретарша с «Мосфильма». Чтоб услышать это, под старость, приглашая в постель: «Скажи, котик, "Мао"» – для этого, право, надо было проделать немалый путь через годы и грады…)
Доминик возмутилась. Она сказала фразу, которая вмиг разбудила в Русинове переводчика, этнографа, бытописателя нравов. Как это будет по-русски? «Я не такая?» Перевод буквальный, но, пожалуй, он же и адекватный тоже. Есть варианты. «Вы не за ту меня приняли». «Я не та, за кого вы меня приняли». Нет, лучше просто: «Я не такая». Как там было в Варшаве, зимним вечером, в отеле: «Не естем латфа джевчина» [11] . Это похуже. Верней, подальше от русского варианта. «Вы приняли меня за девушку легкого поведения». Нет, так переводить нельзя. Просто: «Я не такая».
Доминик смотрела на него с недоумением: что он там бормочет? Может, она жалела уже, что выразилась слишком сильно. Но Русинов был доволен собой. Он примерил еще два-три варианта, потом, отметив ее замешательство, решил, что понадобится не меньше часа на уговоры. А стоит ли?
– Я позвоню вам на той неделе, – сказал он сухо.
– Лучше всего от двух до трех, – сказала она, записывая для него телефон. – В это время патрон уходит.
Он шел к себе в мансарду один, радостно бормоча: «Патронов не жалеть! Патрон. Ах, саль [12] капиталист. Сальный капиталист. Капиталистические сальности. А сало русское едят…»
– Мне очень жаль, – сказал издатель, – но ничего из того, что я прочел, нам не подходит. Вы, русские, думаете только о своих проблемах. Что ж… То, что вы писали, – это остро, это даже смешно, но подумайте, каким читателям это сейчас нужно.
– Да, правда… Но может, наш опыт пригодится кому-нибудь… – безнадежно сказал Русинов. – То, что я вижу во Франции…
– Нет, нет и нет! – энергично сказал издатель. – Вы, русские, во власти своей антипатии, а весь мир симпатизирует победившему социализму. Посмотрите, как сейчас все левые силы Франции приветствовали победу демократической Дриспуччии…
– Да, да, слышал. Сколько они там за яйца повесили, в этой Пуччии, Дристуччии, тыщ триста… – Русинов уныло дерзил, чувствуя, что дело его проиграно.
– Пусть так, – сказал издатель. – Интересы Дриспуччии требовали детестификации, и у народного правительства не было выхода. Там напряженная обстановка…
– Это мы знаем, – сказал Русинов. – И будет еще напряженнее. Будет обострение классовой борьбы.
– А вы что хотели, чтоб эти триста тыщ уцелели и Пентагон двинул танки. Я ведь слежу за обстановкой. У меня есть все речи президента Пэта Памбо.
«Ну и подотрись ими», – сказал Русинов. Про себя, конечно. Вслух он просто промычал что-то невнятное, как при зубной боли.
Издателю стало его жалко. Издатель был хороший человек. Все левые во Франции были хорошие люди. Ему было жалко человека из страны ревизионизма, человека, утерявшего идеалы вследствие каких-то ошибок.
– Обратитесь к насущным проблемам мира, – сказал он Русинову. – Ваш горизонт расширится. Вы копнете глубже… И мы купим.
«Всего-то и делов, что купят…» – подумал Русинов. Но не сказал.
– Интересы мира… Прислушайтесь… Мир жаждет правды, настоящей, не этой вот, ползучей, не ваших временных материальных трудностей, не ваших вынужденных запретов на печать, не ваших ушедших в прошлое гулагов…
«Им тоже нужен соцреализм. Им нужно нечто, что должно было быть по теории, и они знать не хотят о реальности», – думал Русинов. Вслух он сказал:
– Я пишу не про это. Я пишу про секс. Про веселое общежитие… Про русского интеллигента, который первым в этой части света…
– Конечно, вы пишете о другом. Но все время ощущается антипатия. И ваши временные проблемы. А вы обратитесь к миру. Вслушайтесь в ритмы современного мира.
Русинов больше не слушал. Мир. Миру мир. Мы за мир и мир за нас, кто против мира, тот против нас. Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Так сказал усатый. И теперь еще его любят здесь, усатого. А уж как его там любят – ни пером описать! Итак, он хочет читать о мире. Что ж, я напишу ему о мире. Спешу и падаю. Роман о мире. Точнее, о Мире. О Мирре с двумя «р». О Мирре Хайкиной. Он получит свое. И я получу, да? Вряд ли. Русинов повеселел. Он даже не заметил, как простился и ушел издатель. Хер с ним, с издателем. Это неплохая идея, написать о Мирре Хайкиной. Мирра Хайкина (она подписывалась Холщенова) была его первая теща. Она была боевитая журналистка и писала про моральные вопросы. Она, конечно, писала про наших моральных вопросов, а не тех, которыми мучаются всякие графы. Она не читала разных там ихних Кантов-шмантов. Ей вполне хватало ее рабфаковского Талмуда на все случаи жизни: морально то, что полезно пролетариям. Аморально же все, что в данный момент (а момент всегда текущий и напряженный) не соответствует задачам. Остается быть в курсе задач. Для этого надо только подписаться на газету. Конечно, у нее как у писательницы статей было какое-нибудь свое лицо. Были свои любимые добродетели, моральные качества, свои герои и свои враги – особо ненавистные пороки, аморальные качества. Самым гнусным пороком было слюнтяйство (сюда включалось всякое непринципиальное милосердие, смехотворное прощение, подставление щек) и его особо гнусная разновидность – интеллигентское слюнтяйство, оно же слюнтяйство буржуазное, конечно же связанное с боженькой. Она вряд ли даже поинтересовалась, как называется русский, индийский, иудейский или мусульманский Бог: он был просто боженька и он вел к утрате принципиальности, а ведь главными человеческими достоинствами были принципиальность (следование текущим задачам) и гигиена, другими словами, высокое санитарное состояние. Самая нормальная санитарная гигиена, а не какое-нибудь там чистоплюйство. Сангигиена. Нельзя забывать также высокое санитарное состояние коммунистического жилища: она написала об этом тысячи статей.
У Русинова при этих словосочетаниях всегда возникал перед глазами ее туалет на даче в Малаховке, впрочем, и в городе, на Бронной тоже – журнал «Партийная жизнь», висящий на гвоздике, всегда в том же чуть наклонном положении. («Кто сдвинул журнал на гвоздике? Это ты, Семен? Какое же ты все-таки антисанитарное существо!») Самое большое движение, начатое ей через прессу (дело ее жизни), была борьба за «Дом высокого санитарного состояния» и «Дом коммунистической гигиены». Русинову эта кампания часто являлась во сне как вереница продуваемых ветрами дощатых дачных сортиров с дерьмом, примерзшим по краю очка, и журналами на гвоздике, все как один в том же строго наклонном положении.
Теща часто говорила об их боевой и мятежной юности, попрекала ею Русинова, вякала что-то о неуклонном росте над собой. Только на третий год Русинов окольными путями уяснил себе, какие факты своей боевой биографии она имела в виду. Приехав в Москву из местечка, она вышла замуж за завмага Исаака. Конечно, это не был совершенно передовой человек, но он ей сделал ребенка и был неплохой снабженец своей семьи. Потом она устроилась в воинской части, охранявшей что-то или кого-то в черте Москвы, стала активно трудиться в месткоме, и в конце концов ей увлекся полковник из трибунала. Он оставил семью, она – Исаака, они объединились и переехали в новую квартиру. Собственно, это и были безумства ее юности. Безумством были отмечены действия полковника, теща устраивалась все лучше и покойнее. По сравнению с нею полковник из трибунала был мягок, как воск (мужик из подмосковной деревушки Екатериновки, примостившейся под самым забором бывшей бериевской дачи, сказал однажды Русинову: «Сам Берия он чего, не страшный, мужик как мужик, вот жена у его была, ето да…»). Теща породила с полковником одно-единственное дитя, современное издание Мирры Хайкиной, Мирру Хайкину из эпохи увлечения иконами, авангардами, иудаизмом-индуизмом (это сокровище и окрасило первый матримониальный опыт Русинова в инфернальные тона). Да, любимый герой. У тещи ведь был любимый герой, друг их семьи, белозубый майор из прокуратуры, Арончик, красавчик… Однажды он не спал целых трое суток, допрашивая упорного врага народа. Не спал, чтоб и враг не уснул. Брехня! «Небось они сменялись, ваши майоры», – сказал Русинов. Тут-то теща его впервые раскусила…
Официант провел тряпкой, стирая со стола кофе, пролитое издателем. Увидев тряпку, Русинов осознал сразу несколько фактов. Что он давно уже сидит в одиночестве. Что ни один французский издатель ни за что не оценит историю про Мирру Хайкину. И что официант был по-своему прав. Наивные русские, живущие Там, полагают, что во французском кафе можно сидеть вот так, за здорово живешь, что официанты здесь не шваркают тряпкой перед носом. Как бы не так. Шваркают…
– Стакан горячего молока, – сказал Русинов.
Официант воспрянул духом.
* * *В воскресенье утром он вышел на малолюдный бульвар. Неуклонно повышая «качество жизни», французы укатили на уик-энд. По городу слонялись темнокожие эмигранты, выглядевшие особенно сиротливо в нерабочее время. Несложная операция по закупке продуктов заняла у Русинова пять минут: он купил багет, по-русски (по-русски ли?) батон, бутылку молока, банан, какое-то сладкое желе-карамель, баночку сыра. Все съев, он стал думать, чем сегодня заняться и какова должна быть цель этого занятия. Можно было бы сделать что-нибудь для своего постоянного «устройства», повидаться, что ли, с кем-нибудь, кто может помочь с работой, а еще лучше, с печатанием чего-нибудь из написанного дома. Или заняться поисками постоянного жилья… Отчего-то не мог он больше принимать эти занятия всерьез. Особенно смущало слово «постоянное». Мешали опыт, воспоминания… Уж что, казалось, могло быть постояннее, чем жизнь на родине, чем его вторая жена, чем его собственное место на Востряковском кладбище, чем его странствия по России, чем его старые друзья… Но вот все перевернулось в одночасье. И чего ж думать теперь о постоянной жизни в этой непостоянной Европе… Он был здесь как птица небесная на качающейся ветке незнакомого дерева. Птица небесная… Птицы небесные…
Воскресенье… Говорят, в воскресенье днем красиво поют в русской церкви на рю Дарю. Служба в полдень. Остается еще полчаса до начала. Надо поехать на рю Дарю… При мысли об этом Русинов отчего-то испытал волнение. Это будет как тайное путешествие в Россию. Все вокруг него будут русские, сегодня же, через полчаса, но никто не узнает его по внешности… Никто не догадается, что он тоже русский. Он будет там лазутчиком, невидимкой, снова на родине. (А что, разве тебе уже хочется… Оставь, не смей распускаться…) Причем даже не на сегодняшней родине, а на позавчерашней, на той, что всегда была ему так мила…
Воскресные поезда в метро ходили редко. На перроне были одни только черные. «Если так пойдет, то через несколько лет в Париже останемся только мы, черные», – вспомнил Русинов чьи-то слова. И ужаснулся. Не тому, что останутся черные, а тому, что и он еще будет в Париже. Где ему следует быть через несколько лет, он не мог бы сказать…
Он вылез на площади Этуаль, которая недавно с большим вкусом была переименована в Этуаль-Шарль-де-Голль. Русинов подумал, что площади не избежать и дальнейших переименований, если взойдет «этуаль» левых сил. Как она будет называться тогда? Этуаль-Морис-Торез…
Он без труда нашел по туристской карте рю Дарю и с замиранием вошел в церковь. Где-то слева нежно и сладостно пел хор. Привыкнув к сумраку и успокоившись, Русинов осмотрелся. Народу в церкви было немного. Если б не место, никогда не признал бы этих русских. Но хор… Русинову вспомнилась ночная служба в Новгороде, на Ярославовом дворище. Служба в Ярославле – где это было, в Коровниках? Унизительно и некстати запершило в горле. Нет, нет, это можно было себе позволить в юности – постоять, поплакать… Вот свечку, пожалуй, за упокой – это можно…
Русинов оглядывался. Кто все эти люди? Всего-то их человек пятнадцать. Молодая негритянка. Рядом с ней белая девочка, вероятно американка… За его спиной заговорили по-французски: эти уж наверняка русские. А вон те двое в углу – это, вероятно, новые эмигранты. Может, даже кто-нибудь из пишущей братии. Может, в Москве их жизнь протекала где-то рядом – в соседних редакциях, в одном клубе. Хотелось подойти, заговорить. Еще большее удерживало. Ну и что, если рядом? Ну и что, если было?
Кончилась служба. Он вышел, постоял в ограде. Завернул без особой нужды в русский магазин. И вдруг увидел рядом ту самую негритянку из церкви.
– У меня какое-то непонятное влечение ко всему русскому, – сказала она ему, и Русинов понял по ее акценту, что она из Америки. – А у вас? У вас тоже?
– У меня тоже, – сказал Русинов.
– Чем это объяснить? – Она смотрела на него удивительными, огромными, плавающими, блестящими глазами.
– Черт его знает, чем объяснить, – сказал Русинов. – Расскажите лучше о себе…
Они шли, ехали, снова шли, мирно беседуя и приближаясь к его мансарде. И только на лестнице он понял, что после умиления молитвы переживет еще одно падение. Так было в Новгороде и в Ярославле. Так было всю жизнь, и отчего это должно было измениться в Париже? Кто это там метался между молельной и будуаром? Ах, ну да, как же – Анна Андреевна Ахматова. Именно так описал ее жизнь товарищ Жданов в своем историческом докладе. Собственно, от него маленький Русинов и услышал впервые об Ахматовой. А теперь вот он сам, да еще в Париже… И нет рядом товарища Жданова и его референтов, чтобы сформулировать все вот так, с последней прямотой…
– О чем вы думаете? – спросила Мэри (Боже, что за глазищи!).
– О России.
– Да, да, конечно, – закивала она с пониманием. – О чем же именно?
– Так. Пустяки. Постановление… – сказал Русинов. – Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Он усмехнулся. Это было для нее не доступнее, чем культ вуду. Чем химеры самой что ни на есть высшей математики.
Ее кожа посрамила его загар. Пожалуй, впервые он обнимал женщину, которая была темнее его. Ни его таджички, ни его киргизки (где вы, родненькие, салам, адье!) не бывали такими темными.
– Мэрайа, Мэрайа, Мэрайа…
Она ослепительно улыбнулась.
– Хочешь я тебе спою?
– Да, спой.
– Тебе никто не пел?
– Нет, пожалуй. Стихи читали… Впрочем, нет, пели один раз. Была у меня одна композиторша из Гнесинского… Она как-то спела мне свою песню.
– О чем?
– Песню о Ленине.
– О! Ваш Ленин был великий, правда?
– О! – сказал Русинов. – Оу! Грандиозно!
– Ты меня больше не хочешь? – спросила Мэри.
– Хочешь, но не можешь… – сказал Русинов.
– Ну, это и значит, не хочешь. Тогда пойдем погуляем.
Они пошли в Латинский квартал, оттуда доехали до плас Пигаль и поднялись на Монмартр.
– Я буду всем рассказывать, что у меня был русский друг в Париже, – сказала она. – А чем ты занимаешься здесь?
– Ничем… – сказал Русинов.
– Мой друг в Бостоне тоже ничем не занимается, – сказала она. – Он пуэрториканец…
«Чтоб он только был здоровенький», – подумал про себя Русинов и поцеловал ее.
Два немецких мальчика, теребя гитары, с завистью смотрели на него.
* * *Русинов стоял в метро и слушал музыку. Когда флейта умолкла, из другого перехода, чуть дальше, стала слышна скрипка. Неметеные, с сортирным кафелем на стенах, переходы метро оказались идеально оборудованными для музыки. На перронах, в промежутке между поездами, в полутемных переходах музыка трогала бесконечно. Она напоминала о том, как нелеп человек и как он живет нелепо. О том, как стремительно и безрассудно тратится его жизнь в темных подземельях метро. Музыка напоминала, что где-то еще стоят зеленые луга, на которых пасутся коровы. Что где-то еще есть цветы, и сосновые рощи, и морской берег…
Подошел поезд, и Русинов с сожалением покинул музыку. Впрочем, она могла встретить его на новой станции. Хотя лучше, наверно, было бы вообще не ехать. Он собрался на Порт-Клиньянкур. Там он должен был навестить дальнюю родственницу какой-то дальней знакомой из Москвы. Точнее даже, знакомой этой знакомой. Русинов долго не мог отважиться на этот визит, именно потому что смысл этого визита был для него непонятен. Что он должен был делать у Порт-Клиньянкура? Вероятно, рассказывать этой родственнице, как живут ее еврейские родственники в Москве. И еще он обещал зачем-то московской знакомой посмотреть, как живет ее парижская родственница. Это было уж и вовсе бессмысленно, ибо Русинов не предполагал когда-нибудь увидеть снова московскую знакомую, точнее, знакомую его знакомых. Скорей уж она сама, эта здешняя родственница, поедет когда-нибудь в Москву…
Здешняя дама прожила в Париже уже лет десять. До этого она жила с мужем в Польше. Мужа дома не было: он побежал купить что-нибудь к чаю в связи с визитом Русинова (отчего у них никогда ничего нет в доме?).
– Ну, как они там живут в Москве, как?
– Очень хорошо, – сказал Русинов терпеливо. – Недавно подошла их очередь, и они купили машину.
– Да? – сказала дама. – Хорошенькое дело. Вы видели, почем здесь бензин?
– Там тоже вздорожал…
– Там… – Она фыркнула. – Что там! Здесь все равно дороже. У нас с мужем и сыном таки три машины, это сколько выходит денег? А как у них жилье?
– Они обменяли квартиру. Теперь у них большая…
– У них была и так большая квартира. Вы знаете, сколько мы здесь платим за квартиру? И еще за домик в Бургони, совсем маленький домик…
– Таки вам хуже… – сдался Русинов.
Зачем спорить? Людей не пугают чужие трудности. У них хватает своих. К тому же у этих людей действительно есть трудности – если их не останется, люди добудут их. И где объективный критерий для оценки трудностей? Эти люди обеспокоены. Они в вечной погоне за деньгами. Они всем недовольны. Так разве можно со спокойной совестью сказать, что у них нет трудностей? Только в том случае, если ты равнодушен к их трудностям. Или слишком озабочен своими.
– Багет стал опять дороже на десять сантимов, а метро на тридцать, – сказала хозяйка. – И молодые могут не достать работы. Точнее, не могут ее достать…
– Да, да, вы правы… – Русинов решил быть еще обходительней, но по возможности сократить визит.
– Вам трудно. Я убедился. Тут много трудностей. Правительство совсем не думает…
– А что вам правительство? – сказала хозяйка подозрительно. – Было бы у Польши такое правительство…
– Что ж, и это справедливо, – сказал Русинов, томясь нестерпимо.
Тут пришел муж. Он был тоже польский еврей, и Русинов сразу понял, что человек этот пережил разочарование. Он строил новую жизнь в Польше. А построилось совсем не то. Так что в шестьдесят восьмом ему пришлось уехать в качестве еврея и бросить все недостроенным. Русинов не знал, о чем надо разговаривать с таким человеком. Может быть, рассказать ему о московских гастролях театра Голоубека.
– Я ничего не хочу слышать о Польше, – сказал хозяин. – С этим покончено.
– Да, теперь Франция… – Русинов спешил исправить ошибку.
– При чем тут Франция? – сказал хозяин холодно. – Какое мы к ней имеем отношение? Французы – это совсем не такие прекрасные люди, как обычно думают поляки…
Русинов не стал спорить. Он предложил говорить по-польски. О чем угодно. Просто он очень любил говорить по-польски. Это было почти то же самое, что говорить по-русски, и в то же время не совсем то. Они немножко поговорили по-польски. Из этого разговора Русинов окончательно уяснил, что хозяин дома обижен на Польшу. Польша обошлась с ним плохо. Русинов понял, что человек этот был очень активный строитель в Польше. Он был, наверное, ортодокс и догматик, и тем, кто, как Тувим или Галчинский, не могли достаточно быстро все осознать, доставалось от него на орехи. Русинов подумал, что такие люди меняют позицию. Им необходимо найти новую догму, и тогда они становятся самыми ярыми диссидентами, анархистами, монархистами, еврокоммунистами, кем угодно…
– Разве можно обидеться на страну? – сказал Русинов с недоумением. И поспешил перевести разговор на профессиональные темы. Хозяин занимался в Польше охраной памятников природы. Русинов там, дома, тоже все время беспокоился о сохранности природы. Они стали нещадно бранить прежнее начальство (русское и польское), которое плохо заботится о памятниках природы. У обоих накопилось много вопиющих фактов небрежного отношения к природе. Они говорили с такой горячностью, будто памятники польской и русской природы все еще ждали их вмешательства. Русинов рассмеялся первым, заметив, что разговор их похож на критические выступления эмигрантской печати по поводу недостатков русской жизни. Русская жизнь, какая бы она ни была, осталась там, в России. Русские памятники тоже. Французские памятники и так, кажется, охранялись неплохо…
И все-таки они поговорили немного о том, что еще осталось целого и сохранного в Польше. Хозяин, кажется, забыл, что его больше не интересует Польша.
Потом они стали перебирать общих знакомых в Польше и в России. Их нашлось немало. С особым пиететом хозяин говорил о профессоре марксизма Владимире Исаковиче Стениче и его книжке, разоблачавшей отдельные ошибки индустриализации.
– О, черт! – вдруг вспомнил Русинов. – Я должен был позвонить ему. Он же здесь, в Париже.
– Передайте ему мой горячий поклон, – сказал хозяин.
Они стали пить чай с каким-то яблочным пирогом. Хозяйка извинилась, что в доме ничего нет.
– Мы не в России, – сказала она. – И не в Польше.
На обратном пути Русинов размышлял о том, что значила эта фраза. Видимо, хозяйка хотела сказать, что нечего ожидать приличного угощения во Франции. Хотя снабжение было неплохое, угостить человека ей представлялось здесь почему-то более трудным, чем в Польше. И уж конечно, чем в России. Русинов примирился с неизбежностью этих потерь. В душе он все еще не верил в абсолютный характер этого правила.
* * *– Володя, – сказал Русинов, услышав голос Стенича. – Это я, Сеня.
– Разбойник, мерзавец, аферист, – сказал Стенич. – Ликвидатор и отзовист наизнанку! Отчего ты не звонишь так долго?
– Отчего ты сам не звонишь? – сказал Русинов. Он повеселел отчего-то, услышав бодрый голос старого приятели, его нехитрые шуточки.
– У меня Сорбонна-шморбонна, лекции-шмекции, рецензии, выступления, комитет освобождения Брука… Потом мы заварили одну штуку против Миттерана.
– Миттеран-шмиттеран, – сказал Русинов.
– А что ты такого делаешь, подонок, что ты мне не звонишь?
– Я ничего не делаю, – сказал Русинов. – Даже сегодня ничего не делаю.
– Э-э-э… сегодня я как раз приглашен на сборище, – озабоченно сказал Стенич. Потом вдруг крикнул: – Слушай, но мы ведь можем пойти вместе на это сборище. Я тоже там никого не знаю…
– Сборище левых?
Стенич помолчал возмущенно. Буркнул:
– Естественно. А какие еще бывают сборища? Ты что, хотел к голлистам?
– Мне все равно, – сказал Русинов. – Чилийцы… Женщины в белых балахонах…
– Нет, ты все-таки половой маньяк, – сказал Стенич, и Русинов вспомнил, что профессор достиг того переходного возраста, когда с ним лучше не говорить о сексе.
– Где встречаемся? – спросил Русинов.
– Ты уже много знаешь в Париже?
– Что-нибудь знаю…
– Та-ак, есть такой монумент, памятник Дантону… У метро «Одеон».
– Знаю, – сказал Русинов. – На нем написано суриком, что сионисты – это фашисты.
– Ребята увлекаются… Не крути мне бэйцем. Значит, ровно в семь. И не опаздывай, я же тебя знаю, ты известный отзовист, аферист, ликвидатор наизнанку…
Русинов повесил трубку и улыбнулся. Когда-то он очень любил профессора. Да и потом любил тоже. Просто любовные ресурсы Русинова иссякли, а профессор уехал в Париж и стал здесь по-заграничному надменным. И по-заграничному, просто уж нестерпимо, мудаковатым. Впрочем, Стенича и дома ценили не за ум. Профессор Стенич был человек рыцарственный. Он умел быть другом. Любил помогать друзьям. Покровительствовал женщинам. Он твердо усвоил, что мужчина во всех ситуациях должен проявлять благородство. Он бывал трогательным и нежным. Он был по-настоящему добр. Конечно, он был чуть слишком мудаковат, но в ком нет своих недостатков. Мудаковат – это почти чудаковат, а что может быть прекраснее на свете, чем прославленные диккенсовские чудаки. Впрочем, Стенич был мудак недиккенсовский. Он был наш, советский мудак, по ошибке отверженный, исторгнутый отечественной наукой из ее мудакоприимного лона.
Все началось с книги. В возрасте сорока пяти лет Стенич обнаружил, что «мы» не всегда последовательно проводили линию на индустриализацию, о чем он и сообщил в дерзостной книжке научно-популярной серии. Книжка проскочила дуриком, но Стенич упорствовал, не признал ошибок и, в конце концов, был причислен к диссидентам. Книжка была, конечно, ревизионистская. Всем ясно, что некоторые ошибки таки были допущены, может, и не только на ниве индустриализации (на ниве, скажем, коллективизации, гулагизации и на других полях сражения с прошлым), однако зачем же делать из мухи слона, зачем открывать эту Америку, мешать созидательному труду и поступательному движению?.. В качестве диссидента Стенич прожил на родине еще несколько лет. Сперва это было забавно, потом стало бесперспективным. Кроме того, как всякий благородный человек, он часто и нерасчетливо женился (жениться расчетливо считалось в новой России одним из самых гадких преступлений, и потому второй брак Анны Карениной был бы признан более соответствующим идеалу нового общества). И всякий новый развод, надо признать, не повышал жизненного тонуса профессора. Очередной диссидентский брак Стенича логически завершился разводом…
Жить диссидентом на родине было для Стенича довольно нелепо. В сущности, ведь все его главные убеждения, самый строй его мышления пришли из той же боевитой юности, откуда вышли, к примеру, убеждения русиновской тещи-журналистки. Во всяком случае, главное его убеждение – убеждение в непогрешимости материализма. Куда более начитанный, чем хваткая Мирра, Стенич тоже не прочитал ни Евангелия, ни Дхаммапады и даже не удосужился открыть их на досуге. Все эти боженьки и батюшки, все эти гробы повапленные были для него также предметом насмешек. Честно говоря, его понятия об искусстве, его представления о родине (лишенные всякого мистического элемента) тоже были порождениями официальной эстетики и морали. Ревизия его касалась лишь нескольких наших ошибок в области индустриализации. В остальных, куда менее интересных для него сферах он хотел бы сохранить незыблемые ценности, творения, которые ценит весь народ, которые формировали и так далее. Сюда входили, конечно, и роман Фурманова, и фильмы Александрова, и еще Бог знает что. При всем том Стеничу больше нечего было делать на родине. Отечественная наука не могла простить ему сперва колебаний, потом упорства и благородных жестов. Напротив, наука европейская ждала его с распростертыми объятьями. Он нес в Европу учение марксизма, очищенное от некоторых недостатков и ошибок, которые не могли не существовать (без них трудно было объяснить всякие архипелаги гулаги, недостаточно высокий материальный уровень, неистовое стремление масс к уровню, наличие невинных чудаков-диссидентов и прочие мелочи русской жизни, которые, по мнению передового Запада, отбросили Россию на второе, а может, и третье авангардное место по сравнению с безупречными Китаем, Кореей и прочей Дриспуччией). Итак, передовая научная Европа приняла Стенича в свои прогрессивные объятия, и массы, охочие до марксизма, валом валили теперь на его сорбоннские чтения. Страх перед этим процветанием старого друга отчасти и удерживал Русинова от слишком тесных контактов. К тому же Стенич был человек благородный и, увидев друга в состоянии «неустроенности», непременно захотел бы ему помочь, а Русинов еще и сам не знал, нужна ли ему помощь и какая…
Так или иначе, к семи часам вечера Русинов уже стоял у памятника Дантона, изучая комбинации из свастики и звезды Давида, которыми покрыли пьедестал памятника какие-то прогрессивные элементы ультра– или инфралевого движения.
Стенич появился со знакомым до боли оптимистическим приветствием:
– Отзовист-аферист!
Оптимизм Стенича (точнее, сознание неизбежности и единственной правомерности оптимизма) пришел все из той же тещиной боевой юности, и, если бы не точное знание тяжелых обстоятельств жизни Стенича, Русинов вряд ли так легко переносил бы эту неизменно розовую краску…
– Ну, ну, докладывай, как тебе живется в стране гниющего империализма?
Русинов внимательно посмотрел на друга и подумал, что, в сущности, при его материалистически-оптимистическом мировоззрении гниющий должен был нравиться Стеничу. Впрочем, признать это в данной ситуации было бы для Стенича равносильно сдаче марксистских позиций.
– Гниет, сука, – сказал Русинов и ткнул в пьедестал безвинного Дантона. – Сам видишь. Пошли?
– Это неподалеку. Один из моих студентов собирает… Боевые ребятишки, но, естественно, многого недопонимают. Опасностей справа. Опасностей слева…
Русинов молчал, думая о том, что жизнь истинного борца всегда полна опасностей: гниет либерализм, в воздухе носятся микробы левизны, правые собирают силы и процессы, казалось бы, необратимые… Лишь тот, кто ничего не делает, никогда не ошибается, так что ему, Русинову, слава Богу, всегда удавалось избегать политических ошибок.
– Кажется, это вот здесь, – сказал Стенич. И добавил на своем фантастическом французском: – Трузьем этаж, сертенман [13] .
– Сам ты Сертенман, – любовно сказал Русинов, впихивая профессора в лифт.
* * *В переднюю доносился шум разговоров, но Русинов не спешил влиться в незнакомую компанию, прежде всего потому, что все меньше ценил незнакомые компании, и еще потому, что сама скромная передняя этой квартирки представляла для него интерес. На ее беленую стену был старательно перерисован тушью знаменитый плакат, где американский бомбардировщик пикирует на вьетнамскую женщину, в ужасе поднявшую руки. Напротив вешалки помещалась большая фотография не менее трагического свойства: на ней благопристойные солдаты Китайской народно-освободительной армии играли на скрипках в часы досуга. Так что уже передняя вводила гостя в духовный мир обитателя квартиры: борьба с американским адом во имя китайского рая как программа-минимум. Про максимум Русинову страшно было подумать. Стенич был встречен очень тепло, Русинов вполне доброжелательно, так что они с ходу принялись за еду. Русинов спокойно отдавал должное и салату, и сыру, и десерту, но Стеничу приходилось вести беседу, причем сразу на несколько фронтов. И хотя это казалось справедливым, так как профессор не был особенно голодным, Русинов жалел его, видя, как пылко и тщетно старается Стенич вдохнуть правильное сознание в младших товарищей, и горячо сочувствовал его поистине героическим языковым усилиям. Но помочь старому другу Русинов не мог ни в чем, ибо сражение это было еще более абсурдным, чем те, которые описаны графом Толстым в его наименее ущербном романе.
Сколько бы ни убеждал Стенич своих питомцев, что он с ними соглашается в главном и что у них лишь частные расхождения, ему так и не удалось ни разу добраться до главного. Молодые марксисты огорчали Владимир Исакыча необъяснимым тяготением к Мао, своим пристрастием к Сталину, постыдной слабостью к террору и полным неверием в постепенный прогресс и парламентскую борьбу. Русинов чувствовал также, что Стенич хочет, но не решается упрекнуть их в недооценке здешних демократических свобод, хотя бы и фальшивых, конечно, и насквозь прогнивших, а все же допускаемых отчасти грязным капитализмом, что дает возможность его же…
Когда был подан шоколадный мусс, Русинов полностью отключился от политических боев. И только будучи окончательно приперт в угол худенькой миловидной итальянкой, он на время отставил мусс и сделал умное лицо.
– Но если вы там в России боретесь за повышение материального уровня и только, – лепетала она, – если при социализме будет просто-напросто больше еды…
– Не так уж много, не надо преувеличивать, – сказал Русинов скромно.
– Нет, даже если у вас очень-очень много еды… Если у вас просто больше юбок, больше машин, выше производительность труда…
– Ну-у… положим… – Русинов даже вспотел, пытаясь переварить эту информацию.
– Тогда мне это все неинтересно! – темпераментно воскликнула итальянка, наступая на него грудью.
– Мне тоже, – сказал Русинов. Он одобрил ее грудь и вернулся к шоколадному муссу.
Крупный, кудрявый мужчина с бородой сказал, интимно наклоняясь к Русинову и презрительно отодвигая плечом худенькую итальянку:
– Главное сейчас – поддержать палестинских партизан. Они единственные, кто делают дело. Весь мир фарисейски кричит, что они убили дюжину детей или пяток старух. А то, что в Израиле пришли к власти нацисты, – об этом ни слова…
– Правда? – спросил Русинов.
Это был явный заговор. Заговор против мусса.
– У нас есть клуб. Дом культуры… Вы ведь поняли меня, – сказал кудрявый, протягивая ему руку.
«Это оттого, что я молчу, – подумал Русинов. – Это потому что мусс… Надо возражать. Зачем возражать? Зачем говорить?»
– Проф не может понять… – бородатый кивнул на Стенича. – Все эти «мэтр пансер»…
Русинов подумал, что вот и старина Стенич попал в число властителей дум. А чье это выражение? Андре Глюксмана?..
Кудрявый подмигнул Русинову, вернулся к еде. Худенькая итальянка прорвалась на его место и сказала с интимностью:
– Вы думаете, всякий эмигрант-араб может переспать с белой девушкой?
– Нет? – с надеждой спросил Русинов.
– О, нет! – она горестно сжала губы. – Это привилегия интеллигентных арабов. Только они. Но в шестьдесят восьмом было не так. Каждая из нас брала на себя обязательства… Мы ходили в африканские кварталы…
– Когда?
– В шестьдесят восьмом.
Русинов кивнул успокоенно: после шестьдесят восьмого инкубационный период успел десять раз завершиться.
– Вы знаете… – Итальянка тронула его коленом. – Вот я… я ни за что не могла бы лечь в постель с фашистом.
– Я тоже… – сказал Русинов.
Он чувствовал, что взаимопонимание установлено и вечер для него не пройдет впустую. И тогда он с угрызением совести вспомнил о Стениче. Профессор бился как лев. Он сражался с французским языком и даже с более, но все же весьма еще недостаточно знакомым ему английским, чтобы довести до сознания молодежи несколько простых истин, которые мы (он, она, они) выстрадали (с этим «выстрадали» у него были немалые языковые затруднения). Профессор ни за что не хотел понять, что никому не нужны истины, выстраданные кем-то. Каждый хотел сам выстрадать свои собственные истины (в тайной надежде, что ему, может быть, не придется страдать). К тому же людям нужны были удобные для них, симпатичные, вдохновляющие истины и факты. Тот факт, к примеру, что Стенич пронес свой марксизм через все невзгоды, был симпатичным. А та мысль, что им лучше не рыпаться, раз они такие непроходимые дураки, была скучной, оскорбительной и непродуктивной.
Русинов наклонился к итальянке и сказал, что у них найдется много такого, о чем им следует поговорить вдвоем.
– Вы хотите, чтоб мы ушли сразу? – спросила она с готовностью.
– Да, чего тянуть? Мусс я уже съел…
* * *Раздетая, она оказалась вовсе не такой худенькой, как ему виделось на вечерушке у гошей. И грудь у нее была прекрасная, тяжелая, точно налитая ртутью. Она была нежна к нему, и он не остался в долгу, трудился не покладая рук, ибо именно они брали на себя главную работу (вскоре после приезда Русинов прочел во французском журнале, что традиционное соитие вообще уходит на второй план, и успокоился)… Кажется, он преуспел. И, преуспев, подумал, что это накладывает обязательства…
Когда она заснула, Русинов еще долго гулял по ее крошечной однокомнатной квартирке-«студио», ища причину своего неудовольствия. Он все еще не хотел признаться себе, что столь любимое им некогда занятие, его единственное и неизменное хобби, начинает ему приедаться (и то сказать – не рано уже). Он утешал себя тем, что его попросту шокирует половой энтузиазм здешних подружек. А может, это в какой-то степени отражает объективную ситуацию. Скажем так: здешним мужчинам надоело это занятие, а женщинам еще нет. Отсюда вечная их ностальгия по африканцу. Софи сказала ему сегодня в постели, что любить африканца – это прекрасно, потому что, занимаясь любовью, он забывает обо всем остальном. Что ж, это был вполне уместный намек. Русинов, занимаясь любовью (русское выражение казалось ему довольно неуклюжим в сравнении с «фэр амур» или «мейк лав»), редко забывал обо всем на свете, во всяком случае, не забывал надолго. Что же тяготило его в последние годы, чем он стал озабочен, перестав быть сексуально-озабоченным? Да так, ничем. Праздный поток мыслей, иронических наблюдений и просто воспоминаний непрерывно тек в его ленивом мозгу, не мешая ему, наполовину сознательно, наполовину механически участвовать в процессах его нынешней, чуть призрачной, ненадежной, но в общем-то вполне переносимой жизни нового парижского «эмигре». Поскольку все его воспоминания относились покамест к русскому периоду жизни (другого у него не было в прошлом), к жизни на родине, то их можно было бы назвать и ностальгическими. Впрочем, это не вполне справедливо: воспоминания его не были порождены тоской по родине, во всяком случае, пока еще не были… Просто, уехав, он словно завершил какой-то период жизни, однако период настолько долгий и насыщенный событиями, настолько утомивший его, что ему все чаще и чаще казалось, будто прошла целая жизнь, и вот он, очутившись по другую сторону этой жизни, рассматривает ее издали на экране памяти… Впрочем, нет, сравнение было неподходящим. И не только потому, что вызывало ассоциации с мерзостью телевиденья, а еще и потому, что жизнь эта, проходя в его воспоминаниях, вовсе не имела порой зрительного ряда, зато приносила с собой отдельные слова, запахи, острые, почти реальные ощущения, привкус радости или сожаленья…
Вот и сейчас, гуляя по убогой, сиротской квартире на рю Лепик, столь же похожей на все виденные им доселе городские однокомнатные квартирки с их модерным убожеством, сколь не похожа была на все им виденное сама горбатая рю Лепик, где прошлой ночью две рослые темнокожие проститутки предлагали ему свои прелести, наивно похлопывая себя спереди по белым трусикам (присутствие Софи их как будто; не смущало), заглядывая во все углы, пробегая глазами отпускные фотографии Софи, пришпиленные к стене (обычные пляжные фотографии – разве можно по пляжу отличить Сочи от Майорки – о, ваканс! Отпуск! Радужная мечта служащих всего света, не соединившихся еще среднедостаточных пролетариев всех стран и даже разъединенных буржуа), – Русинов вдруг совершенно некстати, может, в связи с пляжными фотографиями, а может, при виде сорока сантимов на полочке в ванной, не очень ясно даже, в какой связи, – вспомнил вдруг Верхнюю Волгу, озеро Вселук, старуху Марью Никитишну… Он шел тогда один от Селижаровки вверх по Волге, по верхневолжским озерам – Волго, Пено, Вселуку и Стержу, по опустевшим деревням, мирным лугам, где паслось убогое стадо, дремал на песчаных пляжах, где валяются снулые рыбины, шел, оплакивая недавнюю кончину матушки, неудачу первой женитьбы. В каждой из убогих, выморочных деревушек находил он слово утешения и банку холодного молока.
А потом, зная бесконечную бедность (что ты, милок, у нас с этого года пензия десять рублей в месяц) и бесконечную доброту этих бабок, он клал потихоньку двугривенный на божницу и уходил.
А однажды, это было на Вселуке, у этой Марьи Никитишны – старшие два сына погибли на войне, а младший недавно утонул со своими «сятушками» под берегом, видно, пьяный был, так что младшая внучка-красоточка теперь живет у нищей бабки, – вот там он, положив потихоньку на божницу двугривенный (брать она ни за что не хотела!), спустился под берег и лег, обдумывая свои и ее беды, и вдруг услышал шаги. Старуха спешила к берегу. Вот она взяла весло, оттолкнулась, чтобы плыть на ту сторону широченного озера, и, оттолкнувшись, вдруг увидела его на берегу. И, увидев, сказала смущенно (оттого, что она нашла этот двугривенный и обрадовалась ему): «На ту сторону погребу, на почту, марку давно хотела купить. Не надо вам туда?» Боже всемогущий, храни этих бабок и деревни эти…
– Фэр пипи, – сказала Софи, проходя мимо него в кухню. – Отчего ты не спишь?
– Не спится…
Он хотел сказать: «Не спится, няня», подумал, что все эти «няни» ему по-французски не будут никогда доступны. Он будет говорить попросту: «Же нэ па сомей» [14] . Интересно, какие изменения это может произвести в его характере?
Возвращаясь из туалета (Русинов с торжеством отметил, что ручек они не моют, нет, не моют), Софи сказала:
– Мне завтра рано на работу. Я тебя не буду будить, ладно? Завтрак оставлю на столе. Если будешь уходить, ключ положишь под коврик у двери. В котором часу вернешься?
– В котором? – вопрос застал его несколько врасплох. Он, собственно, не думал, что он сюда вернется. Впрочем, можно и вернуться.
– В семь. Восемь, – сказал он. – Может, правда, пойдем куда-нибудь…
Если бы Русинов ночевал у себя, он, может, и не выбрался бы в тот день из Олеговой мансарды: он настроен был на воспоминания и неподвижность. Но маленькая квартирка на рю Лепик была поутру еще безотрадней, чем ночью. Русинов принял душ, втиснутый за занавеску в крошечном уголке туалета, потом позавтракал на кухне. Завтрак был все тот же: помидоры, банан, сыр, молоко, багет. Вкусный и дешевый, опровергающий мелкобуржуазный миф о дороговизне.
Русинов вышел на улицу. Две труженицы панели уже стояли с утра на вахте. Утром они выглядели куда менее соблазнительно и романтично, чем в ночном полумраке. Одна из них прислонилась к стене в бдительной полудреме, вторая, вероятно, подменяла портье в маленькой гостиничке и подбегала на все телефонные звонки. А может, она и была по совместительству портье. Русинову всегда до страсти хотелось поговорить с уличной девицей, просто поговорить, но он уже имел случай убедиться, что они не любят пустопорожних разговоров в служебное время и что туристическое любопытство их раздражает.
На бульваре Клиши Русинов опустился на скамью, где сидели пацаны-эмигранты в куртках из кожзаменителя, обсуждая, где им лучше провести время: в кино, где идут фильмы про карате и одна датская порнушка, в зале игральных автоматов или в кафе. Пацаны стали пересчитывать деньги, спорить… Русинов встал, пошел к центру города. Он решил доехать в метро до Дюрока и пойти к себе, в мансарду – написать две-три странички из жизни Мирры Хайкиной… «А что, если выдать Мирру замуж за Стенича?» – подумал он. И сам ужаснулся этому бесчеловечному сватовству. «Нет, нет, ни в коем случае. Она же его заездит. Пусть уж она живет с полковником… К тому же в таком браке Стенич далеко пойдет. И перестанет быть Стеничем…»
На Сент-Оноре Русинов задержался на тротуаре у огромного окна какой-то конторы. Окно было из новейшего темного стекла, но Русинов отчетливо видел за ним прелестную юную француженку в светлой кофточке. Она считала чьи-то доходы или убытки на маленькой счетной машинке и по временам с тоской смотрела в окно. Может, это темное стекло делало ее такой красивой и такой нестерпимо грустной… Русинов вспомнил фотографии на стене Софи и понял смысл этой выставки счастья. Три недели свободы, три твоих недели, три недели у моря. В метро на Сегюр вчера было написано: «Работа – это рабство». И еще: «Зарплата – это рабство». Может, в этом они и правы, лохматые анархисты. Не менее правы, чем те пылкие идеалисты, которые борются за прибавку в пять франков. Еще пять, и еще, и еще. Но ведь и с пятью все равно будет рабство, притом добровольное. Сколько француженок работает, хотя, может, хватило бы мужниных денег. А что значит – хватило бы? Им же всегда не хватает. Будет на пять франков больше, еще на пять, на пятьсот… Купят машину получше, телевизор поцветнее, к машине купят фургон, к фургону – лодку, к лодке… Редко кто из них догадается выкупить себя из рабства – хоть на неделю, хоть на два дня. Разве только Жак. Зайти, что ли, к Жаку?
К Жаку привела его в первый раз немочка из «Селекта». Жак был антилец. Он поступил работать в научную лабораторию, потому что хотел заниматься наукой. В лаборатории он главным образом мыл посуду, и скоро это научное занятие ему обрыдло. Он жил в мансарде на шестом этаже (русский седьмой), на Монмартре, неподалеку от Сакре-Кер. Кроме мытья лабораторной посуды, у Жака было два основных занятия (Моник не и счет). Он мастерил новые инструменты на основе старых антильских. И еще он судился с домохозяином. Его крошечная мансарда стоила ему четыреста франков в месяц (в сущности, не так уж много). Но Жак вступил в борьбу с грязным капитализмом. Три комиссии подряд определили, что красная цена его мансарде семьдесят пять франков в месяц. Наконец, Жак выиграл процесс. Теперь хозяин не имел права его выгнать. Более того, он должен был вернуть Жаку деньги, переплаченные им за три года. И Жак взял отпуск за свой счет. Он сидел на полу в мансарде (Моник лежала рядом) и мастерил инструменты. Когда входил Русинов, Жак поднимал голову, спрашивал:
– Кофе? Чай? Музыку?
– Музыку. Если можно, твою, – говорил Русинов. Жак улыбался самодовольно. – И стакан молока.
Русинов пил молоко и слушал музыку из Гваделупы. Гваделупа. Залупа. Антильские острова. Была в детстве какая-то книжка «Марка страны Гонделупы». Неистощимый предмет для изумления – думал ли ты в детстве, что будет музыка из Гваделупы на Монмартре, в исполнении Жака… Нет, не думал, не думал, я не думал в детстве, что буду когда-нибудь старым, почти старым я буду, что придется увидеть свет, другой свет, Старый Свет, Новый Свет, а потом уж и тот свет… Нет, я не думал, не думал – Боже, отчего она так сладостно наивна, эта испанская музыка, эта антильская музыка, эти фанданго, байи, сегедильи. Что за милые ножки у твоей Моник, Жак! Что за славный ты отлудил инструмент на досуге. Но чему удивляться? Ведь искусство – это плод досуга. И поэзия тоже… Ну а проза? Нет, нет, только не проза. Разве что под твою музыку… Вуаля!
– Хочешь кас-крут [15] , Сеня?
Русинов увидел, что Жак затуманенным взглядом смотрит на белые ножки Моник. Он поднялся. Сказал:
– Я, пожалуй, пойду, ребятишки. А вы, ради Бога, я очень прошу вас… Вы займитесь любовью.
– Несмотря на жару? – говорит Моник и уже закрывает книжку.
– Да, конечно, несмотря на жару.
И Русинов спустился по лестнице, виток за витком, все еще умиленно проигрывая про себя капризную музыку Жака, на залитую солнцем улицу. Сквозь марево он увидел Сакре-Кер, смуглое тощее тело Жака и молочную кожу Моник.
* * *У себя в мансарде он нашел записку от Олега с приглашением на обед. Во французском обеде, тем более Олеговом, Русинов находил для себя множество крупных неудобств. Во-первых, он бывал по-настоящему голоден в середине дня, а не вечером. Во-вторых, согласно вынесенному им из дома предрассудку, наедаться на ночь глядя было для него вовсе не так уж полезно. В-третьих, если днем это мероприятие (пусть оно называется второй завтрак, Бог с ним) можно было провернуть за час иди два, то здесь на него бывал загублен целый вечер. К тому же Олег очень скоро накушается виски и станет тягостно пьян. Можно, конечно, взять с собою на обед Софи, это идея. Для малышки это будет выход с ним на люди (Русинов почувствовал, что он отчего-то уже считает себя должником маленькой итальянки).
Он обещал ей вернуться к семи. Пока только пять. Можно было еще пройтись по Сен-Дени, а потом, по дороге к ее дому, по улочкам, окружающим Пигаль и Клиши. Это было странное, но уже привычное развлечение. Русинов не то чтобы стеснялся его, но желал уяснить для себя, в чем смысл, в чем тайный стимул и характер этих прогулок по Сен-Дени, по коротенькой рю Блондель, по улочкам, окружающим бульвар Клиши, где стояли под вечер уличные женщины. Некоторые из них были молоды, иные недурны собой и почти все неплохо (а некоторые просто шикарно) одеты. Одни вертели в руках ключи, другие были безлошадные, и Русинов давно уже маялся вопросом – отчего это зрелище так волнует его?
Он заметил, конечно, что не он один приходит смотреть на женщин, торгующих собой. Зрелые мужчины, а еще чаще юнцы часами стояли перед проститутками, глядя на них в упор. Молодежные проблемы не занимали Русинова больше, но ему не очень понятно было, что делает здесь он, не озверевший от голода и сексуально не озабоченный джентльмен, которому уже далеко за сорок. В конце концов он пришел к выводу, что волновала больше всего преступная доступность (или доступная взгляду преступность) этих женщин. Вот они стоят рядом с тобой, предлагая себя всякому, неизвестно кому, за какую-то сумму, в конце концов не такую уж баснословную (не дороже денег). И вот сейчас подойдет кто-то и все произойдет, просто так, так просто… Русинов, не переставая удивляться собственному консерватизму, продолжал ощущать отчего-то, что все это нехорошо, не по-людски. И хотя при этом обвинял себя в фарисействе, без труда доказывая самому себе, что гораздо, в сущности, постыднее торговать бессмертною душою, своим божественным даром, торговать талантом или словом, чем торговать телом, все же этот непривычный для россиянина вид торговли продолжал бередить его воображение. Нередко он ходил вечерами за бульваром Барбес – по рю де ля Шарбоньер и рю дю Шартр, где африканцы молча и мрачно стояли в очереди перед маленьким отелем. Они входили в отельный бордель и выходили из него так быстро, точно это был телефон-автомат. Да и платили они там гроши – всего тридцать франков. Иногда, в какие-то гиблые вечера, отели эти простаивали, и тогда женщины толпились внизу в вестибюле, полураздетые, зазывая прохожих: «Заходите, месье, тридцать франков! Всего тридцать франков!» Однажды, поздно вечером, когда улица была совсем пустынна и даже зеваки не толпились перед отелем, Русинов вдруг увидел прижатое к дверному стеклу бледное, усталое лицо юной проститутки. Ей было от силы семнадцать, и огромные глаза ее смотрели на испуганного Русинова с ответным испугом. Они простояли так минут пять, друг против друга, разделенные немытым стеклом двери, потом в горле у него вдруг сжалось, и он пошел прочь, унося чистый алмаз сострадания. Вот бы он что еще сделал, будь у него мильон валютой. Он открыл бы для них пансионат-профилакторий «Три дня без секса», с выплатой среднесуточных заработков, с хорошей библиотекой, кинолекторием, с чем еще… Да, с чем? Всегда споткнешься на какой-нибудь глупости: стали бы они читать? Как же…
Однажды на углу Сен-Дени, у витрины антикварного магазина, он подслушал разговор двух этих женщин. Они говорили о дорогих покупках, о том, что уже куплено и что следует купить, а он слушал, мучительно припоминая что-то, пытаясь понять, поймать ускользающую нить. Вспомнился Усть-Камчатск, убогое скопище бараков, где живут люди, по большей части привлеченные на этот бессолнечный берег тройным окладом жалованья… Садил холодный летний дождь. Среди безбрежной и унылой грязи Русинов шел в толпе по узким деревянным мосткам в сторону пристани, и две женщины позади него вели нескончаемый, как дождь, разговор о здешнем универмаге:
– Мы вчера с пяти утра стояли. Ковры обещали давать. Ковры не завезли. А потом дорожки выбросили и пуфы. Я на всякий случай купила семь штук пуфов, раз уж все равно простояла. Ставить их только некуда, пусть стоят нераспакованные. Манька говорит, до конца месяца еще завезут ковры. И кольца будут давать золотые…
Так что же они будут делать в этом твоем профилактории, мон шер, чем будешь лечить бессмертную душу?
Ладно, Бог с ними, с курвами, а что бы ты еще сделал, будь у тебя мильон? Купил бы на хранение все русские рукописи, чтобы ни одна не пропала, до тех времен, когда можно будет издать? Посылал бы посылки в Россию. Конфеты к чаю всем русским крестьянкам пенсионного возраста. Всем старикам таджикам из дальних кишлаков. Посылал бы детские вещи одиноким матерям в России… Не много же ты пока придумал, мон шер…
Софи была дома. Она встретила его так, словно их семейная жизнь началась давным-давно. И охотно согласилась пойти с ним на обед к русскому другу.
– Правда, я думала, что мы снова пойдем к Густаво, – сказала она. – Ну к тому скульптору, у которою мы познакомились вчера. Приехали трое друзей из Барселоны…
– Значит, он скульптор? – спросил Русинов. – Странно.
– Чему ты удивляешься?
– Нет, ничего… – сказал Русинов. – Скульптор может быть дураком. Это дело обычное. Но вкус, черт побери, вкус… Эти китайцы в передней. Со скрипками. И со страхом в глазах. Эти плакаты. Эти страны, наводненные гипсовыми статуями вождя. Разве нужно ездить в Китай? Почитать три минуты, увидеть картинки…
Он запнулся, потому что Софи плакала.
– Ну да, – сказала она сквозь слезы, – мы все дураки. Мы кретины. Так ты считаешь?
– Женщине идет глупость, – сказал он жестко. – Но мужчина… Художник…
Он не собирался оправдываться. Разговор этот возникнет еще не раз, и надо, чтоб она знала… К тому же он не против того, чтоб держать ее в черном теле, в сознании своей неполноценности – это всегда на пользу. Всегда оправданно.
– Так что же, мы идем к моему приятелю?
– Да, милый… – Она стерла слезы, напудрилась. Они вышли на рю Лепик и прошли через строй проституток. Вчерашняя африканка в белых трусах сделала Русинову приветственный знак: «Ты уже подцепил себе, мерзавец!»
«Ого, у меня появляются связи на дне Парижа», – подумал Русинов. Потом промелькнула мысль, что он и сам не удержится здесь на поверхности.
* * *Они шли в сторону метро. Потом Софи вдруг сошла с тротуара и отперла дверцу автомобиля. Это был маленький «ситроенчик» «де шево», «две лошади», вместительная консервная банка на тоненьких бойких колесах. Русинов еще не разбирался в автомобилях, не умел даже определять общественное положение своих знакомых по этим железным игрушкам двадцатого века. Он различал пока такие вот «де шево» и еще один, расхлябанно-железный, симпатичный, называемый «меари».
Поездка до Монпарнаса в автомобиле заняла минут десять. Потом они пятнадцать минут искали место для стоянки, расталкивали бамперами близко стоящие автомобили и, наконец, шли пешком назад к Олегову дому. И все-таки это было большое удобство – приехать на чужом автомобиле: Русинов испытывал тупую беззаботность телезрителя, которому не надо возвращаться домой после спектакля.
Олег и Шанталь были им очень рады. Русинова несколько тревожило, что он явился не один, а с Софи, но уже в передней Шанталь рассеяла его страхи: у них сегодня еще двое гостей-мужчин, так что лишняя женщина просто кстати. Олег вполголоса объяснил Русинову, что гости – его будущие работодатели, представители агентства, которое рекламирует русское оборудование. Они обещали дать ему долгожданную работу (Русинов впервые подумал, что, несмотря на перманентное опьянение, Олег может искать работу) – какие-нибудь там переводы, рефераты, обещают даже контракт на полгода.
Шанталь расстаралась, сервировав великолепный стол «а-ля рюс», что во Франции означало присутствие давно забытых Русиновым и почти исчезнувших из русского обихода продуктов питания – красной и белой рыбы, красной и черной икры и еще каких-то неведомых русских водок с иноязычными этикетками – «смирноф», «эристоф»…
Гости и хозяева энергично подняли первый, потом второй, а вскоре и третий тост. Русинов навалился на еду. Софи обольщала хозяйку (и, кажется, весьма успешно). Симпатичный молодой рекламщик слегка ухаживал за Софи и рассказывал об умопомрачительных казенных приемах в Москве. Рекламщик постарше (и пониже чином) быстро опьянел и пытался перевести разговор в сферу экономики. Ему удалось в конце концов овладеть кафедрой, и он сообщил, что привести в чувство французскую экономику смогут только коммунисты, в крайнем случае в союзе с социалистами.
– Я человек строгого экономического расчета, – сказал он. – Посмотрите на Россию. Русские отставали от Франции на четыреста лет. Сейчас они уже обогнали Францию по производству чего-то там того-то…
Русинову общими усилиями объяснили, что это «что-то» было «цельнотянутое что-то». Второе «того-то» ему никто толком не мог перевести.
– Хорошо, я что-нибудь подставлю на это место, – сказал Русинов. – Предположим, это какие-то цельнотянутые чушки… Так что, уже обогнали?
– Да! – воскликнул пожилой. – Представьте себе! Уже! И Франция не сможет наладить дешевое производство этих цельнотянутых как бы чушек, пока здесь не будет покончено с грязным капитализмом – раз, с разрухой и разгильдяйством – два, с парламентаризмом – три…
– И почем тогда выйдет каждая чушка, я имел в виду – такая, цельнотянутая? – спросил Русинов испуганно. – Во сколько обойдется человек, дней, годов, городов…
– Я вам могу подсчитать, – сказал старый, и рука его потянулась к столу, вероятно в поисках электронной счетной машинки. К облегчению Русинова, он взял яйцо, начиненное зернистой икрой, а молодой рекламщик воскликнул:
– Сколько бы она ни стоила, ясно, что капитализм должен быть разрушен.
– Да, да, – умиротворяюще сказал Олег и быстро разлил виски по стаканам. – До основанья, а затем…
Гости выпили еще раз, а Русинов молча съел русский блин с такой типично русской, валютного икрой.
Когда рекламщики вышли покурить, Олег сказал Русинову вполголоса:
– Видишь? Я уехал оттуда, потому что смеялся над их техникой. Я всегда всем говорил, что на Западе гвоздь так это же гвоздь. А теперь я буду здесь рекламировать ту технику, где гвоздь даже не гвоздь.
– Да, грустно, – сказал Русинов, начисто равнодушный к технике. – Гвозди бы делать из этих гостей, в мире бы не было… Да. И рифма, кстати, была бы интересней.
Олег хлопнул полный стакан виски и понюхал камамбер.
– Ну ты здоров… – сказал Русинов.
– Вот-вот, – сказал Олег. – Мне директор картины тоже всегда говорил. Здоров же ты, Новиков, водку жрать…
– Ты кем был на картине – осветителем?
– Звуковиком.
– Ну да…
Бывает счастливая фраза, которая для прозаика разом освещает все – и обстоятельства, и фон, и самую суть взаимоотношений, целую историю жизни. Как слово или мелодия для поэта. Как зрительный образ, какая-нибудь там белая лошадь – для художника или кинорежиссера. Такой была директорская фраза «Здоров же ты, Новиков…». Русинову сразу представилось все – съемочная группа, компания беспробудных и непрофессиональных алкашей; унизительные окрики режиссеров, оператора, директора; нищенская зарплата, сейчас же пропиваемая; плохие гостиницы и дома приезжих; идиотические фильмы; бесперспективность существования. И вот – случайное знакомство в «Метрополе», разговор на слабознаемом обеими сторонами английском, совместная поддача, экзотический роман, «амур рюс» и решение пожениться. Потом непонятное противодействие властей, только укрепившее первоначальное намерение жениха и невесты, долгая борьба и, наконец, отъезд. Шанталь была из хорошей семьи, из какого-то старинного французского рода, умничка и работяга, но что-то привело ее к этому странному браку. Может, невозможность выбрать во Франции. Чтение «Войны и мира» (она, конечно, воображала себя Марией Болконской, и вот является он, Николай). Ее симпатия к России Толстого и Гулага.
Впрочем, самое поразительное – дальше (во всяком случае, для Олега; впрочем, для Русинова тоже): появление этого косноязычного существа в рафинированном семействе; демонстрация киношных нравов за праздничным семейным столом, где некому прикрикнуть на братву и вообще никому не понятно, что происходит. «Она не может не страдать, – думал Русинов, внимательно наблюдая за Шанталь. – Однако что-то она от этого все же получила, сверх ликвидации угрозы безбрачия… Что же именно? Сексуальные радости? Вряд ли. Он, кажется, не ночует дома…»
Во всяком случае, наблюдение за этой парой представляло интерес. Русинов предположил развитие покровительственной любви, истинно материнского чувства к этому почти что бедному русскому, чьи таланты (не мог же русский не быть талантливым) загублены системой (или, наоборот, недостаточно принципиальным проведением в жизнь высоких принципов системы).
Прощаясь, Олег и Шанталь звали их приходить еще, да почаще. Русинов видел, что это вполне искренне, и он понял, что при Олеговом размахе выпивки, при нынешней отчужденности от ее прежнего общества Шанталь очутилась в вакууме, который она заполняет работой, и ей нужна новая компания, в которой она была бы вместе с мужем.
– Да вот, хотя бы на уик-энд, – сказала она. – Наши друзья поселились в новом фургоне в прекрасной местности…
– О, вуаля! Боф! – оживился Олег. – Этот фургон может служить дачей. Там все удобства, и мне, вуаля, очень нравится такой. Я думаю, мы тоже купим, а?
– Давайте к ним поедем в ближайшее воскресенье, – сказала Шанталь.
Им пришлось еще завезти домой сильно забалдевшего пожилого рекламщика. Того самого, который не пощадил бы прекрасной Франции для производства цельнотянутых чушек. Он жил в одном из пригородов «красного пояса», то ли в Жанвийе, то ли в Стэне. Софи, в свое время снимавшая квартиру чуть не во всех этих унылых городках, прекрасно ориентировалась на местности.
Пожилой энтузиаст чушек прощально икнул, исчезая в унылом подъезде.
Глядя ему вслед, Русинов думал о том, с какой легкостью он обращал хрупкие творенья Божии в абстрактные цифры, в категории и проценты. Вот кто был братом Мирры Хайкиной в ее борьбе за гигиену. Ведь неудобство ее начинаний было не в относительной чистоте сортира, а в том, что можно было истребить любой процент сортиропотребителей в борьбе за идеальный наклон журнала на гвоздике…
– Я тоже здесь жила, – сказала Софи, поведя рукой вокруг дома.
Машина стояла среди новых блочных домов-бараков, как братья похожих на своих сородичей из Неаполя и Кузьминок. Унылые неоновые фонари освещали пустую улицу. Появился пьяный араб. Он шел, хватаясь за стены, что-то бормотал. Русинов подумал, что в таком районе и не может родиться ничего, кроме идеи цельнотянутых чушек.
Такие дома, целые кварталы, целые города этого рода, и в России, и тут, покрывали уже десятки, сотни километров земной поверхности. Может, они и были отчасти виновны в рождении уродливого этого бунта, этих бессмысленных убийств, в качестве альтернативы планомерной борьбе за железные чушки, альтернативы алкоголю, наркотикам и телевизорам…
– Пока я не нашла свою дешевую квартирку на Клиши, я не могла себе позволить снимать в Париже… – сказала Софи.
Русинов отметил, что она уже в десятый, а может, в пятнадцатый раз говорит эту фразу: «Я не могу себе позволить». Насколько он понял из ее рассказов, она ничего не могла себе позволить. Кроме дешевой квартиры (но счета за нее повергали Софи в панический ужас). Кроме дешевой машины (но страховка, ремонт, бензин – все было сверх ее сил и возможностей, она просто не могла себе позволить…). Кроме телефона, который стоил непомерно дорого («Я не могу себе позволить, – сказала она. – Я, пожалуй, откажусь от телефона»). Кроме путешествий, которые были бесплатными и даже приносили ей доход (она работала администратором в туристском агентстве). И кроме Русинова, который ей пока ничего не стоил (конечно, он не мог принести ей ни дохода, ни радости – но об этом она пока еще не догадывалась).
Более внимательно исследуя ее доходы, Русинов испытывал все меньшую тревогу за ее настоящее и будущее (правда, в чужой руке, как известно, все толще): она получала в переводе на русские деньги рублей семьсот в месяц. И все же именно у Софи Русинов впервые заметил здесь это яростное беспокойство о завтрашнем дне, это сознание, что она ничего не может себе позволить, потому что вдруг завтра… Это ее беспокойство удручало его еще и потому, что он начинал думать о себе. О том, что ведь и он тоже… Денег у него оставалось (в расчете на строгую экономию) не больше чем на полгода. Однако эти полгода могли легко превратиться в три месяца (если только ему придется снять квартиру в Париже) или даже в два (если возникнут какие-нибудь непредвиденные расходы, скажем медицинские)…
– Мы поедем ко мне? – сказала Софи, и Русинов заметил, что она нервничает.
«Она боится, что я попрошу отвезти меня домой, а потом прощусь и выйду из машины, – подумал он. – Ну а зачем я ей все-таки нужен?»
Русинов, конечно, подумал о любви. Но любовь была понятием слишком общим, нерасшифрованным. Конечно же Шанталь любила этого своего Олега, но почему, зачем, как… Русинову вдруг пришло в голову, что в любви Шанталь и Софи могут оказаться общие отправные точки, какие-то общие пружины, несмотря на все различие между этими двумя женщинами и различие (как он смел надеяться) между объектами их чувства.
По некотором размышлении Русинов пришел к мысли, что такой общей пружиной могла оказаться их незаполненность, отсутствие идеальной цели, которая обеим этим женщинам, при всем различии их уровня, могла бы казаться высокой и достойной. За спиной Русинова и даже за спиной Олега (суть которого была по причине его косноязычия скрыта от всех) этим женщинам из страны, изверившейся в своих идеалах, чудился другой мир – мир реальных катастроф и страданий, и вот их женская доброта обращалась к выходцам из этого мира в поисках настоящего дела, в поисках точки приложения доброты, в поисках настоящего подвига жизни.
Может, это идеальное женское стремление скрепляло странную семью Олега. Может, им объяснялась та стремительность и готовность, с какой Софи вторгалась сейчас в его жизнь, желая переложить на себя тяготы этой жизни и ее достижения.
– Можем поехать ко мне в мансарду, – сказал Русинов, наблюдая за ее лицом. – А хочешь – поедем к тебе.
– Ко мне, – сказала она с облегчением.
«Так ей надежнее», – подумал он и погладил ее пышные волосы, рассеянно поискал ее грудь в балахоне современного платья…
Они ехали домой через Булонский лес. Было довольно холодно после недавно прошедшего дождя, и Русинов содрогнулся, увидев на краю черного леса женщину в белых трусах-слипах и крошечной кофтенке, которая скорее обнажала, чем скрывала ее огромную грудь. Фары, «ситроена», выхватили из тьмы толстые некрасивые ляжки (небось, фиолетовые от холода, подумал Русинов). Чуть дальше он увидел еще двух женщин в трусах, а подле них машину, водитель которой беседовал с женщинами через окно. Еще дальше была вторая машина. Русинов видел, как из нее вылез мужчина и, озираясь, пошел за женщиной в кусты…
– В сущности, в современной Франции большое поле для героизма, – сказал Русинов. – Этот человек может опасаться в кустах ограбления, дурной болезни и полицейской облавы. А может – и всего вместе. Думаю, ради этого он и пошел во тьму, ибо трудно себе представить радости любви… даже простое удовольствие…
– Они такие страшные, эти женщины, – сказала Софи. Русинов посмотрел сбоку на ее тонкий профиль и подумал, что, скорей всего, она права, хотя нельзя сказать наверняка, потому что в этой полутьме видны только ляжки, да иногда еще голые груди, накачанные силиконом.
– Сказки Булонского леса… – сказал он. – Не к ночи будь рассказаны.
* * *Дашевский вернулся из Цюриха. А может быть, из Мюнхена, Русинов не помнил толком, куда он ездил. Жена Дашевского Людка сказала об этом тем же скучным голосом, каким сообщала когда-то Русинову, что Ефимыч только что ввалился из Днепродзержинска. А может, Днепропетровска: Русинов уже и тогда не мог запомнить, куда ездил Дашевский по делам своей «Индустриальной газеты».
Лежа в мансарде, Русинов с самого утра думал о том, что надо идти на деловое свидание с Дашевским. Идти не хотелось, и Русинов был совершенно уверен, что делов не будет. Нет, конечно, Дашевский был деловой человек – он был деловой уже там. Он там состоял в правлении Домжура, в редколлегии контрпропагандистских буклетов по экономике, в совете по премиям, в ревизионной комиссии, в журналистском автоклубе… Какой-то навар он имел от всех этих никудышных яиц. Он осел в Париже недавно, по дорого куда-то (не в Израиль, конечно) и уже имел здесь большое количество должностей и занятий. Наверно, был и навар, потому что Людка получила возможность шататься по магазинам: иначе куда бы ей деться? Он даже печатал что-то свое, какое-то журналистское дерьмо, может, как раз то дерьмо, которое им здесь было нужно.
Не пойти на свидание, назначенное занятым Дашевским через Людку, было уже неудобно, и Русинов все же вышел из дому.
Он сидел за столиком в «Сип Бабилон» и смотрел на прохожих.
Он обжился за этим столиком и уже хотел заказать второе молоко (нет, лучше с гренадином, месье), потому что он твердо знал, что домжуровский пижон Дашевский, тем более при разности их нынешнего положения, никогда не позволит ему самому расплачиваться за молоко. Дашевский пришел и вырвал его из-за столика с криками: «Расплачивайся скорей! Пошли! Быстро! Тут есть китайский ресторанчик, но живо! Времени в обрез!»
Русинов вскочил (ах, пардон, месье, вот монета, нет, не надо с гренадином, месье, мы уходим, а что делать, ке фер?) и пошел, почти побежал за Дашевским, с трудом поспевая за ним.
В маленьком китайском ресторанчике в Латинском квартале Дашевский быстро и толково объяснился с китайцем по поводу пищи, а потом вдруг предался теплым воспоминаниям:
– Ты помнишь, когда только открыли Домжур на Суворовском. На стене – медный фрегатик. Мясо по-суворовски…
– На штыке? Штык молодец!
– Брось притворяться, ты же отлично помнишь. А поджарка, тыщу раз, наверное, ел, не люблю вот этого пижонства и снобизма, ты же любишь поесть, Сеня…
– Люблю. Впрочем, могу и не есть.
Этого говорить не следовало. Это убивало добрую готовность Дашевского прийти на помощь собрату. А если ты не собрат, если ты неизвестно кто – может, ты коммунист или ты монархист, черносотенец, фанатик-изувер от религии, тогда что же я сделаю для тебя и зачем, а? Если тебе не надо есть, не надо заработать, чтобы ням-ням, чтобы купить машину, чтобы снять квартиру в Париже, чтобы войти в компанию порядочных людей, думающих так же, как ты, и разделивших с тобою судьбу изгнанников, да, да, изгнанников, а не изгоев… Именно так мог подумать Дашевский и, наверно, уже подумал, во всяком случае, заколебался на мгновение, а возиться ли с ним, с этим поцом, который всегда был поцом, и в Москве тоже, в конце концов, человек должен знать, чего он хочет, иначе надо сидеть на месте и не морочить голову ОВИРу, властям, префектуре и людям здесь, которым в тысячу раз труднее приходится, чем людям там.
Русинов совсем не удивился, когда Дашевский вдруг начал говорить ворчливым и недовольным голосом, заранее возражая Русинову и опровергая наперед мысли, которых Русинов никогда не высказывал, а может, и никогда не имел.
– Вы, новые эмигранты, начинаете хаять эмиграцию, – сказал он, – потому что вы от нее ждете каких-то вещей, которых вообще даже в мире не существует. Ну да, конечно, здесь для нашего брата-литератора есть кое-какие, так сказать, льготы – ну, например, не посадят тебя за простой рассказ и даже за целый роман. А если возьмут печатать, не будут его уродовать на редколлегии и не заставят приделать такой конец, чтоб стало тошно, – это правда, но друг мой, друг мой… – Дашевский перегнулся через столик и даже поймал Русинова за ворот рубашки. – Если вы хотите, чтобы этот ваш рассказ был напечатан, и скоро, и не бесплатно, так нужно, чтобы этот рассказ был не просто лучше того, что они тут печатают (а они, честно сказать, много муры печатают, мой друг, такая лажа), – этот ваш рассказ должен быть в сто раз гениальней, и по коммерческой линии тоже. Ну а если этого нет, то может быть всякое другое, это как везде – какие у вас отношения в редакции, и, может, вы с главным на короткой ноге и, скажем, пьете вместе, а если вы не пьете…
– Я не пью, – покорно сказал Русинов.
– Да! Так вот, если вы не пьете, так, может, вы ему жопу лижете, а если сразу и то и другое – то совсем славно…
Довольный своим объяснением, а может, также и печальным видом Русинова (таки сбил с него спесь немного), Дашевский смягчился и сказал будто бы даже с удовлетворением:
– А справедливости, так ее нету здесь, мой друг, и нигде ее нет. С этого надо начинать…
При мысли о том, что он ищет у Дашевского справедливости (так оно все выходило), Русинову стало стыдно, и он обратился к пересоленным китайским разносолам.
– Я все посмотрю, перелистаю, что ты мне давал, в этом не сомневайся. – Дашевский дружески сжал его руку. – Что-нибудь выберем. Кто из нас не бывал в такой ситуации, я сам в пятьдесят втором году… Но только я же заранее знаю, что там у тебя… У тебя там, наверно, все русская грусть и критика гнусной российской действительности, тогда как читателю здешнему, в смысле нерусскому, ему нужно что – ему нужна другая, лучшая жизнь, за которую он мог бы уцепиться. И поэтому симпатии его на стороне новой русской жизни, которая, какая бы она ни была несовершенная, а все лучше своей несовершенной. Значит, выпускать можно для русских, по-русски, а как это в смысле финансовом? Никак. Так что вся эта критика…
«При чем тут критика? Не надо ничего выпускать!» – так хотелось крикнуть Русинову. Он хотел дать торжественное обещание, еще одно, ничего не писать больше, но тут же вспомнил, как много он давал их уже в своей жизни, этих обещаний. И вспомнил, что, окажись он сейчас на месяц в рабочем состоянии, тут же сядет писать повесть о славной жизни партийной журналистки Мирры Хайкиной, мир ее хайку, мир праху ее…
Русинов ничего, конечно, но крикнул, и все же стыдно было за себя, за свои нечитаные писания, за поползновения на какую-то там критику или недовольство, на которые намекал Дашевский. И он даже понял раздражение Дашевского против возможных (и даже неизбежных в произведениях такого рода критических настроений и ламентаций) – ведь его и самого раздражали ламентации поляка, охранявшего памятники природы. Кому это все нужно теперь, кому интересно? Неинтересно и неактуально. Для обитателей благополучных стран неинтересно чужое неблагополучие и, главное, неактуальны и не полезны выпады против левой идеи, потому что, если не это, что же тогда еще? Если бы еще разоблачить грязных капиталистов, дать толчок переменам, социальному движению и совершенствованию… А все эти эмигрантские русские потуги – все это для французов так же актуально, как борьба со злоупотреблениями в Греции для ярославского колхозника, все эти русские невзгоды, польские невзгоды… Зло, говорите вы? Да, может быть, это и зло, но зло несколько абстрактное и уже привычное, вот вздорожание багета на десять центов – это реальное наступление на уровень жизни, и без того низкий, это, если хотите знать, черт знает что…
– Вот я тут был без машины, ехал в метро, – сказал Дашевский, наклоняясь к Русинову. – А там мальчишки в переходе играют, и что – как ты думаешь? – фрейлехс, семь сорок. Тут я вспомнил, как у нас на вечере, бывало, в МИСИ: заиграют фрейлехс, парторга аж перекосит. Вот это был кайф! А если нет парторга, то чего тут играть фрейлехс?
– Не знаю, – сказал Русинов. – Музыка. Она существует и независимо от парторгов. Независимо от всех.
Дашевский покачал головой.
– Хорошо бы тебе все-таки выпустить книжку, – сказал он.
– Да, хорошо, – согласился Русинов, удивляясь и своему соглашательству, и своему равнодушию.
– Надо что-то придумать. Я подумаю. Ешь салат, Сеня. Это водоросли.
* * *До свидания с Софи оставалось еще часа три. Русинов был сыт, свободен, у него было три часа на прогулку по чудесному городу Парижу, и, если бы он мог сейчас чувствовать себя туристом, приезжим, экскурсантом, журналистом, даже писателем, изучающим этот прекрасный город с творческими целями (интересно, на каком уровне русской писательской иерархии начинаются «творческие поездки» в Париж?), уж он бы за эти три часа… Однако он не был ни первым, ни вторым, ни третьим… И даже не мог вообразить себя таковым. Он просто оказался в Париже – это был, возможно, не лучший, но, вероятно, и далеко не худший вариант. Во всяком случае, ему тут нравилось гораздо больше, чем в Улан-Баторе, точнее, он чувствовал себя здесь куда лучше, чем в Улан-Баторе. Но хуже, чем в Фирюзе и Каратаге. Во всяком случае, там было где прилечь на солнышке. И машинка его стояла на солнышке. И ему писалось, хотелось писать. Впрочем, может, это ему теперь все представляется в таком свете, иначе он остался бы навсегда в Каратаге. Никто ведь его не гнал из Каратага. Гнал, не гнал…
Русинов остановился у газетного киоска, раскрыл книженцию с каким-то непонятным французским названием и еще менее понятным подзаголовком: «фотороман». Что значит фотороман? Любовь в фотографиях. Или роман, иллюстрированный фотографиями. Фотороман превзошел все его ожидания. Это была очень высокая ступень кретинизма, еще повыше комикса. Актеры разыгрывали перед фотографом простенькие сцены, кадр за кадром. В подписях или пузыре шел элементарный текст. Все было ясно, наглядно, просто, как мычание, однако еще примитивнее, чем мычание. Будь он корреспондентом из Москвы, Русинов не нашел бы более грубых слов для этого новейшего достижения литературно-художественной мысли Запада. Разве что сравнил бы это с телевидением. Скажем, с московским телевещанием… Нет, нет, он забыл, так быстро: если бы он был корреспондентом из Москвы, он бы себе не мог позволить такого сравнения. Да и здесь непонятно кому можно было бы всучить это сравнение. Софи закричала бы уязвленно: «Там! А здесь?» Олег сказал бы: «А что? Забавная штучка этот фотороман. Все-таки умеют они развлечь человека». А проф Стенич… Нет, нет, не надо спрашивать Стенича. Во-первых, ему наверняка нравится эта штука, он учит по ней язык. Во-вторых, он сразу найдет в ней происки крупного капитала, вопреки необратимым процессам намеренно затуманивающего сознание трудящихся в связи с предстоящими выборами, на которых силам прогресса…
Площадь Шатле была улучшена гигантской рекламой балета «Волга» в прославленной постановке какого-то Лопеса Родригеса. Судя по рекламе, на берегах этой «Волги» развились неистовые испанцы в костюмах донских казаков. Русинов подумал, что при выходе на местный массовый рынок ему пришлось бы коренным образом пересмотреть свои волжские впечатления, ибо здешнему потребителю (как убеждала та же реклама) сильно полюбилась именно такая «матрушка-Волга-Волга», мутер-Волга Родригеса… Русинову припомнился отчего-то старик, переправлявший его на другой берег возле деревни Волга, что за Селищами. Был вечер, мычала корова в кустах, а на берегу уже не первый день пировала бригада гослова, готовясь в конце концов выйти на беспощадный лов. Одинокий рыбак зигзагами передвигался по полю к магазину за винным подкреплением, и ясно было, что силы рыбаков на исходе…
– Оно, видишь, какое дело, село наше раньше Тухачево называлось, – сказал старик, мерно опуская и поднимая весла.
– А потом? – спросил Русинов. – Что стряслось-то? Нынче уже четвертая Волга по берегу.
– А то случилось, что оказался враг народа по имени товарищ Тухачевский, – назидательно сказал старик. – Так что и село наше было переминовано… Теперь называется Волга.
– Он что, разве отсюда был? Из ваших мест?
– Упаси Боже, – сказал старик. – Из наших только Лиза Чайкина. И поэт Ошанинов. А все же неудобство, сам понимаешь, если ты умный человек. Так что сполком произвел переминование…
Русинов нежился на скамейке, глядя на волжский берег Родригеса. Бригада гослова, нацепив казачьи папахи из Шолохова, плясала испанский танец…
Площадь Отель-де-Виль (Ратушная или, точней, Горисполкомская) не бередила больше воспоминаний о прежней Гревской, прославленной казнями. Картинки Дюма и Гюго были сегодня далеки отсюда, дальше, чем Москва, где продавец брал теперь по три пуда макулатуры за «Отверженных» и «Королеву Марго» – полный комплект журнала «Партийное строительство» за истекшие двадцать лет. О богачка Мирра Хайкина! Впрочем, в последние годы жизни она доставала туалетную бумагу через прежнего мужа-завмага. Книжный кризис вознес в России творения французской словесности на уровень зернистой икры и туркменских ковров – культурная революция совершилась…
Подошла Софи. Встала перед ним. Бледненькая, усталая, целый день в ярме крупного капитала.
– Кофе хочешь?
Русинов уже привык к тому, что они всегда хотят кофе.
– Нет. Только что пила…
– Присядешь?
– Нет. Весь день сидела…
– Тогда, может, погуляем?
– Взять машину? – спросила она с надрывом.
– Можно гулять пешком. Хочешь пройтись?
– Конечно…
Машина была предложена для него. Сидеть за рулем в эти часы утомительно, зато она будет жертвовать собой для него. Не надо, малышка, можно пройтись пешком, подышать – а заодно я буду жертвовать собой для тебя. Мне полезно будет поразмять ноги.
Русинов что-то не заметил, чтоб она была очень довольна прогулкой. Может, ей все-таки приятнее было бы жертвовать собой, сидя за рулем машины в густом потоке вечерних машин.
С другой стороны, что за радость гулять сейчас в центре Парижа? На улице точно так же пахнет бензином, как и в ее «ситроенчике». Только неисправимые оптимисты, вроде инспектора Мегрэ и прочих работников французского угрозыска, могут учуять весенние запахи на провонявшей городской улице…
Улица Тампль. Церковь Блан Манто (Как перевести? Храм Белого Пальта?). Они вышли на какую-то закопченную, драную улицу.
– Это тоже достопримечательность Парижа, – сказала Софи. – Еврейский район. Улица Розьер.
– Действительно, – сказал Русинов. – Ты подумай!
Афиша на стене предлагала им за две тыщи поехать в какой-то летний лагерь, где вся пища будет заранее осмотрена раввином и вообще атмосфера будет чисто еврейская («амбьянс жюив»).
– Соблазнительно, – сказал Русинов. – Там, наверное, с утра до вечера будут рассказывать еврейские анекдоты. «А кто остался в лавке?» – «У вас есть другой глобус?» – «Моню не надо нюхать…»
– Тут много африканских евреев. – Софи предупреждала Русинова от возможных этнографических ошибок.
– Черных, как ночь? А скажи, радость моя, куда еще можно поехать за две тысячи франков? Ну, скажем, под эгидой вашего агентства?
Софи сосредоточилась и стала добросовестно излагать содержание проспекта:
– Увеселительная поездка в страну корриды. Круиз по Средиземному морю – шесть стран, включая Грецию и Ялту. Знакомство с Англией, Грецией, Италией. Поездка в Запорожье и Бердянск.
– Даже туда, – удивился Русинов. – Это соблазнительно. Так, может, мы все-таки не будем гнаться за амбьянс жюив.
– Можно еще десять дней купаться на Майорке, на Корсике, в Тунисе, Марокко… Но знаешь, может быть, человек хочет побыть среди своих.
– Может быть. Ты тоже хотела бы?
– Понимаешь… – сказала Софи. – Я – совсем другое дело.
– Вот так, – грустно сказал Русинов. – Я тоже, вероятно, другое дело. Но сейчас, раз уж мы здесь, среди своих, совершенно бесплатно…
Они зашли в маленький магазинчик, похожий на русский продмаг, скорее даже, на сельмаг, только без лежалых калош и радиоприемников. Там они купили бутылку молока, закупоренную, конечно, под надзором раввина (Русинов был удивлен пристрастием раввина к порошковому молоку).
Потом они заглянули в кафе. Кафе было плохонькое, девица за стойкой смотрела на них подозрительно и враждебно. Может, потому, что до них в кафе было пусто, а теперь ей пришлось отвлечься от каких-то своих личных дел.
– Тут у вас что? – спросил Русинов жизнерадостно. – Кругом одни евреи?
– Исключительно евреи, – сказала девица. – Но я француженка.
Они выпили воды, простились и снова вышли на грязную улицу Розьер.
…Итак, люди искали спасения в кругу своих. Наименьшей ячейкой для такого спасения была семья, наибольшей – страна и нация. Похоже, что все усилия одиночек привить человечеству более широкий взгляд на вещи пропали втуне: нация была ныне признана наивысшим достижением цивилизации, к которому еще должны были стремиться враждующие друг с другом деревни Новой Гвинеи, а также бесчисленные племена Африки, пока что успешно истреблявшие друг друга при помощи иностранного оружия. Ни левые, ни правые не тяготели больше к космополитизму. Национализм был понятен, удобен и выгоден всем. Апостол Павел и братство во Христе были отставлены как недосягаемый идеал светлого прошлого. Светлое будущее рявкало из тумана что-то невнятное.
Грязная деревенская улица Розьер была сегодняшним днем Парижа, Парижем нового века. Она вовсе не отставала от самоновейших течений. Напротив, она шла в ногу с ними…
* * *– Во вторник я улетаю в Перу, – сказала Софи, поставив машину, – на целых пятнадцать дней. А что потом? Я огорчена…
– Мне бы твои огорчения, – сказал Русинов.
– Я буду скучать… И потом у меня будет десять дней безработицы. Патрон так сказал.
Русинов внимательно смотрел на нее. Это Перу даст ей две тысячи франков, русских четыре сотни…
– У меня большие налоги, – сказала она, словно прочитав его мысли. – Каждый месяц я плачу семьсот франков. Потом, ты забыл телефон, квартплату, страховку…
– Я тебя прокормлю, – сказал Русинов. Как ни абсурдно звучало его беспечное заявление, она повеселела.
«Не денег им не хватает, – думал Русинов. – Денег у них больше, чем надо. Им не хватает уверенности, что все это мура, все ихние придумки с образом жизни. Ну а что не мура?»
– Я уже была один раз в Чили и Мексике, – сказала Софи. – И еще я была в Гватемале. В Мексике очень много бедных.
– Ясно. А в Гватемале?
– Мальтеки очень живописные. Но там тоже вторжение капитала.
Русинову представилось, как она носится колбасой по свету, пытаясь что-то понять, что-то осмыслить в калейдоскопе культур, нравов, религий. Пытается составить мнение, не отстать от интеллектуалов. В отчаянье бессилия…
Мелькают континенты, века, храмы. Мир загадочен и непостижим, и только передовое учение дает хоть какую-то простенькую, доступную всем ниточку в хаосе жизни: классовые противоречия, проникновение капитала, американский империализм, богатые и бедные, национальная независимость. Нужны всеобщие выборы: объяснить мальтеку, в какой ящик что бросать, что за кого – и марш! Потом рост благосостояния: каждому в руку пылесос. Каждому мальтеку – библиотеку, каждому бушмену – реакцию Вассермана, каждому атцеку – сортир. А миру – мир. Европейские идеалы осчастливят их всех, от мальтеков до австралопитеков. Да, вот еще – телевизор, как же им без телевизоров, футбол глядеть…
– Ты не хочешь меня обнять? – спросила Софи.
– Хочу, – сказал он и живо просунул руку ей за спину, думая про себя при этом, что он стал неплохой притворщик. Они сидели в машине возле ее дома.
– Пойдем к тебе, – сказал он. – Там я тебя обниму как следует…
«Господи, – думал он, поднимаясь по лестнице за Софи, – Господи мой, Боже, отчего все так быстро надоедает. И чего тебе не хватает в ней? Все есть у нее – и красота, и доброта, и преданность, и нежность… Так какого ж тебе рожна? Чего тебе еще? Нет, нет, спасибо, мне ничего. Просто ничего. А жаль… Она бы любила тебя. К тому же как ее обидеть теперь? Зачем ее обижать? За что?»
Они сидели на кухне, пили порошковое кошерное молоко из еврейского магазинчика, ломали багет, мазали конфитюром и камамбером. За окном, в полутьме, мельтешили туристы и проститутки, а еще дальше, за бульваром Барбес, стыли в неподвижности сенегальцы, эфиопы, тунисцы – ждали, когда уже можно будет пойти спать. Великий город завершал очередной день суеты.
Русинов вспомнил, что ему еще предстоит заняться любовью и что его занятия под стать суете этого города.
Впрочем, к тому времени, как Софи вернулась из душа, он уже дремал. Она сказала ему что-то, он ответил, не просыпаясь для этого окончательно. Так же, в полудреме, он слышал, как она обняла его, погладила. Он даже потерся о ее щеку, но продолжал дремать. Сквозь дрему он слышал, как она возится у него под боком, трется об него, тяжело и прерывисто дышит. Наконец, она затихла, и он подумал, что она обошлась своими силами. Это было очень мило с ее стороны, да, очень мило, вообще, она была к нему очень добра…
* * *В воскресенье они помчались куда-то за город, где в зеленой живописной местности приютился фургон Олегова приятеля-шведа, точнее, этот швед был приятель Шанталь, тоже врач.
Труднее всего дорога досталась Шанталь, сидевшей за рулем. Надо было выбраться из потока машин, покидающих в эти часы город. Зато, едва выбравшись из этого потока, они тут же оказались на живописном склоне холма, где процветающий швед купил себе крошечный участок и поставил фургон.
После осмотра нового жилого фургона (обратите внимание – все есть, дом в миниатюре!) гости и хозяева немедленно перешли к выпивке, и непьющий Русинов был предоставлен самому себе. Он смотрел на склон холма в своем тихом безалкогольном кайфе и думал о том, что страна эта все еще прекрасна. Краем уха он слышал разговоры в садике, которые вращались вокруг фургонов, жизни в фургоне, на лоне, на склоне, и ему вдруг вспомнился другой, тоже не наш, австралийский, первый в его жизни жилой фургон.
Это было после окончания университета, когда в погоне за любым копеечным гонораром он согласился подыскивать для одной московской газеты факты в субботнюю увеселительную рубрику «Их ужасы». Газета была профсоюзная, так что всему на свете она предпочитала информашки из зарубежных изданий, свидетельствующие о тяжком положении трудящихся. Русинов по неопытности нырнул в австралийскую коммунистическую газету, но все, что он выгреб оттуда, редактор с ходу забраковал, ибо все, что казалось нищетой австралийскому журналисту, могло только рассмешить русского читателя, а на русского редактора навлечь неприятности. Пожалев русиновские труды, редактор все же пустил в номер отчаянное сообщение про семью безработного, которая ютится в своем трехкомнатном фургоне, установленном в гуще парка (слово «трехкомнатный», конечно, пришлось выбросить). За неделю недобросовестных поисков Русинов получил трешник, и теперь, вглядываясь в эту даль юности со склона зеленого французского холма, он улыбался снисходительно и грустно несмышленому журналисту, который так и не смог заработать свои тридцать серебреников на страданиях австралийского пролетарьята…
Русинов прислушался. Разговор возле фургона вступил в благодатную сферу парижских кафе. О Пари! О кафе! О-ля-ля! Тру-ля-ля! Главным специалистом здесь выступал Олег, у которого было достаточно денег и времени для досконального изучения предмета. Шведу и Шанталь было некогда. Софи питалась в агентстве или не ела вовсе. Олег обстоятельно рассказал о «Клозери де лила», где до сих пор, оказывается, можно неплохо поесть. Потом о «Селекте», «Ротонде», о греческих брошетных Латинского квартала, об антильской забегаловке на рю Вано, о кус-кусных Бельвиля… Париж, лежавший невдалеке, за холмом, представал истинной столицей соблазна, и Русинов, краем уха слушавший этот разговор, думал о том, что ему уже не познать этого Парижа, потому что он попал сюда впервые сорокапятилетним непьющим занудой. Вот Олег… Бог с ним, с Олегом, уже у юной Саган он встречал этот Париж солнышка, запахов (не только бензиновых), этой радости открытия мира за столиком кафе – она с таким смаком перечисляет все эти вывески, для нее так важно, где она сидит, и ясно, что кафе эти не сливаются для нее в длинную вереницу точек общественного питания, как у старика Русинова, впервые попавшего с кувшинным рылом…
Русинов вспомнил отчего-то своего милого друга-художника, вспомнил Толькины московские открытия. Чаще всего он открывал эти места, когда они открывались заново, и тогда он звонил Русинову, не теряя надежды его расшевелить:
– Слышал, старик? Вчера открылось на Неглинной. Откидываешь бамбуковую занавеску – рай. Диваны в лоджиях. Араратская долина, чебуреки, эчмиадзинское белое, сыр чанах, официантка Света…
Потом открылся Домжур на Суворовском – медный фрегатик на стене, атмосфера всеобщей пьяной любви, изредка столь же острой неприязни, тогда уж непременная потасовка, тут же в зале, в кафетерии, в туалете, со сладостной или позорной оглаской; потом новое крыло Цэдээла с дешевыми карикатурками, хохмами на стенах, с дубовым залом ресторана… Толю бы сюда, он бы совершил турне с Олегом и Дашевским. Им было бы что вспомнить из прекрасного, незабываемого прошлого. Но что делать здесь Русинову, жизнь которого и дома протекала вдали от всех веселых мест…
Русинов прислушался. Один из гостей-шведов рассказывал, как он работал в Чили, еще до Пиночета, и до коммунистов тоже, – о, это была прекрасная страна. Швед этот был специалист по лесным разработкам. К удивлению хозяев и гостей, он сообщил, что, во-первых, во Франции до черта лесу и что, во-вторых, французы крайне бесхозяйственны, не умеют использовать свои богатства и все ввозят из-за границы.
– Я-то думал, что у них гвоздь – это гвоздь. – Русинов подмигнул Олегу, и Олег с пьяной важностью заметил:
– Я тоже убедился, господа, что Франция – это бюрократическое, полицейское государство.
– И это тоже правильно, – сказал Русинов. И вспомнил, что это была фраза их главного редактора – так он говорил, бывало, когда, устав слушать, переставал понимать, о чем идет речь, бедный отставной полковник, отставленный на ниву контрпропаганды, говорят, он уже откинул копыта…
Русинов, не дождавшись обеда, успел наесться зеленого салата. Позднее он воздал должное сырам и вздохнул тяжело:
– Глаза жаднее брюха…
Софи не поняла, о чем он говорит, зато он без труда придумал себе ее мысли: бедняжка жалеет, что нельзя наесться вперед на неделю, – тогда питание обошлось бы им еще дешевле…
– Ах, не тужи, моя Софи, – сказал он ей по-русски. – Перебьемся. Снабжения у вас тут хорошая…
Воспоминание пронзило его. Что-то притащило, привело его за собой из прошлого. Снабжение? Фургоны? Вагоны? Жилые вагончики, снятые с колес? По-сибирски – «балки».
Это было в морозном сентябре в городке Стрежевом на севере Томской области – ударном городе какой-то сверхударной стройки. Вот они идут впятером, нет, вшестером по грязевой лаве, прихваченной первым морозом, пять писателей-говнятелей, выступателей в рамках Недели молодежной книги. Местный комсомольский вождь ведет их к дальнему бараку общежития, чтобы они смогли выступить, отметиться и лететь дальше, а может, ближе, в Томск, в Москву, домой… Они шли злые, потому что в их шикарной начальственной гостинице, отделанной дубом, ночью не топили, а утром негде было поесть, потому что магазин полон был алкашей и торговал только водкой. Они шли, с комической серьезностью обсуждая временные трудности, которые начались шестьдесят лет тому назад и все тянутся, тянутся… Вот тогда Русинов и увидел светлые алюминиевые вагончики – один, другой, третий, двадцать третий, сто третий, двести тридцать второй… Он спросил о них у юного вождя, и тот бросил мимоходом, что там, да, жили когда-то строители на трассе, но уже почти не живут, строятся капитальные дома, так что – не отставайте, товарищи, пожалуйста, побыстрей…
Однако Русинов, еще не растерявший зрения, видел, что там, среди вагончиков, копошатся люди, которые копают что-то, окапывают, закапывают, подкапывают, – и Русинов вдруг повернул к маленьким вагончикам, бросив на ходу небрежно:
– Пойду погляжу.
Он никак не реагировал на отчаянные просьбы вождя:
– Товарищи, вам это не надо. Товарищ Русинов, мы опоздаем на выступление. Надо же все-таки сознательность, товарищи… Товарищ! Товарищ! Товарищ!
Русинов никак не отозвался на товарищеский призыв. Даже не обернулся. Он подошел к первому вагончику, поздоровался с его обитателями. Они занимались странным делом: засыпали вагончик землей, весь, сверху донизу.
– Зачем? – спросил Русинов удивленно.
– Уже минус пять, а на дворе сентябрь. Скоро будет сорок. Не натопишь.
– Можно взглянуть?
– Господи! А чего же?
Так Русинов попал в вагончик, типовой, такой же, как все, метров двенадцать площади, где обитали супруги с ребенком и престарелой матерью. Мебель здесь была громоздкая и случайная – какой-то шкаф, швейная машина, стол. И еще было две койки. И еще печка. И в уголке нечто вроде кухни. Повернуться было негде… Женщина сказала, что они стоят в очереди на квартиру, что у нее, в котельной, очередь подойдет быстрей, чем у мужа. Этак лет за пять. Они прожили в этом вагончике пять лет и собирались прожить еще пять…
Русинов охрипшим вдруг голосом спросил, отчего бы им не уехать отсюда. Первой отозвалась бабушка.
– Снабжения тут хорошая, – сказала она. – Потому стройка первой категории. Колбаса почти завсегда бывает. Опять же тут пензия раньше. Зинаиде вон два года осталось до пензии – тут в пятьдесят дают, по Крайнему Северу…
Русинов смотрел на Зинаиду, которой можно было дать все шестьдесят, на бледного мальчонку, который делал уроки, притулившись на швейной машине. Потом простился и побежал догонять писателей.
В бараке общежития еще готовились к мероприятию, расставляли стулья в красном уголке. Писатели-выступатели (в России существует такой разряд пишущих и даже не пишущих) отогревались в комнате у старосты женского общежития.
– Вот видите, – сказал местный вождь и с упреком взглянул на Русинова. – Девушка живет одна в комнате. Работает над собой. Растет. Совмещает общественную работу…
– Я не одна, – староста вздернула могучее плечо, обтянутое телогрейкой. – Мы с Зиной живем.
Она кивнула в угол на худенькую и какую-то всю мятомяконькую симпатичную девушку, притихшую у окна. Русинов оглядел узкую казенную коечку и спросил:
– А чего ж у вас коечка одна?
– Довольно нетактично, товарищ Русинов, – занудливо начал вождь.
Писатель-международник толкнул Русинова в бок, шепнул:
– Я сразу обратил внимание… лесбушки…
В красный уголок, кроме девушек, собрались гости-мужчины, которые по случаю субботы были с утра мертвецки пьяны. Естественно, что они не дали товарищу международнику рассказать ни одного интересного факта о бедственном положении трудового народа в Бразилии, потому что им по случаю кайфа вдруг захотелось самим спеть что-нибудь непристойное, и ясно, что анализировать международную обстановку под непристойное пение было очень трудно…
Интересно, есть ли еще «балки» в Стрежевом? Удалось ли обитателям женского барака ликвидировать свою отсталость по части международной обстановки в Бразилии? Получила ли лесбийская любовь дальнейшее развитие в городе будущего или консервативные девушки по-прежнему прибегают к услугам этих обшарпанных алкашей?..
* * *На обратном пути атмосфера в машине была густо проспиртована Олеговым дыханием и его весельем.
– Ты знаешь, – сказал он, поворачиваясь к Русинову, – Шанталь еще в детстве любила все русское. Вуаля! Она бегала в гости к одной старой русской даме, которая жила вот здесь. Не здесь, а здесь! Куда ты глядишь? Вуаля!
– О, здесь живет очень много русские дамы, – сказала Шанталь по-русски, и Русинов перевел эту информацию для Софи на своем ломаном французском.
– Что это за место? – спросила Софи.
– Сент-Женевьев-де-Буа.
– Сент-Женевьев-де-Буа! – воскликнул Русинов. – Святая Женевьева Лесная… Боже мой! Так это и есть Сент-Женевьев-де-Буа! Ну пожалуйста, я очень прошу вас, Шанталь, давайте заедем на кладбище…
– Да, да, я слышал, вуаля, – солидно сказал Олег, выдыхая вместе с любимыми междометиями грамм триста зараз. – Русское кладбище. Что ж, я никуда не спешу, господа. Мы даже могли бы посидеть вот в этом небольшом кафе. Эти провинциальные французские кафе имеют особый шарм.
– Да, да, конечно, вы посидите в кафе! – с энтузиазмом воскликнул Русинов. – А я пока быстро на кладбище! И обратно, конечно.
– Я тоже хочу на кладбище, – сказала Софи, чтобы он, Русинов, не забывался, не забывал, что она с ним, – куда он, туда и она, хотя бы и на кладбище.
– А на кладбище все спокойненько… – запел Олег.
Когда они подъехали к воротам, Олег сказал:
– Хорошо, согласен. Мы пойдем туда, где корниловцы, а потом все вместе в кафе, дело в том, что французские кафе в провинции…
Конец его фразы Русинов слышал уже издали. Он свернул в боковую аллею и сразу потерял всю компанию… Что ему сейчас до них? Эти, что лежали здесь, были ближе к нему – по настроению, душевной боли, по всему…
Он знал, что где-то здесь рядом Бунин. Здесь где-то Лосский. Церквушка, расписанная Бенуа. Лобановы-Ростовские. Сто, двести, триста лет плюс его, русиновские, сорок пять – Боже, как переплелись все дороги, и вот конец их, Сент-Женевьев-де-Буа. Оболенские…
Русинов вспомнил заброшенную усадьбу Оболенских в Широком, неподалеку от Подъячева. Он мог бы передать здесь приветы полусотне бывших владельцев старинных гнезд, разрушенных и заросших бурьяном, поделенных на многокоечные клетки профсоюзными здравницами… Громкоголосое радио, щиты с цифрами в тенистых аллеях, где вечерами проходят мирные сеансы кустотерапии, громкий голос культурника с танцплощадки… Или полное запустение, ямы, обломки, тишина, навоз, поломанные березы, липы – как на мызе Берсов у Льняного озера, как в сотне других мест…
И все же они живы, эти усадьбы. В книгах Тургенева, Бунина, Набокова. В его собственных, русиновских, книгах, рожденных для безвестности, но тоже оплакавших умирание дворянских гнезд, вишневых садов и храмов. Не то нежно-грустное умирание, под стук топора и звон лопнувшей струны, а другое, боевито-отчаянное, под звон стекла и бодрый радиоголос, в жизнетворной атмосфере отхожего места… Впрочем, Русинов был еще оптимист в пору своей долгой русской одиссеи и никогда не поднимался до высот чевенгурской платоновской жути.
Сгорбленный старик стоял у могильной плиты, опираясь на палку. На плите Русинов прочел имена представителей одного из самых громких родов. Под последним именем были только дата рождения и прочерк. Русинов поднял взгляд, и старик сказал просто:
– Это буду я.
Он заковылял прочь, уходя навек, и Русинову стало жаль с ним расстаться. Он пошел рядом, поддерживая старика за локоть.
– А кто остальные? Ваши родители?
– Брат и сестра. Матушка осталась в Петербурге. А вы недавно оттуда? Я так и подумал. У вас советское произношение.
– Я и есть советский, – сказал Русинов. – Опирайтесь, пожалуйста.
После путешествия, бесконечно-долгого, как похороны, они пришли в уютный старый сад, в глубине которого стоял двухэтажный старый дом.
– Мне сюда, – сказал старик. – У нас скоро ужин. Он вздохнул. Видно, это было нелегко: еще один ужин, еще, еще… Потом мучение завтрака. Потом еще день…
– Ничего. Мне уже недолго, – сказал старик, утешая Русинова.
– Сколько вам?
– Девяносто девять.
– Это хорошо, – неуверенно сказал Русинов.
– Вы можете осмотреть портреты на первом этаже, – сказал старик. – Они из бывшего русского посольства в Париже. И домашняя церковка. Дом этот был основан княгиней Мещерской.
– Металла звон, глагол времен… – вспомнил Русинов.
– Да, да, это на смерть князя Мещерского. Вот видите, вам никуда это не выбросить.
– Я ничего не бросаю, – сказал Русинов. – Наоборот, я – мусорщик.
Очень старые старички и старушки тянулись на ужин. С ними можно было побеседовать о великой княгине. Впрочем, Русинов не был узким специалистом: узкие специалисты по этому вопросу остались в Москве, в издательстве комсомола. Русинов был просто влюбленный путешественник, он странствовал во времени и в пространстве, которое называлось Россия. Ему вдруг припомнилось, что две старушки из этого самого дома посещали чтения Цветаевой. Родство было нерасторжимо.
Он вернулся на кладбище, постоял возле Бунина, посидел на массивном каменном надгробье какого-то Трубецкого. Наивные французы считали надгробный камень символом неподвижности. Русинов был русский. Он видел надгробья, вставшие на дыбы…
Русинов услышал издали мерный стук молотка, вспомнил… Был деревянный дом на берегу речки Пертомки в маленьком северорусском городке с гордым названием Пошехонье-Володарск. Деревянный дом принадлежал золотобойному цеху комбината бытового обслуживания. Поставив на попа богатое каменное надгробье купца Крундышева, ударники передового цеха ковали на нем сусальное золото – для заграничных паспортов, для почетных дипломов, для дозволенных куполов. Душевная надпись на камне взывала беспомощно: «Спи спокойно…» Труженики райкомбината немолчным стуком доводили до сознания покойного «мироеда» бессмертную строку советского поэта А. Блока: «Покоя нет…»
Русинов припомнил еврейские предотъездные споры по поводу того, где быть похоронену, где зарыту? На Сент-Женевьев-де-Буа рядом с Буниным, Трубецкими, Оболенскими, с памятником Корнилову и корниловцам? На Ново-Девичьем вместе с Чеховым, семьей Лазарь Моисеича Кагановича и Никитой Сергеевичем? На Востряковском, рядом с раввином московской синагоги и советским писателем Файвелом Сито? А может, и просто «среди степу широкого»? В Кулундинской степи или на каменных плоскогорьях Прованса… «Не все ль одно», – написала Марина. Она имела в виду могилу, но не ужас предсмертной муки. Она лежит в Елабуге, и места ее найти не удалось. Господи, сколько нитей протянулось от Сент-Женевьев-де-Буа до татарской Елабуги.
* * *Блошиный рынок оказался куда менее интересным, чем варшавская и даже калининская толкучка. Здесь были те же фургоны-магазины, что и везде, почти те же цены и почти тот же выбор. Впрочем, продавцы здесь были интереснее, чем сами промтовары. Русинов долго разглядывал очень юного и очень жирного еврея со звездой Давида на куртке, размышляя, кем бы мог стать этот апатичный боров там, в России, – завмагом, завклубом, кинокритиком? Рядом хитрющий араб торговал модными военными куртками с погончиками, иногда сильно ношенными и вонючими, почти настоящими, и даже настоящей американской формой. Надев такую куртку, можно было сравнительно недорого обеспечить себе интеллектуальный уровень и стать похожим на террориста, экстремиста и всех прочих героев современности. Хитрый араб подыскал себе живую рекламу, прелестную алжирскую девочку, которую он переодел в защитную, «десантную» форму. Девчонка прохаживалась с ружьишком перед фургонами, и, надо признать, форма ей очень шла…
Еще там были молодой, очень тощий француз и девушка в индийском сари с «тикой» на лбу. В открытом фургоне этой пары висели индийские и африканские платья. Французы были дружелюбны, и Русинов остановился с ними поболтать.
– Вот продадим все барахло и уедем, – сказал тощий парень.
– Куда?
– В Индию, конечно.
– Почему, конечно?
– Как почему? Восток – это совсем другое. Разве тут жизнь? – француз презрительно махнул рукой.
И Русинов сказал неожиданно для самого себя:
– Да, Восток – это совсем другое.
Битых полчаса они толковали про Восток.
Запах пыли с привкусом горького дыма. Истома жары и протяжная музыка. Вкус чая и блаженный глоток воды. И нега неподвижности, когда застывает время и века стынут рядом с тобой…
Все это было странно, очень странно. Худой француз говорил о Париже точно так же, как Русинов до недавнего времени говорил о Москве: что здесь делать? Накопить денег и уехать скорее. На Восток… Русинов открыл свой Восток поздно. Это была Азия. Ее называли Средней Азией, и в Москве иногда шутили, что это очень средняя Азия. Но Русинов нашел там все, чего он ожидал от Востока. Глиняные дувалы. Лепешки, испеченные в танурах. Жару. Истому. Добродушное гостеприимство. Доброжелательство. Дружбу. Безалаберное безделье. Яства. Безалкогольные застолья. Ишаков. Томительную музыку. Тучи прелестных черноглазых детей. Ласковые, солнечные зимы…
– Я мешаю вам торговать, – сказал Русинов и, простившись, пошел дальше.
Ноги сами вывели его в тот день к парижской мечети. Не то чтоб мусульманская молитва трогала его сердце, просто он искал сегодня новых встреч, которые напомнили бы ему бухарский базар, рыбожарки Хивы, кишлаки Зеравшанской долины, пустыню у Газли, самаркандский Афросияб, Каратегин, Памир, Фирюзу.
Мечеть была заперта. Обойдя вокруг нее, Русинов наткнулся на уютное кафе-чайную, за каменной стеной, с фонтанчиком посреди двора. К сожалению, здесь не было чайников с чиненными жестью носиками, не было пиалушек и зеленого чая, по пятаку чайник, не было лепешек. Официант приносил здесь приторно сладкий мятный чай в стограммовых стопочках, из каких только самые неторопливые русские пьют водку. Однако было во всем этом что-то – может, соседство мечети, и привкус чая, и вороватый официант, и темные посетители, – что-то в этом было, что напомнило Русинову звук дутора в чайханном репродукторе, пестрые ткани, устало сброшенные на пол мешки с покупками, жару, пыль, неторопливое застолье… А может, оно существует, несмотря на это бесконечное многообразие форм и обычаев, какое-то общее настроение, общий восточный запах, общий вкус, общий язык музыки, общий тон языка… Русинов прикрыл глаза, прислушался. Где-то совсем рядом журчала гортанная арабская речь, рокот, и всплески, и хрипы, как говор новардона у кишлачной алоухоны в жаркий полдень. Наверняка Русинов должен знать хоть какие-то слова. «Рабат» или «мдина», «муалим» или «алло»… Вот и «рабат», дважды повторенное «рабат». Нет, все же не «рабат» – в чужом языке так легко ошибиться. Они говорят «рааб», а может, даже «рабби». Может, это значит «равви», учитель…
Ни дома, ни тем более на своем Востоке, ни здесь, в Париже, ничто еще никогда не останавливало Русинова, не мешало ему заговорить с человеком, если ему вдруг приходила в голову такая блажь. И вот теперь он живо обернулся к говорящим, спросил:
– Рааб, рабби – это значит «равви», не правда ли, как древнееврейское?
Он не понял, что произошло. Он только ощутил вдруг, что его беспечность, его сорочье любопытство и пустопорожние разговоры когда-нибудь не доведут его… Может, даже сегодня. Враждебно сверкали глаза, в воздухе повисла угроза. Арабы смолкли, сжались. Если бы Русинов знал то, что открылось ему позднее, у него были бы основания испугаться посерьезнее, теперь же он просто извинился, что прервал их беседу, и хлебнул чаю из стопочки, чувствуя некоторую неловкость и необъяснимый холодок страха. Арабы окликнули кого-то с соседнего столика, а сами быстро пошли к двери, оглядываясь на Русинова настороженно. Большой курчавый бородатый человек встал из-за столика и боком пошел за ними. Потом помедлил возле русиновского столика и вдруг протянул ему руку.
– Мы с вами встречались недавно, товарищ. Вы пришли вместе с этим русским марксистом.
– Да, да, правда. Я вспомнил вас.
– Потом вы ушли…
– И это правда, – сказал Русинов и улыбнулся. – Я ушел без профессора.
– Это было лучше? – спросил кудрявый.
– Пожалуй, – сказал Русинов. – Мы подружились с этой девушкой. А вы… Да, да, вы что-то говорили про палестинских партизан.
– Не будем… – Кудрявый обернулся.
– Не будем, – охотно согласился Русинов. – Знаете, дома я очень любил Восток. Почему бы мне не любить его и здесь?
– Ваш Восток пробуждается? – спросил кудрявый.
– Может быть, – сказал Русинов. – Но я люблю его не за это.
– Наш Дом культуры существует на отчисления капиталистов, – сказал кудрявый. – Но это не значит… Вы поняли меня?
– Пожалуй, – сказал Русинов. – Пожалуй, я понял.
– Что еще вы поняли?
– Кажется, я тут что-то ляпнул некстати… – проговорил Русинов задумчиво. – В общем я попал в какую-то историю. И вы меня выручили.
– Может быть, – сказал кудрявый. – Вы мне нравитесь. И я понял вас. У вас своеобразная левая позиция. Я думаю, вы анархист и сторонник совершенно независимых действий. В принципе.
– Пожалуй, так, – сказал Русинов, имея в виду полное бездействие как принцип.
– Вот мой телефон. У нас в клубе есть жилье. Бесплатное, конечно. Там много места. И у нас неплохо. Иногда совсем пусто. Для своих, конечно. Звоните мне, если понадобится. Жан-Пьер.
– Семен, – сказал Русинов. – Се-мьон.
– Салют, товарищ!
– Всех благ, дружище! Спасибо за то… В общем что-то вы там сделали…
* * *Русинов с огорчением убеждался, что дебри Латинского квартала становятся ему слишком знакомы. Если ты с точностью знаешь, куда выведет тебя коротенькая рю Прива, путешествие по ней перестает быть приключением. Особенно утром, когда она выглядит так печально и прозаично. Вообще, не посещая Париж налетом, а живя в нем постоянно, он, без сомнения, растрачивал тот настрой экзотики и тайны, которыми тот же Париж был всю жизнь для него окутан. Растрачивал и убивал его переводом непонятных слов на русский язык, расшифровкой непостижимых издали реалий и переводом их на язык быта. Впрочем, пока еще оставалось и в Латинском квартале несколько заповедных мест. Среди них был русский книжный магазин неподалеку от Факультетской и площади Мобер. Там продавались недорогие книги, переснятые со старых изданий Цветаевой, книги по истории русской церкви, произведения каких-то прежних московских знакомых, которых Русинов оставил еще дома и которые, судя по этим изданиям, были теперь непонятно в какой стороне света.
И еще здесь лежали книги Набокова, самого дефицитного сегодня в России автора и самого желанного. Русинов вертел в руках «Дар» и думал, что, разбогатев, непременно купит для себя этот драгоценный томик, который по каким-то причудам московского дефицита ему давали в Москве то на одну ночь, то на день, то на три дня – но каждый раз он успевал прочесть, умилиться, обмереть от зависти и восторга. Среди прочих страниц ему памятна была история книги, написанной героем «Дара» Годуновым-Чердынцовым, и теперь, вертя в руках «Дар» и забывая при этом собственные восторги и нынешний набоковский бум в России, Русинов вздыхал успокоенно: «Стоит ли утруждаться?» Он очень ясно видел все этапы этой игры – добиться, чтоб слово твое появилось напечатанным, вдыхать запах типографской краски, созерцать свое имя, повторенное тысячекратно машиной. Потом в большой или малой степени содействовать тому, чтобы книга и имя твое были вновь упомянуты, чтобы в печати появилось похвальное слово твоего собрата. Читать и перечитывать это похвальное слово, как будто оттого, что было набрано машиной, черным по белому, слово это (зачастую принадлежащее человеку, которого ты и в грош не ставишь) стало вдруг и правдивым, и мудрым, и весомым. И еще – тщета увидеть лицо свое, отчужденное фотографом, искаженное печатью и вовсе чужое – увидеть его со стороны, и увидеть людей, которые смотрят на это лицо… Боже, что за странная, суетная, инфантильная, но никогда не надоедающая этим взрослым людям, взрослым писателям, игра…
– Вы, может быть, знаете, что можно почитать новенького?
Русинов вздрогнул, обернулся, услышав русскую речь. Крошечный человек, одетый с претензией на щегольство, смешной в такую жару. Будь он еще богаче и еще раскованней, он надел бы уж все белое, свободную белую рубаху и белые панталоны – раз уж такая здесь мода на белое в этот год и такая мода на Восток. Однако он еще не решался и парился в клубном блейзере, а на шее у него к тому же был повязан пестрый платок. Русинов внимательно посмотрел на человечка, пытаясь понять, чего он все-таки хочет – купить новую книжку или поговорить с незнакомым русским. Скорее, все же поговорить.
– Вы давно оттуда? – спросил Русинов.
– Пять… – Глаза человечка стали унылы, и Русинов понял, что это несчастливый эмигрант. Бывают эмигранты счастливые, например Дашевский, Олег, два-три политических писателя, Стенич. А бывает эмигрант несчастливый. От просто несчастливого парижанина он отличается том, что вину за свои несчастья валит не на правительство, не а капитализм, не на эмигрантов, а на свою эмиграцию, на свое эмигрантское положение, свой отъезд. Более того, он упорствует и не хочет понять, почему он здесь несчастлив. Он до сих пор говорит про объективные (чаще всего материальные) условия, вспоминает о прежних надеждах (которые, в сущности, ведь осуществились – есть машина, есть деньги, пусть мало, но все-таки уже больше, чем было там, а продукты здесь вовсе и не дороже, он сам возьмется вам доказать, что это все французская демагогия – тут не дороже). И все же он почему-то несчастлив. Обнаружились сотни факторов, которые нельзя было даже учесть дома – уж он, кажется, не спешил, все учел, собираясь в дорогу. Нет, он, конечно, знал, что люди бывают несчастливы и в Париже, читал об этом у французских писателей, но в глубине души думал, что это кокетство. («Вы верите нашим писателям? Я так нет. И правильно делаю…») Итак, он думал, что это кокетство, потому что чужие беды всегда кокетство, и французы точно так же думают о русских или американских бедах («Сидят себе, знаете, на роскошной вилле, пьют и грустят»). И все же он не смог предусмотреть тысячи возможностей, тысячи мелочей, которые будут его раздражать – например, фурункулы на шее, обилие африканцев, платные уборные, аллергию на что-то, даже дорогой доктор не знает, на что, может, на левые симпатии всех знакомых французов, которые хотя и доброжелательны, но, право, не могут понять, как можно было оттуда приехать сюда. А как все учесть? Если уж француз, какой-нибудь Стендаль, не предусмотрел той отвратительной для него подробности, что в Париже нет гор, что же говорить о бедняге-иностранце?
– Вот, возьмите Битова, – сказал Русинов.
– Это издано там? Но что может выйти там?
– Вы правы, – сказал Русинов. – Что-нибудь очень редко. Но ведь вообще, что-нибудь стоящее выходит редко. И здесь, и там, и везде. Так что возьмите Битова. Тут, кажется, ошметки его романа. Роман был неплохой.
– Вы хотите посмотреть, как я живу? – спросил эмигрант, чуть позднее, проходя к выходу с Битовым под мышкой.
– Да, я был бы очень рад, – сказал Русинов. И добавил поспешно: – В другой раз.
Они обменялись адресами и простились. Русинов остался в магазине. Листая книжку о святых Древней Руси, размышлял, отчего он не захотел повидать жилье несчастливого эмигранта – он ведь всегда так любил разглядывать чужое жилье. Отчего же он все-таки не захотел пообщаться со страдающим братом?
Ища ответа на этот очень существенный для него вопрос, он уяснил только, что ему не хочется никого посещать. Хочется поскорее вернуться в мансарду и там, валяясь на Олеговом надувном матрасе, совершить мысленно, с закрытыми глазами любое путешествие – в жилище парижского эмигранта, в Рим со Стендалем, по соседнему, монпарнасскому, кладбищу со старинным Бедекером…
Он еще долго не двигался с места, застыв у прилавка. Пробежал глазами новый роман из лагерной жизни. Прочел остроумный, но никому на целом свете не нужный очерк о привилегиях партийных функционеров в городе Ленинграде в конце шестидесятых годов. Прочел некролог на смерть бывшего своего учителя в ялтинском литсеминаре. Оказывается, он жил в последнее время в каком-то Бердичвилле, штат Оризона. И оказывается, он умер…
* * *В тот вечер нелегкая занесла его в «Селект». Софи улетела в свое Перу-Чили, подошел вечер, и он вдруг почувствовал, что надо прислониться к чему-нибудь, к кому-нибудь, к человеку… Впору было пойти в гости к Дашевскому, к несчастливому эмигранту из книжного, к Жаку или Стеничу (с последним неизбежно возникнут разговоры из-за Софи и непременно споры о политике)… Русинов вышел на Монпарнас и вспомнил, что ближе всего до «Селекта». В конце концов это его ни к чему не обязывает, даже к выпивке.
Олег и его друзья, бородатый анархист-испанец, долговязый американец и еще какие-то люди выразили шумный восторг по поводу его появления, а дальше пошла все та же облегченная беседа, состоявшая из вполне абсурдных (во время трезвости вряд ли пригодных) шуток, из отрывочных фраз, назывных предложений, каких-то имен. Настоящие мужчины пили вино, торопясь отвязаться от начатков логики и мысли, данных им природой, затуманить разум, чтобы обрести веселье и легкость. Чистая голова была непосильным бременем для человека, даже и очень глупого. Так повелось издревле, еще от библейских виноградников, и не стал бы Христос превращать воду в вино, если бы он был абстинентом. Русинов, перебравшийся из страны поголовного пьянства в страну постоянной и умеренной поддачи, был одинок в кафе «Селект» со своими трезвыми, унылыми мыслями, длинными, как спагетти…
Олег представил его русскому другу, приехавшему нынче из Граса.
– Там еще говорят по-русски на прогулках, в Трасе? – спросил Русинов. – Бунин, Мережковский, Алданов, Фондаминский, Гиппиус…
– Говорят, – буркнул Олегов приятель, – в основном по-арабски.
Олег смотрел на друга снисходительно, так, словно сам он состоял в переписке с Буниным. А может, он тоже забыл, кто такой был Бунин и где он сейчас. Кому есть дело до этого, кроме тебя самого, кроме десятка любителей и коллег? Друг приехал в Париж на неделю, и, как обмолвился Олег, он рассчитывал на Олегову мансарду.
– Я могу выехать, – засуетился Русинов. – У меня найдется где…
– Вот и отлично, – сказал Олег. – Всего на неделю. Вещи пускай остаются.
Забота нависла над ним. Если бы он не пошел в «Селект»… С другой стороны, пусть у Олега не будет чувства, что он не может распоряжаться мансардой, что она занята. Тогда, может, он не станет торопить Русинова с отъездом – во всяком случае, еще долго.
– Моя яхта стоит в Лакроне, – сказал долговязый американец Джонни. – В субботу я уезжаю туда. Это в Бретани. Приезжайте ко мне.
– Идея! – сказал Олег. – Поедем?
– Можно и поехать, – сказал Русинов. – Так я занесу тебе ключ утром.
– Ладно… А на той неделе мы двинем. Что будешь пить?
– Молоко, – сказал Русинов. Через минуту он услышал, как Олег, мешая английский, русский и французский, рассказывает двум тоненьким француженкам, что его друг, известный русский писатель, пьет только молоко. И русский писатель пил молоко, балдея помаленьку в возбужденно-проспиртованной атмосфере кафе.
– Это правда, что у вас в Москве вышло четыре книги? – спросила девушка, присаживаясь за его спиной на свободное место.
– Четыре? – Он удивленно обернулся. Это была одна из Олеговых тоненьких француженок. – Может, даже не четыре. Точно не помню. Надеюсь, что вы их не читали. На счастье, они не переведены на французский.
– Я читаю по-русски, – сказала она.
– Час от часу не легче, – буркнул Русинов.
– Что означает эта фраза? – спросила она. – Что вам тяжело?
– Итак, русский язык…
Он вдруг сказал, припомнив интонацию своего боцмана-южанина:
– И вам этого нужно?
«Все равно, как у боцмана, не получилось», – думал он. Язык, океан языка… Девочки из Сорбонны, зачерпнувшие из него немного в решето памяти с ясно обозначенной целью – поить страждущих и ленивых студентов… А может, и без всякой цели – ведь это такой соблазн: познание чужого языка, потемков чужой души.
– Работы все равно нет, – сказала она. – Совсем нет работы с русским языком. Я каждый год снова подаю на аттестацию…
Олег принес ей виски, а Русинову еще молока, и это было, конечно, очень мило.
– Значит, мы едем на той неделе? – сказал Олег заговорщицки.
– Да, да. А ключ я занесу утром, – сказал Русинов. Он еще не знал, куда ему пойти, где жить. Впрочем, об этом нужно будет думать утром, а сейчас…
Русинов разглядывал точеный профиль русистки, веснушки на щеке… Он ощутил мягкое касание ее плеча. Она была прелестна, и он ощутил волнение.
– Ваша подруга, она тоже изучает русский?
– Это моя не подруга, – сказала она, медленно выговаривая по-русски. – Это моя жена.
– Ах, простите… – сконфузился Русинов. И тут же поправился: – Вам повезло в браке. Вы пришли сюда только с женой или еще с кем-нибудь?
– Нет, мы пришли с женой, но уйти я могу не с ней, – сказала она. – А эти мужчины, которые здесь… Никто из них не был мне интересный на постели. – Она внимательно посмотрела на Русинова, усмехнулась. – Вы русский. Вы, наверно, переживаете, что у нас такая сексуальная революция.
– Нет, – ответил Русинов, храбрясь. – Наша революция доставила нам больше хлопот.
– А я пьяная. Поэтому я говорю много глупости.
– Нет, нет, право, все очень мило, – сказал Русинов.
– Я такая пьяная, – сказала она, – что нам можно идти. Нам есть куда ходить?
Олег долго смотрел им вслед. Может, он не ожидал такого поворота событий. С другой стороны, неясно, чего же он ожидал?
В мансарде она вдруг стала совсем печальная, и Русинову пришлось играть роль бодряка-утешителя.
– Жизнь прекрасна, – сказал он. – И ты… ты молода и прекрасна, Мартин. Много еще будет меду и молока, а все, что ни делается, все в конечном итоге к лучшему. Мой же конечный итог так близок…
Он сидел на полу у ее ног. Она пригнула его голову к своим коленям, и тогда рука его привычным движением, так мало связанным с печально-утешающим тоном его речи, скользнула по ее длинной-длинной ноге, вверх от колена, под легкий ситец летнего платья, и так же легко, привычно стала гладить там волосы, губы, складки кожи, добираясь до самых сокровенных мест и проявляя особую осторожность и нежность – чтобы не причинить боли, чтобы не пропустить мест самых чутких и уязвимых…
Она тяжело задышала, прикрыла глаза и крикнула, через силу справляясь с дыханием и русской грамматикой:
– Зачем? Зачем ты так спешал?
При всем желании быть почтительным Русинов не смог воспринять этот вопрос как принципиальный – раньше или позже, спешал или не спешал, все приходило к одному, все уходило, а сегодняшний день уже давно стал для него надежнее, предпочтительнее и почтеннее дня завтрашнего, который будет ли еще, Бог весть…
Она была удивительно сложена. Она была нежной и сумасшедшей. Кроме того, груз завтрашних обязательств не сопутствовал ее ласке. Может, она чувствовав себя занятой. А может, просто была беззаботна. Это был чистый слиток удовольствия, редкого достоинства и красоты…
Назавтра утренние хлопоты избавили его от моральных сомнений и привычной ломоты в теле. Надо было думать, куда переезжать из мансарды.
* * *Перелистывая в поисках ночлега свою записную книжку, Русинов сделал неожиданное открытие: подавляющее большинство приглашений и предложений помощи он получил здесь от левых, всяких – от умеренно-левых до коммунистов и ультралевых, от розовых до красных, как перец. Эти люди с неизменностью предлагали вам кров, сажали вас в машину, чтобы подвезти, предлагали накормить вас. Они противопоставляли грязному капитализму свою человеческую взаимопомощь. От большинства их младенческих суждений немолодого Русинова бросало в жар и в холод, однако по-человечески они были все очень симпатичны. Правые и консерваторы были куда более сдержанны в проявлении человеческих чувств. Они могли предложить виски или воду с сиропом, иногда оставляли свой телефон и никогда не скупились на комплименты, давая понять, что это они выиграли от знакомства с тобой, но такова уж их судьбина – всегда выигрывать. Русинову трудно было даже представить себе, чтобы швед из фургона предложил ему пожить неделю в этом вместительном помещении (даже в отсутствие хозяев) или накормил бы его вне плана (без заранее объявленного званого обеда).
Итак, книжка Русинова пестрела телефонами левых, и последним из них значился телефон кудрявого Жан-Пьера из мусульманского кафе. Этот номер, ничтоже сумняшеся, и набрал поутру Русинов.
Жан-Пьер не стал вдаваться в детали. Он продиктовал Русинову адрес их Дома культуры и сказал, что лучше, если бы он заехал скорее, еще до обеда. Дорогой Русинов занес ключ Олегу, и тот, спросонья и с похмелья, долго не мог вспомнить, зачем ему этот ключ был нужен.
Дом культуры размещался в старинном особняке неподалеку от площади Республики. Можно было бы также сказать – «от центра города», ибо город Париж был трогательно невелик в сравнении с блочно-панельными просторами некогда белокаменной. Кроме нескольких уютных приемных залов, которые использовались, вероятно, для лекций, вечеров и занятий хора, в Доме было немало обыкновенных жилых комнат со старинными столами, креслами и диванами, множество каких-то укромных закутков, подвальчиков и кладовок. Впрочем, все это Русинов подробно рассмотрел позже, когда остался один в Доме. Пока же он просто получил ключ, оставил в отведенной ему красивой комнате свой портфель и пошел бродить по городу.
Он не испытывал уже изумления, которое дает приезжему русскому простая мысль: «Это Париж, я в Париже». Более устойчивой была мысль о том, что какой-то человек, кто-то близкий, бывал здесь до тебя, сидел вон на той скамье, в том вон кафе, проходил по этой улице, и вот ты, приехав сюда, за тридевять земель, оказался на той же улице… Мысль эта еще продолжала волновать Русинова.
Он вышел из метро на бульваре Экзельманс и стал искать дом и двор, о котором однажды лунным вечером ему рассказывали в Коктебеле. Говорили, что там, в этом дворе, стоит Он, тот, кого чаще всего и поминают в Коктебеле. Русинов не очень точно помнил номер дома, зашел в один двор, во второй, и в конце концов все же обнаружил Его во дворе дома 66. Он стоял скромненько у стены, слева, почти прислоняясь к неглубокой арке, увитой плющом. Детишки нарисовали Ему черную пиратскую повязку на глазу, а каменный пьедестал исчертили черными ребрами, от чего вид у Волошина стал сиротливый.
Мне, Париж, изестна и знакома
Власть забвенья, хмель твоей отравы!
Ах, в душе – пустыня Меганома,
Зной, и камни. И сухие травы…
Это он жалился в Париже, рвался в Крым. А уж как он рвался потом из Крыма в Париж. Обычная история, старая, как мир. История о том, что хорошо лишь там, где нас нет. Чего же ему не хватало в Париже? Моря, наверное. Безлюдья. Гор, как Стендалю. Сухой пустыни… А чего не хватает мне?
Уходить из тихого двора не хотелось, было жаль оставлять Волошина одного.
– А может, к вам караул приставить, Максимьян Саныч? – сказал Русинов, оправдывая этим разговором свою неподвижность. – Караул из пионеров в форме, с автоматами, как на главной площади Душанбе и прочих центров. Это мы можем устроить. Кстати, летось на холме вам положили Марь Степанну, так что им там по-семейному, а тут уж вы просто как произведение искусства, так что не взыщите… На кого вы все смотрите?
Русинов проследил за незрячим взглядом Волошина и увидел окна роскошного кабинета в нижнем этаже виллы, а чуть обок, во дворе, тощенькую, неряшливую француженку.
– Вы знакомы? – спросил у нее Русинов.
– Нет, я его не знаю, – отреклась она возмущенно. – Мать знает, наверное. Моя мама русская.
– А кто вы?
– Не знаю. Я по-русски ни слова.
Русинов с любопытством продолжал разглядывать немую русскую. Она была вполне симпатичная, только чуток запущенная. «Вероятно, левая интеллектуалка», – подумал Русинов с жалостью.
Стемнело. С трудом поднявшись, Русинов кивнул Волошину, поцеловал ручку мадемуазель и поехал в свой Дом культуры. Впрочем, спешить ему было некуда. Возле метро Русинов потолковал с симпатичным стариком киоскером и постоял возле него с полчаса, листая книжки. Русинов открыл здесь новый для себя вид французской беллетристики – серию военных приключений под общим серийным названием «Герфот» («Военприк», а может, «Гервоенподвиг»). Серия печатала (на плохой бумаге и с дешевой картинкой) повести о приключениях, главным образом из времен Второй мировой войны. Действие многих из них происходило на оккупированной советской территории (тогда авторы их брали себе какие-нибудь липовые русские или немецкие псевдонимы). Книжки были рассчитаны на самый низкий вкус и при этом носили ярко выраженный антифашистский характер. Русинов подумал, что, если бы не безвылазный бумажный кризис в России, эта серия могла бы переводиться и составлять угрожающую конкуренцию для отечественных литподелыциков. В целом же армия читателей по обе стороны границы состояла из читателей «Герфота», черной серии, криминальной серии и, конечно, газет… Русинов успокоенно вздохнул – о читателях можно не беспокоиться и спешить с изданием своих книг не стоит.
Он шел тихо и задумчиво, погруженный в праздные окололитературные мысли, почти машинально толкнул дверь клуба, поднялся на две ступеньки и вдруг остановился, невольно прислушавшись к чему-то смутно знакомому…
Журчал фонтан в кафе за мечетью, бурлила гортанная арабская речь, и слово выплывало все то же, то ли «рабби», то ли «рааб». Речь текла из полуподвала, и Русинов уже собрался подняться выше, когда что-то больно уперлось ему в живот. Русинов опустил глаза и подумал, что все праздные размышления о смерти все же не подготовили его к этой минуте: короткий ствол парабеллума пребольно вмялся ему в живот и замер. Русинов лихорадочно соображал, что опаснее – отступить, дав простор стволу и ослабив боль в животе, или же сохранять статус кво, не двигаться, не искушать бандита, чье темное усатое лицо маячило почти перед глазами…
Наконец, стараясь поймать взгляд бандюги и натыкаясь лишь на белки, сверкавшие в полумраке лестницы, Русинов проговорил:
– Я тут… Жан-Пьер…
Ствол парабеллума подался назад. Бандит крикнул гортанно:
– Жан-Пьер!
Загрохотали шаги по лестнице, из полуподвала появилась на свет большая кудрявая голова Жан-Пьера. Он крикнул что-то и подошел к Русинову.
– Идемте, – сказал он торопливо.
Бандит отступил в тень, и Жан-Пьер быстро повел Русинова вправо, по коридору, в обход, к его комнате. В комнате он закрыл дверь, перевел дух, присел в кресло.
– Уф! Получилось не очень складно…
Русинов молчал, собирая осколки равновесия.
– Я не буду зря извиняться. Вы поняли ситуацию. Это отважные ребята, но они буквально затравлены сионистским фашизмом. Полиция сбилась с ног, охотясь за ними, и если бы не помощь передовых сил… Я уверен, что, будь у них сейчас время, вы бы подружились с ними.
– Нет сомнения, – сказал Русинов просто.
– Так или иначе, вы ничего не видели. Их положение вынуждает их сплошь и рядом… Вы поняли…
– Да, да, я уже понял.
– Спокойной ночи, товарищ!
– Честь праци, – сказал почему-то Русинов, выдавая этим неуместным словоупотреблением свою все еще довольно сильную растерянность.
Но Жан-Пьер, вероятно, привык к иноязычным сигналам. В конце концов, что значили слова сегодня, когда судьбы мира решали горячие сердца и скорострельное оружие?
* * *Русинов уснул не сразу и проснулся на рассвете. Лежа без сна, он осмысливал то, что случилось с ним. Он без труда смог убедить себя, что был не более близок к смерти, чем обычно. И не потому, что смуглые ребята постеснялись бы убить его, если бы Жан-Пьер не пришел на помощь, а просто потому, что и обычно тоже – переходя через улицу, летя в самолете или мчась в автомобиле, плавая в море и даже путешествуя в лифте – мы находимся не так уж далеко от предначертанного нам (может, именно при таких обстоятельствах) конца. Вчерашняя его смерть не была бы уж вовсе абсурдна или, как выражаются авторы некрологов, нелепа. В ней была бы вся логика его жизни и характера – его непоседливость, неосторожность, его алогизм, неприкаянность. И в ней проявилась бы логика действий той банды (организации, группы, отряда), которая обсуждала там что-то в подвале. В конце концов даже их официальной тактикой было устрашение мира бессмысленным убийством и повсеместным зверским террором, для того чтобы мир обратил внимание… На что должен был обратить внимание мир – по этому вопросу у них были разногласия. Одни считали, что должен быть уничтожен фашистский сионизм, другие – что должен быть искоренен грязный капитализм, третьи – что главный вред исходил от голландской королевы. Каждая такая группа была, кажется, убеждена, что именно ее цель является наиболее возвышенной в плане националистическом или, напротив, интернациональном, так что по-настоящему общим для этого инфантильного сумбура оставались именно романтика подполья и самопожертвования, безжалостного и бессмысленного убийства. Бессмысленного с точки зрения земной логики и морали, но не бессмысленного с точки зрения тактики. И не аморального тоже, ибо давно было сказано основоположниками: что полезно для движения, то и нравственно.
Утром Русинов убедился, что Дом снова пуст. Он решился заглянуть в полуподвал: здесь было тоже пусто, валялись окурки, на полу засохли табачные плевки. Дом был пуст и притворился мирным. На стене висели расписание занятий хора, тематика дискуссионного клуба, объявление о летнем фольклорном путешествии, о вечеринке с буфетом и танцами, посвященной памяти какого-то деятеля, неизвестного Русинову, но, без сомнения, известного поборникам национальной культуры… И все же Дом был населен призраками какой-то тайной деятельности. Русинов подумал, что он не должен удивляться, если, придя ночью, он подглядит сцену пыток, а завтра и сам будет подвержен допросу с пристрастием, изображенному Годаром (тем Годаром, который тоже стал ультра).
Русинов собрал портфель и вынул записную книжку с телефонами. Итак, большинство телефонов дали ему левые. Он понимал, что подавляющее большинство левых – мирные идеалисты и мирные буржуа, желающие лишь передела богатств, и все же… Был еще благородный Стенич, который привел его в эту компанию. Впрочем, новые эмигранты живут тесно.
Русинов наугад набрал Олегов номер. Олег спросонья долго не мог вспомнить, о каком ключе идет речь. Потом вспомнил. Да, ключ, конечно, у него. Товарищ из Граса не появлялся. Может, он уже нашел себе жилье. Русинов спросил, можно ли ему переночевать сегодня в мансарде.
– Ну, конечно, старик, о чем речь, – прохрипел Олег. – А ты что, забыл мы же завтра уезжаем в Бретань…
Русинов хотел объяснить, что он не забыл, что это Олег перепутал, потому что они собирались ехать на той неделе, но потом решил, что ни один из них не выиграет от выяснения истины. Завтра, так завтра.
Он вышел со своим портфелем из клуба и направился к метро. Проходя мимо полицейского, он подумал, что, веди полиция наблюдение за Домом, его замели бы сейчас и потом он вряд ли смог бы доказать, что не готовил ничего «мокрого». Его положение было бы даже хуже, чем у сокамерников-террористов, потому что «свои» на воле не грозили бы трусливой полиции террором… Русинов взглянул на молодого полицейского. Тот был весел и безмятежен. Он улыбнулся мечтательно. Интересно, о чем думает начинающий Мегрэ? Может, о том, что служба в полиции принесет ему наконец жилплощадь по дешевке?
* * *Они вырвались за черту города, но на платной автостраде до Орлеана (черт бы драл эту Олегову состоятельность) город еще преследовал их, посылая вдогонку тысячи машин, которые мчались бок о бок с ними на такой бешеной скорости, что Олег тоже не мог убавить скорость, и страна пролетала мимо невидимая, где-то обок автострады, за оградой, за деревьями. А после Орлеана они вдруг съехали на боковую дорогу, ведущую к северо-западу вдоль Луары, и попали в удивительный, неправдоподобный край замков, виноградников, парков… Бесчисленные замки были точь-в-точь такие, какие встретишь на ковриках в русской деревне – и башни, и парки, и лебеди. Но конечно, они были во сто раз прекраснее того, что могло измыслить воображение деревенских красилей. Огромные эти замки стояли в нежной зелени парков, мостами нависали над водой, таили в себе лабиринты залов, переходов, таинственных подземелий, в которых без остатка растворялись чинные голландские семейства и целые группы немцев, чтобы потом, ошалев от этой роскоши, собраться через час в парадном дворике, восклицая на своих варварских (Боже, откуда такая речь в сердце Европы) языках: «Да, жили люди!»
Они заночевали в кемпинге в Шенонсо. Олег, осушив в печальном одиночестве стакан виски, забрался в палатку, а Русинов пошел снова к замку смотреть светозвуковое представление – «сон э люмьер».
Огонь вспыхивал то в одном, то в другом окне пустого замка, и замок становился обитаемым. Звучала музыка, над водой скользил луч прожектора, оживляя в воображении послушной публики царственных дам – Катерину Медичи и Диану Пуатье. Русинов плохо понимал, что там мурлычет по-французски вкрадчивый голос дикторши, и девочка-американка протянула ему свой крошечный прокатный транзистор, вещавший про то же самое по-английски. Они стали слушать, склонив головы к коробочке транзистора, и вместе с рекламными красотами французской истории Русинов ловил теперь запах свежевымытых волос юной американки, прикасался иногда ненароком к ее щеке.
Потом померкли огни, умолкли голоса, и замок Шенонсо повис над водой, темный, посеревший, но еще более загадочный, чем раньше. Русинов оказался на темной аллее в компании юных американцев и шел к выходу вместе с ними, а потом долго, за полночь, сидел с ними в гостинице. Нежная Дебби, которая ссужала ему транзистор и душистую щеку, рокотала у него над ухом, смачно перекатывая американское ретрофлексное «р», о том, что она хочет стать журналисткой и работать в области рекламы, потому что это страшно интересно, и очень доходно, и выводит на широкие просторы шоу-бизнеса, политики и всего, что по-настоящему интересно в жизни…
Да, да, когда же он был в последний раз, такой разговор? На Москве-реке возле Звенигорода, прогулки с юной провинциалкой, комсомолкой из цэковской «Елочки» – те же ее надежды и те же упреки (ему, москвичу, журналисту-писателю и тому подобное), что сытый голодного не разумеет, что он старый, у него уже все есть, ему неинтересно, а людям интересно… И его удрученное соглашательство. Да, да, сытый голодного… Гусь свинье…
Энтузиастка Дебби жила во Флориде и мечтала о нью-йоркском Вавилоне. Ее мальчик ревниво следил за ними из угла, сжимая в руке стакан: американская детвора демонстрировала Старому Свету, что у нее уже есть деньги на выпивку. Русинова ждали палатка и Олегов коньячный храп.
Назавтра, ближе к Сомюру, потянулись винные погреба в прибрежных скалах. Были Блуа и Анжер с великолепными замками, были Тур и дома с фахверке, а дальше – Бретань, соборы Кимпера и Кимперле, бабушки в черных пелеринах и белых чепцах, курносые бретонские парни, голубоглазые девки, похожие на северянок.
И были еще прелестные деревушки, вроде Меунга или еще одной, вскоре за Шиноном, с пошлым названием Баналец. Потом был океанский берег. Русинов видел эту ширь и размах только однажды, на Тихом, но там моросил дождь, была холодная мерзость, а берег – замусорен трупами сивучей, здесь же тепло, и сладостно, и чисто. И можно входить в воду, прыгать от радости на прибрежной полосе плотно убитого песка, забывая о времени, о возрасте, о своей людской принадлежности, о будущем и прошлом…
У набережной, за столиком кафе Олег ловил свой джентльменский смурной кайф, но его присутствие на этом расстояние было столь же необязательным, несущественным, столь же абстрактным и эфемерным, как существование сицилийской мафии, Комитета защиты прав, Верховного Совета или общества Лионский кредит. Все было несущественно и эфемерно, кроме песка и океана, мелких рыбешек, прибоя и солнца. Русинов пробежал по песку, побрызгался в прибое, упал, встал, вошел в воду, прилег и только тогда заметил, что молоденькая француженка рядом с ним катается с боку на бок в пене прибоя.
– Лучше всего… Да. Лучше всего, – сказала она. И улыбнулась ему, как сообщница. А потом вдруг добавила, погрустнев: – Скоро назад. В Париж.
– Но зачем? – воскликнул Русинов возмущенно. Она улыбнулась снисходительно и перевалилась на другой бок, уходя от него, давая понять, что вопрос был глупым, может, даже забавным, но не тянул на настоящую шутку.
Она исчезла, а Русинов перенял ее игру. Переваливаясь с боку на бок в холодящей пене прибоя, он видел по временам игрушечные дома набережной, зонты уличного кафе, неизменного Олега за столиком. Олег был уже не один, какой-то долговязый мужчина сидел с ним рядом, и это было хорошо, это давало еще сколько-то минут, а может, сколько-то часов свободы… Значит, и я тоже – а еще возмущался: «Зачем?» – значит, и я ограничил себя, связал свой исход из рая с чем-то нелепым – с Олеговой способностью сидеть в кафе…
Словно уследив издали за ходом его мыслей, Олег поднялся вдруг из-за столика и яростно замахал рукой:
– Семен, эй, Семен! Иси! Алон! Кам хир! [16]
Русинов с сожалением встал и направился к столикам кафе по горячему песку и жгучему асфальту, щедро их смачивая океанской прохладой.
Долговязый человек поднялся навстречу ему из-за столика.
Это был американец Джонни – из кафе «Селект», тот самый, что приглашал их непременно посетить Лакрон.
– Я же говорил, что мы его встретим, – с пьяным торжеством повторял Олег. – Я же говорил…
– Да, да, ты говорил, – согласился Русинов, – ты говорил.
– А теперь по машинам, – сказал Джонни. – И ко мне, в Лакрон. Там уж меня все знают…
* * *Как и всякая популярность на свете, популярность Джонни была ограниченной – припортовой частью Лакрона. Впрочем, в рыбацком городке и это было существенно. Существенно для Джонни. По его рассказам, популярность далась ему не сразу – он потратил на ее завоевание последние пятнадцать лет и при этом не раз рисковал жизнью и своей яхтой, стараясь, чтобы рыбаки приняли его наконец за своего. Семья Джонни жила в Париже; жена покинула его (вероятно, не выдержав борьбы за Лакрон); языковая школа, которую он открыл в Париже, пришла в упадок. Впрочем, все это было не важно. Важной была жизнь Лакрона, вся его жизнь до последней мелочи; важны были рыбаки; важным было их отношение к странному долговязому американцу, который целыми днями околачивается на берегу. В сущности, это и была та самая стыдливая хемигуевина, которая открылась массовой русской публике в послевоенных изданиях американского автора, а интеллигентной публике – еще и в довоенных. Это было интеллигентское неверие в то, что твои собственные занятия могут быть важными или кому-нибудь (в том числе, и самому тебе) интересными; это было желание приобщиться, притереться, примазаться к чьей-нибудь «настоящей» жизни – рыбацкой, крестьянской, негритянской, какой угодно. Русинову вспоминались его собственные рыбацкие, геологические, археологические и даже педагогические эскапады там, на родине, в России, однако он вынужден был признать, что у него никогда не было этой американской последовательности и полноты самоотречения. После пятнадцати лет пребывания в склочном рыбацком городке Джонни все еще говорил о бретонских нравах и местных новостях с придыханием восторга – о рыбацких заработках, о преображении края, о матриархальной семье, о благородных островитянах и даже о въедливости местных проституток.
– Мы пойдем сегодня к Люси! – восклицал он. – У нее здесь лучший виски.
«О, здесь умеют разбавлять виски», – добавлял он с восторгом.
Улыбка Люси была для него как личное поздравление президента, а признание Элен, торгующей бретонскими блинами с начинкой в собственной «крепери» [17] , – не меньше ордена Подвязки или на худой конец Креста Виктории.
Съев десяток блинов с шоколадом в заведении Элен, Русинов разнеженно глядел на яхты в гавани, вспоминая утреннее купанье. Временами он переставал следить за разговором спутников, и тогда ему приходили на память прежние, домашние друзья-интеллигенты, точно так же вот искавшие себе экологическую нишу в чужой жизни и чужих мирах. Один присосался к исмаилитам Памира. Другой к золотоискателям. Третий к лесосплавщикам. Американская жизнь представлялась Русинову (впрочем, он готов был признать свою неосведомленность) достаточно пресной, чтобы ее можно было бросить ради бретонского Лакрона…
– О да, Рикардо! Слышишь, Семен? Рикардо…
Русинов не заметил, отчего и когда речь зашла о Рикардо, но с готовностью подтвердил:
– О да, Рикардо! О Рикардо!
Вскоре все прояснилось. Рикардо – это был бородатый скульптор-испанец, тот самый, из «Селекта». Так вот он, этот Рикардо, сам построил себе дом на клочке земли, купленном у бретонского фермера.
– О, эти бретонские фермеры! – воскликнул Джон. Русинов отметил для себя, что на шкале человеческой ценности бретонские фермеры, видимо, стояли у деклассированного американца на втором месте, после рыбаков. И пока Русинов осмысливал и обсасывал этот факт, глядя в атлантическую даль, пьющая (и платящая) часть компании твердо решила, что завтра они все вместе отправятся на ферму Рикардо, а сейчас…
– Сейчас в бордель! – сказал разгулявшийся Русинов.
– Это здесь сложней, – сказал Джонни, заказав еще виски и приготовившись к длинным объяснениям. У него была собственная классификация бретонских женщин (если и не научная, то вполне восторженная) и даже особая классификация портовых шлюх, тоже, по его словам, отчего-то подолгу морочащих голову клиенту. Этот бретонофильский монолог Русинов пропустил мимо ушей как мало для него актуальный. Он понял лишь, что должен встать из-за столика крепери и следовать за Джонни. Они отправлялись то ли в найт-клуб, то ли в какой-то ночной дансинг, в общем в прибрежное гнездо разврата.
Если бы в юные годы кто-нибудь сказал ему, что в найт-клубе, да еще во французском найт-клубе, да еще в портовом бретонском найт-клубе на атлантическом побережье Франции может быть скучно, Русинов тут же заподозрил бы, что дезинформатор подослан местным райкомом партии. Между тем именно эта элементарная скука мучила Русинова в прославленном лакронском найт-клубе. Кроме них троих, здесь тосковали еще два туриста и один рыбак. Зал обслуживала тощенькая криворотая Мари, а за стойкой толпились втроем хозяин, толстая страшная хозяйка и прыщавый мальчик.
Джонни интимно (и с тем же придыханием восторга) сообщил Русинову на ухо, что хозяин живет с криворотой Мари, а хозяйка с прыщавым мальчиком (что он выяснил далеко не сразу, о, здесь умеют хранить тайны!). Разоблачение это, впрочем, не прибавило найт-клубу в глазах Русинова ни веселья, ни привлекательности, хотя криворотая фам фаталь [18] , меняя стаканы у них на столике, и подарила его необычно долгим взглядом. Мало-помалу Джонни и Олег перебрались к стойке, а потом ушли танцевать по очереди с криворотой Мари. Позднее они разбудили Русинова и вывели его на свежий воздух. Еще раз Русинов проснулся, когда Олег выходил из машины.
– Джонни заберет тебя спать на яхту, – сказал Олег. – А если хочешь – спи здесь.
Машина стояла на набережной. Почти все кафе были уже закрыты, ночной Лакрон затихал. Перспектива тащиться на яхту, стоявшую на рейде, показалась Русинову несоблазнительной, и он только махнул рукой. Засыпая, он еще пытался позавидовать Олегу, которому, если этнографические и сексологические наблюдения Джонни окажутся неверными, вероятно, предстоит еще… Русинов проснулся на заднем сиденье машины глубокой ночью. Ему стало холодно. Он отыскал Олегов свитер, переменил позу и подумал, что во всех этих неудобствах была для него какая-то неясная еще для него самого бродяжья сладость. Так или иначе, это был бесплатный ночлег в чужой машине, что совсем неплохо. А что было бы без машины? Скамейка в парке? Лесная опушка? Может, даже сухой кювет…
Первым на набережной появился Джонни. Было еще совсем рано. Русинов сидел за уличным столиком под непогашенной вывеской еще запертого кафе и смотрел на нежно-розовую лакронскую бухту. Джонни раздобыл себе где-то кофе и виски и очень гордился тем, что все может достать в Лакроне, даже в такую рань. Трезвый и мудрый с утра, он рассказал о коварстве бывшей жены, о неизменно двусмысленном положении американского эмигранта. Для французов он оставался всегда миллионером и представителем супердержавы.
– Вы тоже, – сказал он Русинову.
Русинов покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Я больше никого не представляю. У меня нет никого, ничего. И никакого прошлого.
Сказав так, он почти тут же понял, что это неправда. Россия была у него за спиной, с ним до конца, хотя это, может, и не имело больше никакого значения. Ни для него, ни для нее. А может, все же имело?..
Джонни вставал несколько раз, чтобы проследить за маневрами своей яхты, стоявшей под ветром на якоре. Когда он возвращался, они продолжали свою мирную беседу. Около полудня появился Олег. Он так сдержанно рассказывал о своих успехах, что Джонни подмигнул Русинову: уж он-то знал бретонских шлюх и все эти сложности, даже если шлюха, даже если за деньги. Русинов склонен был относить сложности на Олегов счет: слишком уж он много пил…
Когда джентльмены выпили виски, вся компания села в машину и поехала к Рикардо.
* * *Море скрылось за косогором. Здесь были мирные зеленые холмы, поля, старинные фермерские дома и сторожевые башни церквей, каменные кресты «кальверы», унизанные нескладными фигурками святых и пророков.
На задворках большой фермы Рикардо построил себе из грубых камней просторный дом, похожий не то на сарай, не то на пастушескую хижину в горах. Скульптор был коренастый, могучий и бородатый мужик. Он сразу, во избежание недоразумений, объяснил им, что он не испанец, точнее, не просто испанец: он галисиец, а это не одно и то же.
Джонни, кажется, не осознал важности этого сообщения (у них там в Америке всякий не американец, а кто-то еще), однако Русинову это было знакомо: аварец – это не дагестанец и лакец – не дагестанец тоже, карачаевец не совсем балкарец, а южный осетин коренным образом… В эпоху, когда океан панельных бараков теснил человеческое жилье, люди еще более цепко, чем прежде, держались за эти невидимые простым глазом различия. И самые черные из предрассудков, давно отосланные передовой наукой куда-то на свалку истории – в эпохи феодальной и даже дофеодальной дикости, – заявляли о себе сегодня нежданными взрывами, с корнем вырывая унитазы в совмещенных сортирах новостроек.
Итак, Рикардо был галисиец, левый анархист и скульптор-модернист. Поэтому он купил кусок земли (так делали все буржуа), сам построил свой курень (так делали все скульпторы), а с приходом гостей немедленно затеял яичницу по-галисийски. Впрочем, для начала настоящие мужчины взялись за виски, а Русинов побрел осматривать ферму. Хозяин ее, как и положено, был нелюдимый, мрачный, неподкупный бретонец. Русинов догадывался, что это значит: он не пойдет тебе сам навстречу и не потащит тебя сразу в дом на обед, как сделал бы таджик. Он будет стоять независимо, как монгол, ожидая, что ты заговоришь сам и напросишься к нему в дом. И Русинов не заставил его ждать долго. Он подошел сам, поздоровался, спросил о ценах на овес, посетовал на тяготы фермерского труда и без особого риска ошибиться предположил, что фермерские дети бегут в города. Потом он осмотрел хлев с коровами, клетки с собаками, курятник, а также сарай-гараж с трактором и машинами. А потом, все же робея немного, попросил разрешения осмотреть дом.
Фермер ничего не ответил. Он повернулся и пошел к дому. Русинов пошел ему вслед. Он обожал старые крестьянские дома – еще с той поры, когда мальчишкой впервые попал в деревню (между Яхромой и Подьячевом), где после пролетарского убожества Мещанских улиц Москвы в первый раз вдохнул пыльный древесный запах сельского дома, увидел просторные сени («мост» по-местному), чердак, таинственную комнатку на мосту, с сундуками, свежими вениками, травами, увидел деревянные лесенки, ведущие на сеновал, в коровник и сортир…
Бретонский дом не обманул его ожиданий. Здесь была гигантская кухня со старой печью и старыми шкафами (новый холодильник был похож на сундук в углу и почти не портил интерьера), множество каких-то, по всей видимости, нежилых комнат на втором этаже, где стояли старинные буфеты, сундуки и шкафы с бесчисленными ящиками (что там в них – может, любовные письма графа из соседней разграбленной усадьбы?).
– Есть еще один дом. Тот получше, – сказал фермер. – Только там совсем жить некому.
Он привел Русинова в темную комнату, похожую на кабинет алхимика: мерцали в полумраке старинной формы бутыли, колбы, трубки.
– Сидр, – сказал фермер, – выпьем сидру.
– Спасибо, я не пью! – сказал Русинов. Фермер даже не притворялся, что он обижен. Если бы Русинов стал сейчас вдаваться в подробности, то мог бы рассказать, что не пьет с того самого первомайского праздника, когда они, еще десятиклассниками, до блевоты напились после демонстрации дешевого сидра (кто б мог предвидеть – именно сидра), изготовленного Останкинским заводом безалкогольных напитков.
– Большой дом, – сказал Русинов. – Хозяйство большое.
– Работать некому, – сказал фермер. – Сын уходит в армию.
– Я мог бы к вам наняться… На весь год. Но на полдня работы.
– А где будешь жить? – спросил фермер.
– Я мог бы приезжать… А мог бы и у вас поселиться…
– Живи тут, места много, – сказал хитрый фермер.
– Можно и тут, – сказал хитрый Русинов.
– Много я тебе платить не могу, – сказал фермер.
– Триста пятьдесят в месяц и питание, – сказал Русинов (это была нищенская оплата). – Жить буду во втором доме.
– Триста и питание.
– Пожалуй, – сказал Русинов.
– Выпей сидра, – предложил фермер.
Русинов понял, что он доволен сделкой, и еще раз отказался от сидра. Русинов был представлен кудрявому сыну фермера и сделал безуспешную попытку познакомиться с его девятнадцатилетней дочерью, грубой и некрасивой девицей. Она мялась при этом и пятилась, как девушка из урметанского кишлака.
Когда Русинов вернулся в хижину Рикардо, яичница по-галисийски уже дымилась на столе.
– Где ты был? – крикнул Олег.
– Я был у фермера… – сказал Русинов.
– О, это крепкий орешек! – сказал Джонни. – Они не будут с тобой разговаривать.
– Я еще никогда у него не был, – сказал Рикардо. – Но мы уже здороваемся.
После завтрака гости в срочном порядке были погружены в машины, и Рикардо с женой отвезли их на океанский берег, где они собирали улиток, морских ежей и еще какую-то шевелящуюся живность, чтобы сожрать ее живой в соответствии с традициями изысканной французской кухни.
После трапезы начались беседы о политике, а непьющий Русинов ушел гулять в поле. Поле было окружено бордюром из маков, роз и маргариток. Откуда-то из дальнего городка доносился звон колоколов. Жужжала тоненькая проволочная изгородь, подключенная к электроустройству «горизонт», и наученные опытом коровы послушно паслись в отведенном для них квадрате, опасаясь жужжащей проволоки (впоследствии Русинов, поднося к губам стакан с молоком, ожидал, что его дернет током).
После обильного обеда-ужина разговор за столом вернулся на круги своя. Говорили о необходимости порядка (Рикардо уповал на анархию) и неизбежности беспорядка (Олег, как все русские, был пессимист), о нечистоплотности капиталистов («саль капиталист», «грязный капиталист»), о том, кто больше не прав и какой народ лучше. Русинов пытался уснуть, в полудреме разыгрывая в деталях свою жизнь на ферме. Так как его естество, угревшись в послеобеденном тепле, наконец воспряло, то и проблема пола, естественно, занимала в его виденьях приличествующее (хотя и неприличное) место. С сельским хозяйством он мысленно справлялся без труда, с бретонским фермером у него установились вполне пристойные отношения, но корова-дочка неизменно его искушала. Однако он понимал, что если жениться на дочке, то придется вкалывать полный день. Да он и не хотел жениться, даже мысленно. Прогулки со скучающей вдовой по окрестностям отчасти разрешили сексуальную проблему (вдова была в его видениях интеллигентна и не лишена прелести). Однако общественное мнение (в лице того же фермера) немедленно предъявило моральный счет ленивому эмигранту. К тому же вдова, лишенная других развлечений, стала чересчур навязчива… В общем, так или иначе, ему приходилось бежать. Бежать? Куда бежать?
Потеряв всякую надежду уснуть, Русинов пошарил вокруг своего спартанского ложа и нашел газету. Конечно, чтение газет не было тем адекватным общением, какого жаждала (и так давно уже не получала) его душа. Но все же оно могло оказаться содержательней, чем пьяная беседа, которая доносилась снизу и которая утратила уже всякий намек на содержательность и связность, вылившись в блаженный поток самовыражения.
– В «Селекте», – говорил Джонни, – совсем не с кем стало поговорить. Там не осталось людей. У рыбака Роже была дочка…
– Да. Вуаля, – крякал Олег. – Никого. Ни души. Когда бывал Питер…
– Я помню, как правительство предложило нам сдать оружие… – говорил Рикардо (по наблюдениям Русинова, он был не рожден для войн и оружия). – И тогда что сделали галисийцы… Нет, не каталонцы, не баски, а галисийцы…
Русинов уже в третий раз перечитывал какую-то заметку, когда блаженная дрема стала наконец к нему подкрадываться. В ней утвердились азиатская истома, протяжная музыка, чайхана, какие-то полузабытые слова – муаллим, рахмат, мдина, акбар, рабат, рабби… Русинов открыл глаза. Что-то вторглось в его сон, грубо толкнув его. Он прислушался. Внизу по-прежнему талдычили все то же, впрочем, еще менее связно. Рука нашарила газету, и теперь смутный смысл французских слов вдруг прояснился видением подвала в клубе, болезненным ощущением от ствола парабеллума, упертого в живот… Он перечитал заметку. В ней говорилось, что группа террористов (кто-то заметил двух темнолицых арабов и бородатого кудрявого европейца, полиция занимается розыском – где ей, сердечной?) убила в Голландии миллионера Рабба и перебросила через границу во Францию… Старичок Рабб нажил свои деньги («награбил свои грязные миллионы») на послевоенной торговле и мирно играл в картишки, в свободное время занимаясь к тому же благотворительностью. Его труп был изрешечен пулями и запихнут в багажник бээмвэшки… Русинов сразу взмок на своих палатях. Он услышал пьяный голос Рикардо. Левый должен быть левым. Он должен быть настоящим галисийцем… Шоколадный мусс. Папа Мао. Интересы Дриспуччии. А партизаны, а белла чао… Его стало мутить, точно он снова, как в детстве, перепил сидру. Потом он явственно ощутил вкус шоколадного мусса и позывы к рвоте.
Нет, дело не в муссе. Не в сидре. Тошнота тайного. Как будто прикоснулся к дьяволу. Как будто толковал с русским кадровиком в его святая святых, придавленной железным шкафом, где хранятся прозрачные драмы человеческой жизни, возведенные в ранг постыдной тайны. Мир тайного. Мир тошного. Мир тошной силы…
Русинов осторожно спустился с палатей, бросился вон из хижины. Олег мочился в котлован новой постройки, затеянной Рикардо. Русинов встал рядом и поблевал.
– А я ничего, держусь, старик, – сказал Олег, икнув. Он, вероятно, забыл, что Русинов не пил с ними.
Русинов бросился к колонке, чтобы прополоскать рот.
– Куда ты бежишь? – медленно спросил Олег.
– Куда я бегу? – Русинов остановился. Его снова стало мутить.
Всю ночь его мучили кошмары. Он ехал в метро. Кто-то трогал его за плечо, и, обернувшись, он упирался лбом в Жан-Пьера.
– Ну как, старик, неплохо? – улыбался ему Жан-Пьер, и Русинов кричал в страхе от того, что не успеет все высказать и что кричит недостаточно громко:
– Нет! Плохо! Все у вас плохо! И я никакой тебе не старик, сволота. Вы еще пожалеете, недотыкомки! Вы еще кровью умоетесь, когда это вам все удастся… – Ствол парабеллума упирался ему в живот, но он не боялся выстрела. Страх его происходил от того, что никто не слышал его голоса. И он кричал все громче, все отчаянней: – Стреляй, сволочь! Стреляй! Сколько вас там было против старика мироеда? Ну, что же ты – ага, струсил, сволота, струсил…
Потом было какое-то застолье, и все сидели, повернувшись к нему спиной, и лиц не было видно, но он знал, что здесь где-то Жан-Пьер и те смуглолицые тоже. И Русинов снова кричал им что-то, плакал, умолял их одуматься.
– Идиоты! – кричал он. – Вы же кровью будете харкать! Вы же все нары займете по тюрьмам и сожрете друг друга в лагерях…
Но они сидели, повернувшись к нему спиной, и кругом был глухой город Париж, изрисованный детскими лозунгами…
– Ну что ты орешь, дурачок? – Олег похлопывал его по голове снизу. – Ну, набрался… Завтра в Париж поедем. Шанталь ждет…
Олег ушел к себе на лавку. Русинов с тоскою смотрел в дверной проем, снова чувствуя приступ тошноты. Утро не наступало.
* * *Чтобы продлить свое пребывание в Париже, Русинову пришлось идти в префектуру. Это было неизбежное испытание, знакомое каждому эмигранту. Это был день, когда эмигрант больше не был профессором, рабочим, писателем, врачом, мужем Шанталь, властителем дум. Он был просто эмигрант и остро ощущал это свое качество, отчего-то им самим воспринимаемое как унижение. Взгляд этот был навязан извне, и его словно сговорились утвердить полицейские, отпиравшие в восемь ворота префектуры на острове Сите, а потом весь день гонявшие это непонятливое стадо по загородкам. Его поддерживали замотанные и на редкость высокомерные служащие префектуры.
К середине дня Русинов успел прийти в бешенство и бранился по-русски и по-французски. Стоявшие рядом с ним итальянец и русский унимали его, доказывая, что он не прав. Оба до смешного одинаково и почти на одинаковом французском утверждали, что в Италии (и соответственно в России) он простоял бы в полиции гораздо дольше и еще вряд ли бы что выстоял. Русский с удивлением добавил, что реакция Русинова похожа на критическое отношение к капиталистической действительности. И тогда Русинов взорвался. Он сказал, что он не давал при въезде подписки о некритическом отношении к этой действительности. Более того, он никогда не верил в полное благоустройство и благополучие, которое должно начаться сразу по эту сторону границы.
– И все-таки немножко верили? А? – спросил русский.
Русинов помолчал, порылся в памяти, признался:
– Чуть-чуть, пожалуй, да. Не то чтобы в Царство Божие на земле, и все же…
Полицейский поставил две железные перегородки и начал процеживать толпу к лестнице.
– У всякого государства свой порядок, который надо уважать, – сказал итальянец.
– Да, да, вот именно, порядок, – пролепетал русский, улепетывая в узкий проход.
Русинов крикнул им вслед по-русски:
– Сволочь…
Вот сволочь! Они были дома конформисты, и теперь они конформисты здесь – все им нравится, всем готовы лизать, только еще не знают кому…
Получив в конце концов продление своего срока (срока жизни. Оставалось выяснить какой? В каком состоянии духа?), Русинов медленно побрел прочь от острова Сите и префектуры. Утром звонил Дашевский, который выбил для него какой-то аванс: это опять сулило продление неопределенного существования, в общем-то необременительного, но бесцельного, как нынешняя его прогулка по Парижу.
От Рынка Цветов Русинов дошел до Мадлен, понаблюдал проституток с ключами, полюбовался невиданными фруктами в витрине шикарного магазина и побрел дальше. Ему попадались все те же туристы, буржуа, служащие и левые интеллигенты (последнее здесь оказалось тавтологией, интеллигенты – значит, левые). Он подумал, что западный плюрализм (как склочно сказал бы комментатор московского телевиденья) на поверку оказывался мифом. Ну да, были чудаки, было разнообразие хобби, ну так ведь и в заводском клубе Ярославля бывает с полдюжины разных кружков «по интересам».
Впрочем, на площади Оперы Русинов увидел нечто новое: молодые люди в белых и оранжевых хитонах, обритые почти наголо (на бритой голове мотался лишь чуб, наподобие запорожского) пританцовывали под звуки каких-то инструментов и напевали:
Харе Кришна, Харе Кришна,
Кришна, Кришна, Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама,
Рама, Рама, Харе, Харе…
Русинов подошел ближе и был наказан за свое любопытство. Один из этих остролицых изможденных юношей всучил ему за два франка журнал про Головобога, Учителя Шактиведанту и секту «Харе Кришна». Русинов получил заодно и вручаемое всем приглашение на ежевечерние собрания секты в молельном доме возле метро «Аржантен». Его звали принять участие в песнопениях, чтении «Бхагавад-гиты» и вегетарианском ужине.
Ровно в семь аккуратный неофит Русинов, робея, ткнулся в вестибюль двухэтажного дома на тихой улочке недалеко от Булонского леса, разулся и в носках вошел в маленькую залу на первом этаже. Здесь несколько обритых юношей в оранжевых хитонах уже стояли в нише и клали поклоны перед странными темнолицыми куклами, одна из которых была похожа на собаку. Другая, у которой лицо было голубое, вероятно, и была богом Кришной. Юноши, напевая что-то непонятное, кадили индийскими курениями, разбрасывали цветы по зале. Потом началось общее моление. Русинов за компанию приплясывал в шейковом ритме на кафельном полу, напевая про Кришну, Кришну, Раму, Раму, пока ноги у него не замерзли. Тогда он уселся на площадке деревянной лестницы и теперь выражал свое участие в молебне только улыбкой. Потом все перешли на второй этаж, уселись на полу, и дежурный гуру стал читать из «Бхагавад-гиты» на санскрите и на французском, а также толковать прочитанное на какой-то смеси европейских языков. Как и всякая другая теология, толкование это с трудом доходило до ленивой головы Русинова, усыпленного ритмической молитвой, танцем, а также атмосферой благодушного доброжелательства. В конце этого бесконечно длинного урока коренастый плотный человек подсел к Русинову и резко спросил:
– Ты кто?
– Человек… Кто еще? Русский. Из Союза.
Однако плотный человек не удовлетворился ответом и хотел проникнуть в суть вещей. Ему недостаточно было вежливо французского: «Советик?» Или уточняющего «рюс рюс?».
Дознавшись, что Русинов был еврей, человек с гордостью перечислил членов секты, которые, по его догадкам, были евреи, хотя называли себя шведами, американцами, англичанами. Еще процентов сорок, по его сведениям, были армяне, хотя называли себя американцами и ливанцами. Сам плотный человек был армянин с двойным подданством – советским и тунисским. Звали его Вартан. Он не мог выбраться в Кузьминки, где жила его семья, не ехал в Тунис, где ждали его дом и лавка, потому что дела фирмы «Духовное небо» задержали его в Париже. Он объяснил, что фирма обслуживала секту, а секта – фирму. Фирма продавала индийские благовония, секта распространяла слово правды. После урока, чтений, бдений и вегетарианского ужина, приготовленного индусом-поваром, Вартан повел Русинова в общагу фирмы и здесь познакомил его со своим братом, великим кришноведом-эрудитом.
– Насчет армян не слушайте его, это все чепуха, – сказал брат.
Вартан скептически улыбался, слушая прекраснодушные суждения брата, – ему было ясно, что армянин – это армянин, а еврей – это еврей.
– Наше временное воплощение не так уж существенно, – сказал брат-эрудит. – Воплощение это преходяще и краткодневно. Да и что она означает, точка земного шара, в которой ты родился?
Брат приехал из Америки. Оставив непонятного голуболицего Кришну, Русинов и брат с удовольствием толковали об американской литературе, о «старой» и новой родине, о цветаевской рябине. Брат Вартана презирал потуги Фолкнера и Уайлдера, это натужное цепляние за точку поверхности, за приверженность месту и традиции. Ему были смешны национальные украшения Беллоу и Маламуда.
Вартан снисходительно слушал их разговоры. Он был реалист из Кузьминок, очень точно знавший, что следует покупать в магазине «Тати» по соседству с фирмой на бульваре Барбес-Рошешуар. В то же время он был исступленный мистик, которому долгое половое воздержание и вегетарианская пища все чаще давали возможность трансцендентного видения. Воздержание не вдохновляло Русинова. Вегетарианская пища его не отпугивала. Перебирая в памяти пишущих вегетарианцев, он наткнулся на абсурдного старика Шоу и затосковал о шашлычном запахе бухарского Ляби-Хауза.
Возвращаясь в мансарду, Русинов вспоминал мальчиков и девочек из «Харе Кришны». Они выглядели истощенными, но были довольны жизнью. Те, что носили оранжевые хитоны, блюли целибат. Обладатели белых хитонов жили с детьми и женами, но сексом занимались редко, исключительно с благородной целью продолжения рода. Они улыбались друг другу и ели фрукты. В своем загородном ашраме они дышали воздухом, танцевали, заклиная бога Кришну, а в промежутке между молениями производили духи для фирмы Вартанова брата.
Итак, это был коллектив. В одиночку петь свое «Харе, Харе» им было, наверное, скучно. Они собрались, чтобы петь и работать в коллективе… Русинов с наслаждением подумал о своей пустой мансарде и Олеговой книжной полке…
Утром Олег поймал Русинова на лестнице и повел его на завтрак. Завтракать с Олегом было занятие малополезное, так как Олег с утра ничего не ел. Он пил виски или пиво. С другой стороны, такой завтрак не таил в себе и особой опасности, ибо Русинов знал наперед все, что скажет Олег. Это было как послание из далекого прошлого – студийный коридор, перекур на съемках, завтрак в гостинице с кодлой из съемочной группы. Олег уже поймал спозаранку свой легкий кайф, через пелену которого до него доходили слова Русинова, энергичные жесты Шанталь, звонки в дверь.
– Я больше никуда не спешу, – сказал Олег. – Я хочу дожить вот так, не спеша.
Он был моложе Русинова. Он вовсе не собирался умирать. Просто он нашел свой легкий кайф равнодушия ко всему, что происходит вокруг. В сущности, Париж мало что изменил в его жизни – лишь упорядочил его алкогольную эйфорию, ввел ее в разумные европейские рамки, лишил русского надрыва.
Глядя на Шанталь, Русинов думал о Софи. Она уже, вероятно, вернулась. В сущности, ему уже пора выйти из подполья. Она была так добра к нему, так нежна, за что же лишать ее удовольствия. У нее нет никакой вины ни перед ним, ни перед человечеством. Ее левый энтузиазм слегка занудлив, но, если сегодня вечером отвести ее на молебствия «Харе Кришны», она станет поклонницей Кришны. Может только в первые дни она будет еще сбиваться на молитве: «Мао-Кришна, Мао-Кришна, Кришна, Кришна, Мао, Мао…» Однако товарищи из дружного коллектива «Харе Кришны» поправят ее, и она забудет светлое имя кровавого председателя…
Надо ей позвонить… Мысль о том, что каждый разговор из дома стоит здесь тридцать сантимов, усложняла для Русинова и без того щепетильную здешнюю жизнь. Он решил попросту двинуться в центр и поискать ее на работе, в туристическом агентстве возле эспланады Инвалидов.
Она была на месте. Ему стало стыдно, нет, скорее, все же неловко, когда он увидел, как она рада ему. Она торопливо рассказывала что-то о путешествии, об атцеках, о мальтеках, о тамошней непонятной жизни, совсем непохожей на нашу. Об их нищете, да, нищете и проникновении американского капитала. Она произнесла это, впрочем, без уверенности, на всякий случай, да он и не ждал от нее никаких выводов – бедная девочка летает по свету, видит непонятную, такую далекую от нее жизнь – спасибо, есть хоть еще эти слова, эти пригодные на все случае жизни формулы, которые помогают ей защититься от непонятности и бессвязности впечатлений – нищета, проникновение капитала…
Вошел ее шеф и неожиданно предложил Русинову работу – ездить с тургруппами, путешествовать, чуть-чуть переводить, чуть-чуть улаживать дела, чуть-чуть зарабатывать при этом, конечно…
Русинов сказал, что он подумает, а она была рада, что у него будет такая работа, рядом с ней, привязанная к Парижу…
Обедали у нее дома, а потом Русинов повел ее на молитвенный вечер в «Харе Кришну» и там, наблюдая, как она танцует, робко подпевая: «Харе Кришна, Харе Рама», – он вдруг сказал, неожиданно для самого себя: «Опиум для народа. Проникновение капитала…»
И тут же пожалел о своих словах, увидев на ее глазах слезы, тут же раскаялся, гладил ее спину весь молебен, а потом даже повел ее в кино (очень дорого, недопустимая роскошь в этом городе, страшное мотовство).
Назавтра он снова без цели бродил по городу, по излюбленным своим эмигрантским кварталам, за Рошешуаром и в Бельвиле… Проходил по темным коридорам, где черные лица сливаются с мраком, забирался во дворы и перенаселенные шанхаи, а потом вдруг на одной из убогих, обшарпанных дверей увидел дощечку с именем – «Размик Хачатрян». Так звали старшину со склада ПФС, еще во времена солдатской службы Русинова. Может быть, это он и есть, тот самый Размик, вернувшийся с эчмиадзинских задворков в парижские трущобы. Войти вот так и сказать: «Размик, ахпер-джан, бареф!» И окажется – не он. Нет, нет, куда лучше выйти на бульвар, сесть на скамейку и проиграть все не спеша – и эту встречу, и то, что было в Армении, в армии, в юности, он ведь тогда женился на ростовской беленькой шлюшке, тот Размик, а она пошла однажды искупаться в городском бассейне (подумать только, жена эчмиадзинского армянина пошла купаться – в купальнике, в бюстгальтере и трусах, конечно, но все равно, голая под трусами и бюстгальтером, о, позор, о шлюха, – развод!). Кстати, чем она занимается здесь, твоя жена, Размик, тутошний Размик с Барбес – может, и правда стоит на бульваре Клиши, бренчит ключами на Сен-Дени и рю Блондель, пособляет мужу поддерживать уровень?
Русинов увидел в тот день много странных вещей. Впервые в жизни он увидел настоящую биржу, биржевых маклеров, которые орут, как сумасшедшие, и поднимают пальцы, и звонят куда-то, и машут руками. Он видел в здании биржи мемориальную доску биржевых маклеров, павших в годы войны с оружием (или чем-то еще) в руках (такая же точно стоит на «Мосфильме», и в Доме журналистов, и в московском ЦДЛ). Он видел испанку-нищенку, индуса-музыканта и красивую таитянку. Он стоял добрый час на станции метро «Одеон», зачарованный музыкой, долетавшей из длинных сортирно-крысиных переходов. В одном играла флейта, а в другом скрипка, весело-печальная музыка, глубоко под землей… Иногда вместе с музыкой до него доносился шорох атлантической волны, и звук этот сливался с плеском весла, долетавшим с верхневолжского озера Пено.
Потом он пошел встречать Софи, но, чтобы не прийти слишком рано, прошагал пешком много нарядных и чопорных улиц. На Сент-Оноре он снова увидел за темным стеклом современного офиса прелестную юную француженку. Она скучала у счетной машинки и смотрела на него через стекло. Пленница за темным стеклом. Русинов подумал, что она мечтает о конце рабочего дня, о конце года, об отпуске. Это о ней писали на стенах в метро пачкуны-анархисты: «Работа – рабство».
В шесть ноль-ноль маленькая рабыня Софи выскочила из агентства, закончив дневной труд и готовая снова повиноваться. Она ждала, чтоб он приказал ей одеться или раздеться, чтоб он повел ее куда-нибудь, чтоб он указал ей путь, защитил от капитализма и бездетности.
Они направились в Латинский квартал и съели там по два блина с шоколадом. Это было, конечно, мотовство. Все траты, на которые решались они с Софи, были мотовством. Софи зарабатывала на сто двадцать блинов в день, но она должна была думать о будущем. Бензин стоил уже два блина в день, а кино – семь блинов, и ей приходилось думать о том, что будет, если завтра она вдруг окажется без работы.
Русинову надоело есть стоя, и он присел на жалкую оградку, окружавшую еще более жалкое дерево на скрещении рю де ля Арп и рю Сен-Северэн. Растянувшись на траве у деревца, обтрепанные мужики разливали бутылку на троих. Это были парижские клошары. Красноносые, грязные и беспечные.
– На что они живут? – спросил Русинов.
Софи оживилась. Клошары – это было обвинение против грязного капитализма.
– Ни на что. Как-нибудь. Прожить бы сегодняшний день.
– Не тужи о завтрашнем дне, – сказал Русинов беспечно. – Ибо тебе не известно, что еще сегодня случится. А создавший день создаст и питание для него.
– Откуда это? – насторожилась Софи.
– Талмуд. Но и в Евангелии есть то же – о небесных птицах, о людском безверии…
– Здесь нельзя не думать о завтрашнем дне, – сказала Софи. – При капитализме это невозможно. К тому же трагедия алкоголизма в современной Франции…
Русинов гладил ее по голове, припоминая:
– Кто имеет хлеб в корзине и говорит: «что я буду есть завтра?» – тот принадлежит к маловерным…
– Это ты про меня, – сказала Софи и заплакала.
– Нет, нет, – сказал Русинов. – Это я про себя. – Он поднялся с травы.
– Будь здоров, – сказал ему один из красноносых. – Хочешь выпить?
– Спасибо, – сказал Русинов. – Не хочу. Но спасибо.
– Тогда дай франк…
* * *– Патрон сказал, что в том месяце у меня десять дней не будет работы…
Русинов погладил ее спину, сказал:
– Когда не будет на хлеб, скажешь. Я помогу.
Она успокоилась на минуту. Всполошилась снова:
– Пришел большой счет за телефон. Месячная плата, междугородние переговоры…
– Отключи ты его, – сонно сказал Русинов.
– Пришла страховка на машину и счет за ремонт.
– Продай ты ее к черту, – бормотал он, стараясь уснуть.
Ему было сегодня хорошо с ней. Но он знал, что еще может разболеться сердце, и тогда уж он не уснет… Он открыл глаза… Нет, не уснуть больше.
– А если ты будешь получать больше денег? Скажем, в два раза?
– Куплю другую машину. С этой одни хлопоты. И страховку буду больше платить.
Вот и защемило сердце. Что там она говорит? Опять этот ее страх перед будущим. Вечный страх.
– Ты ведь и сейчас получаешь больше, чем все, с кем я дружил в России. Кроме самых известных миллионеров. Кроме Эдика и Гены. Кроме драматургов. Но у вас это безнадежно. Другие, те, кто богаче, ноют так же, как ты…
И вдруг он подумал, что он тоже обречен. Что он уже во власти того же страха. Если нет, то чего же он ждет от Парижа? Увеличения дохода? Гарантий на завтра? Устройства? Ждет с тем же неверием в Создавшего день. С тою же верой в соцстрах. Капстрах. Горсобес. Горпарижсобес…
Сердце кольнуло. Напомнило о сроках. Еще звонок. Еще. Пора умирать. Уходить, чтоб умереть. В нежданной мысли была четкая, пугающая завершенность. Но в ней было и утешенье. Пора уходить. Русские сектанты из даниловских и любимских залесий, «бегуны» и «странники», заскорузлые, упрямые мужики, не признававшие паспортов, плевавшие на префектуру, хоть бы и русскую, хоть бы и царскую, не признававшие ничьих прав над своей жизнью и смертью, – вот они где были, настоящие анархисты, не здешние, не нынешние с их неизбывной завистью к чужой икре и чужим доходам…
– Поедем ко мне, – сказал он. – Все равно мне тут не уснуть… К тому же книга…
Она поднялась, взглянула на него с растерянностью.
– У Олега там была одна книга на полке. Про сектантов.
– А-а, знаю. Мне Клод-Мари рассказывал. Сектанты. Это были отзовисты.
– Вот именно, – сказал он, одеваясь. – Отзовисты и ликвидаторы наизнанку. Оборонцы навыворот. Подробнее смотри у профессора В. Стенича. Мари-Клод. Клод-обормот. Клод любви несчастной. А вот уже и приклод…
– Ты ревнуешь к моему прошлому? – спросила она.
– Безумно, – ответил он. – Одевайся.
Она покорно одевалась. Смотрела на него испуганно, уважительно. Он ехал читать книгу про сектантов. Вероятно, он готовился к борьбе за чистоту и единство партии.
Она взяла с собой багет и баночку с его любимым сыром. Он улыбнулся ей нежно от двери. Подумал, что, когда он уйдет, он будет о ней вспоминать. О ее любви. О ее доброте.
Часть вторая СтранникиСофи присутствовала при его сборах, и это несколько усложнило процедуру. Он хотел выкинуть лишнюю одежду, но она попросту перевезла все к себе. «До твоего возвращения!» – сказала она. И еще она подарила ему спальный мешок.
Они простились у метро. Она плакала. Тысячу раз он обещал себе не влезать в «отношения», любить всех и никого, любить прекрасный Божий мир, свою работу, книжки, чужих детей, любить всех «ближних», которые дальние, – тогда не будет этих истерик, пустых и суетных переживаний, не будет «своих» и «чужих».
Оставшись один, он в последний раз задержался, послушал музыку в переходе метро: два банджо и гитара, потом, уже на выходе, – индийская вина… Это было, наверно, лучшее из того, что он слышал в Париже, – музыка в метро…
Он добрался до развилки дороги, «рут насьональ», и стал ловить попутку. Первым его подобрал озабоченный, неразговорчивый интеллигент, который на счастье не спросил даже, что за акцент у месье. Они ехали в молчании. Дорога становилась все уже. Наконец француз высадил Русинова у последнего развилка, объяснив, что дальше дороги нет – там только ферма.
Русинов отошел в сторону от асфальта, прилег на опушке и вдруг в полной мере ощутил то, что скрывал, сдерживал последние километры дороги, отчего-то стесняясь угрюмого интеллигента: радость ухода. Он ощутил под собою траву, прикоснулся к земле спиной, увидел над головой полог светлого леса… Запахи цветов, земли и леса – все волновало его, вызывая в памяти множество ассоциаций. Эти неясные звуки, эти запахи – он верил, что они пришли из юности…
Он отметил про себя, что слишком весел для человека, который собрался умирать, но тут же отмел эту фарисейскую мысль. Ему было хорошо, он не торопил приход смерти. Но если она придет сейчас, он встретит ее веселым. Он рад был бы сейчас растянуть отрезок между жизнью и смертью, точнее, между той, предшествующей, бесконечно долгой его жизнью и грядущей смертью. Он уже верил, что отрезок этот может оказаться не в меньшей, а даже в большей степени жизнью, чем то, что он знал до сих пор…
Русинов задремал. Он проснулся в зелени травы и леса. Он съел свой первый завтрак на траве и опять вышел на дорогу. Маленький человечек остановил машину и, осторожно сдвинув пиджак, освободил место для Русинова. Маленький человечек предупредил, что едет совсем недалеко, до ближайшего городка. Русинов сказал, что это очень хорошо, это даже прекрасно: там он пересядет в новую машину, потом в еще одну, а когда стемнеет… Маленький человечек взглянул на него удивленно, не понимая, чему он радуется.
Маленький человечек сказал, что едет к доктору. Русинов, вежливо вздохнув, спросил, что у него болит. Человек толково объяснил, что у него «эякуляция прекокс», досрочное семяизвержение («Стало быть, не все то хорошо, что досрочно, товарищи?» – сказал Русинов по-русски). Он едет к доктору. Доктор назначит ему курс лечения. Но поможет ли? Благожелательный Русинов занялся шарлатанским лечением.
– Разве это болезнь? – сказал он. – Подумаешь, досрочное. У всех досрочное. Да кто это может выдержать их сроки? А средства какие? Побольше техники. Как сказал один русский писатель, чуток старомодной галантности…
– Вы думаете, так просто? – усомнился человечек. – Но доктор взял с меня много денег.
– За такие деньги вы станете настоящий гигант, – сказал Русинов, прощаясь.
Он вышел из машины у подножья холма, на который взбирался сказочный средневековый город. Холм увенчан был замком и кафедральным собором, к ним вели узкие древние улочки. Русинов пустился в путешествие по лабиринту средневековых улиц.
В прежние времена, в России, он долгие годы бродил по древним дорогам, отыскивал ямы от фундаментов, развалины монастырей, следы старинных аллей и барских домов. Здесь древние здания стояли нетронутыми, темные, старые стены были увиты плющом, рдели цветами. Возле старинного собора, украшенного толпами резных каменных фигур, темнели ворота старой богадельни. Из-за высокой стены до Русинова донесся странный шум – отрывочные возгласы, эхо, точно в закрытом бассейне. Он прислушивался, и возгласы казались ему все тревожнее и страшнее. Истина открылась ему позднее: старинный «оспис», как и в Средние века, был приютом умалишенных. Русинов встревоженно гулял под аркадами внутреннего монастырского дворика до тех пор, пока время не растаяло в полуденном зное. Он с сожалением покинул мирный двор, богадельню и древний городок на холме, утешая себя тем, что их еще много будет на пути, этих древних бургундских городков, если только пожелает Господь, если суждено… И потом, с каждым новым городом, отмечал он, что Господь милосерд к нему, потому что были еще и Везелэ, и Отэн, и Бон, и Клюни, и еще какие-то деревни, где каждый крестьянский дом из благородного замшелого камня походил на древнюю крепость или замок, был увит зеленью и цветами… Русинов ночевал на склоне холма, у виноградника, забравшись в мешок, и перед тем, как уснуть, долго смотрел на чистые звезды, не замутненные ни бурным прогрессом, ни упадком мышления, ни напряженной предвыборной борьбой…
А наутро он снова видел серебристые и бурые черепичные крыши, видел замшелые камни Бургундии, «святые камни Европы» – узкие улочки средневековых городов, живописные фермы, сказочные замки. И были купание в реке, путешествие впроголодь и неизбывное, почти греховное ощущение счастья.
В полдень его подобрала на дороге полная, довольно еще молодая и красивая дама, и они беседовали о детях – всю долгую дорогу среди прекрасных холмов. Дама овдовела давно и воспитывала двух мальчиков – о, дети, сыновья, что может быть трудней и прекрасней. Русинов и дама наперебой вспоминали самый прекрасный возраст мальчиков – пять, шесть, семь… Их выдумки, их словечки, их многообразные таланты… Потом дама призналась со вздохом, что мальчики уже выросли, радости от них стало меньше, нет, младший еще ничего, он даже учится, хотя и не так нежен с ней, как раньше, а вот старший…
Русинов вежливо молчал и слушал. Да, старший связался с этими, ну, которые не любят женщин, а вовсе даже любят мужчин, то есть друг друга…
– Ну что ж…
– Да, я тоже так думала, ну что ж, пускай, что поделаешь, хотя мне не нравилось, что мой Мишель… И потом, ведь не будет внуков…
Сказав о внуках, она сразу постарела, словно перешла вдруг в иную категорию, оставив заботу о внешности.
– Ну что ж, пускай… Но потом он стал требовать, чтобы мы звали его Мишелина. А потом он сделал какую-то мерзкую операцию – очень дорогую, я до сих пор еще не могу за нее расплатиться, хотя неплохо зарабатываю. У него изменился голос, растет грудь…
Холмы Бургундии сияли чистотой и прелостью. Русинов вышел из машины, с особой почтительностью и смирением поцеловав руку красивой даме.
* * *Ему нравилось выставлять перед собой руку с оттопыренным большим пальцем, нравилось, что какой-нибудь из водителей раньше или позже откликался на этот знак; нравилось, что некоторые, проезжавшие мимо без остановки, все же нервничали при этом, искали себе оправдания: жест назад – у меня полно, жест вбок – мне сворачивать, две руки вверх от баранки, с упреком даже – никак не могу…
К тем же, кто его сажал в машину, он был и вовсе полон признательности, ему нравилось это. Иногда завязывался в машине разговор, водителю не хотелось расставаться с ним, да и он ведь не спешил никуда. Они останавливались возле кафе, пили у бара воду с гренадином или оранжину, беседуя о России, о Франции, о женщинах, о браке и детях. Бывало, что какой-нибудь симпатичный водитель тащил его к себе ночевать или вез в гости к друзьям, и, если Русинов был при этом в настроении общаться с французами или с кем бы то ни было, он соглашался. Так однажды под вечер попал он на виллу Жака – это было, кажется, на двадцатый день пути, то ли в Зеленом Керси, то ли еще в Бургони. Новая эта вилла, перестроенная из старинного обержа [19] на пути паломников, возвышалась среди привольных зеленых холмов, вполне модерная вилла, вероятно, не дешевая, и оттого еще хозяин ее, интеллигент (конечно, левый), считал своим джентльменским долгом собирать здесь максимальное количество гостей, так что Русинов казался не более чужим, чем прочие. Назавтра поутру, наступив на него спящего в саду, молоденькая алжирка извинилась и притащила его на завтрак. Хозяин виллы, пузатый и добродушный Жак, в прошлом издатель и журналист, предвидя разъезд гостей и одиночество, настоял, чтобы Русинов задержался еще, а потом стал уговаривать его поселиться здесь навсегда…
В уговорах приняла участие симпатичная алжирка, служившая в банке где-то в соседнем городке. Русинов понял, что она имеет свои женские резоны его уговаривать, но дал себя уговорить без труда. День прошел безмятежно. Вечером гости собрались в саду вокруг огромного каменного жернова, заменявшего стол, – принесли вино, салат, сыр.
За столом говорили, как обычно, об отпусках и автомобилях, об авариях, ценах, чуть-чуть о книгах и чуть-чуть о политике. О политике говорили очень толково и хладнокровно.
Русинов узнал, какой взрыв кровопролитной войны на планете оказался сейчас удачным, и сумел привлечь внимание общественности к бедственному положению угнетенных или даже открыл новую эру. Помог разоблачить кого-то или проложил путь к национальному освобождению. Большинство присутствующих были, конечно, люди состоятельные. И несомненно, люди левых симпатий. Русинов вспомнил наблюдение Герцена о борьбе между правыми и левыми буржуа, о зависти одних и жадности других. Он подумал, что Герцен, возможно, все же утрировал материалистические мотивы этой борьбы. В конце концов ведь многие националисты понимали, что национальное освобождение ввергнет их в нищету и бесправие, и все же они не могли противостоять идеальному (пусть даже и не самого высокого порядка) импульсу национальной борьбы. То же было зачастую и с богатыми, и со здешними «более равными» в их стремлении к равенству. «Более равные» на родине Русинова не тосковали о равенстве…
Хозяин и его гости развлекались, впрочем, и менее глубокомысленным способом. Хозяин очень забавно играл на трубе. Испанец, проезжий актер, очень похоже изображал собаку (лишенную, впрочем, истинного собачьего обаяния).
Русинов лежал в качалке, смотрел на звезды и грезил о том, что будет, если он останется, – думал о том, как могут сложиться отношения с хозяином, с хозяйкой, с милой алжиркой, с самим собой…
Проезжий испанский актер вдруг запел что-то очень-очень знакомое, от чего Русинов вздрогнул и даже потянулся, чтобы встать с качалки. А потом вспомнил. Когда-то это был гимн, а потом только партийный гимн на его далекой северной родине – песня про то, как закипает возмущенный разум, как отвергают люди богов и царей. Когда Русинов был на первом курсе, пуганый институтский латинист перевел этот гимн на дурную школьную латынь и заставлял студентов петь его на семинарских занятиях (в конце концов можно понять страх старика, добывавшего кусок хлеба столь архаичным и классово чуждым предметом, как латынь). В памяти Русинова застряли ошметки латинского текста:
Консурге фама эгзекрата
Серворум опрессорум генс,
Мен суммум пугнум индигната…
…Актер пел сейчас по-испански полушутя-полусерьезно, и хозяин виллы ему подтягивал:
Весь мир насильем мы разрушим
До основанья…
О, это был сложный дуэт. Хозяин угрохал уже пол-мильона на постройку виллы и упорно продолжал достраивать… В то же время он был левый, он был, естественно, против всякой собственности, и, шутливо подтягивая бесштанному испанцу, он призывал взорвать этот мир к чертовой матери. Это была игра. Если угодно, игра ума. Однако она могла в любой день закончиться взрывом, Русинов это знал. Впрочем, ни хозяин, ни его гости не верили в это: в конце концов во Франции проповедуют и более страшные вещи…
Русинов представил себе, как тройка бесшабашных испанцев, латиноамериканцев, палестинцев или юных немцев из наиболее сытой части Германии подложат ерундовую бомбешку под новую хозяйскую виллу, омерзительный продукт накопления, потребления, чего там еще… Русинов закрыл глаза. Взлетали на воздух и медленно-медленно, как в кокетливом фильме Антониони, опадали на землю стропила, балконы, куски мебели, сантехника, стереоаппаратура. Впрочем, Русинов увидел и то, чего не смог вообразить суетливый киношник. Покосившиеся шпили древних соборов. Кучи дерьма в алтаре. Битые витражи. Надписи на стенах мелом, дегтем и суриком: «Катя плюс Жан», «Ваня плюс Жанна», «Ни учитель ни бог», просто «хуй», или «хуй моржовый», в северном варианте… Он увидел заросшие фундаменты на месте средневековых замков, бурьян, дерьмо, камни. Святые камни Европы! – восклицал Достоевский. Впрочем, дальше он пояснял свысока, что она лишь кладбище, святая Европа, что тучи заволокли ее небосклон. Что бы он сказал сегодня, услышав, о чем шепчутся бородатый Жан-Пьер и его друзья. Прочитав исступленные надписи на старых камнях, клеймящие то богатых, то нищих, то армян, то евреев, то церковь, то спокойствие…
Русинов проснулся на зябком рассвете, скатал мешок и зашагал прочь через холмы. Было тихо. Вилла растаяла в тумане. Дорога была благодетельна. К вечеру он уже с трудом мог припомнить, как звали добродушного хозяина виллы-обержа на древнем пути паломников в Сен-Жак-де-Компостель…
* * *Если на пути его попадались древние живописные города или соборы, Русинов посещал их и осматривал. Не потому что им еще владело по привычке туристическое усердие, а потому что любил бродить в каменном лесу таких соборов, сидеть в темном углу, слушать раскаты органа, стоять в алтаре одному или в компании растерянных туристов, похожих на заблудившихся в лесу детей. Он заметил, как робеют туристы перед этою красотой, как они лихорадочно листают новейшее туристическое евангелие, путеводитель фирмы «Мишлен», торгующей автомобильной резиной и выпускающей эти зеленые путеводители попутно, для рекламы своего резинового товара. Путеводители словно успокаивали туристов и умаляли их страх смерти тем, что сообщали всякие бесполезные сведения про то, кто построил этот собор и когда, кто его разрушал и почему разрушил не до конца.
В сумрачной тишине собора Русинов думал о прошедшем, перебирал свои обычные земные мысли… Впрочем, торжественная музыка, стремительная готика и древние надгробия словно бы лишали земные аргументы Русинова нормальной логики и состоятельности…
Порой Русинов натыкался на подлинное чудо, и тогда радовался, что он один, что никуда не спешит и что может, не стесняясь никого, пролить слезы умиления перед творением искусства, природы и христианской веры, возникшим перед ним на дороге внезапно и не предсказанным никаким ожиданием и маршрутом. Так, однажды, золотым летним вечером он вышел из попутной машины в долине, на одном из крутых склонов которой разместился стремительно взбиравшийся вверх город паломников Рокамадур.
В другой раз это были Колонж-ля-Руж, и Сарлат, и Вивьер, и Альби, и другие, названия которых он не запоминал больше, потому что ему некуда было нести этот груз имен – только нынешнее переживание и внезапная сегодняшняя молитва были важны.
И было, конечно, много встреч на этой дороге, вызывавших отзвук в его душе. Однажды, любуясь красивой лестницей средневекового дома на узкой улочке Сарлата, Русинов увидел на двери дощечку с надписью – «Ежи Турковский». И тогда в нем вдруг заволновалось воспоминание, потому что он вспомнил Ирку Турковскую, Ирэну, польскую женщину с окраины Душанбе, которую он не увидит больше, как не увидит, наверное, и сам Душанбе, и этот Сарлат. Ирка была родом из Вильнюса. Там она влюбилась в таджика, а потом туркмена, и, когда Русинов познакомился с ней в Душанбе, она уже растила в разоре и хаосе своей бедной квартиры троих детей, и пила, и курила анашу, и была все еще хороша, и беззаботна, и остроумна, и талантлива, и бедна, как церковная мышь… Второй ее муж сидел в то время в тюрьме, и она рассказывала о помогавших ей благородных друзьях мужа – о старом мебельном воре и его редкой, трудной профессии: представляешь, вынести среди бела дня из чужой квартиры огромный арабский гарнитур, перепродать его где-нибудь неподалеку, а потом идти отсиживать снова срок. Ирка была в ту пору в растерянности, потому что от мужа из тюрьмы приходили очень странные письма, в которых он призывал ее образумиться и, беря пример с космонавтов, усиленно строить социализм. Русинов отнес эти письма к психиатру, потому что Ирка боялась, что у бедного зека что-нибудь приключилось с головой, и психиатр успокоил их, сказав, что нечего беспокоиться, потому что конечно же человек не в себе, к тому же тюремные политзанятия и непривычное чтение газет влияют на его слабую голову, а главное, несомненно, что он курит там анашу, а также, вероятно, пьет чифирь… Все ее заботы, и тяготы, и нужда не мешали Ирке, выпив немного и покурив, тут же забывать про все и веселиться, и предаваться любовному занятию со всем пылом искушенной двадцативосьмилетней женщины, а потом зачинать на этой скромной основе еще один серьезный роман, каждый раз заново… Так было, когда Русинов приезжал в осеннюю Азию, где опадали большие листья платанов и рдели виноградники, и блаженное тепло охватывало душу и тело…
Русинов долго не мог расстаться с воспоминанием об Ирке, сидя в средневековом дворике Сарлата, где студенты играли на старинных инструментах, рядом по улице текла толпа туристов, а над собором маячил Фонарь Грешников: где ты, Ирка, старая грешница или мученица, развеселая Ирка-дырка с Первого Советского, из нового барачного Душанбе?
* * *Неделю он прожил на живописном берегу Дордони против какого-то замка. В соседнем селе была лавчонка, где он покупал молоко и хлеб, а неподалеку ловили свой летний кайф мученики цивилизации, загнанные в тесный автокемпинг вместе со своими машинами, фургонами, детьми. На рассвете кемпинг будоражили мотоциклетные моторы, вечером – транзисторы, кричавшие наперебой. Но днем Русинов приходил иногда на их цивильный берег, чтобы поиграть с детишками. Отпускникам-спартанцам не мешали теснота и шум. Они были закалены путешествием по дымной автостраде. Эти два дня на Дордони, говорили они, увы, только два, потому что уже надо мчаться обратно, эти два дня они будут вспоминать целый год. Отпускники возвращались в Париж, чтобы упорно строить капитализм (а может, уже социализм), и наперебой завидовали Русинову, который никуда не спешил и как будто уже что-то построил. Впрочем, не все отпускники, жившие в кемпинге на зеленом берегу Дордони, были так мелкобуржуазны. Два молодых пылких израильтянина убеждали Русинова поехать вместе с ними в Израиль, чтобы строить каналы в безводной степи и повышать урожаи цитрусовых, чтобы неуклонно крепить оборону первого в мире рабоче-еврейского государства. Русинов остался равнодушен к этой демонстрации «ретро». А когда молодые энтузиасты стали настойчивы, он даже сменил место на берегу – в конце концов дети есть повсюду. Он так прижился на Дордони, что хотел даже начать роман-трилогию «Тихий Дордонь», но, уходя из Парижа, он оставил свою авторучку и дал торжественное обещание не покупать новой и не писать. Иногда ему все-таки приходилось писать – он записывал адреса, которыми снабжали его попутчики и водители, зная, что адреса не помешают ему, когда начнутся дожди.
Его подвозили коммивояжеры, врачи, мимохожие испанцы, реже немцы и англичане. Однажды он даже попал в машину русской дамы (замужем за французом), которая возила в ближайший универсам пожилых родителей, приехавших на побывку из какого-то южнорусского городка. Русинова сразу заинтересовали простецкие железные зубы его попутчиков, а потом он услышал русскую, пусть даже южнорусскую, речь и радостно вскрикнул. Однако они быстро поставили его на место, внеся новую нотку в его воспоминания: они его до смерти испугались. Он говорил по-русски, а значит, был опасен. Русский был для них опаснее, чем любой шаромыжник-иноземец, ибо кем может оказаться русский, вот так вольно гуляющий по дорогам чужой страны, как не провокатором-сионистом, не шпионом-диверсантом, не чудовищем-эмигрантом, предателем родины. Или, еще страшней, человеком Оттуда, Откуда Надо. Не из ихнего сраного Откуда Надо, а из нашего, настоящего, где Знают Все и расставляют своих людей даже на крошечных департаментских дорогах… Щадя земляков, Русинов вышел из машины на первом же перекрестке и отвернулся с горечью: чтоб они не подумали, что он запоминает их номер. И еще, чтоб они не видели его лица. Милая, бедная родина…
* * *Ему привелось еще раз обсуждать проблемы построения сионизма в одной отдельно взятой стране. Это было в небольшом средневековом французском городке, который Русинов, проспав полдня в стогу сена, вдруг надумал осмотреть, уже ночью. Как почти во всяком уважающем себя древнем французском городке, здесь была в центре узенькая еврейская улица с огромной квадратной синагогой. По боковой стене синагоги до верхнего яруса окон шла лестница, и Русинов стал взбираться вверх по этой лестнице, чтобы заглянуть в окно. Вот тогда он и услышал, совсем рядом, над собой, голос какого-то юноши, глядевшего в окно соседнего дома:
– Чего вы там себе ищете, месье?
– Так… – Русинов только пожал плечами. Не будет же он объяснять через двор, снизу вверх, пусть молодой человек спустится, если ему интересно.
Молодой человек спустился. Он был крупный, красивый, в ермолке и в рубашке, украшенной звездою Давида.
– Интересуюсь видеть, – сказал Русинов. – Все-таки синагога.
– Вы что – еврей?
– Можно сказать, что да.
– Пойдемте ко мне наверх. Мы можем посидеть, хотя и поздно.
Русинов поднялся за атлетическим юношей на верхний этаж дома и вошел в красивую, современно обставленную комнату, имевшую на стенах, впрочем, два коврика с изображением молящихся евреев и еще какой-то стены – может быть, это и была Стена Плача, а может, Великая китайская стена (что было бы тоже вполне современно и уместно). В кресле, потупив взгляд, сидела миловидная девушка.
– Моя сестра, – сказал атлет. – Юдифь.
– Олоферн, – представился Русинов.
Он не видел ничего странного в этом ночном визите. Юноше-атлету, который был сыном здешнего раввина, стало скучно ночью в обществе сестры. Что до Русинова, то он выспался днем и никуда не спешил. Его визит открыл перед юношей возможность высказать свои убеждения и, может, обратить еще одну паршивую овцу на истинный путь предков. Русинов надеялся к тому же на стакан горячего молока. Надежда рухнула, когда ему были предложены виски и вода с мятным сиропом. Беседа же оказалась скучной и давно знакомой.
– Если вы еврей, – воскликнул юноша, – отчего вы не едете в Израиль?
Русинов старательно, но несколько буквально перевел на французский традиционную фразу «Чего я себе там позабыл?».
– Разве вы не чувствуете в себе жар священного еврейства? – с придыханием спросил юноша. – Ведь вы из Москвы, откуда вышли такие замечательные деятели сионизма, как Эстер и Давид Маркиш…
Русинов попытался увести беседу в область секса и втянуть в нее прекрасную Юдифь. Атлет блеснул недюжинным знанием предмета, однако, отделавшись парой фраз, вскоре ушел в кусты, как Плеханов. Голос миловидной Юдифи театрально завибрировал, и Русинову вспомнилась его первая жена. Ну да, да, эти опущенные глазки, эта светская вибрация голоса… Это священное еврейство и все эти штуки хороши для светской беседы, а в семейной жизни напускная стыдливость и фригидность выходят боком. Русинов искоса наблюдал стыдливый румянец и приоткрытый ротик. Потом тот, второй Русинов, который так мало зависел от географического положения и физического состояния лежебоки-первого, резво вскочил на эфемерные ножки, чиркнул брючной молнией и вложил в романтически приоткрытый ротик нечто, бывшее когда-то бичом Одессы и рублевских предместий. Вот теперь, в этом положении, можно было и продолжить беседу.
– Да, так о чем мы там говорили? О священном еврействе? О построении сионизма в одной отдельно взятой стране? О славных делах добровольцев-обрезанцев? О кибуцах у реки? Тянут сети рыбаки…
– Вы плохой еврей, – сказал молодой атлет на своем прекрасном французском.
– Таки плохой, – согласился Русинов на своем варварском французском и при этом еще зевнул.
– У нас еще четыре комнаты, – сказал атлет. – Я мог бы предложить вам ночевать в одной из них. Как еврей еврею…
– Это будет гуманно, – сказал Русинов. – Это укладывается в систему общечеловеческой взаимопомощи. Моя бабушка получила однажды после войны свитер через организацию «Джойнт». А дядя – три года тюрьмы за связи с той же организацией. Оба они даже не знали, что это такое. Я тоже не знаю, но я хоть получил ночлег…
– Вам более повезло, – сказал атлет. Во всяком случае, Русинов именно так перевел его французскую фразу.
– Да, мне более лучше… – сказал Русинов.
Засыпая, он с легкой грустью думал о том, что прекрасная Юдифь не придет к нему ночевать. Не придет, чтобы о ней не подумали плохо. И зря, потому что он уже подумал о ней плохо, так что могла бы и прийти…
* * *Весь следующий день и всю ночь Русинов провел в горах. Ночью он проснулся в своем мешке, увидел над собой огромные чистые звезды и вспомнил вдруг отчего-то самый первый свой поход, давным-давно, в юности, зимой пятьдесят третьего года, в студенческие каникулы. Хотя это был студенческий турпоход, то есть массовое мероприятие, он, как ни странно, уже и тогда был сильно похож на бегство – бегство из города, бегство от университета, бегство от того непонятного и страшного, что надвигалось на них, от какой-то новой великой расправы (кто ж знал, что всего через месяц Родной и Любимый откинет копыта?). Их была дюжина пацанов и девочек, и больше половины – евреи, метисы-полукровки, а во всем мире неистовые газеты правдоискателей – от нью-йоркской «Дейли уоркер» до «Сольвычегодской правды» – каждое утро клеймили нацию отравителей и требовали расправы над ней. И вот тогда они ушли на лыжах в морозное пространство между Петушками и Хлебниковом. Ушли – как отрезали: шли, смеялись, шутили, пели, готовили пирожные из хлеба и сгущенки на чьи-то именины, ночевали в избах и сельских домах (а однажды даже в маленьком сельском роддоме, где впервые в жизни услышали крики роженицы). Они утешались ласковым доброжелательством нищих русских крестьянок (не читавших «Дейли уоркер») и только иногда со страхом думали о возвращении (ан все обошлось, и он опрокинулся, всего месяц оставался до того дня, а он, Родной и Любимый, вай, вай. Но еще и в тот день они не знали, что по этому поводу не надо рыдать и плакать…).
Русинов вдруг понял, отчего пришло воспоминание, и взъярился. Юноша-атлет из раввинского дома. Он еще мне будет рассказывать о моей принадлежности, сытая сука из сытого французского городка! Он мне будет указывать, кого мне сегодня любить и куда ехать! Что мне и где строить, какие петь песни! Это мне-то, устоявшему перед соблазном дешевого патриотизма, соблазниться вдруг убогим их национализмом!
– Стоп, Сеня, стоп! – сказал Русинов. Не тот, который расстегивал штанишки в чужой квартире, а тот другой, который вежливо хлебал воду с мятным сиропом. – Стоп, Сеня, стоп! Вы себе лежите на холме среди степу широкого, однако вы еще не мертвый. Вы еще не написали свой «Заповит», хотя вы себе собрались умирать на чужбине… Как же это было в одном таджикском стихе (перевод, наверное, Немы Гребнева, но стих таджикский):
Когда в чужом краю мне гибель суждена
И саван мне сошьет не мать и не жена —
Я на горе хочу лежать, быть может,
Твой дым ко мне дойдет, родная сторона.
Ох, как жалко себя и как он пахнет, таджикский дым! Нигде так не пахнет дым, так горько и так сладко. Может, это горелый навоз, но все равно, пусть так, пусть только пахнет, пусть дойдет ко мне этот дым. Если ж и дым не доползет, если уж я решился на это, умереть вдали, неужели он, упитанный мальчик из французской облсинагоги…
Прошла мимо жена фермера в тряпичном жакете, спросила, не холодно ли ему здесь. Видя, что он плохо понимает диалект, повторила раз, и два, и три.
– Нет, не холодно, – ответил наконец Русинов. – Тут у вас хорошо…
Он спросил, можно ли купить молока, и она засуетилась – можно, конечно, можно. Лучшие люди, крестьяне и философы. Философы и крестьяне. Никто не травит его собаками, не гонит с луга. А если очень попросить, то, верно, пустят и в сарай. Конечно, это не Россия, не Средняя Азия: никто не тащит тебя в избу, не заклинает ночевать в горнице, убеждая, что «ночлег с собой не носят». Никто не мечет на стол все, что еще уцелело в печи, в тануре. И все же – они доброжелательны к нему здесь. И крестьяне. И философы. И глупые леваки…
Он еще не совсем привык спать на земле и испытывал неудобство. Однако в неудобствах этой жизни было свое удобство и своя отрада. Он вдруг вспомнил, как изнеженный Пьер Безухов ночевал в Москве, в чужом доме, во время отступления. Граф Николаич, познавший где-то клошарскую бесшабашную отраду, писал, что это было чисто русское чувство презрения к удобству, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, что почитается большинством людей за высшее благо. И тут же добавлял, что и богатство, и благо если и стоят чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить…
Привет, мон вье Пьер! Привет мон шер! Привет Ясной Поляне на рассвете, зеленой могилке в росе, статным соснам Оптиной пустыни, под которыми довелось однажды ночевать вот так же, в спальном мешке. Привет всем. Салютти афеттуози а тутти! Адье!
Ночью ему приснилось, что он плывет по реке. Одежда его промокла, Русинов ощутил холод и проснулся. Он и правда лежал в воде. Он не успел испугаться, вспомнил, как текут, меняя направление, потоки по склонам таджикских гор… С вечера здесь тоже было совсем сухо и вот…
Всю ночь он пытался согреться, а утром обсох в кафе, съел кусок хлеба, запил горячим молоком и ощутил простую радость тепла и сытости, более доступные и острые там, где их не хватает, где они достаются с трудом. И пожалел тех, кого постоянное довольство и достаток лишили остроты этих ощущений…
На следующую ночь он вдруг вспомнил сына, оставшегося Там, и к нему пришла жгучая, нестерпимая боль. Вспоминалось все – каждый жест, каждое слово, каждая размолвка и каждая невольная ласка. Тогда впервые ему по-настоящему захотелось умереть. Но было еще не время, и он призвал на помощь жестокую индийскую мудрость одиночества… Тогда чуть-чуть отпустило, и он даже уснул под утро.
* * *Еще он жил на длиннющем пляже в Камарге, где рдеют на закате фламинго и люди ходят голые, как в раю. Потом он снова перебрался в Прованс и жил возле Байона на душистом плоскогорье среди полей лаванды и белых камней. Жил там в брошенной пастушьей хижине – «бержери», сложенной с гениальной простотой и умением из тех же белесых провансальских камней.
Здесь, в этой блаженной жаре на голых камнях, посетило его однажды мучительное воспоминание о русской весне – о ее бродящем хмеле и запахе, о бесконечно долгом набухании и таянье снега, об аромате весенней прели и бесстыдном обнажении из-под снега давно потерянных, брошенных и забытых предметов (старой куклы, рваных подштанников, дохлой собаки и презерватива). О робком солнце, незрелом, как школьница, о холодной еще белизне берез, о первой капели и перезвоне птиц, о нежном и тоже похожем на капель, остром весеннем ощущении возраста, когда все хвори – в тело, и седина – в бороду, и бес – в ребро.
Однажды он увидел на указателе название, что-то ему напомнившее, порылся в длинном списке адресов и увидел это самое названье Ле-Мезон, и вспомнил, как получил этот адрес в дороге от какой-то лихой интеллектуалки («Мы с мужем будем очень рады…»).
Его вдруг потянуло на люди. Он добрался туда ночью фэр-дю-стопом, услышав крики и музыку, постучал, отворил дверь и увидел танцующих полуголых или почти голых людей. Узнав его (хотя и не без труда), дама представила его своему старому мужу, который тянулся, изо всех сил тянулся за богемной кодлой, собранной молодой женой-интеллектуалкой. Дама сказала, что Русинов очень «вписался» в их компанию, а он уже выпил молока и приглядывался теперь к молодым и старым гостям, пораженный их исступленным стремлением быть «на уровне», быть богемой, быть людьми без условностей. Из этого он заключил вскоре, что все они мирные добропорядочные буржуа, ощущающие неудобство от своей буржуазности. Самым голым, изнеженным и развязным в компании был юный «профессор», а точнее говоря, учитель французского языка из местной средней школы. Все веселились так бурно и говорили так много, что Русинов ушел спать под утро, твердо решив, что это посещение достойно увенчало светскую карьеру всей его жизни.
Однажды человек, подвозивший его в Провансе, пригласил Русинова ночевать у него на вилле, а утром, узнав, что Русинов был у себя на родине какой-то там писатель-засратель, предложил ему издавать вместе газету. Он был готов выделить Русинову второй этаж своей виллы для жилья и даже оклад жалованья, потому что у него были деньги, время и какие-то амбиции, однако Русинов отказался, а потом, уже где-то за Экс-ан-Провансом, вспомнив вдруг об этом предложении, ощутил необычайную легкость и стал напевать, на свою собственную мелодию, однако на чужие стихи:
О как счастливы мы, свободные от жадности,
Среди прочих, снедаемых жадностью,
Так живем мы, свободные от нее…
* * *Разнообразие и сладостная красота французских гор приносили ему неизменную радость, пейзажи менялись – от Перигора к Гаскони, от Пиренеев к Провансу… Он обнаружил с удивлением, что жажда общения иссякает в нем. Ему виделся какой-то незнакомый еще собеседник, но по самой удивительной понятливости этого таинственного собеседника, по его удачным репликам Русинов иногда угадывал в нем самого обыкновенного двойника, другого Русинова, того самого разгульного шута, который надругался недавно над кроткой дочерью Израиля, который все время подавал свои охальные реплики, и зачастую весьма некстати…
Туристический сезон еще но вовсе угас, и небо время от времени все же посылало ему собеседников – то школьников, то студентов, то дикарей-туристов из недальних стран старой Европы, то бодрых детей Нового Света…
В жестокую пору мистраля Русинов стал подумывать о новых маршрутах миграции. В запасе у него были еще Италия, путешествие ко Гробу Господню, а может, также и к Каабе, странствие по Северной Африке и Сицилии…
В сентябре, напившись воздуха лавандовых пустошей Прованса, он повернул на юго-восток, к Лазурному берегу и сладостной французской Ривьере.
Он стоял полдня на пустынном шоссе возле Граса и вспоминал: Бунин в Грасе. Он входит в кабинет под вечер, глядит из окна на горы, на плод мандарина под окном. Слышит ярмарочный шум в День святого Михаила. Выходит в сад лунной ночью, чтоб запереть часовню… И всегда, всякий раз вспоминает Россию – «удивительная, ни с чем не сравнимая страна». Иногда, глядя на Эстерель, изумляется красоте Божьего мира – среди чего приходится жить? «А когда-то Озерки…» Что было там, в Озерках? Та же красота Божьего мира? Ведь главное, что внутри, настроение, магия души – поворот, и блеснуло горлышко бутылки на плотине (что твой Цейлон?), море засмеялось оптимистическим смехом соцреализма (что Сорренто?). Гнетущая тоска разлуки, сосущая боль и легкий ностальгический кайф – эмиграция. Правда ли, что она бесплодна, эта грусть, эта «обольстительная тайна» набоковского героя? Плодился же Бунин. Плодился все долгие полвека сам блистательный Набоков. А бесплодны были те, кто и дома был бесплоден…
Он проехал Грае, уютный Валлорис, а потом за два дня поспешно проскочил все эти французские Гагры и Сочи. Впрочем, за Тулоном вдруг замедлил темп – здесь было меньше курортников и больше Франции. Заночевал в горах возле маленького Олюля. Утром у моря вспомнил:
Над океаном блеск и тишина,
И в этом блеске стынут корабли…
Еще один из тех, кто заселил русиновскую дорогу стихами, словами, томительной грустью…
Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью праведной земли?
А соли нынче что же – грош цена…
Да, правда, и какое это имеет значение – узнает, не узнает, во что оценит… Неужели это и впрямь так важно? А если важно – то ведь, может, еще все-таки узнает… Дошел уже черед до Набокова, до Бунина, дойдет черед и до Русинова, через добросовестного Дашевского или еще как-нибудь, но еще до этого подойдет другой, тоже очень важный срок и черед, уйти за теми, кто был. Все в свой черед…
Он задержался в прелестной бухте возле Кассиса, а потом вдруг оказавшись ночью в Марселе, бродил по кварталу Кур-Бельзен, вороша в памяти пацанские песни о притонах Марселя. Под утро он, увлекшись, залез в какую-то темную кофейную, попал туда не вовремя и чуть не напоролся на нож – еле успел объяснить по-английски, что он никто и ничто. И тогда совсем черный человек – почему-то он был вьетнамец – забрал его к себе ночевать, чтобы показать ему квартиру (жалкая современная халупа в новом квартале), невесту (судя по всему, это была портовая шлюха) и старушку маму, которую он вовремя перевез из Вьетнама. Романтика пацанских песен облезала в убожестве мещанской квартирки, в предутреннем семейном скандале, в усталости, в маминой жалкой улыбке и чашке рисовой каши…
Наутро Русинов снова двинулся к северу. Дорогая машина подобрала его невдалеке от Экса, в душистом сосновом лесу, где так хорошо было шагать одному. Он не преодолел соблазна, сел в машину и вступил в разговор с попутчиками: там были серб-художник, искусствовед-француз и беременная жена француза…
Это случилось на спуске, на крутом вираже серпантина. Завизжали тормоза, водитель что-то крикнул жене, сидевшей с ним рядом. Удар. Толчок… Русинов очнулся на склоне, в кустарниках, огляделся – увидел чуть ниже, в кустах, свой красный спальный мешок, а еще ниже, на скалах, машину: она еще катилась, переворачивалась, почти так, как он тысячу раз видел это в кино… Он отвел взгляд, посмотрел в синее, безоблачное небо. Он был жив, конец был отсрочен по каким-то неведомым причинам, которые он был согласен считать состоятельными…
1978
Песни и молитвы горнолыжника (из повести «Гора») Предисловие горнолыжникаПо утрам в Чегете я что-то такое сочинял. Какие-то романсы и молитвы. Потом, по дороге на канатку, забегали ко мне чегетские инструкторы – в комнатку украинской биостанции, где я спал, или на ее плоскую крышу, где пытался сочинять прозу. Спрашивали: «Новые есть?» Хозяйски спрятав в шуршащий комбинезон мой единственный экземпляр, обнадеживали: «Музыка будет к вечеру». Иногда теряли бумажку где-нибудь на горе. Но Влад Чеботарев никогда не терял: он был старший инструктор и мой друг. Со временем я стал проводить месяцы «межсезонья» у братьев Чеботаревых в Крыму. Там тоже писал. Там тоже пели.
В Москве друзья-композиторы сочиняли иногда музыку на мои тексты – бедный Саша Тараненко, почтенный Алмаз Манасыпов, прелестная Анечка Икрамова (добрый отчим Камил привез ей из Франции синтезатор).
Пели эти песни чаще всего в горах, но иногда и в долине. Переводные пела по-русски волшебная полька Эва Демарчик, анонимно, как водится, пели их в московских театральных спектаклях, а недавно спела русская актриса в польском фильме «Маленькая Россия». Одну, о травке (на музыку Ани Икрамовой), грозилась спеть чудная Камбурова. Может, даже и спела. Что-то спел Сергей Никитин. Но чаще прочих, конечно, пел Влад Чеботарев. Под гитару, в горах. Предприимчивый палаточник Карп даже продавал у нижней станции чегетского подъемника наш «альбом». Это был пик нашей скромной высокогорной славы.
Все свои «серьезные» стихи я давно растерял. Но вот, отправляясь недавно на вечернюю прогулку в лес Дило, что близ нашего хутора в Шампани, прихватил я, как всегда, «уокмэн» и первую попавшую под руку кассету, а войдя в лес, нажал кнопку – и обмер: Владик поет… Отгуляв в лесу прописанное кардиологом время, вышел я на опушку, двинулся к своему хутору через поле пшеницы, ячменя и рапса, а он все пел, пел и пел, Владик. Он пел, а я слушал – про былую безбедную жизнь горнолыжника. Господи, велика щедрость Твоя…
Домой пришел чуток растревоженный, сел за стол и чуть не все расшифровал с пленки.
МОЛИТВАО Господи, Твоя разлита благодать
В сосне, горе и белой этой снежности.
А может, и во мне, в моей усталой нежности —
О Господи, Твоя разлита благодать.
О Господи, дела Твои чудны —
И неба твердь, и каждое создание, И шум лесной, и тайное свидание —
О Господи, дела Твои чудны.
О Господи, Ты славен и всеблаг.
Как высшее Твой день приемлю благо.
В Твоем творенье сложности отвага —
О Господи, Ты славен и всеблаг.
О Господи, Ты добр и милосерд:
Под небом я беспечною мишенью
Семижды семь умножил прегрешенья —
Но Господи, Ты добр и милосерд.
О Господи, всезнанью Твоему
Так явны все дела мои ночные
И мысли, и движенья потайные —
Всевиденью, всезнанью Твоему…
О Господи, открой Твои пути
Заблудшему в бессмысленном хожденье,
Погрязшему в тоске и наслажденье —
О Господи, открой Свои пути.
О Господи, где грань Добра и Зла?
Опутаны порукою греховной,
Божбою лишней, лаской безлюбовной —
О Господи, где грань Добра и Зла?
Осенний листМожет быть, отчаянны да исты,
Нам накличут смерть иеговисты.
Может быть, неправедные яйцы
Нам отрежут желтые китайцы…
Все ж, однако, бурый лист осенний
Мне сулит надежду на спасенье.
Падшая, опавшая листва
Шепчет мне утешные слова.
Говорит: «Все было, было, было
И быльем давно уж поросло.
Все, чем нас гнобили, не сгубило,
Все, что нам грозило, пронесло.
И пока пылит твоя дорога,
Не спеши откинуть костыли:
Много городов еще у Бога,
Много неисхоженной земли.
Пора отъездаПора отъезда – грустная пора,
Напрасная морока расставанья…
Я вас покину, белая гора,
И неба синь, и снежное блистанье.
Как ни тяни, всему придут конец
И грубость непрощенная ухода.
Глянь – ледниковый светится венец,
И столь нежна кавказская природа.
Как тяжело в такой вот день уйти,
И странствий дух мне нынче неприятен.
Мне суета дорожная претит,
Приезд же будет, как всегда, некстати.
Так объясни, зачем же я спешу,
Зачем в тоске терзаю расстоянья,
Зачем мне эти суета, и шум,
И грустная морока расставанья?
А может, просто должен привыкать
Я к грубости последнего ухода?
За тем и марта нынче благодать,
И так нежна кавказская природа.
В какой мы, друг, поре?Ночь холодна, и день, как снежный наст,
И все на памяти старик Екклезиаст,
И все на памяти, что каждой вещи – час,
Что день родившийся закончится без нас.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Есть время шить и время разрывать,
Злодейства время, время врачевать.
Есть время обнимать, и час уйти за дверь,
Есть время поисков, и есть пора потерь.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Есть день любви и ненависти ночь,
Пора прихода – и ухода прочь.
Есть время сберегать, и время все бросать,
Есть время сад садить, и время вырывать.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Смеяться время, время слезы лить,
Есть время, чтоб молчать, и время говорить,
Разбросанные камни собирать,
Родиться время, время умирать.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Мой скуден хлеб, я одинок в труде,
А там, где двое, – им светлей в беде.
И там, где двое, – им теплей в ночи.
Но мы одни, мы мерзнем и молчим.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Все, что по силам, сделай на земле.
Что не успеешь – скроется во мгле.
Мы путь земной проходим только раз —
Так говорил мудрец Екклезиаст.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Письмо из Ленинграда в ГаспруКакое холодное лето
У нас в изумрудном раю.
И мы по-ноябрьски одеты
У Духова дня на краю.
И тяжкое серое небо
Нависло, как вечный обвал.
Июнь будто сроду здесь не был,
А зной никогда не дневал.
Так влажно полощется ветер,
Так мокро свежи тополя…
Мне вспомнилось вдруг, что на свете
Есть южная ваша земля,
Где солнцем прогретое море
И пляжа сухие пески
В негромком полночном раздоре
Касаются темной руки.
И жизнь, наподобие круга,
Замкнулась, как старый недуг:
Затем и примчался я с юга,
Чтоб снова стремиться на юг,
Чтоб снова вкусить перемену,
Подставить себя под удар…
Как будто бы вырвал из плена
Свободы довременный дар.
Песня о елиТы просишь песню спеть о ели.
Как мне украсить песней ель?
Она растет без слов и трелей,
Сама себе судьба и цель.
В ней острых игл терпкий запах,
Надменность стройного ствола.
Как много света в колких лапах
Она из мрака принесла!
Зеленоигла и ветвиста,
Она невинна и стара.
Она и сумрачна, и мглиста,
И многоцветна, и пестра.
Она качается приветно
Под чуткой тяжестью синиц.
Она мне щурится ответно
Зеленомножеством ресниц.
Твой пот янтарный ароматен,
А хвоя хрупкая звонка…
О ель, мне облик твой приятен.
Мне стать бы елью на века.
СоснаСосна возле третьей опоры,
Где домик, и спуск, и бугры,
Отрада несытого взора,
Красавица белой поры,
Мне тайны твоей не разведать,
Рассудком красы не разъять —
Свеченье коры твоей медной,
И всю твою гордую стать,
И ласку ветвей, и улыбку,
И хвои чуть слышную дрожь —
Когда ты с отвагою гибкой
Тот северный склон стережешь.
На этом заброшенном склоне
Я встречу тебя и замру,
Жемчужина в горной короне,
Цветок на морозном ветру…
Пусть вьюга чегетская злится,
И путь мой ведет под уклон,
Я так же хотел бы продлиться,
Последней красой убелен.
Я так же хочу, в полудреме,
Сходя к непробудному сну,
Стоять на заброшенном склоне,
Где вьюга ласкает сосну.
Мне тайны твоей не разведать,
Рассудком красы не разъять.
Позволь хоть пока, до обеда,
Мне рядом с тобой постоять.
ПритчиНе проворным победа в беге,
И не храбрым победа в бою,
И не мудрым – корзина хлеба,
Не разумным злато дают.
Не искусным хвала и милость,
Не красивым радость утех…
Все для неба такая малость.
Только случай и время для всех.
Никакой не таи обиды,
Не проси никаких щедрот.
Подожди – твое солнце выйдет,
Погоди – твое время придет.
Не порвалась еще цепочка,
Золотая повязка цела,
И на дереве три листочка…
И Господни светлы дела.
А когда, завершив дорогу,
Прах твой станет опять чем был,
То душа возвратится к Богу,
И не будет другой судьбы…
Суету сует и томленье
С мудрой горечью, без прикрас,
Описал векам в назиданье
Ветхий старец Екклезиаст.
Ни слова про весну…Ни слова про весну – еще морозит
И на канатке руки леденит,
Из-за горы метелью склон заносит,
И лед еще по-прежнему звенит.
Но целый вечер мне певунья-птаха
Пророчит долгожданное тепло.
В лицо метели без тоски и страха
Она кричит, что минуло, прошло…
Что скоро солнце обожжет долину
И расцветит Чегета белизну.
Тогда уж я тебя, мой друг, покину
И в суету надолго окунусь.
Там, ползая весь день по подземелью,
В метро, где мы ни люди, ни кроты,
Увижу вдруг за черными тоннелями
Просвет чегетской белой красоты.
Услышу склона тихое шуршанье
И сонное молчание долин
И в толчее московской, опечаленный,
Останусь на мгновение один.
Замрут вокруг скрежещущие звуки,
Чтоб не порвать воспоминанья нить…
Не для того ли нам даны разлуки,
Чтоб брошенное нами оценить?
Не оттого ль мы мечемся по свету
И в завтра мчимся, вовсе не ценя
Ни горы, ни страну и ни планету,
Ни вечер угасающего дня?
Не оттого ль придет воспоминанье
И я замру, догадкой уязвлен,
Что без нужды спешил я с расставаньем,
Что до поры покинул белый склон?
Мы стареем, друзьяМы стареем, друзья, но сперва незаметно,
Как идет на сниженье большой самолет:
Уж табло зажжено на запрет сигаретный,
Но за окнами тот же заоблачный лед.
А потом очень резко, до ужаса круто,
Как снижается к порту большой самолет,
И тогда уж к земле с каждой беглой минутой
Опадаем, как птица, пулей сбитая влет.
Ты меняешься так, что и сам замечаешь:
Все судьбой недоволен, педант и брюзга,
И живот твой растет, и характер мельчает,
И в глаза тебе лезет одна мелюзга.
Этот старый наш мир тебе кажется плоше,
Молодые – глупей и подлей старики.
И не та белизна в этой снежной пороше,
И земные плоды так нежданно горьки.
С каждым днем несомненней тщета всех желаний,
Ты провидишь конец, ты клянешь суету,
И, на десять ходов просчитав все заране,
Ты стоишь неподвижно на ветру, на мосту…
Убегает вода, чтобы не повториться,
Утекает река нам оставшихся дней,
И какая-то новая жизнь творится —
Мы ее обойдем, чтоб не стало грустней.
Друзья мои, какие счеты…Друзья мои, какие счеты?
Взгляните, как дрожит рука.
Оставьте споры и заботы —
Жизнь быстролетно коротка.
Наш узок круг, мы – горстка пыли
Над бесконечностью дорог.
И может, завтра скажут «были…»
Про тех, кто нынче все же смог.
Ах, скажут, были и умели,
Как редко кто еще умел,
И вот пришли к обидной цели —
Все пыль и прах, вода и мел.
Лишь пар над речкою студеной,
Лишь дымка снежная вдали…
Зачем же мы в том мире чудном
Остаться дольше не смогли?
Друзья мои, какие счеты,
Взгляните, как дрожит рука…
Ах, летний сезонАсфальтовый шорох и злая толпа,
И очередь всюду, удел поколенья,
И серых головок икра да крупа
Облиты густой и бессмысленной ленью…
Ах, летний сезон, человечий поток:
Как пеною мутною берег накрыло.
И ходит тут служащий мир без порток,
И с каждого камня – жующее рыло.
Скорей приходи, золотая пора,
И страсти уймитесь скорей отпускные,
Чтоб мир обрели недотрога-гора,
И берег пустынный, и волны шальные.
Чтоб снова вдохнуть мне осеннюю грусть
И чтоб над цветком постоять в одиночку.
А может быть, дождь налетит – ну и пусть —
В холодную ночку, в осеннюю ночку.
От стужи спасет твоя жаркая плоть,
И в ночь отойдет непонятное горе,
Под утро помогут тоску побороть
Гора, и деревья, и Черное море.
Простая горнолыжная любовьПростая горнолыжная любовь,
Портяночный лоскут из гобелена:
Измены нет, есть только пересмена
Да красное вино «Медвежья кровь».
Простая горнолыжная любовь
Оправлена в путевочную раму,
Наряжена в чувствительную драму,
Отравлена вином «Медвежья кровь».
Но есть в ней все же что-то: есть и боль,
Руки прикосновенье есть, разлука,
Возникновенье имени и звука,
У нежных губ слезы прощальной соль.
Что мне с того, что вечен будет мир,
Раз только миг мое существованье
Перед лицом ледового молчанья?
Что мне с того, что ваш продлится пир?
Что мне с того, что ты со мной нежна
Точь так, как ты была нежна с другими?
Не перепутай, Бога ради, имя,
А впрочем, что – какого мне рожна?
Мы здесь, в глухих окраинных горах
На удивленье старенькой Европе
Подняли этот горнолыжный допинг
На высоту. Куда девался страх?
Иди, ни слова, мне не прекословь…
– Вино, ботинки, лыжи… Так устала!
– С утра вино и лыжи… Все сначала…
Простая горнолыжная любовь.
Письмо первоеИ. О.
Я сам тебя создал, придумал, отпечатал,
Пребудет на тебе любви моей печать,
Не вытравит ее ни третий твой, ни пятый,
А потому должна ты мне меня прощать.
И если я метусь, томлюсь, как на Голгофе,
И если возношусь в свой лыжный парадиз,
Ты, вспомнив обо мне за коньяком и кофе,
Не забывай о том, что я сползаю вниз.
Что в каждой, кто мелькнет, пройдет
чуть-чуть поближе,
Что в голосе чужом, в походке и руке
Я вижу все тебя… Порою только лыжи
Уносят прочь меня, без мысли, налегке
В долину, где река – быть может, речка Лета —
В теснину, где сосна недвижной красоты.
А ты в Москве дымишь последней сигаретой,
Сжигая за собой последние мосты.
Письмо второеИ. О.
Отчего ж ты молчишь, моя дурочка,
Кто губами твой рот запечатал?
Мне московская узкая улочка
Все расскажет – то мой соглядатай.
Где ты ползаешь, с кем ты чирикаешь,
В чьи мозги напускаешь туману?
Это тайна твоя невеликая,
Это детская школа обмана.
До чего мне знакомы все малости,
До чего же, о Господи Боже!
До смертельной тоски, до усталости —
Все одно, все одно и все то же…
Ну пришли мне в конверте каракули,
Ну помучай себя с полчаса —
Пару слов, что котята наплакали, —
В карандашик французский сопя.
Пару слов ни о чем, на прикрытие —
Тех, что вовсе не в силах прикрыть.
Твой конвертик – лихое событие,
Русской почты неспешная прыть…
Отчего ж ты молчишь, моя дурочка,
В этом смрадном равнинном миру,
Где московская грязная улочка
Под ногами чадит поутру,
Где, спустившись, в вагон переполненный
Ты влезаешь, свой день удуша?
Бог с тобою, я в полдень свой солнечный
На канатке вползу не спеша,
Потопчусь под чегетскими соснами
И скачу в леденистую тишь…
Там и вспомню, горою опознанный:
«Отчего ж ты, мышонок, молчишь?»
По мартовскому льдуНынче я опять оставлю книги,
Не веду я больше счета дням.
Подвяжу я лыжные вериги
И пойду по ближним деревням
К далям и полям необозримым,
К позабытым ласковым словам,
А потом усталым пилигримом
Подойду к заброшенным церквам.
Воет ветер, сир и обездолен,
Снеговой порошею кадит.
Вырванное сердце колоколен
По лесам заснеженным гудит.
В тайной этой неизбывной вере
Что найду – на радость, на беду?
Огляжу чужой пологий берег
И уйду по мартовскому льду.
СнегопадЗима сошла с ума —
Снег сыплет без просыпу.
Глухая тишина —
Без шороху и скрипу.
Лавину не унять,
Не спит, не засыпает,
Твой новый след опять
По новой засыпает.
Меняют вкус и цвет
Что было сном, что делом,
И набело весь свет
Зачат в обличье белом.
На вырванном листе
Пиши: «любовь» и «совесть»
И в нежной чистоте
Начни иную повесть.
Последний деньНу вот и все – конец, и мне пора
Вослед другим оставить эти горы.
Последний день – мучительные сборы,
Прощаний несусветная игра.
Конец подкрался, как ни долог срок,
Как ни тяни, он все равно настанет.
Кого там нынче в гору бугель тянет?
Кого там вниз спасатель поволок?
Кому-то нынче «одевать приезжих»,
Кому-то их попозже раздевать…
А мне ни злиться и ни горевать,
Ни воспарять и не терять надежды.
Мне «грудь не разворачивать в долину»,
Дрожащих «к склону не держать колен».
Я ухожу – все суета и тлен.
Надолго я любимый склон покину.
По воздуху на страшной высоте
Моей носиться плоти многогрешной
В бессмысленной и вечно безуспешной,
Придуманной не нами маете.
Ну вот и все – конец, и мне пора…
А лыжник мчитсяВнизу стеклянные дома привычные,
Отели шумные, дымы шашлычные,
Там куртки пестрые, базар мохеровый,
Вершины острые, скала и дерево…
А лыжник мчится звездою падучею
И вниз стремится лыжни излучиной
С горы отвесной, полон отваги…
Его приветствуют канатки флаги.
Там все, что было, а может, будет —
Любовь и пиво, земля и люди.
Над ним Безбрежное, зарей облитое,
И Неизбежное, от нас сокрытое.
Два мира борются за притяжение,
А он не к полюсам, он весь в скольжении.
Он будет с нами – пройдет минута,
Но может, в вечность уйдет оттуда.
Он весь в скольжении,
Он весь в полете.
Вы, без сомнения,
Его поймете.
Его помяните,
Его поймете.
Зимние дождиКак для меня, для северянина,
Печальны зимние дожди,
Когда сосна корой израненной
Грозит, что мука впереди,
И небо серое, без трещины
Нам просветленья не сулит,
И рай земной, нам не обещанный,
Хандрою черною облит.
А в перемену уж не верится,
И воцаряется тоска,
И мечется на скудном нересте
Души унылая треска.
Она привычкою не лечится,
Но с каждым часом все темней,
И только Библия-ответчица
Пророчит нам про сорок дней.
Но голубь с веткой не маячится,
В спасенье верится с трудом.
В нору греха все глубже прячется
Наш неспасаемый Содом.
На обнажившейся проталине
Забытый с осени обман…
Насквозь отравленный печалями
Промозглый тянется туман.
Как для меня, для северянина,
Печальны зимние дожди…
Замена счастьюВыйди на снег – и отступит беда,
Прочь отойдет ненастье:
Горные лыжи – счастье всегда
Или замена счастью.
Выйди на снег и безудержу вниз,
В россыпь алмазную склона
Звонкому ветру навстречу стремись
Наперекор всем законам.
Ни тяготенья, ни тренья здесь нет,
Физика вся позабыта.
Этот летучий счастья просвет
В ровных местах не ищи ты.
Воздух здесь слаще воды ледяной,
Чистой родниковой…
Солнце, и небо, и блеск слюдяной,
Вечный бальзам ледниковый.
Небо огромно, гора – монолит,
Цельное все здесь, большое…
Дух твой поднимет, душу целит,
Если ослаб ты душою.
Выйди на свет, и отступит беда,
Прочь убежит ненастье.
Горные лыжи – счастье всегда
Или замена счастью.
Сосна поломана лавинойСосна поломана лавиной,
А мы клонимся день за днем.
Наш век, уже за половиной,
Закатным высвечен огнем,
Но если небо нынче сине,
А сил достанет на горе,
Давай забудем про седины
И даты все в календаре.
Так, может, мы еще сумеем
И воспарить, и возжелать…
А если чуть и поумнеем,
То дури нам не занимать.
И если век и слез, и смеха
Наш пыл не вовсе загасил,
Все та же будет нам потеха
И та же трата лучших сил.
ЛыжницаВ красной курточке девушка,
Ты цветок на снегу.
Как последнюю денежку,
Я тебя берегу.
Проплываешь по воздуху,
Мне цепочкой звеня,
И без сна и без отдыху
Все тревожишь меня.
Вагонеткою месяцы:
Только сел – и сходи.
Юный срок перебесишься,
Что потом, впереди?
Не спеши, моя дурочка,
Мы побудем с тобой…
Эта красная курточка,
Этот свод голубой,
Эти кресла бесшумные,
Эти снег и гора…
Не спеши, моя юная,
Посидим до утра.
Тебе все, верно, кажется:
Впереди тыща гор,
Бесконечное празднество,
Уговор, договор…
Ну а мне уж не в радость.
За окошком светло.
То, что есть, то взаправду,
Что прошло, то ушло.
В красной курточке девушка,
Ты цветок на снегу.
Как последнюю денежку,
Я тебя берегу.
Ветер на ЧегетеВетер на Чегете, злющая метель,
Грустные домишки, жесткая постель…
Все же это лучше – ветер и метель,
Чем дома панельные, грязная панель…
Не тужи, товарищ, потерпи – с утра
Станет твоим домом снежная гора.
Все твои печали схоронив внизу,
Мы с тобой отчалим в неба бирюзу.
Не тужи, товарищ, потерпи: с утра
Будет все как в детстве – солнце и гора,
Снежное катанье, радость на миру…
Верь, что вьюга злая стихнет поутру.
Не тужи, товарищ, право же, с утра
Будет солнце в небе – звонкая пора:
Под хрустальным небом засверкает склон,
Станет сердцу весело, словно ты влюблен.
Ждут нас всех дороги, ждут нас поезда.
Скоро мы расстанемся, может, навсегда,
Но поверь, товарищ, в городской судьбе
Эта вьюга злая вспомнится тебе.
И поверь, товарищ, этот белый склон
Будет вспоминаться, как нездешний сон.
При любой печали скажем мы внизу,
Что уйдем, отчалим в неба бирюзу…
Письмо третьеИ. О.
Давно все знаю наперед —
Твое невинное кокетство,
Все «да» и «нет» наоборот,
Все многоопытное детство,
Всю повесть подлинных обид
И очерк нежный губ надутых,
Твой горький взгляд и гордый вид,
Преображенные в минуту…
Все та же древняя игра,
Все та же терпкая примета
И та же мука до утра,
И та же сладость до рассвета…
Зачем же, зная наперед,
Когда все так уже знакомо —
Твой каждый шаг и поворот, —
Опять бросаюсь в этот омут?
Чего мне ждать, и где предел,
И что за видимым пределом?
Неужто нет достойней дел
И легче дел на свете белом?
Но день уходит в темноту,
В небытие наш день уходит.
И как паденье в пустоту,
Глухая тишь в ночной природе.
И я ищу твоей руки,
Чтоб в бытие свое поверить.
Мы так сейчас с тобой близки,
Что я не ведаю потери.
И что с того, что ночь уйдет,
С ней – наше нежное соседство?
С того, что вижу наперед
Твое невинное кокетство?
Осенний вечерТоска в тиши, луна и блеск седин.
Не мельтеши – ты должен быть один.
Друг, привыкай, ведь все идет к тому:
Тебе никто, ты тоже – никому.
К теплу подсядь и лампу засвети,
Чтоб дотянуть часов до десяти.
Читай, пиши да так – смотри на свет
В отмеренный тебе десяток лет.
А ночь в пути все медлит как назло.
Ушло за море летнее тепло,
И пляж осенний сиротливо пуст,
Как звук пустой из нелюбимых уст.
К теплу подсядь и лампу засвети,
Чтоб дотянуть часов до десяти…
Мне, осень южная, не дай сойти с ума,
Взбодри хоть ты, прибоя бахрома,
Пошли надежду, что еще придет
Весна к тому, кто осень переждет…
Читай, пиши да так – смотри на свет
В отмеренный тебе десяток лет.
Притчи короляПесок желтеет нынче у воды,
На нем людских детенышей следы.
А море плещет, дали затая,
В которых бродят наши сыновья.
И шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля:
«Мой сын, беги богатств и нищеты,
Остерегайся лжи и суеты,
Не посягай на царский каравай
И женщине всех сил не отдавай…»
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
«Ты замыслами полон, но твой путь
Определил заранее Господь,
И глуп, кто нам о будущем твердит,
Не зная, что день завтрашний родит».
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
«Знай, лучше спать на кровле, в уголке,
Чем у жены богатой быть в руке.
Пусть свечка воска ярого горит.
Господь дома надменных разорит».
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
«И ты, мой сын, храни мои слова.
Старайся, чтоб душа была жива,
Не пропади на дальней стороне,
Будь мудрым, сын, и радуй сердце мне».
Так шепчет ночью Крымская земля
Затверженные притчи короля.
Мальчишки пелиМальчишки пели что-то мне битовое,
То грустное такое, то бедовое,
То жалобное, нежно-лебединое,
То бодрое, вполне телерадийное.
А мне все было далеко,
Как до звезды.
И в общем было это все
Мне до…
Девчонки стали петь нам про закаты
И что у них заочники-солдаты,
И что у них экзамены и зорьки,
И что у них на юбочке оборки.
А мне все было далеко,
Как до звезды.
И в общем было это все
Мне до…
Ну а когда я сам запел тоскливо,
Они прощаться стали торопливо,
Сказали, что давно их вышли сроки
И что у них не сделаны уроки.
Им так все было далеко,
Как до звезды,
И все мои страданья
Были до…
Мужики ищут золотоПосле шторма по бережку, после шторма по галечке
Мы бредем, глядя под ноги, интерес не тая.
Мужики ищут золото, мне ж не надобно золота —
Где ты, смытая временем жизнь моя?
А Господь улыбается, и волна насмехается:
Что ж ты, дурень, с ней сделаешь, если вправду найдешь?
Мужики сразу – водочку, ты ж давалку-молодочку,
И опять разменяешь, профинтишь ни за грош…
После шторма по бережку, где подводные запахи,
Где жратва непочатая наших будущих дней,
Ходим-бродим по галечке, смотрим под ноги пристально,
И тщета наших поисков с каждым годом ясней…
Последняя книгаКак трудно стало время мерить,
Живешь, сквозь месяцы скользя,
И все еще так трудно верить,
Что мне чего-нибудь нельзя.
Что все простил и все проститься,
Что нет часов на суету
И что пора уже проститься
С друзьями кратко на мосту,
Что за потоком, за потопом,
За этой речкой нету лет,
Ни прозы тропкою, ни тропом
На этот берег ходу нет,
А потому без суесловья,
Не умножая пустоты,
Один лишь том у изголовья
Держи в часы ночные ты.
В нем всей земли и неба краски,
И в нем предсмертья маета
В ночном саду на праздник Пасхи
Перед пленением Христа.
РублевоО город мой шкодливый —
Жара печет, жара, —
Бесцельно суетливый,
Как танец комара…
Ты шумный, бестолковый…
Но рядом есть Рублево,
Ах, рядом есть Рублево,
Как тихое вчера.
На этом пляже сонном,
Над темною водой
Сижу почти влюбленный
И снова молодой —
Влюбленный в эту воду,
И берег, и леса…
Как жаль, что жизни этой
Осталось полчаса.
Я встану обреченно,
Рубаху натяну,
Покину нежно-сонную
Рублевскую страну,
Уйду туда, откуда
Нам нет пути назад —
В тот мир без снов и чуда,
Наш невозвратный ад.
И все прошу у Бога
Хоть малость потянуть,
Побыть бы мне немного
И в воду заглянуть,
Наплававшись, забыться
Здесь в шелесте лесном
И может, помолиться
О чем-нибудь ином.
Кончается наша дорогаКончается наша дорога,
Смиряй туристический зуд —
Еще покейфуем немного,
А после, конечно, свезут.
Надежно, удобно, толково,
Чуток второпях, не беда —
К евреям другим в Востряково
Свезут нас с тобой навсегда.
И скажут прощальные речи
О том, как мы были чисты…
Как жаль, что о будущей встрече
Не знаем ни я и ни ты.
Как дни мимолетно коротки,
А свет – вот он был и погас…
Бульвары, и тряпки, и шмотки,
И те долговечнее нас.
Я видел раз плащ долгополый —
Любуйся смиренно и плачь —
В нем хаживал Чехов. – И что же?
Висит мертвечиною плащ.
А что нам с тобою осталось?
Давай остановим часы.
Как жаль, что точнее о встрече
Не знаем ни я и ни ты.
Прости мне, боже, суетуПрости мне, Боже, суету,
Неодолимую, как дьявол.
Я долго брел, летал и плавал,
Чадил в миру, скучал в скиту.
И ничего я не обрел.
Зачем, гонимый суетою,
Меж жизнью этою и тою
Скитался я, и плыл, и брел?
Родной городГород шумный и тысячеустый,
Он, куда б я ни шел, – впереди,
То о нем говорил Заратустра:
«Если нету любви, обойди».
Он своим многолюдством гордится,
Полстраны пожирает в обед,
Это он Вавилон и блудница,
И вместилище тысячи бед.
Тыщеногий и тысячерукий,
Он мильоноголов по утрам.
То его проклинали пророки
И клялись, что разрушится храм.
И, броски совершая шальные,
Я кляну его тоже в пути,
Но живут в нем такие родные,
Что нельзя мне его обойти.
Прилечу, обниму и растаю,
Сотню верст пробегу в суете,
А назавтра уже улетаю,
Соль обид унося на хвосте.
Дом друга в ГаспреВ.С.Ч.
Твой дом большой парит
Над морем, под горою.
Здесь все благоволит
Печальному настрою,
И пьяненький народ
Здесь трется о перила,
Но это все уйдет,
И все нам будет мило.
Останутся – гора,
Айпетринские склоны,
Февральская пора,
Морской волны поклоны.
В рассказ ее влились
Две жизни, два мгновенья.
И темный кипарис —
Свеча поминовенья.
Молчи же, серый дом,
Приют сиюминутный,
Где я лечусь с трудом
От этой грусти смутной.
Ветра, туман гоня,
Откройте лес и гору…
Ты помяни меня,
Мой друг, в такую ж пору.
Осенний КрымОсенний Крым пленительно хорош —
Природы ослепительная зрелость…
Мне этот день продлить бы так хотелось,
Но мы, как грозди спелые, – под нож.
Все налилось, плодов не оберешь,
Вокруг дерев – цветы в осеннем раже,
Жара и холод на пустынном пляже…
Осенний Крым томительно хорош.
Скажи, ну как мне кинуть рай земной?
Пожитки снова нехотя сбираю…
А море плещет, без конца и края,
В последний раз прощается со мной.
Скажи, куда ведут мои пути?
Иль путь земной сегодня на исходе?
Затем и умиление в природе,
И осень крымская – что золото в горсти.
Ночь в горахЯ, ночью горной разволнован,
Брожу в теснине у реки,
И сердца стук длинноволновый
Все рвется вдаль из-под руки.
О эти горные изломы,
О эти лунные моря!
Тоской полночного знакомой
Они томят меня зазря.
И каждой ночью, как впервые,
Я сердце слушаю свое —
Его упреки болевые
И ледяное забытье.
Но все я жажду убедиться,
И ожиданья одурь пью —
Жду, что вот-вот должно явиться
Что мне недодано в раю.
О эти горные изломы!
О эти лунные моря!
Тоской полночного знакомой
Они томят меня зазря.
Закат в горахПоблекли горы, гаснет дня краса,
Приблудный пес вернулся в дом с охоты:
Моей полулюбви, полузаботы,
Как видно, недостало и на пса…
Я с облегченьем скину этот груз,
Как сбросил на пути другие путы.
С чем до последней дотяну минуты?
С кем у последней росстани прощусь?
Кому оставлю память о себе,
О темной коже, шелковой на ощупь,
О подвигах добра, чего попроще,
О зле, что причинил не по злобе,
Романов кучу, ворохи бумаг
Да недотрогу, сладостного сына…
Идет к концу вторая половина,
К финалу мы спешим на всех парах.
Письмо четвертоеИ. О.
Не придавай значения письму —
Его навеет грустная минута,
Когда захочешь верить почему-то
Томлению, мгновению – всему, —
Не придавай значения письму.
Не придавай значения словам,
Произнесенным шепотом, в истоме,
В восторге, на исходе, на изломе,
В тот редкий миг, что двум дарован нам, —
Не придавай значения словам.
Не придавай значения концу,
Он дан тебе для нового начала,
Чтоб ты восторг от муки отличала,
Ведь грусть тебе внезапная к лицу —
Не придавай значения концу.
Но в тишине прислушайся к душе.
Обретшие ее да возгордятся:
Какие в ней решения родятся,
В нездешнем этом хрупком шалаше, —
Ты в тишине прислушайся к душе.
Когда я уйдуБ.Ч.
А когда я уйду – вероятно, теперь уже скоро —
И неслышно ко мне подкрадется назначенный срок, —
Я оставлю тебе по наследству растрепанный ворох
Всех надежд неоправданных и непрочитанных строк.
Будут там – все найдешь – наша грусть и мужская беспечность,
Будут первых бесед и знакомства лихая пора,
Мимолетная боль и грозящая нам бесконечность,
И томительность сладкая Ялты, и белая наша гора.
Будет там и предчувствие той неизбежной разлуки,
Что на смену придет череде наших малых разлук,
Будут старых напевов и песен несозданных звуки,
Будет слово старинное, слово невнятное – друг.
И в осеннюю ночь черноморским дождем растревожен,
Ты гитару возьмешь, ты коснешься уснувшей строки
И увидишь, что наш разговор, как и прежде, возможен,
Что и в разных мирах наши души, как прежде, близки.
Новый счетХочу, любви не вымогая,
Прожить хотя бы полчаса.
Хочу, себя превозмогая,
Уйти в безлюдные леса.
Еще хочу, остановясь,
На годы эти оглянуться
И, уловив событий связь,
Отчаяньем не захлебнуться,
А в драном вретище до пят,
Через года таща вериги,
Перечитать сто раз подряд
Молитвы старые и книги,
Чтоб добрых дел незримый счет
Начаться мог в бору сосновом,
А с дальним полем небосвод
Сойтись и примириться снова.
Петербургские квартирыЗдесь жили вы, здесь я живу,
В заплатах плит мемориальных,
На этих улицах печальных…
Как знать, во сне иль наяву?
Здесь жили вы, кого люблю,
С кем я в сношенье непостельном,
В общенье грубо неподдельном…
Вход к вам в квартиры по рублю.
Вы все ушли, я ухожу
От кущ зеленых благодатных,
От строк и звуков богоданных —
Иду к другому рубежу.
Как дивно на живой крови
Сюжет замешан этой драмы…
Деревья, скверы, листья, травы —
Все шепчет мне: «Еще живи!»
Ах, осень…Ах, осень – оловянная беда,
Как небо над горами нынче хмуро,
И дней неразличимых череда
Влачится безнадежно и понуро.
Ах, осень – ты проклятье для труда.
Сажусь за стол, и вязнут ноги в глине,
И убегаю в дождик, в никуда,
Вдруг оборвав строку на середине.
Ах, осень – обнищание дерев,
В пустом саду лишь стук тупой капели,
Как будто, ветра жалобы презрев,
Долины зелень горы оскопили.
Ах, осень – оскудение тепла,
Под вязью свитеров иззябло тело,
И радость златолистая ушла,
И все вокруг так грустно опустело.
Ах, осень – угасание мечты.
Суля попеременно то да это,
Среди разъездов, встреч и суеты
Зазря прошло стремительное лето.
Ах, осень – жизни грустная пора:
Я, как медведь на ледяном торосе,
Гляжу в свое веселое вчера,
А в сердце осень и в природе осень.
Ах, осень, что за охлажденье чувств:
В родную даль гляжу без ожиданья,
Не тщусь, не вожделею, не мечусь,
Не прихожу на прежние свиданья.
Ах, осень – ты предвестие конца:
Конец игре, труду и словопренью.
Я в предвкушенье близкого конца
Молюсь, и плачу, и учусь смиренью.
Ах, осень – осознания рубеж:
Коли не здесь, то где, в какой же дали
Ты все простишь, все наконец поймешь,
Небесной научившися печали.
День стихаСегодня день стиха,
Был ветер как волна,
Он ночью так вздыхал,
Что плавала стена.
И вот пора вставать —
Щека уже суха.
Мне б завтрак затевать,
Да ладно… День стиха.
Гляжу в маханье крон —
В иглистые меха.
Да будешь ты продлен,
Блаженный день стиха.
Я лягу на траву,
Лицом в подушку мха.
Я молча проживу
Свой долгий день стиха.
Плыву, но не гребу,
Водою стала плоть.
Ты к своему рабу
Будь милосерд, Господь!
Пансионат «Клязьма»У стеклянных отелей
Березы в снегу,
Заневестились белые
На крутом берегу.
Я люблю понедельники,
Межсезонье и тишь,
Низкорослые ельники,
Перестук моих лыж.
Здесь лыжни бестолковые
Портят снега холсты,
Елей в небо суровые
Указуют персты.
Я люблю понедельники,
Межсезонье и тишь,
Низкорослые ельники,
Перестук своих лыж,
Эти кельи прозрачные,
Пересохший поток,
Дни, на что-то истраченные,
Непонятно, на что.
Десять лыжных летМы в феврале справляем десять лет,
Как новый свет, открыл я ваш подарок.
Февраль был так же горестен и жарок
На этой самой белой из планет.
Мы лучше были. Господу хвала,
Мы и сейчас еще таскаем ноги,
Поем, шумим, не будьте слишком строги,
Не покидайте нашего стола.
Взгляните лучше: за окном метель,
Лавины сходят, фюреры болбочут,
Но может, нам покуда бой отсрочат,
Чтоб забрались мы в теплую постель.
Снега над нами, будьте же легки,
Как были вы, ошую, одесную.
Я славу эту жертвую земную
За два прикосновения руки.
ЗавещаниеОдно свое обещанье мы выполним непременно,
Плутующие бессчетно обманщики и лгуны…
Гляди, как растет упрямо наша мордатая смена,
И, как ни хитри, дружище, мы уходить должны.
Средь снежного блеска и взглядов, нас греющих все скуднее,
Забудем года и даты, плевки, обиды и боль.
И все же поверить нужно, хоть верится все труднее,
Что мы, как март, преходящи и таем, как снег и соль.
Так будьте, последние весны, снежно легки и весомы.
Среди объедков и вздохов кончается долгий пир.
Мы вам завещаем, дети, разгульные хромосомы
И этот донельзя засранный, а все же прекрасный мир.
Помогите емуПосмотрите, как трудно рождается слово,
Как боится, что поздно, что все ни к чему,
Что все та же тщета повторяется снова —
Вы касаньем руки помогите ему.
Вы же видите – жар и напор порастрачен,
Будто камни, слова упадают во тьму,
Будто каждый порыв на виду одурачен…
Вы сиянием глаз помогите ему.
Если грустен мой взор, то затем, что он видит
На два хода вперед – что куда, что к чему,
Видит облик начал в окончательном виде…
Вы улыбкой своей помогите ему.
А когда пошатнется усталое тело,
Все теряя – одежды и слов бахрому,
Вы подставьте с плечом вашу юную смелость,
Кое-как устоять помогите ему.
Зеленая траваЗеленая трава – какое чудо.
Уходят поколенья и слова,
Землей я стану и травой пребуду,
Покуда на планете есть трава.
Зеленая трава – какое чудо,
Мильоны жизней, трепетно легки,
Мы вышли из земли, мы все оттуда,
Крапивы семя, травы, лепестки…
Души и мысли странные причуды,
Слеза любви в протянутой горсти…
Зеленая трава – какое чудо.
Я слышу, нам травою прорасти.
Томашув Перевод из ТувимаА может, нам с тобой в Тумашув
Сбежать хоть на день, мой любимый.
Там, может, в сумерках янтарных
Все тишь сентябрьская стынет.
В том белом доме, в том покое,
Где все стоит теперь чужое,
Наш разговор печальный, давний
Должны закончить мы с тобою.
Из ясных глаз моих ложится
Слезою след к губам соленый.
А ты молчишь, не отвечаешь
И виноград ты ешь зеленый.
Тот дом покинутый, та зала
И до сих пор понять не в силах:
Вносили люди чью-то мебель,
Потом в раздумье выходили.
А все же много там осталось,
И тишь сентябрьская стынет…
Так, может, снова нам хоть на день
Сбежать в Томашув, мой любимый.
Глаза мои поют с мольбою:
«Ду хольде кунст».
И сердце рвется, и надо ехать,
Дал уж руку.
В руке моей она спокойна,
И уезжаю, тебя оставив.
Как сон, беседа наша рвется,
Благословляю, проклинаю:
«Ду хольде кунст» —
И все, без слова…
А может, там с тобой в Томашув
Сбежать хоть на день, мой любимый.
Там, может, в сумерках янтарных
Все тишь сентябрьская стынет.
Из ясных глаз моих ложится
Слезою след к губам соленый.
А ты молчишь, не отвечаешь
И виноград ты ешь зеленый.
У нас на Валдае дождиВ.М.
А у нас на Валдае дожди,
От земли и до неба дожди.
Ты меня этим летом не жди —
Между нами стеною дожди.
И в лесу дождевые межи,
И под серою дымкой Ужин…
Может, все ж мне вернуться, скажи,
К вам, покуда не стал я чужим.
Забываю, как солнца тепло,
Я улыбку твою и черты.
Кабы к нам тебя вдруг занесло,
То достало бы нам теплоты.
А пока над Валдаем туман
И над лесом колдуют ветра,
Криков птичьих полночный обман
И надежды просвет до утра.
Голубая звезда над ЧегетомГ.Б.Ф.
Голубая звезда над Чегетом
В снежно-звездной морозной пыли.
А друзья разбежались по свету —
Ты видна ль им в нездешней дали?
Этой жизни коротенький промельк
У горы, у звезды на виду —
Я живу в обезлюдевшем доме
На безлюдья синеющем льду.
И беседой ночной не согрета,
Тихо катится ночь в пустоте,
И к утру догорает комета
С дымом горечи на хвосте.
Но рассветного часа усталость
Не смиряет полночную боль.
Если б знали мы, сколько осталось
Нам топтать снеговую юдоль?
Если б знали, что ждет на рассвете,
Если б знали, где кроется свет…
Но безмолвно кружится планета
В зимнем кружеве синих планет.
Примечания
1
Валерий Афанасьевич Мякушков, далее именующий себя Редактором (1918 – 1983), был уроженцем г. Томилино, трудился в качестве младшего и даже старшего редактора в нескольких московских издательствах («Искусство», «Профиздат», «Коммунальное хозяйство», «Гослитиздат» и др.). Член партии с 1949 г. Вышел из партии посмертно, в связи с переездом семьи в Калинин (сведения получены издателем от семьи покойного В.А. Мякушкова).
2
Издателю удалось выяснить, что речь идет о Московском полиграфическом институте, который размещался на Большой Спасской.
3
Друг мой был девственник и гомосексуалист, так что возмущение давалось ему без труда.
4
Строго говоря, неизвестно, какое имеется в виду «здесь». Предполагается, что упомянут пригородный дачный поселок Дрючково, воспетый некогда поэтом Машаниным: «Хороши стоят березы только в нашей полосе…» ( Примеч. Редактора. )
5
Адресат неизвестен. (Примеч. Редактора.)
6
Речь идет о некоторых наших конфиденциальных разговорах, в которых я делился с Зиновием своими творческими планами. ( Примеч. Редактора. )
7
Адресат неизвестен. (Примеч. Редактора.)
8
В том-то и вся разница ( англ .).
9
И большая разница ( англ .).
10
Это верно (фр).
11
Я не девушка легкого поведения (польск.).
12
Грязный (фр).
13
Третий этаж, конечно (искаж. фр.).
14
Я не хочу спать (фр).
15
Здесь: закусить (фр).
16
Сюда! Идем! Иди сюда! (фр., англ.)
17
Блинной (фр).
18
Роковая женщина (фр).
19
Постоялого двора (фр).
ОглавлениеЗаписки маленького человека эпохи больших свершенийПредисловие редактораЧасть перваяЧасть втораяЧасть третьяЧасть четвертаяЧасть пятая Точнее сказать, отдельная часть, написанная Редактором этого текста, но посвященная все тому же Зиновию Кр.Часть шестаяБульвар Сен-МишельЧасть первая Ночь на БульмишеЧасть вторая СтранникиПесни и молитвы горнолыжника (из повести «Гора»)Предисловие горнолыжникаМОЛИТВАОсенний листПора отъездаВ какой мы, друг, поре?Письмо из Ленинграда в ГаспруПесня о елиСоснаПритчиНи слова про весну…Мы стареем, друзьяДрузья мои, какие счеты…Ах, летний сезонПростая горнолыжная любовьПисьмо первоеПисьмо второеПо мартовскому льдуСнегопадПоследний деньА лыжник мчитсяЗимние дождиЗамена счастьюСосна поломана лавинойЛыжницаВетер на ЧегетеПисьмо третьеОсенний вечерПритчи короляМальчишки пелиМужики ищут золотоПоследняя книгаРублевоКончается наша дорогаПрости мне, боже, суетуРодной городДом друга в ГаспреОсенний КрымНочь в горахЗакат в горахПисьмо четвертоеКогда я уйдуНовый счетПетербургские квартирыАх, осень…День стихаПансионат «Клязьма»Десять лыжных летЗавещаниеПомогите емуЗеленая траваТомашув Перевод из ТувимаУ нас на Валдае дождиГолубая звезда над Чегетом

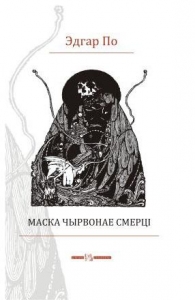


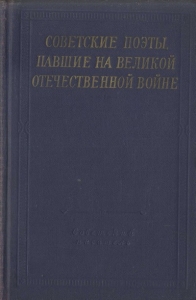
Комментарии к книге «Записки маленького человека эпохи больших свершений», Борис Михайлович Носик
Всего 0 комментариев